Ораторы Греции
Издание «Библиотеки античной литературы» осуществляется под общей редакцией
С. Аверинцева, С. Апта, М. Гаспарова. А. Тахо-Годи, С. Шервинского и В. Ярхо
Состав и научная подготовка текстов М. Гаспарова
Вступительная статья В. Боруховича
Комментарии И. Ковалевой и О. Левинской
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Публичная речь была особенно распространенным жанром литературы в среде читающих людей античности. По месту, занимаемому в искусстве художественного слова древней Эллады, риторика сопоставима с такими жанрами, как героический эпос или классическая греческая драма. Разумеется, подобное сопоставление допустимо лишь для эпохи, когда эти жанры жили и сосуществовали. Но степени влияния на развитие более поздней европейской литературы риторика, игравшая еще значительную роль в средние века, в новое время уступает место другим жанрам, определившим характер национальных литератур Европы на века, если не на тысячелетия. Здесь есть своя логика. Из всех видов художественного слова в античном мире публичная речь была наиболее тесно связана с современной ей политической жизнью, социальным строем, бытом, образом мышления, наконец, с особенностями характера народа, создавшего этот жанр.
Действительно, любовь (если не сказать — пристрастие) к красивому слову, пространной и пышной речи, изобилующей разнообразными эпитетами, метафорами, сравнениями, заметна уже в самых ранних произведениях греческой литературы — в «Илиаде» и «Одиссее». В речах, произносимых героями Гомера, заметно любование словом, его волшебной силой — так, оно там всегда «крылатое» и может поражать, как «оперенная стрела». В поэмах Гомера широко используется прямая речь в ее наиболее драматической форме — диалога. По объему диалогические части поэм намного превосходят повествовательные. Поэтому герои Гомера кажутся необыкновенно словоохотливыми, обилие и полнота их речей порой воспринимается современным читателем как растянутость и излишество.
Сам характер греческой литературы благоприятствовал развитию ораторского искусства. Она была гораздо более «устной», если так можно выразиться, более рассчитанной на непосредственное восприятие слушателями (зрителями), почитателями литературного таланта автора. Привыкнув к печатному слову, мы не всегда отдаем себе отчет в том, какими большими преимуществами обладает живое слово, звучащее в устах автора или чтеца (исполнителя), перед словом написанным. Непосредственный контакт с аудиторией, богатство интонации и мимики, пластика жеста и движения, наконец, само обаяние личности оратора позволяют добиться высокого эмоционального подъема в аудитории и, как правило, нужного эффекта. Публичная речь — это всегда искусство.
В Греции классической эпохи, для социального строя которой типична форма города-государства, полиса, в его самом развитом виде — рабовладельческой демократии, создались особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства. Верховным органом в государстве — по крайней мере номинально — было Народное собрание, к которому политический деятель обращался непосредственно. Чтобы привлечь внимание народных масс (демоса), оратор должен был представить свои идеи наиболее привлекательным образом, убедительно опровергая при этом доводы своих противников. В такой ситуации форма речи и искусство выступающего играли, пожалуй, не меньшую роль, чем содержание самой речи. «Тем могуществом, которым обладает на войне железо, в политической жизни обладает слово», — решился утверждать Деметрий Фалерский.
Практическими потребностями греческого общества была рождена теория красноречия, и обучение риторике стало высшей ступенью античного образования. Задачам этого. обучения отвечали создаваемые учебники и наставления. Они стали появляться с V века до н. э., но до нас почти не дошли. В IV веке до н. э. Аристотель уже пытается обобщить теоретические достижения риторики с философской точки зрения. Согласно Аристотелю, риторика исследует систему доказательств, применяемых в речи, ее слог и композицию: риторика мыслится Аристотелем как наука, тесно связанная с диалектикой (т. е. логикой). Аристотель определяет риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» («Риторика», I, 1355 b). Он делит все речи на три вида: совещательные, судебные и эпидиктические (торжественные). Дело речей совещательных — склонять или отклонять, судебных — обвинять или оправдывать, эпидиктических — хвалить или порицать. Здесь же определяется тематика совещательных речей — это финансы, война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов, законодательство.
Из упомянутых трех жанров публичной речи в классической античности наиболее важным был жанр совещательный, или, иными уловами, политическое красноречие.
В эпидиктических речах содержание часто отступало перед формой, и некоторые из дошедших до нас образцов оказываются ярким примером искусства ради искусства. Однако далеко не все эпидиктические речи были бессодержательными. Историк Фукидид включил в свое сочинение надгробное слово над телами павших афинских воинов, вложенное в уста Перикла. Эта речь, которую Фукидид с таким искусством вплел в ткань своего громадного исторического полотна, представляет собой изложенную в высокохудожественной форме политическую программу афинской демократии эпохи расцвета. Она является бесценным историческим документом, не говоря уже о ее эстетическом значении как памятника искусства.
Особенно распространенным жанром в древности были судебные речи. В жизни древнего грека суд занимал очень большое место, но весьма мало походил на современный. Института прокуроров не существовало, обвинителем мог выступить каждый. Обвиняемый защищался сам: выступая перед судьями, он стремился не столько убедить их в своей невиновности, сколько разжалобить, привлечь их симпатии на свою сторону. Для этой цели применялись самые неожиданные, на наш взгляд, приемы. Если обвиняемый был обременен семьей, он приводил своих детей, и те умоляли судей пощадить их отца. Если он был воином — он обнажал грудь, показывая рубцы от ран, полученных в боях за родину. Если он был поэтом — он читал свои стихи, демонстрируя свое искусство (такой случай известен в биографии Софокла). Перед громадной с нашей точки зрения судейской коллегией (в Афинах нормальное число судей было 500, а всего суд присяжных, гелиэя, насчитывал 6000 человек!) довести до каждого суть логических доводов было делом почти безнадежным: гораздо выгоднее было любым способом подействовать на чувства. «Когда судьи и обвинители — одни и те же лица, необходимо проливать обильные слезы и произносить тысячи жалоб, чтобы быть с благожелательностью выслушанным», — писал опытный мастер и знаток проблем риторики Дионисий Галикарнасский.
В условиях запутанного судебного права судиться в древних Афинах было делом нелегким, к тому же не все обладали даром слова, чтобы расположить к себе слушателей. Поэтому тяжущиеся прибегали к услугам лиц опытных, а главное, обладавших ораторским талантом. Эти люди, ознакомившись с существом дела, составляли за плату выступления своих клиентов, которые те заучивали наизусть и произносили на суде. Таких сочинителей речей называли логографами. Бывали случаи, когда логограф составлял одновременно речь и для истца и для ответчика — то есть в одной речи опровергал то, что утверждал в другой (Плутарх сообщает, что однажды так поступил даже Демосфен).
Крупнейшим теоретиком и учителем красноречия в V веке до н. э. был Горгий из сицилийского города Леонтины. В 427 году он прибыл в Афины, и его искусные речи привлекли всеобщее внимание. Позднее он объездил всю Грецию, повсюду выступая перед слушателями. На собрании греков в Олимпии он обратился к собравшимся с призывом к единодушию в борьбе против варваров. Олимпийская речь Горгия надолго прославила его имя (ему была поставлена статуя в Олимпии, база которой найдена в прошлом веке во время археологических раскопок).
Традиция сохранила немногое из творческого наследия Горгия. Сохранился, например, следующий совет оратору: «Серьезные доводы противника опровергай шуткой, шутки — серьезностью». Целиком сохранились лишь две речи, приписываемые Горгию, — «Похвала Елене» и «Оправдание Паламеда», написанные на сюжеты мифов о Троянской войне. Ораторское искусство Горгия заключало в себе много нововведений: симметрично построенные фразы, предложения с одинаковыми окончаниями, метафоры и сравнения; ритмическое членение речи и даже рифма приближали его речь к поэзии. Некоторые из этих приемов надолго сохранили название «горгианские фигуры». Горгий писал свои речи на аттическом диалекте, что служит ярким свидетельством возросшей роли Афин в литературной жизни древней Эллады.
Горгий был одним из первых ораторов нового типа — не только практиком, но и теоретиком красноречия, за плату обучавшим юношей из богатых семей говорить — и логически мыслить. Такие учителя назывались софистами, «специалистами по мудрости». «Мудрость» их была скептической: они считали, что абсолютной истины не существует, истинным является то, что может быть доказано достаточно убедительным образом. Отсюда их забота об убедительности доказательства и выразительности слова: они сделали слово объектом специального исследования. Особенно много они занимались происхождением значения слова (этимологией), а также синонимикой. Основным полем деятельности софистов были Афины, где процветали все жанры красноречия — совещательный, эпидиктический и судебный.
Самым выдающимся афинским оратором классической эпохи в области судебного красноречия был, несомненно, Лисий (ок. 445 — 380 гг. до н. э.).1 Отец его был метеком (свободным, но не имевшим гражданских прав человеком) и владел мастерской, в которой изготовлялись щиты. Будущий оратор вместе с братом учился в южноиталийском городе Фурии, где слушал курс риторики у известных софистов. Примерно в 412 году Лисий возвратился в Афины. Афинское государство в это время находилось в трудном положении — шла Пелопоннесская война, неудачная для Афин. В 405 году Афины потерпели сокрушительное поражение. После заключения унизительного мира к власти пришли ставленники победившей Спарты, «30 тиранов», проводившие политику жестокого террора по отношению к демократическим и просто бесправным элементам афинского общества. Большое состояние, которым владели Лисий и его брат, было причиной того, что тираны решили расправиться с ними. Брат Лисия был казнен, самому оратору пришлось спасаться бегством в соседнюю Мегару. После победы демократии Лисий вернулся в Афины, но получить гражданские права ему так и не удалось. Первой судебной речью, произнесенной Лисием, была речь против одного из тридцати тиранов, виновного в смерти его брата. В дальнейшем он писал речи и для других лиц, сделав это своей главной профессией. Всего ему приписывалось в древности до 400 речей, но до нас дошло только 34, причем не все из них подлинные. Подавляющее большинство сохранившихся относятся к жанру судебных, но в сборнике мы находим и политические, и даже торжественные речи — например, надгробное слово над телами воинов, павших в Коринфской войне 395 — 386 годов. Характерные черты стиля Лисия четко отмечаются древними критиками. Изложение его просто, логично и выразительно, фразы кратки и построены симметрично, ораторские приемы изысканны и изящны. Лисий заложил основу жанра судебной речи, создав своеобразный эталон стиля, композиции и самой аргументации — последующие поколения ораторов во многом ему следовали. Особенно велики его заслуги в создании литературного языка аттической прозы. Мы не найдем у него ни архаизмов, ни запутанных оборотов, последующие критики (Дионисий Галикарнасский) признавали, что никто впоследствии не превзошел Лисия в чистоте аттической речи. Живым и наглядным делает рассказ оратора обрисовка характера (этопея) — причем не только характеров изображаемых лиц, но и характера говорящего лица (например, сурового и простодушного Евфилета, в уста которого вложена речь «Об убийстве Эратосфена»).
Что в жанре судебного красноречия сделал Лисий, то в жанре торжественного красноречия сделал Исократ (ок. 436 — 338 гг.), происходивший из зажиточной прежде, но разорившейся афинской семьи. Смолоду он тоже был вынужден избрать себе профессию логографа, впоследствии открыл ораторскую школу с высокой платой за обучение, из которой вышли многие политики, ораторы и писатели. Школа Исократа была одновременно чем-то вроде политического кружка с идеями и настроениями, враждебными афинской демократии (чему немало способствовал аристократический состав учащихся), поэтому глава школы неоднократно обвинялся в «развращении юношества».
Литературная деятельность Исократа по времени совпала с политическим кризисом греческого общества и ожесточенной классовой борьбой в греческих городах, где попеременно брали верх то демократические, то олигархические элементы. Следствием ее было увеличение числа безработных и разорившихся людей. Бесконечные междоусобные войны не привели к устойчивой гегемонии какого-нибудь одного из греческих государств и только истощили их экономический и политический потенциал. Воспользовавшись создавшимся положением, македонский царь Филипп сумел в 338 году нанести сокрушительное поражение объединившимся против него полисам и установить над Грецией политический контроль.
В таком сложном переплетении политических и социальных противоречий Исократ выдвинул в своих речах, распространявшихся в письменном виде, политическую программу спасения Эллады. Впервые он выступил с ней в своей речи «Панегирик» в 380 году; суть ее заключалась в том, чтобы объединить силы греков для борьбы против варваров — то есть для завоевания Персии. В дальнейшем он обращался с этой идеей к различным монархам и тиранам Греции. Последний, к которому он обратился, Филипп II, действительно начал готовить этот поход, завершить который ему не удалось (это выполнил его сын, Александр Македонский). Исократ практически стал идеологом промакедонской партии в Афинах, вокруг которой группировались в основном граждане из зажиточных кругов.
Приемы ораторского искусства Исократа развивают принципы, выдвинутые Горгием. Особенностью стиля Исократа являются сложные периоды, обладающие, однако, ясной и четкой конструкцией и поэтому легкодоступные для понимания. Для его стиля характерно также ритмическое членение речи, плавность которой достигалась тщательным избеганием так называемого зияния стыка гласных в конце слова и в начале другого.
В школе Исократа были выработаны основные принципы композиции ораторского произведения, которое должно было содержать следующие части: 1) введение, целью которого было привлечь внимание и благожелательность слушателей; 2) изложение предмета выступления, сделанное с возможной убедительностью; 3) опровержение доводов противника с аргументацией в пользу собственных; 4) заключение, подводящее итог всему сказанному.
Как мастер красноречия, Исократ считался в древности высшим авторитетом — о популярности его произведений говорит большое количество отрывков из его речей, найденных на папирусах. Его литературное наследие ближе всего стоит к тому, что мы сейчас называем публицистикой. Бесспорная заслуга Исократа состоит в совершенствовании стиля письменной речи, отличия которой от устной подчеркивает Аристотель («Риторика», III, 1413 b): «Один слог для речи письменной, другой для речи в споре, один для речи в собрании, другой для речи в суде. Надо владеть обоими». Но крупнейший римский теоретик красноречия Квинтилиан сознавал недостатки, свойственные литературному творчеству Исократа, о чем говорит его оценка: «Стиль Исократа полон многочисленных украшений и отличается большой гладкостью в различных жанрах ораторского искусства… Он тренирован скорее для арены, чем для поля боя…» В какой-то мере это понимал и сам оратор, когда писал в речи «Филипп»: «Для меня не осталось скрытым, насколько большей убеждающей силой обладают речи произносимые по сравнению с речами, предназначенными для чтения…»
Величайшим мастером устной, по преимуществу политической, речи стал великий афинский оратор Демосфен (384-322 гг.). Он происходил из зажиточной семьи — отец его владел мастерскими, в которых изготовлялись оружие и мебель. Очень рано Демосфен осиротел, состояние его попало в руки опекунов, оказавшихся нечестными людьми. Самостоятельную жизнь он начал с процесса, в котором выступил против расхитителей (произнесенные им в связи с этим речи сохранились). Еще до этого он стал готовиться к деятельности оратора и учился у известного афинского мастера красноречия Исея. Простота слога, сжатость и значительность содержания, строгая логика доказательства, риторические вопросы — все это было заимствовано Демосфеном у Исея.
С детства Демосфен обладал слабым голосом, к тому же он картавил. Эти недостатки, а также нерешительность, с которой он держался на трибуне, привели к провалу его первых выступлений. Однако упорным трудом (существует легенда, что, стоя на берегу моря, он часами декламировал стихи, заглушая звуками своего голоса шум прибрежных волн) он сумел преодолеть недостатки своего произношения. Интонационной окраске голоса оратор придавал особое значение, и Плутарх в биографии оратора приводит характерный анекдот: «Рассказывают, что к нему пришел кто-то с просьбой сказать речь на суде в его защиту, жалуясь на то, что его поколотили. «Нет, с тобой ничего подобного не было», — сказал Демосфен. Возвысив голос, посетитель закричал: «Как, Демосфен, этого со мной не было?!» — «О, теперь я ясно слышу голос обиженного и пострадавшего», — сказал оратор…»
В начале своего творческого пути Демосфен выступал с судебными речами, но в дальнейшем он все больше втягивался в бурную политическую жизнь Афин. Вскоре он стал ведущим политическим деятелем, часто выступая с трибуны Народного собрания. Он возглавил патриотическую партию, боровшуюся против македонского царя Филиппа, неустанно призывая всех греков к единству в борьбе против «северного варвара». Но, подобно мифической пророчице Кассандре, ему суждено было возвещать истину, не встречая понимания или даже сочувствия.
Филипп начал свой натиск на Грецию с севера — постепенно подчинил города Фракии, овладел Фессалией, затем утвердился в Фокиде (Средняя Греция), засылая своих агентов даже на остров Евбея, в непосредственном соседстве от Афин. Первая война Афин с Филиппом (357-346 гг.) закончилась невыгодным для Афин Филократовым миром, вторая (340-338 гг.) сокрушительным поражением греков при Херонее, где Демосфен сражался как рядовой боец. Две самые знаменитые речи Демосфена связаны именно с этими событиями. После Филократова мира он обличал виновников его в речи «О преступном посольстве» (343 г.), а после Херонеи, когда за услуги отечеству было предложено наградить оратора золотым венком, ему пришлось отстаивать свое право на эту награду в речи «О венке» (330 г.). Великому оратору было суждено пережить еще одно поражение своей родины, в Ламийской войне 322 года, когда греки, воспользовавшись замешательством после смерти Александра Македонского, выступили против его преемников. На этот раз македонские войска захватили Афины. Демосфену вместе с другими вождями патриотической партии пришлось бежать. Он укрылся в храме Посейдона на острове Калаврия. Настигшие его там македонские солдаты хотели вывести Демосфена силой, тогда он попросил времени написать письмо друзьям, взял папирус, задумчиво поднес к губам тростниковое перо и прикусил. Через несколько секунд он упал мертвым — в тростнике был спрятан быстродействующий яд.
В литературном наследии Демосфена (до нас дошла 61 речь, но не все, видимо, являются подлинными) именно политические речи определяют его место в истории греческого ораторского искусства. Они сильно отличаются от речей Исократа. Так, например, вступление в речах Исократа обычно растянуто; напротив, поскольку речи Демосфена произносились на животрепещущие темы и оратор должен был сразу же привлечь внимание, вступление в его речах было по большей части кратким и энергичным. Обычно оно содержало какую-нибудь сентенцию (гному), которая затем развивалась на конкретном примере. Главной частью речи Демосфена является рассказ — изложение существа дела. Строится он необычайно искусно, все в нем полно экспрессии и динамики. Здесь налицо и пылкие обращения к богам, к слушателям, к самой природе Аттики, и красочные описания, и даже воображаемый диалог с противником. Поток речи приостанавливается так называемыми риторическими вопросами: «В чем же причина?», «Что же это на самом деле значит?» и т. п., что придает речи тон необыкновенной искренности, в основе которой лежит подлинная озабоченность делом.
Демосфен широко применял тропы, в частности метафору. Источником метафоры нередко оказывается язык палестры, гимнастического стадиона («Больше 1500 талантов мы истратили без всякой пользы… и натренировали против самих себя столь опасного врага…»). Очень изящно используется противопоставление, антитеза — например когда сравнивается «век нынешний и век минувший». Применявшийся Демосфеном прием олицетворения кажется необычным для современного читателя: он заключается в том, что неодушевленные предметы или абстрактные понятия выступают как лица, защищающие или опровергающие доводы оратора. Соединение синонимов в пары: «смотрите и наблюдайте», «знайте и понимайте» способствовало ритмичности и приподнятости слога. Эффектным приемом, встречающимся у Демосфена, является «фигура умолчания»: оратор сознательно умалчивает о том, что он непременно должен был бы сказать по ходу изложения, и слушатели неизбежно дополняют его сами. Благодаря такому приему нужный оратору вывод сделают сами слушатели, и он тем самым значительно выиграет в убедительности.
Политическим антиподом Демосфена был оратор Эсхин (389-314 гг.), стоявший на противоположных политических позициях. Из трех дошедших до нас речей Эсхина две произнесены в тех же процессах, что и речи Демосфена, — «О преступном посольстве» и «О венке». Таким образом, мы можем сравнить две точки зрения на одни и те же события, сопровождаемые соответствующей аргументацией. Эсхин в 346 году участвовал в том посольстве к царю Филиппу, которое заключило Филократов мир. Он был обвинен в том, что предал афинские интересы, действуя в пользу Филиппа, но ему удалось отвести своего главного обвинителя, Тимарха, как человека безнравственного. После поражения при Херонее, когда оратор Ктесифонт предложил наградить Демосфена венком, Эсхин выступил против этого, в пространной речи обвинив Демосфена в том, что его политическая деятельность оказалась пагубной для государства. Но отпор Демосфена был сокрушителен, и Эсхину не удалось собрать и пятой части голосов судей. Проиграв процесс, он потерял право выступать в Народном собрании и вынужден был удалиться в изгнание на остров Родос, где открыл ораторскую школу. Рассказывали, будто родосцы однажды попросили оратора повторить его последнюю речь. Эсхин повторил перед ними речь «О венке». Восхищенные слушатели спросили: «Как же ты после такой речи оказался в изгнании?» Эсхин ответил: «Если бы вы услышали, что говорил Демосфен, то вы бы об этом не спрашивали».
* * *
Время, наступившее после падения свободной полисной Греции, принято называть эпохой эллинизма. Политическому красноречию оставалось все меньше места в общественной жизни, интерес к содержанию речей уступал место интересу к форме. В риторских школах изучали речи прежних мастеров и старались рабски подражать их стилю. Распространение получают подделки речей Демосфена, Лисия и других великих ораторов прошлого (такие подделки дошли до нас, например, в составе сборника речей Демосфена). Известны имена афинских ораторов, живших в период раннего эллинизма и сознательно сочинявших речи в духе старых образцов: так, Харисий сочинял судебные речи в стиле Лисия, тогда как его современник Демохар был известен как подражатель Демосфена. Такая традиция подражания получила потом название «аттицизма». В то же время односторонний интерес к словесной форме красноречия, ставший особенно заметным в новых греческих культурных центрах на Востоке — Антиохии, Пергаме и других, породил противоположную крайность, увлечение нарочитой манерностью: этот стиль красноречия получил название «азианского». Самым известным его представителем стал Гегесий из малоазиатской Магнесии (середина III в. до н. э.). Стараясь перещеголять ораторов классической эпохи, он рубил периоды на короткие фразы, употреблял слова в самой необычной и противоестественной последовательности, подчеркивал ритм, нагромождал тропы. Цветистый, высокопарный и патетический слог приближал его речи к мелодекламации. К сожалению, об ораторском искусстве этой эпохи мы можем судить только по немногим сохранившимся цитатам — целых произведений до нас почти не дошло. Однако до нас дошли в большом количестве произведения ораторов римского времени, в основном продолжавших традиции красноречия эллинистической эпохи.
После поражения войск ахейского союза в 146 году до н. э., которое нанес ему римский полководец Муммий, Греция становится провинцией Римской средиземноморской державы: с 27 года до н. э. эта провинция получает название Ахайя. Греция становится местом, куда римская молодежь отправляется для получения образования, играет роль университета и музея изящных искусств. Особой популярностью пользуются Афины, а также остров Родос и города Малой Азии. С I века н. э. труд ведущих учителей в риторских школах оплачивается государством.
Профессия странствующего ритора, выступающего в греческих городах с демонстрацией своего искусства, становится настолько распространенной, что II век н. э. обычно называется веком «второй софистики» (в напоминание о софистах V века до н. э., также разъезжавших по городам с речами и лекциями). В условиях утраты греками политической свободы ораторское искусство обратилось к единственно возможному в тех условиях жанру, а именно к эпидиктическому, торжественному. Перед оратором ставилась задача — экспромтом, без подготовки, прославить героическое прошлое Эллады или героя древнего мифа, произнести похвальное слово великому оратору, политическому деятелю прошлого или даже самому Гомеру. Софист и ритор в эту эпоху вытесняют поэта, проза становится главенствующей, но, вычурная и рафинированная, пронизанная ритмом и украшенная сложными риторическими фигурами и тропами, она приобретает черты поэзии.
Красноречие новой эпохи продолжает традиции как аттицизма, так и азианизма. В области языка нормой оставался аттицизм. Знаменитый оратор II века н. э. Элий Аристид заявлял: «Я не пользуюсь словами, не засвидетельствованными у древних». В то же время в области стиля устойчиво держались традиции азианизма — высокопарный пафос, обилие изысканных речевых оборотов. Благодаря голосовым модуляциям и искусному жестикулированию выступления риторов этого направления превращались в театрализованные представления, собиравшие толпы слушателей.
Можно отметить два периода расцвета красноречия в эпоху Римской империи. Первый период имел место во II веке н. э., бывшем временем стабилизации и связанного с ней экономического и культурного подъема. Второй период относится к IV веку и совпадает с временем последней схватки «языческой» культуры с наступающим христианством. Первый период представлен (если называть наиболее яркие имена) Дионом Хрисостомом и Элием Аристидом, второй характеризуют имена Либания, Гимерия и Фемистия.
Дион Хрисостом («Златоуст» — ок. 40 — 120 гг. н. э.) был родом из Малой Азии, но молодые и зрелые годы провел в Риме. При отличавшемся подозрительностью императоре Домициане (81-96 гг.) оратор был обвинен в неблагонамеренности и удалился в изгнание. Долгое время он провел в странствиях, добывая себе средства к существованию физическим трудом. Когда Домициан пал жертвой заговора, Дион вновь стал уважаем, богат и знаменит, но по-прежнему продолжал свои путешествия по всей громадной Римской империи, никогда подолгу не останавливаясь в одном месте,
Дион принадлежал к типу ораторов, которые сочетали в себе талант художника с эрудицией мыслителя, философа, знатока наук. Углубленно занимаясь свободными искусствами, особенно литературой, он с презрением относился к напыщенной болтовне уличных ораторов, готовых говорить о чем угодно и прославлять кого угодно («Проклятые софисты», — так именует их Дион в одной из речей). По философским взглядам он был эклектиком, тяготея к стоикам и киникам. Некоторые из его речей даже напоминают кинические диатрибы, действующим лицом в них выступает знаменитый своими эксцентрическими выходками философ Диоген. Здесь налицо сходство с Платоном, в диалогах которого постоянным персонажем является его учитель Сократ. Герой речей Диона подвергает уничтожающей критике устои общественной, политической и культурной жизни, показывает суетность и тщетность человеческих устремлений, демонстрируя совершенное невежество людей в отношении того, что есть зло и что — благо. Многие из речей Диона посвящены литературе и искусству среди них «Олимпийская речь», прославляющая скульптора, создавшего знаменитую статую Зевса, и парадоксальная «Троянская речь», в шутку как бы выворачивающая наизнанку миф о Троянской войне, воспетой Гомером, любимым писателем Диона.
В речах Диона немало и автобиографического материала. Он охотно и помногу говорит о себе, стараясь при этом подчеркнуть, как благосклонны были к нему императоры Рима. Становится понятным, почему Дион в своих произведениях уделил так много внимания теории просвещенной монархии как формы правления, которую он развивает в четырех речах «О царской власти».
Что касается стиля Диона, то уже античные критики особенно хвалили его за то, что он очистил литературный язык от вульгаризмов, пролагая путь чистому аттицизму, в чем ему следовал Элий Аристид.
Элий Аристид (ок. 117 — 189 гг.) тоже был родом из Малой Азии и тоже странствовал, бывал в Египте, выступал с речами на Истмийских играх и в самом Риме. Из его литературного наследия сохранилось 55 речей. Некоторые приближаются по типу к посланиям (такова речь, в которой он просит императора помочь городу Смирне после землетрясения). Другие речи представляют собой упражнения на исторические темы, например о том, что можно было бы сказать в Народном собрании в такой-то критический момент афинской истории V-IV веков до н. э. Некоторые из них написаны на темы речей Исократа и Демосфена. К числу речей, связанных с современностью, следует отнести «Похвалу Риму» (около 160 г.): в ней превозносится до небес римское государственное устройство, соединяющее в себе преимущества демократий, аристократии и монархии. Наконец, среди сохранившихся речей мы находим и «Священные речи», то есть речи, обращенные к богам — Зевсу, Посейдону, Афине, Дионису, Асклепию и другим. В них даются аллегорические толкования древних мифов вместе с отзвуками новых религиозных веяний, связанных с проникновением в Элладу чужеземных культов. На содержание некоторых речей наложила отпечаток, болезнь, которой страдал оратор, она сделала его постоянным посетителем храмов Асклепия, бога врачевания. В честь этого бога оратор даже сочинил стихи: в пергаменом Асклепиейоне найден обломок мраморной плиты с текстом гимна, автором которого оказался Элий Аристид.
Речи Аристида не были импровизациями, он готовился к ним долго и тщательно. Ему удавалось с большой точностью воспроизводить манеру речи аттических ораторов IV века до н. э. однако в некоторых своих произведениях он использует и приемы азианистов.
Элий Аристид был высокого мнения о своем литературном творчестве и искренне полагал, что соединил в себе Платона и Демосфена. Но время оказалось более строгим судьей, и нам сейчас ясно, что он был лишь тенью величайшего оратора древности.
В последний период своей истории эллинское красноречие постепенно дряхлело и вырождалось. Закат его, происходивший в полной драматических событий борьбе античной идеологии и религии с наступающим христианством, был тем не менее величественным и славным и во многих отношениях поучительным. Он неразрывно связан с историческими событиями IV века н. э. Так, одной из самых замечательных фигур поздней греческой риторики был не кто иной, как император-философ Юлиан (322-363 гг.), за свою борьбу против христианства получивший прозвище Отступника. Он автор талантливых полемических и сатирических произведений, среди которых есть и речи, (например, прозаические гимны «К Матери богов», «К царю Солнцу»).
Современником и отчасти образцом для Юлиана был известный ритор и грамматик IV века Либаний (314-393 гг.), оставивший нам подробную речь-автобиографию «Жизнь, или О своей судьбе», особенно ярко запечатлевшую воспоминания детства и юности. Либаний был родом из Антиохии, столицы Сирии, и учился сперва на родине, потом в Афинах. В автобиографии он живо рисует сцену, как его встретила в Афинах толпа софистов, из которых каждый буквально тащил его к себе; только через год ему удалось попасть к тому ритору, у которого он хотел учиться. Обладая хорошо поставленным голосом и прекрасной памятью, Либаний вскоре достиг вершин мастерства и стал самым уважаемым и знаменитым ритором в родной Антиохии. Юлиан пользовался записями его речей и лекций, но лично они познакомились лишь в 362 году, когда Юлиан прибыл в Антиохию, уже будучи императором. Число учеников в школе Либания доходило до восьмидесяти человек. Здесь читали Гомера и мастеров аттической прозы, и ученики должны были составлять изложения прочитанного.
Либаний придерживался традиционной языческой религии, его любимцем и героем был Юлиан, которому Либаний посвятил несколько речей при его жизни и трогательный панегирик после его смерти. Однако оратор умел поддерживать добрые отношения и с христианскими властями: речи, обращенные к христианскому императору Феодосию в связи с тем, что в Антиохии произошло восстание, которое могло навлечь на город строгие кары, показывают, что Либаний мог рассчитывать на внимание императора, несмотря на свою приверженность к язычеству.
Либаний оставил больнее количество сочинений, получивших широкое распространение еще при жизни автора. Он сам много делал для этого, содержа целый штат переписчиков. Сохранившееся наследие можно разбить на несколько групп, из которых наиболее интересны декламации, риторические упражнения (прогимнасмы), речи и письма (свыше 1500). Прогимнасмы дают нам представление о методах обучения будущих риторов. Они представляют собой начальные упражнения в красноречии, с помощью которых ученики приобретали навыки отыскивать элементы, оживляющие речь, учились компоновать отдельные части. Среди этих упражнений особое место занимает басня (типа эзоповской), диегема (рассказ на историческую тему), хрия (развитие морального принципа каким-либо знаменитым человеком), сентенция (развитие философского положения), опровержение (или, наоборот, защита) правдивости рассказа о богах или героях, похвала (или, наоборот, порицание) какого-либо человека или предмета, сравнение (двух людей или вещей), экфраза (описание памятника изобразительного искусства или достопримечательной местности).
Наиболее цельное впечатление в наследии Либания производят декламации — своеобразные риторические «прописи», образцы, которые заучивались учениками наизусть. Такой декламацией является речь Менелая, явившегося в качестве посла в Трою и требующего выдачи Елены, или же речь Одиссея на ту же тему. Другим типом декламации являются так называемые этологии (рисующие характеры людей в пространной речи, которую эти люди произносят). Образцом может служить 26-я декламация Либания — «Угрюмый человек, женившийся на болтливой женщине, подает в суд на самого себя и просит смерти». Выступающий с речью рассказывает судьям, как судьба решила ввергнуть его в беду, женив на болтливой женщине. Поток слов и расспросов, извергаемый его женой, довел мужа до исступления, и он решил просить смерти у судей. Одна мысль смущает его при этом: «Боюсь я, как бы мне, убежавшему от жены здесь, не встретиться с ней немного позже, в подземном царстве, как бы мне там опять не пришлось слушать ее болтовню… Если умирающему дозволено сказать слово, дайте моей жене дожить до глубочайшей старости, чтобы я возможно дольше мог вкушать покой».
Из семидесяти дошедших до нас речей Либания интересны речи, посвященные Юлиану, особенно написанный с большим чувством «Эпитафий»; смерть Юлиана так подействовала на ритора, что он два года воздерживался от публичных выступлений.
Речь «К императору Феодосию о храмах» своеобразное открытое письмо, содержащее просьбу защитить храмы олимпийских богов от разорения, которое учиняют в них христианские монахи. С душевной болью говорит оратор об уничтожении прекрасных произведений искусства, доставлявших высокое эстетическое наслаждение многим поколениям людей.
Либаний сочувственно относился к стоицизму, это особенно заметно в его речи «О рабстве», основная идея которой заключается в том, что, по сути, каждый человек — раб. «Два слова «раб» и «свободный» — звучат по всей земле, и в домах, и на площадях, и на полях, и на лугах, и в горах, а теперь уже и на кораблях и на лодках. Одно из них — «свободный» — якобы связано с понятием счастья, а другое — «раб» — с его противоположностью…» По мнению Либания, одно из этих слов — а именно «свободный» — следует упразднить, так как все люди, в той или иной степени, рабы — своих страстей, болезней, условий жизни и прежде всего неумолимой судьбы, Мойры.
Либаний — одна из самых характерных фигур поздней греческой софистики. Как художник слова — он прежде всего стилист, культивирующий изощренное мастерство в духе классического аттицизма (кумиром его был великий Демосфен), убежденный в том, что только это мастерство способно облагородить человека, воспитать его вкус. Мир Либания — это мир греческих идей и образов, населенный великими мыслителями, ораторами, писателями и поэтами древней Эллады, мир эллинских богов и посвященных им прекрасных храмов, хранящих воплощенные в мраморе и драгоценном металле образы олимпийцев… Христианство оставалось для него мрачной силой, губительно действующей на все прекрасное, что было создано эллинской культурой.
Современниками Либания были два знаменитых ритора — Фимистий (320-390 гг.) и Гимерий (315-386 гг.). Фемистий был настолько же известен в Константинополе, насколько Либаний в Антиохии, но, в отличие от Либания, Фемистий серьезно, можно сказать — профессионально, занимался философией и составил ряд популярных изложений (парафраз) работ Аристотеля. Помимо литературного труда и преподавания, он занимался государственной деятельностью и был близок к императору Феодосию, наградившему его рядом высших отличий. Сохранились 34 речи Фемистия, затрагивающие проблемы философии, государственного права, теории риторики. Его излюбленным термином, с которым мы постоянно сталкиваемся в его речах, была «филантропия» (человеколюбие) — это делает понятной для нас его веротерпимость. Фемистий так и не принял христианства, но к нему тем не менее благоволили такие известные деятели церкви, как Григорий Назианзин, высоко его ценивший (он даже назвал Фемистия «царем речей»).
Гимерий, происходивший из Вифинии, провел жизнь в основном в Афинах, лишь на короткий срок покинув их в правление Юлиана (призвавшего ритора к своему двору в Константинополь). В отличие от Фемистия, Гимерий был чистым ритором без всякого интереса к философии. Он пользовался особой популярностью как наставник, риторическую подготовку получили у него видные деятели христианской церкви Василий Великий и уже упоминавшийся Григорий Назианзин. В своем творчестве Гимерий следовал традициям аттицизма, хотя в речах его (не отличающихся большой глубиной содержания) заметно влияние и азианского стиля. Они в изобилии украшены риторическими фигурами и поэтическими тропами. Для его творчества характерны фиктивная речь Гиперида в защиту политики Демосфена, речь Демосфена, предлагающего вернуть Эсхина из изгнания (явно надуманный сюжет), и другие в том же роде. Философская проблематика затронута лишь в одной речи — против философа Эпикура, обвиненного ритором в безбожии. Трогательно звучит плач (монодия) по рано ушедшему из жизни сыну Руфину (23-я речь), но перегруженность мифологическими реминисценциями и фигурами и здесь ослабляет впечатление.
Гимерий был знатоком античной поэзии, особенно лирики. В его речах до нас дошли пересказы произведений классической греческой поэзии, и это делает их ценным источником для истории греческой литературы.
Жанр публичной речи был одним из тех великих достижений древней эллинской культуры, которые не погибли вместе с античной цивилизацией, но продолжали жить, правда в новых формах, в последующее время. Живое слово было важнейшим орудием христианской проповеди в средние века. Риторическая культура Древней Греции легла в основу всей программы гуманитарного образования в Европе во времена Ренессанса и вплоть до XVIII века. И в наши дни речи древнегреческих ораторов имеют не только исторический интерес самого непосредственного отклика на важнейшие события древности, но и сохраняют живо ощутимую художественную ценность как образцы убедительной логики, вдохновенного чувства и выразительного стиля.
В. Борухович
КЛАССИЧЕСКАЯ ЭПОХА ГОРГИЙ ПОХВАЛА ЕЛЕНЕ
2
(I) Славой служит городу смелость, телу — красота, духу — разумность, речи приводимой — правдивость; все обратное этому — лишь бесславие. Должно нам мужчину и женщину, слово и дело, город и поступок, ежели похвальны они — хвалою почтить, ежели непохвальны — насмешкой сразить. И напротив, равно неумно и неверно достохвальное — порицать, осмеяния же достойное — восхвалять. (2) Предстоит мне здесь в одно и то же время и правду открыть, и порочащих уличить — порочащих ту Елену, о которой единогласно и единодушно до нас сохранилось и верное слово поэтов, и слава имени ее, и память о бедах. Я и вознамерился, в речи своей приведя разумные доводы, снять обвинение с той, которой довольно дурного пришлось услыхать, порицателей ее лгущими вам показать, раскрыть правду и конец положить невежеству.
(3) Что по роду и породе первое место меж первейших жен и мужей занимает та, о ком наша речь, — нет никого, кто бы точно об этом не знал. Ведомо, что Леда3 была ее матерью, а отцом был бог, слыл же смертный, и были то Тиндарей и Зевс: один видом таков казался, другой молвою так назывался, один меж людей сильнейший, другой над мирозданием царь. (4) Рожденная ими, красотою была она равна богам, ее открыто являя, не скрыто тая; Многие во многих страсти она возбудила, вкруг единой себя многих мужей соединила,4 полных гордости гордою мощью: кто богатства огромностью, кто рода древностью, кто врожденною силою, кто приобретенною мудростью; все, однако же, покорены были победной любовью и непобедимым честолюбьем. (5) Кто из них и чем и как утолил любовь свою,5 овладевши Еленою, говорить я не буду: знаемое у знающих доверье получит, восхищенья же не заслужит. Посему, прежние времена в нынешней моей речи миновав, перейду я к началу предпринятого похвального слова и для этого изложу те причины, в силу которых справедливо и пристойно было Елене отправиться в Трою.
(6) Случая ли изволением, богов ли велением, неизбежности6 ли узаконением совершила она то, что совершила? Была она или силой похищена, или речами улещена, или любовью охвачена? — Если примем мы первое, то не может быть виновна обвиняемая: божьему промыслу людские помыслы не помеха — от природы не слабое сильному препона, а сильное — слабому власть и вождь: сильный ведет, а слабый следом идет. Бог сильнее человека и мощью и мудростью, как и всем остальным: если богу или случаю мы вину должны приписать, то Елену свободной от бесчестья должны признавать. (7) Если же она силой похищена, беззаконно осилена, неправедно обижена, то ясно, что виновен похитчик и обидчик, а похищенная и обиженная невиновна в своем несчастии. Какой варвар так по-варварски поступил, тот за то пусть и наказан будет словом, правом и делом: слово ему — обвинение, право — бесчестие, дело — отмщение. А Елена, насилию подвергшись, родины лишившись, сирою оставшись, разве не заслуживает более сожаления, нежели поношения? Он свершил, она претерпела недостойное; право же, она достойна жалости, а он ненависти. (8) Если же это речь ее убедила и душу ее обманом захватила, то и здесь нетрудно ее защитить и от этой вины обелить. Ибо слово — величайший владыка:7 видом малое и незаметное, а дела творит чудесные — может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать радость, усилить жалость. (9) А что это так, я докажу — ибо слушателю доказывать надобно всеми доказательствами.
Поэзию я считаю и называю речью, имеющей мерность; от нее исходит к слушателям и страх, полный трепета, и жалость, льющая слезы, и страсть, обильная печалью; на чужих делах и телах, на счастье их и несчастье собственным страданием страждет душа, — по воле слов. (10) Но от этих речей перейду я к другим. Боговдохновенные заклинания напевом слов сильны и радость принести, и печаль отвести; сливаясь с души представленьем, мощь слов заклинаний своим волшебством ее чарует, убеждает, перерождает. Два есть средства у волшебства и волхвования: душевные заблуждения и ложные представления. (11) И сколько и скольких и в скольких делах убедили и будут всегда убеждать, в неправде используя речи искусство! Если б во всем все имели о прошедших делах воспоминанье, и о настоящих пониманье, и о будущих предвиденье, то одни и те же слова одним и тем же образом нас бы не обманывали. Теперь же не так-то легко помнить прошедшее, разбирать настоящее, предвидеть грядущее, так что в очень многом очень многие берут руководителем души своей представление — то, что нам кажется. Но оно и обманчиво и неустойчиво и своею обманностью и неустойчивостью навлекает на тех, кто им пользуется, всякие беды.
(12) Что же мешает и о Елене сказать, что ушла она, убежденная речью, ушла наподобие той, что не хочет идти, как незаконной если бы силе она подчинилась и была бы похищена силой. Убежденью она допустила собой овладеть; и убеждение, ей овладевшее, хотя не имеет вида насилия, принуждения, но силу имеет такую же. Ведь речь, убедившая душу, ее убедив, заставляет подчиниться сказанному, сочувствовать сделанному. Убедивший так же виновен, как и принудивший; она же, убежденная, как принужденная, напрасно в речах себе слышит поношение. (13) Что убежденье, использовав слово, может на душу такую печать наложить, какую ему убудет угодно, — это можно узнать прежде всего из учения тех, кто учит о небе: они, мненьем мненье сменяя, одно уничтожив, другое придумав, все неясное и неподтвержденное в глазах общего мнения заставляют ясным явиться; затем — из неизбежных споров в судебных делах, где одна речь, искусно написанная, не по правде сказанная, может, очаровавши толпу, заставить послушаться; а в-третьих — из прений философов, где открываются и мысли быстрота, и языка острота: как быстро они заставляют менять доверие к мнению!8 (14) Одинаковую мощь имеют и сила слова для состоянья души, и состав лекарства для ощущения тела. Подобно тому как из лекарств разные разно уводят соки из тела и одни прекращают болезни, другие же жизнь, — так же и речи: одни огорчают, те восхищают, эти пугают, иным же, кто слушает их, они храбрость внушают. Бывает, недобрым своим убеждением душу они очаровывают и заколдовывают. (15) Итак, этим сказано, что, если она послушалась речи, она не преступница, а страдалица.
Теперь четвертою речью четвертое я разберу ее обвинение. Если это свершила любовь, то нетрудно избегнуть ей обвинения в том преступлении, какое она, говорят, совершила. Все то, что мы видим, имеет природу не такую, какую мы можем желать, а какую судьба решила им дать. При помощи зрения и характер души принимает иной себе облик.9 (16) Когда тело воина для войны прекрасно оденется военным оружием из железа и меди, одним чтоб себя защищать, другим чтоб врагов поражать, и узрит зрение зрелище это и само смутится и душу смутит, так что часто, когда никакой нет грозящей опасности, бегут от него люди, позорно испуганные: изгнана вера в законную правду страхом, проникшим в душу от зрелища: представ пред людьми, оно заставляет забыть о прекрасном, по закону так признаваемом, и о достоинстве, после победы часто бываемом. (17) Нередко, увидев ужасное, люди теряют сознание нужного в нужный момент: так страх разумные мысли и заглушает и изгоняет. Многие от него напрасно страдали, ужасно хворали и безнадежно разум теряли: так образ того, что глаза увидали, четко отпечатлевался в сознании. И много того, что страх вызывает, мною опущено, но то, что опущено, подобно тому, о чем сказано. (18) А вот и художники: когда многими красками из многих тел тело одно, совершенное формой, они создают, то зрение наше чаруют. Творенье кумиров богов, созданье статуй людей — сколько они наслаждения нашим очам доставляют! Так через зренье обычно бывает: от одного мы страдаем, другого страстно желаем. Много у многих ко многим вещам и людям взгорается страсти, любви и желанья.
(19) Чего ж удивляться, ежели очи Елены, телом Париса плененные, страсти стремление, битвы любовной хотение в душу ее заронили! Если Эрос, будучи богом богов, божественной силой владеет, — как же может много слабейший от него и отбиться и защититься! А если любовь — болезней людских лишь страданье, чувств душевных затменье, то не как преступленье нужно ее порицать, но как несчастья явленье считать. Приходит она, как только придет, судьбы уловленьем — не мысли веленьем, гнету любви уступить принужденная не воли сознательной силой рожденная.10
(20) Как же можно считать справедливым, если поносят Елену? Совершила ль она, что она совершила, силой любви побежденная, ложью ль речей убежденная или явным насилием вдаль увлеченная, иль принужденьем богов принужденная, — во всех этих случаях нет на ней никакой вины.
(21) Речью своею я снял поношение с женщины. Закончу: что в речи сначала себе я поставил, тому верным остался; попытавшись разрушить поношения несправедливость, общего мнения необдуманность, эту я речь захотел написать Елене во славу, себе же в забаву.
ЛИСИЙ ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ЭРАТОСФЕНА
11
(1) Много дал бы я, судьи,12 за то, чтобы вы судили обо мне так же, как о себе, если бы нечто подобное произошло с вами; и если на мое дело вы посмотрите как на свое собственное, то, я уверен, каждого из нас случившееся возмутит настолько, что наказание, предусмотренное законом, вам покажется слишком мягким. (2) Да и не только у вас, но повсюду в Элладе с этим бы согласились, потому что это — единственное преступление,13 за которое в любом государстве, будь оно демократическим или олигархическим, даже последний бедняк может привлечь к ответу самых видных людей, так что самый ничтожный простолюдин в этом отношении имеет те же права, что и самый знатный человек: настолько тяжким всюду считается бесчестие, причиненное таким преступлением. (3) Поэтому приговор ваш, я полагаю, будет единодушным, и надеюсь, никто из вас не посмотрит на мое дело пренебрежительно, считая, что такого преступника можно было отпустить безнаказанным или наказать не слишком сурово. (4) А мне, судьи, остается только доказать, что Эратосфен соблазнил мою жену, развратил ее, опозорил моих детей и меня обесчестил тем, что пробрался в мой дом, что это было единственной причиной моей вражды к нему и что не ради денег, не ради обогащения или корысти я это сделал, а только затем, чтобы покарать его в соответствии с законом.
(5) Впрочем, расскажу обо всем по порядку, с самого начала, честно и правдиво, потому что сейчас для меня единственное спасение — описать все как было. (6) Когда я женился и привел жену в дом, поначалу я взял себе за правило не донимать ее чрезмерной строгостью, но и не давать ей слишком много воли — словом, присматривал за ней как положено. А когда родился ребенок, я целиком ей доверился, считая, что ребенок — самый прочный залог супружеской верности. (7) Так вот, афиняне, первое время не было жены лучше ее: она была превосходной хозяйкой, рачительной, бережливой, старательной. А все беды мои начались со смертью моей матери. (8) Во время похорон моя жена сопровождала тело покойной, и тут ее увидел этот человек. А спустя некоторое время он и соблазнил ее: выследив служанку, ходившую на рынок за покупками, через нее он стал делать жене предложения и в конце концов погубил ее.
(9) А надо вам сказать, судьи, что домик у меня двухэтажный, причем наверху, в женской половине, и внизу, в мужской половине, комнаты расположены совершенно одинаково. Когда у нас появился ребенок, мать начала кормить его грудью, и, чтобы ей не подвергаться опасности, спускаясь вниз по крутой лестнице всякий раз, как нужно помыться, я переселился на верхний этаж, а женщины устроились внизу. (10) Так и повелось, что жена часто уходила вниз убаюкать ребёнка или дать ему грудь, чтобы он не кричал. Так продолжалось долгое время, но мне и в голову не приходило заподозрить что-то неладное; я по-прежнему наивно считал свою жену самой честной женщиной в городе.
(11) Как-то раз я неожиданно вернулся домой из деревни. После ужина ребенок стал кричать и плакать: как выяснилось впоследствии, служанка нарочно дразнила его, потому что тот человек уже находился в доме. (12) Я велел жене спуститься вниз и дать ребенку грудь, чтобы он перестал плакать. Она сначала отказывалась, делая вид, что очень рада моему приезду и очень соскучилась по мне. Я уже начал сердиться и велел ей выполнять то, что приказано, а она говорит: «Это тебе для того нужно, чтобы с нашей служанкой побаловаться. Ты и раньше, подвыпив, к ней приставал». (13) Я засмеялся в ответ, а она встает и, уходя, запирает дверь, будто бы в шутку, а ключ вынимает и уносит с собой. Не придав этому значения и ничего не подозревая, я крепко заснул, потому что устал с дороги. (14) Утром жена вернулась и отперла дверь. Когда я спросил, почему ночью внизу скрипели двери, она ответила, что в комнате у ребенка погас светильник и ей пришлось попросить огня у соседей. Я промолчал, решив, что так оно и было. Однако мне показалось, что лицо у нее накрашено,14 хотя еще не прошло месяца после смерти ее брата. Но и на это я промолчал и ушел из дому.
(15) Спустя некоторое время, — а я все еще был в полном неведении о постигшей меня беде, — подходит ко мне незнакомая старуха. Уже потом до меня дошли слухи, что ее ко мне подослала другая женщина, соблазненная Эратосфеном: недовольная и даже оскорбленная тем, что он стал реже посещать ее, она устроила за ним слежку, пока не дозналась до причины. (16) Так вот, эта старуха, поджидавшая возле моего дома, подходит ко мне и говорит: «Евфилет, я не хотела бы сплетничать, но человек, который позорит тебя и твою жену, вместе с тем враг мне и моей госпоже. Так вот, если ты хорошенько допросишь служанку, которая ходит за покупками на рынок и прислуживает вам за столом, то сам во всем убедишься. Я говорю об Эратосфене из Эи:15 это он соблазнил твою жену, а до нее еще и многих других. На эти дела он мастер». (17) Сказав это, она ушла, а меня, судьи, как громом поразило; я разом вспомнил все, что мне раньше казалось подозрительным, — и то, как меня заперли в спальне, и то, что в ту ночь скрипели обе двери, внутренняя и наружная,16 чего раньше никогда не случалось, и то, что лицо у жены было накрашено, — и чем больше я это припоминал, тем больше укреплялся в своих подозрениях.
(18) Вернувшись домой, я приказал служанке идти со мной на рынок, но вместо рынка повел ее к одному из моих приятелей и там ей напрямик объявил, что мне все известно о том, что творится у меня в доме. «Так вот, — сказал я, — выбирай одно из двух: или я тебя прикажу выпороть и отправлю на мельницу,17 где мучениям твоим не будет конца, или ты во всем честно признаешься и получишь прощение. Но берегись, если обманешь; Лучше все расскажи по-честному». (19) Сперва она отпиралась: пусть, мол, с ней делают что угодно, только она ничего не знает, — но когда я назвал ей имя Эратосфена и сказал, что это он наведывается к моей жене, служанка насмерть перепугалась, решив, что я знаю не только это, но и все остальное. (20) Тут она мне бросилась в ноги и, получив от меня обещание, что с ней ничего не сделают, выложила все начистоту: как после похорон Эратосфен подошел к ней, как она в конце концов сообщила его просьбу госпоже, как та понемногу поддалась на его уговоры, как ухитрялась принимать его у себя, как на Фесмофории,18 пока я был в деревне, ходила с его матерью в храм, — словом, рассказала все как было. (21) Выслушав ее, я сказал: «Смотри, никому об этом ни слова, если хочешь, чтобы я сдержал обещание. Теперь ты должна мне помочь схватить его с поличным: мне не слова нужны, а доказательства, если дело обстоит, как ты описала». (22) И служанка на это дала согласие.
Прошло четыре или пять дней…19 как я неопровержимо докажу вам. Но сперва хочу рассказать о том, что произошло в последний день. Вечером, уже после захода солнца, я встретил на улице своего друга и товарища Сострата — он возвращался из деревни. Зная, что у себя дома в такой поздний час он не найдет ничего съестного, я пригласил его отужинать со мной. Мы пришли ко мне домой, поднялись наверх и поужинали. (23) Потом он поблагодарил за угощение и ушел, а я лег спать. В это время Эратосфен и явился; служанка тут же разбудила меня и сказала, что он здесь. Приказав ей следить за дверью, чтобы не упустить его, я потихоньку спустился вниз и, выйдя на улицу, отправился созывать друзей и знакомых. Некоторых я дома не застал, некоторые вообще оказались в отъезде. (24) Ну, а всех, кого мог, я собрал и повел за собой. В лавочке близ моего дома мы запаслись факелами и вошли в дом всей толпой, благо наружная дверь была заранее отперта служанкой.
Вышибив дверь, ведущую в спальню, мы застигли его прямо в постели с моей женой: те, кто ворвался первым, его застали еще лежащим; подоспевшие чуть позже видели, как он голый стоял на кровати. (25) Ударом кулака я, судьи, сбил его с ног, скрутил и связал ему руки за спиной и стал допрашивать, как посмел он забраться ко мне в дом. Отрицать свою вину он даже не пытался и только слезно умолял не убивать его, а предлагал откупиться деньгами. (26) На это и отвечал: «Не я тебя убью, но закон, который ты преступил, поставив его ниже своих удовольствий. Ты сам предпочел совершить тяжкое преступление против моей жены, моих детей и меня самого, вместо того чтобы соблюдать законы и быть честным гражданином».
(27) Итак, судьи, он претерпел именно то, что велит делать с такими преступниками закон. Его не приволокли с улицы ко мне в дом,20 как утверждают мои обвинители, и он не просил защиты у моего очага.21 Да и как он мог это сделать, если в спальне я сбил его с ног и связал ему руки, если там было столько людей, что пробиться через них, не имея ни оружия, ни даже палки в руках, он не мог? (28) Вы и сами знаете, судьи: нарушители закона ни за что не признают, что их противники говорят правду, и лживые измышления такого рода им нужны для того, чтобы настроить слушателей против тех, кто действовал законно. Прочти же закон.22 [Читается закон.] (29) Он не отрицал, судьи, своей вины; он сам признал себя виновным и умолял не убивать его. Он даже предлагал откупиться деньгами, но на это я не согласился. Я считал, что закон важнее, и покарал его той карой, которую установили вы сами и которую вы сочли справедливой для такого рода преступников. Прошу свидетелей подняться сюда. [Читаются показания свидетелей.] (30) Прочти мне и тот закон, что вырезан на камне по указу Ареопага.23 [Читается закон.] Вы слышите, судьи, что сам Ареопаг, который исстари вершил суд по делам об убийстве, которому и в наши дни предоставлено это право, постановил в совершенно ясных и определенных выражениях, что неповинен в убийстве тот, кто покарает смертью прелюбодея, если застигнет его вместе с женой. (31) В справедливости этой кары законодатель был уверен настолько, что ее же назначил за совращение наложниц, хотя они не так уважаемы, как законная жена. Ясно, что если бы имелось большее наказание, он бы его назначил за совращение супруги, и только потому в том и другом случае он установил смерть, что за совращение супруги не сумел найти кары более суровой. Теперь прочти мне вот этот закон. [Читается закон.] (32) Вы слышите, судьи: закон велит, чтобы всякий, кто совершит насилие над свободным — взрослым или ребенком, уплатил вдвое больше, чем за насилие над рабом, а ведь сюда относится и насилие над женщиной, в то время как ее соблазнение карается смертью. Вот, судьи, насколько снисходительнее законодатель к насильникам, нежели к соблазнителям! (33) Последних он приговорил к смерти, а первых — лишь к возмещению ущерба деньгами, исходя из того, что жертва насилия по крайней мере ненавидит насильника, а соблазнитель настолько развращает свою жертву, что жена к нему привязывается больше, чем к мужу, отдает ему в распоряжение весь дом, и даже на детей падает подозрение — то ли они от мужа, то ли от любовника. Вот почему таким людям законодатель назначил смерть.
(34) Меня же, судьи, законы не только оправдывают, но даже обязывают привести в исполнение положенный приговор, а уж от вас зависит, оставаться этим законам в силе или потерять всякое значение. (35) Я думаю, что для того государства и устанавливают законы, чтобы к ним обращаться в спорных случаях и выяснять, как следует поступить. Так вот, в моем случае закон велит потерпевшему наказывать виновных именно так. (36) Надеюсь, вы согласитесь со мной, иначе прелюбодеям вы обеспечите такую безнаказанность, что даже воры начнут себя выдавать за распутников, зная, что их не тронут, если они скажут, что проникли в чужой дом для встречи с любовницей: все будут знать, что с законами о распутстве можно не считаться, а бояться нужно только вашего приговора, потому что он все решает в этом государстве.
(37) Заметьте вот еще что, афиняне: меня обвиняют в том, что служанке я заранее велел пригласить в тот день Эратосфена. Вообще-то, судьи, я считаю, что вправе любым способом поймать соблазнителя своей жены. (38) Если бы я велел его пригласить, когда до дела еще не дошло, когда соблазнитель только начинал обхаживать мою жену, то был бы виноват. Но после того, как он добился своего, после того, как стал часто бывать в моем доме, поймать его с помощью какой-нибудь хитрости было бы с моей стороны только разумно. (39) Но и в этом, заметьте, они лгут. Посудите сами: как я уже сказал, мой друг и приятель Сострат, которого я повстречал после захода солнца, когда он возвращался из деревни, ужинал вместе со мной и задержался у меня допоздна. (40) Так вот, подумайте, судьи: если в ту ночь я готовил Эратосфену западню, что для меня было удобнее — ужинать в гостях или, наоборот, привести гостя к себе? Ведь это могло бы отпугнуть Эратосфена от попытки проникнуть ко мне в дом. Кроме того, неужели я бы отпустил своего гостя, чтобы остаться одному, без поддержки? Скорее наоборот, я бы его попросил остаться и помочь мне наказать соблазнителя. (41) И разве не мог я созвать своих друзей заранее, еще днем, и попросить их собраться у кого-нибудь из знакомых поближе к моему дому, вместо того чтобы ночью бегать по всему городу, не зная, кого я застану дома, а кого нет? А ведь я заходил и к Гармодию, и ко многим другим, понятия не имея о том, что они в отъезде. Некоторые же были в городе, но отлучились из дома, и я взял с собой только тех, кого смог застать. (42) Между тем, если бы я все знал заранее, неужели, по-вашему, я бы не вооружил слуг и не созвал бы друзей? Этим бы я и себя обезопасил, потому что преступник мог быть вооружён, и его покарал бы при наибольшем числе свидетелей. Но, повторяю, я ничего не знал о том, что произойдет в эту ночь, и созвал только тех, кого смог. Прошу свидетелей подняться сюда. [Читаются показания свидетелей.]
(43) Итак, судьи, вы слышали свидетелей. Теперь обратите внимание вот на что: была ли у меня хоть какая-нибудь другая причина враждовать с Эратосфеном? (44) Нет, такой причины вы не найдете. Он не пытался оклеветать меня, обвиняя в преступлении против государства, и не добивался моего изгнания из отечества. Он не судился со мной и по частному делу. Он не знал за мной никаких преступлений, и мне не было нужды убивать его, чтобы избежать разоблачения. И не потому я это сделал, что мне обещали за это заплатить, — а ведь некоторые берутся убить человека за деньги. (45) Не было между нами ни перебранки, ни пьяной драки, ни какой другой ссоры, потому что до той ночи я этого человека и в глаза не видал. Так чего ради я пошел бы на такой риск, если бы не претерпел от него самое тяжкое из оскорблений? (46) И неужели я бы совершил преступление при свидетелях, имея возможность убить его тайком?
(47) Я считаю, судьи, что покарал его не только за себя, но и за все государство. Если вы согласитесь со мной, подобные люди поостерегутся вредить своему ближнему, видя, какая награда их ждет за такого рода подвиги. (48) А если вы не согласны со мной, то отмените существующие законы и введите новые, которые будут карать тех, кто держит жен в строгости, а соблазнителей оправдывать. (49) Так, по крайней мере, будет честнее, чем теперь, когда законы гражданам ставят ловушку, глася, что поймавший прелюбодея может сделать с ним что угодно, а суд потом грозит приговором скорее потерпевшему, чем тому, кто, попирая законы, позорит чужих жен. (50) Именно в таком положении я теперь и оказался: под угрозу поставлены моя жизнь и имущество только за то, что я повиновался законам.
ИСОКРАТ ПАНЕГИРИК
24
(1) Меня всегда удивляло, что на праздниках и состязаниях атлетов победителю в борьбе или в беге присуждают большие награды,25 а тем, кто трудится на общее благо, стремясь быть полезным не только себе, ни наград, ни почестей не воздают, (2) хотя они более достойны уважения, ибо атлеты, даже если они станут вдвое сильнее, пользы не принесут никому, а мыслящий человек полезен всем, кто желает приобщиться к плодам его мысли. (3) Но, решив с этим не считаться и полагая достаточной наградой славу, которую мне принесет эта речь, я пришел сюда, чтобы призвать Элладу к единству и к войне против варваров.26 Хотя многие, притязающие на звание ораторов,27 уже выступали на эту тему, (4) я твердо намерен их превзойти, ибо лучшими речами считаю такие, которые посвящены самым важным предметам, которые и оратору дают себя показать, и слушателям приносят наибольшую пользу, а моя речь, надеюсь, именно такова. (5) Да и время еще не настолько упущено, чтобы призывать к действиям было уже поздно. Только тогда должен молчать оратор, когда дело сделано и обсуждать его нет смысла или когда вопрос исчерпан и к нему нечего больше добавить. (6) Но если дело не сдвинулось с места, так как прежние выступления оказались неудачны, неужели не стоит потрудиться над речью, которая в случае своего успеха покончит с междоусобной войной и избавит нас от великих бедствий? (7) Если бы имелся только один способ высказаться по существу предмета, было бы излишне докучать слушателям, повторяя сказанное другим; (8) но так как в речи можно по-разному истолковать одно и то же — великое сделать ничтожным, малое великим,28 по-новому взглянуть на события прошлого, а недавние пересмотреть в свете прежних, — значит, нужно не избегать предмета, о котором уже говорилось, а постараться его выразить еще лучше. (9) Дела минувшие знакомы нам всем, но только разумному человеку дано вовремя извлечь из них урок, правильно понять и ясно выразить их подлинный смысл. (10) Высокого совершенства достигнут искусства, и красноречие29 в их числе, если будет цениться не новизна, а мастерство и блеск исполнения, не своеобразие в выборе темы, а умение отличиться в ее разработке.
(11) Тем не менее некоторые порицают тонко отделанные речи, трудные для неискушенного слушателя, но они заблуждаются, так как речи, исключительные по своим задачам и потому требующие особой пышности, не отличают от судебных, которые не принято украшать, думают, что они одни знают надлежащую меру, а тот, кто говорит изобильно и пышно, не способен выражаться просто и точно. (12) Не стоит и доказывать, что эти люди хвалят только таких ораторов, которые недалеко ушли от них самих. Меня их мнение не заботит: я обращаюсь к знатокам, взыскательным, требовательным и суровым, которые будут искать в моей речи достоинств, каких не найти у другого, и для них я прибавлю еще несколько слов, прежде чем перейти непосредственно к делу. (13) Вначале выступающие обычно оправдываются, говоря, что не успели хорошо подготовиться или что трудно найти слова, соответствующие важности темы. (14) Так вот, если моя речь окажется недостойной своего предмета и моей славы, если она не оправдает потраченного на нее времени, и больше того — всей моей жизни, то пусть меня презирают и осыпают насмешками за то, что, не имея особых дарований, я взялся за такую задачу. Вот все, что я хотел сказать о себе.
(15) Теперь — о том, что касается всех. Ораторы, которые говорят, что пора нам прекратить взаимные распри и обратить оружие против варваров, перечисляя тяготы междоусобной войны30 и выгоды от будущего покорения Персии, совершенно правы, но забывают о главном. (16) Эллинские города большей частью подвластны либо Афинам, либо Спарте, и разобщенность эту усиливает разница в их государственном и общественном строе. Безрассудно поэтому думать, что удастся побудить эллинов к совместным действиям, не примирив два главенствующих над ними города. (17) Если оратор хочет не только блеснуть красноречием, но и добиться чего-то на деле, он должен убедить Афины и Спарту признать друг за другом равные права в Элладе, а выгод искать в войне против персов. (18) Наш город склонить к этому нетрудно; гораздо труднее убедить спартанцев, ибо они унаследовали от предков необоснованные притязания на господство в Элладе. Но если доказать, что эта честь подобает скорее нам, они откажутся от мелочных препирательств и займутся тем, что для них по-настоящему выгодно. (19) Вот с чего следовало начинать ораторам: сперва разрешить спорный вопрос, а уж потом излагать общепризнанные истины. Я буду стремиться прежде всего убедить Афины и Спарту покончить с соперничеством и объявить войну персам, (20) а если эта цель недостижима, то по крайней мере я назову виновника нынешних бедствий Эллады31 и докажу, что Афины с полным правом добиваются в Элладе первого места.
(21) В любом деле почетное место принадлежит тем, у кого наибольший опыт и способности, и, несомненно, мы вправе вернуть себе былое могущество, ибо ни одно государство не имеет такого опыта сухопутных войн, каким Афины обладают в морских сражениях. (22) А если кто-то станет возражать и доказывать, что только древность происхождения или особые заслуги перед эллинами дают право на ведущее место в Элладе, он лишь подтвердит мою правоту, (23) ибо и в этом, как показывает история, мы не имеем себе равных. Все признают Афины самым древним, самым большим и знаменитым городом; уже одно это дает нам право гордиться, но у нас есть еще большие основания для гордости. (24) Мы не пришельцы в своей стране, прогнавшие местных жителей32 или заселившие пустошь, и свой род мы ведем не от разных племен. Нет происхождения благороднее нашего: мы всегда жили на земле, породившей нас, как древнейшие, исконные ее обитатели. (25) Из всех эллинов мы одни имеем право называть свою землю кормилицей, родиной, матерью. Вот каким должно быть родословие тех, кто законно гордится собою и по праву добивается, ссылаясь на своих предков, первого места среди городов Эллады. (26) Великие блага нам даровала судьба, а сколько благодеяний мы оказали другим, станет ясно, если дать самый краткий обзор древнейшей истории нашего города. Тогда мы увидим, что должны быть благодарны Афинам не только за их военные подвиги, но и за саму возможность существовать, имея свою землю и государственность. (27) Меньшие заслуги Афин, которых обычно не замечают и не помнят, я даже не стану упоминать и назову только самые важные, о которых говорят и знают всюду и везде.
(28) Прежде всего, наш город дал людям то, что составляет их первейшую потребность, и хотя это предание похоже на вымысел, напомнить его я считаю нелишним. Когда Деметра, странствуя в поисках Коры, пришла в Аттику, то, желая отблагодарить наших предков за услуги, о которых слышать можно только посвященным, она оставила им два величайших дара: хлебные злаки, благодаря которым мы перестали быть дикарями, и таинства,33 приобщение к которым дает надежду на вечную жизнь после смерти. (29) И город наш, оказалось, не только любим богами, но и человеколюбив: чудесными благами, дарованными ему одному, он щедро поделился со всеми. К таинствам мы и сейчас продолжаем ежегодно приобщать непосвященных, а сеять, выращивать и употреблять в пищу хлеб мы научили всех желающих сразу. (30) Чтобы никто в этом не сомневался, скажу только, что тот, кто отвергает это предание как слишком древнее, как раз в древности и должен видеть его лучшее подтверждение: если предание всюду знают и часто рассказывают, то оно — старинное и заслуживает доверия. Но у нас есть и более веские доказательства. (31) Почти все города в память о давнишнем благодеянии ежегодно нам присылают начатки урожая, а тем, кто пытается от этого уклониться, Пифия34 не раз приказывала соблюдать исконной обычай и прислать нам от урожая положенную часть. Так можно ли сомневаться в том, что изрекает божество и соблюдают почти все эллины, в чем сходятся древнее предание и нынешний обычай, сегодняшние порядки и сказания предков? (32) Но даже если отбросить предание и обратиться к истории, то мы увидим, что не могли все люди сразу достичь благоустроенной жизни, а пришли к ней постепенно. Кто же мог первым изобрести или получить от богов эти усовершенствования, (33) как не древнейшие обитатели земли, самые искусные в ремеслах и самые благочестивые? Нужно ли говорить о том, каких почестей достойны виновники стольких благ? Едва ли найдется награда, равная их заслугам.
(34) Вот что можно сказать о первом и величайшем благодеянии афинян всему человечеству. Тогда же, видя, что большую часть земли занимают варвары, а эллины теснятся на узком пространстве и гибнут от голода и взаимной резни, (35) афиняне, не желая с этим дольше мириться, разослали по городам предводителей, которые сплотили неимущих эллинов, повели их в бой против варваров и, разгромив врага, заселили все острова Эгейского моря, а частично и оба его побережья. Этим они спасли от гибели и тех, кого повели за собой, и тех, кто остался дома:35 (36) и у последних теперь было достаточно места, и переселенцы получили вдоволь земли, ибо захватили все то пространство, которое сейчас составляет Элладу. Больше того, Афины проложили дорогу всем последующим переселенцам: им уже не приходилось с оружием в руках отвоевывать новые земли, а оставалось лишь разместиться на земле, освоенной нами. (37) Так кто же имеет право на ведущее место в Элладе, как не Афины, которые в ней первенствовали еще до того, как возникла большая часть эллинских городов, и которые варваров изгнали, а эллинов спасли от голодной смерти?
(38) Обеспечив первейшую их потребность, наш город не остановился на этом; то, что он их избавил от голода — а именно с этого разумные люди принимаются налаживать жизнь, — было только началом благодеяний. Считая, что жизнь, ограниченная самым необходимым, мало чего стоит, наш город постарался сделать ее еще лучше, и можно с уверенностью сказать, что ни одно из благ, которых человечество добилось своими силами, не было достигнуто без участия Афин, а многими достижениями оно обязано только нам. (39) В то время как эллины, не зная законов и правопорядка, страдали либо от произвола правителя, либо, наоборот, от безвластия, наш город и в этом пришел им на помощь: одних он взял под свое покровительство, а другим дал образец в виде своих законов и государственного устройства. (40) Что именно в Афинах возникли законы, видно из того, что когда-то все эллины по ним судили виновных в убийстве, если хотели решить дело судом, а не самовольной расправой. Искусства и ремесла, призванные украсить жизнь и обеспечить ее всем необходимым, наш город — изобрел ли он их сам или заимствовал у других — широко распространил и сделал общедоступными. (41) Гостеприимство и благожелательность афинян привлекают в Афины всех, кто желает разбогатеть или вволю пожить на свои деньги; бедняк, откуда бы он ни приехал, найдет здесь надежное пристанище, а богач — самые изысканные наслаждения.36 (42) Не всякая местность может себя обеспечить всем необходимым; нехватка в одном и избыток в другом принуждают эллинов к нелегкому делу сбывать излишки и ввозить то, чего им недостает. Но и здесь мы оказали неоценимую услугу: в сердце Эллады, а именно — в Пирее,37 афиняне устроили богатейший рынок, где можно легко приобрести любые самые редкостные товары.
(43) Заслуженно хвалят тех, кто учредил общеэллинские празднества за установленный ими обычай заключать всеобщее перемирие и собираться вместе, чтобы, свершив обеты и жертвоприношения, мы могли вспомнить о связывающем нас кровном родстве, проникнуться друг к другу дружелюбными чувствами, возобновить старые и завязать новые договоры гостеприимства. (44) Собравшись вместе, эллины получают возможность приятно и с пользой провести время, одни — показывая свои дарования, другие — глядя на их соперничество, причем все остаются довольны: зрители могут гордиться тем, что атлеты ради них не жалеют сил, а участники состязаний рады, что столько людей пришло на них посмотреть. Вот сколько пользы приносят нам празднества, а Афины в их устройстве не уступят никому. (45) Великолепных зрелищ, дорогостоящих и утонченных, в Афинах можно увидеть так много, а число приезжающих к нам так велико, что можно с уверенностью сказать: в нашем городе люди всегда могут воспользоваться благами общения друг с другом. В Афинах легче, чем где бы то ни было, завязать прочную дружбу и разнообразные связи. Здесь можно увидеть не только состязания в силе и ловкости: с не меньшим пылом у нас соревнуются в красноречии и остроумии. А награды поистине велики: (46) наш город не только вручает их сам, но и побуждает к этому других, ибо награда, полученная в Афинах, приносит обладателю великую славу и всеобщее признание. Наконец, в других местах общеэллинские празднества справляются редко38 и длятся недолго, а в Афинах для приезжего всегда праздник, доступный каждому и в любое время.
(47) Философия, приохотившая нас к общественной жизни, сделавшая более дружелюбными друг к другу, научившая остерегаться зла невежества и стойко переносить неизбежное, в нашем городе укоренилась по-настоящему прочно. А красноречие у нас стало настолько почетным, что овладеть им стремится чуть ли не каждый, (48) понимая, что только дар речи возвышает человека над животными, что во всем остальном по прихоти судьбы неудачу терпят и умные люди, а успеха добиваются часто глупцы, зато искусство речей глупцам недоступно, являясь уделом лишь одаренных, (49) что оно — важнейший признак образованности, что не по мужеству и богатству, но по речам познается истинное благородство и настоящее воспитание, что владеющий словом уважаем не только у себя в городе, но и повсюду. (50) В уме и красноречии Афины своих соперников опередили настолько, что стали подлинной школой всего человечества, и благодаря именно нашему городу слово «эллин» теперь означает не столько место рождения, сколько образ мысли и указывает скорее на воспитание и образованность, чем на общее с нами происхождение.
(51) Но чтобы не показалось, будто я задерживаюсь на мелочах, хотя обещал говорить только о важном, или что я восхваляю свой город за мудрость и красноречие лишь потому, что мне нечего сказать о его доблести на войне, позволю себе высказаться и об этом для тех, кто чересчур кичится боевой славой, тем более что за военную доблесть наши предки достойны не меньших похвал, чем за прочие свои заслуги. (52) Много испытаний, суровых и тяжких, выпало на их долю, ибо они сражались не только за свою землю, но и за чужую свободу, так как наш город для угнетенных и притесняемых эллинов всегда был прибежищем и оплотом. (53) Некоторые осуждают нас за безрассудное стремление помогать беззащитным, не понимая, что такие упреки лучше похвал: не потому становились мы на сторону слабых, что не знали, насколько выгоднее союз с сильным, а сознательно предпочитали вступаться за них даже вопреки собственной пользе.
(54) О том, как наш город использует свою мощь, можно судить на примере тех, кто прибегал к его защите. Недавних случаев я приводить не стану, ибо еще до Троянской войны (вот где должны искать доводы те, кто хочет свои права доказать ссылками на предков) к нам обратились за помощью дети Геракла, а чуть раньше — аргосский царь Адраст, сын Талая. (55) Адраст, потерпев неудачу в походе на Фивы, когда ему не позволили даже похоронить его соратников, павших при осаде Кадмеи, явился в Афины, умоляя помочь ему в беде, которая может случиться с каждым, и не допустить, чтобы древний обычай был попран и павшие на войне остались без погребения.39 (56) А Гераклиды,40 спасаясь от жестокости Еврисфея и видя, что ни один город их защитить не способен, только Афины сочли достойными отплатить за благодеяния, которые их отец оказал человечеству. (57) Очевидно, уже тогда Афины имели все качества предводителя эллинов: никто не стал бы просить о помощи слабое или зависимое от других государство, да еще в деле, которое касается всех и защищать которое пристало лишь городу, стремящемуся возглавить Элладу. (58) И просители в своих надеждах не обманулись: взяв на себя тяжесть войны с обидчиками, афиняне всем ополчением двинулись на фиванцев и заставили их выдать тела погибших, а когда Еврисфей с целым войском пелопоннесцев вторгся в нашу страну, вышли ему навстречу и наголову разбили дерзкого царя. (59) Немало великих дел к тому времени было известно за афинянами, но этим подвигом они стяжали еще большую славу. Свой долг они исполнили так основательно, что Адраст, который явился в Афины просителем, вернулся домой, получив от врага все, чего добивался, а Еврисфей, который вторгся в нашу страну как завоеватель, был взят в плен и сам оказался в положении просителя. (60) Долго и безнаказанно он помыкал сыном Зевса, унижая того, кто силой превосходил любого из смертных, но первая же дерзость по отношению к Афинам кончилась для Еврисфея жестокой расплатой: попавшись в руки Гераклидам, он принял вскоре позорную смерть.
(61) Многими благодеяниями нам обязаны спартанцы, но уже за одно это они перед нами в неоплатном долгу, ибо только афинская помощь дала возможность Гераклидам, предкам правящих ныне в Спарте царей, вернуться с победой в Пелопоннес, захватить Аргос, Лакедемон и Мессену, основать Спарту и заложить основы ее нынешнего могущества. (62) Вот о чем следовало помнить спартанцам, когда своими набегами они разоряли страну,41 положившую начало их процветанию, и угрожали городу, рискнувшему всем для Гераклидов. Справедливо ли потомков Геракла делать своими царями, а город, который спас весь их род, пытаться поработить? (63) Но, оставляя в стороне столь очевидную неблагодарность и возвращаясь к предметам более важным, скажу, что нигде еще не было видано, чтобы пришелец главенствовал над местным жителем, получивший услугу — над оказавшим ее, попросивший убежища — над тем, кто его предоставил. (64) Доказать это можно даже короче. Самыми сильными государствами Эллады, кроме нашего, всегда были Аргос, Фивы и Спарта, но фиванцев наши предки заставили выполнить требования побежденных ими аргивян, (65) самих аргивян позднее разбили в числе других пелопоннесцев, детей же Геракла, основателей Спарты, защитили от угроз Еврисфея, а значит, первое место в Элладе принадлежит, бесспорно, Афинам.
(66) Теперь — об афинских победах над варварами, тем более что главная цель моей речи — указать путь к господству над ними. Все войны и битвы перечислять было бы долго, поэтому я скажу лишь о главном. (67) Самые воинственные и могущественные варварские племена — это скифы, фракийцы и персы. Каждое из них на нас нападало, и каждому из них мы давали отпор. Что еще могут сказать наши недоброжелатели, если эллины в поисках справедливости обращаются за помощью именно к нам, а варвары, желая поработить эллинов, нападают прежде всего на нас? (68) Наиболее знаменита война против персов, но для тех, кто утверждает, что у него исконное право на первенство, не менее важны ссылки на древность. Когда Эллада была еще слаба, в наши владения вторглись фракийцы во главе с Евмолпом, сыном Посейдона, а позднее скифы во главе с амазонками, дочерьми Ареса. Стремясь установить свою власть над Европой и ненавидя эллинское племя, они бросили вызов именно Афинам, считая, что если справятся с этим городом, то разом покончат со всей Элладой.42 (69) Но цели своей они не достигли: имея противником лишь афинян, они потерпели такое поражение, словно воевали против целого человечества. Что разгром был сокрушительным, видно из того, что предание об этом живо до сих пор, чего не случилось бы, если б это была мелкая неудача. (70) Амазонки, которые участвовали во вторжении, погибли, согласно преданию, все до одной, а те, что остались дома, лишились большей части своих владений и окончательно утратили былое могущество; фракийцы же, искони обитавшие в непосредственной близости от нас,43 после того поражения ушли с насиженных мест так далеко, что на пространстве, которое нас теперь разделяет, расселились десятки племен и народов и возникло множество городов.
(71) Это был поистине славный подвиг, подобающий тому, кто хочет быть первым в Элладе, но не меньший подвиг, достойный предков, совершили те, кто отразил нашествия Дария и Ксеркса.44 В величайшей из войн, в тяжелейших опасностях, в борьбе с противником, который считал себя непобедимым, чьей доблести страшились даже наши союзники, (72) афиняне выстояли и разбили врага, получив в награду не только славу, но и безраздельное господство на море, с полного согласия всей Эллады, в том числе и тех, кто пытается его теперь отобрать.
(73) Пусть не думают, что я не знаю о заслугах в этой войне спартанцев, но тем большей похвалы достойны Афины, что сумели превзойти такого соперника. О тогдашних афинянах и спартанцах я хочу сказать немного подробней, чтобы напомнить, какова была доблесть тех и других и сколь велика их ненависть к варварам. (74) Знаю, что трудно говорить о предмете, уже не раз бывшем темой речей видных граждан на погребении тех, кто пал смертью храбрых.45 Все главное, конечно, уже было сказано, но кое-что все же осталось упущено, и нелишне будет о нем напомнить, так как это содействует нашей цели.
(75) Великой славы достойны те, кто, рискуя жизнью, защитил Элладу, но несправедливо забывать о людях предыдущего поколения, благодаря которым победа стала возможной. Это они вырастили достойную смену, воспитали в своих детях отвагу и доблесть и сделали их настоящими бойцами. (76) Превыше всего ставя общее благо, они не расточали, но пополняли казну и распоряжались ею так разумно, как если бы она была их собственной, и так честно, словно она была для них совершенно чужой. Деньги тогда не были мерилом счастья; самым надежным и честным богатством считалось доброе имя у современников и слава, оставляемая потомкам. (77) Они не соревновались в бесстыдстве, не упражнялись в своеволии и наглости; дурной славы среди соотечественников они боялись больше, чем смерти за отчизну, и опозорить свой город боялись больше, чем теперь люди боятся опозорить самих себя. (78) Они соблюдали старинный обычай и заботились не столько о взыскании долгов, сколько о нравах и образе мысли, зная, что честным людям не нужно много законов, что и с немногими можно решать как частные, так и общественные дела. (79) Столь велика была их любовь к отечеству, что спорили они между собой не за власть, а о том, кто окажет отчизне услугу, и вступали между собой в союзы не в личных целях, а в интересах общества. (80) Так же они относились и к другим государствам: стремясь завоевать расположение эллинов, они были для них наставниками и предводителями, а не господами и тиранами; они не губили их, а спасали, не порабощали, а опекали. (81) Их слово было надежнее клятвы, а договоры они соблюдали так, словно вообще не представляли, что их можно нарушить. Они не кичились своей мощью, они были умеренны в своих притязаниях и относились к слабейшим так, как хотели бы, чтобы сильнейший относился к ним самим. В своих городах они видели свой дом, а общим отечеством считали Элладу.
(82) Вот каких убеждений держались тогдашние афиняне и спартанцы, и, воспитывая в том же духе своих детей, они вырастили таких бойцов против персов, что не нашелся еще ни поэт, ни оратор, который достойно воспел бы их подвиг. Винить их за это едва ли возможно, ибо восхвалять показавших высочайшую доблесть столь же трудно, как тех, кто ничего славного не совершил: тех вообще не за что хвалить, а для этих невозможно найти слова, соответствующие величию их деяний. (83) Какие слова будут достойны мужей, которые превзошли покорителей Трои? Те десять лет осаждали один-единственный город, а эти разом сокрушили мощь целой Азии и не только защитили свои города, но и спасли от порабощения всю Элладу. Перед какими же подвигами и трудами отступили бы они ради славы при жизни, если с готовностью шли на смерть, обещавшую им лишь посмертную славу? (84) Я думаю даже, что это испытание послали им боги ради них же самих, чтобы отвага их получила известность, чтоб не прожили они свою жизнь незаметно, а удостоились участи полубогов, которые не избежали смерти, но память о которых бессмертна вовек.
(85) Наши предки и спартанцы всегда соперничали, но тогда они состязались на поприще славы и не считали себя врагами. Свою доблесть они показали сначала на войске, которое против них выслал Дарий. (86) Как только это войско высадилось в Аттике, афиняне, не дожидаясь подхода спартанцев и взяв на себя тяжесть общей войны, в одиночку встретили надменного врага, с немногими силами против бесчисленных полчищ, словно рисковали не своей жизнью, а чужой; спартанцы же, едва узнали об этом, бросились к ним на помощь так поспешно, словно враг разорял их собственную страну.46 (87) О быстроте их и рвении свидетельствует то, что афиняне в тот же день, как узнали о высадке персов, уже были на границе своей страны и, разбив врага, воздвигли трофей; спартанцы же за трое суток проделали путь в тысячу двести стадиев,47 — настолько одни спешили помочь, а другие — дать бой раньше, чем подоспеет помощь. (88) Следующее, второе нашествие персов возглавил уже лично Ксеркс: покинув царский дворец, он сам повел в поход свое войско, собрав в него людей со всей Азии. Даже при всем желании трудно преувеличить опасность этой войны. (89) Ксеркс настолько вознесся в своей гордыне, что ему уже мало казалось покорить Элладу. Желая оставить после себя памятник, который превзошел бы возможности человека, он не отступился, пока не исполнил свой замысел, ставший теперь почти легендарным: вместе с войском он переплыл сушу и пешком прошел по морю,48 связав мостом берега Геллеспонта и прорыв канал через Афон. (90) Вот насколько самоуверен и удачлив был враг, которому они выступили навстречу, поровну поделив между собой опасность: спартанцы с отрядом в тысячу воинов и с небольшим числом союзников двинулись к Фермопилам, чтобы занять этот горный проход и преградить путь пехоте врага, а наши предки с шестьюдесятью триерами отплыли к Артемисию, взяв на себя весь вражеский флот. (91) Такая смелость объясняется не столько презрением к врагу, сколько честолюбивым соперничеством: спартанцы, завидуя нашей победе при Марафоне, горели желанием сравняться с нами и опасались, как бы наш город опять не оказался спасителем Эллады, а наши больше всего хотели сохранить завоеванную славу, показать, что прежней победой они обязаны не прихоти случая, но отваге, приучить эллинов к морским сражениям, доказать, что и в морском бою, а не только на суше, побеждают доблестью, а не числом. (92) Одинаковую отвагу проявили соперники, но с различным исходом. Спартанцы погибли в неравном бою; сказать, что их победили, было бы кощунством, ибо никто из них не опозорил себя бегством. Афиняне же разгромили передовые части персидского флота, но, узнав о том, что враг завладел Фермопилами, отплыли обратно и повели войну таким образом, что как ни велики, были их предыдущие подвиги, в последующей борьбе они отличились еще больше. (93) Когда всех союзников охватило отчаяние, а пелопоннесцы начали укреплять Истмийский перешеек, заботясь уже только о собственном спасении, остальные же эллинские города открыто выступили на стороне персов, когда с моря к Афинам подплывал вражеский флот в тысячу двести триер, а с суши приближалось несметное войско, когда гибель казалась неотвратимой, — покинутые союзниками и потерявшие надежду49 (94) афиняне не только сумели уцелеть, но даже удостоились почестей от царя, который рассчитывал с помощью их флота покорить Пелопоннес. Но они отвергли царские дары, хотя, негодуя на предательство эллинов, имели все основания заключить с персами мир. (95) Они не только приготовились сражаться за свободу, но и простили тех, кто избрал добровольное рабство, считая, что малым государствам можно прибегать к любому способу, чтобы выжить, а городу, который хочет быть первым в Элладе, отступать перед опасностью не к лицу. Для отважных мужей, считали они, доблестная смерть лучше, чем позорная жизнь, и великому городу лучше вовсе сгинуть, чем влачить рабство у всех на глазах. (96) Несомненно, они были настроены именно так. Не имея возможности сражаться одновременно и с флотом, и с сухопутным войском врага, они переправили на соседний остров все население города, чтобы дать врагу отпор на море. Можно ли найти более ясное доказательство благородства афинян и их преданности Элладе, чем та решимость, с которой ради общей свободы они пожертвовали родным городом, и самообладание, с которым они смотрели на то, как грабят их поля, разоряют святилища и сжигают храмы? (97) Но даже этого им было мало: они собирались в одиночку сражаться против тысячи двухсот персидских триер. Но этого сделать им не дали: пелопоннесцы, устыдившись своей трусости и сообразив, что если афиняне погибнут, то и они не спасутся, а если победят, то и они покроют себя позором, были вынуждены прийти афинянам на помощь. Я не стану расписывать подробности битвы, обычные для такого рода сражений. (98) Укажу лишь то, чем эта битва важна и почему она дает право Афинам на первое место среди эллинских государств. Военное преобладание нашего города еще в мирное время было так велико, что даже после его разорения афиняне выставили для битвы, в которой решалась судьба Эллады, больше кораблей, чем все их союзники, и даже самые злобные наши недоброжелатели признают, что Саламинская битва решила исход войны, а победили в ней эллины только благодаря Афинам. (99) Кто же достоин возглавить Элладу накануне похода против варваров? Разве не те, кто больше всех отличился в последней войне, кто не раз бился с персами один на один, а если и пользовался поддержкой союзников, то далеко превзошел их в доблести и отваге? Разве не те, кто обрек на разорение свою землю ради спасения остальных, кто основал еще в древности множество городов, а теперь их избавил от верной гибели? Справедливо ли будет лишить награды того, кто выстрадал больше всех, и оттеснить с почетного места того, кто сражался в передних рядах?
(100) В событиях, которые я назвал, всякий признает заслуги Афин и согласится, что первенство принадлежит им. Что же касается позднейших событий, то некоторые нас обвиняют в том, что, добившись господства на море, мы причинили эллинам много зла. В частности, нам ставят в вину продажу в рабство жителей Мелоса и уничтожение Скионы.50 (101) Но в случае с Мелосом я не считаю, что мы злоупотребили полученной властью, если покарали противника, побежденного нами в ходе войны. Из этого следует только то, что с союзниками у нас прекрасные отношения, ибо ни один подвластный вам город ничего подобного не испытал. (102) А за Скиону нас упрекали бы справедливо, если б известны были пpимеры более мягкого обращения с мятежниками, но так как примеров этих не cyществует, так как невозможно, не карая виновных, удержать в повиновении множество городов, нас, право же, следует похвалить за то, что, так долго владея державой, мы обошлись столь малым числом наказаний.
(103) Я думаю, все согласятся с тем, что лучшими покровителями для Эллады будут те, чьи подданные в свое время достигли процветания. Так вот, наше владычество приведет к благоденствию и отдельные семьи, и целые государства, (104) ибо мы не завидовали растущим городам, не пытались ниспровержением существующего строя вызвать в них распри, чтобы враждующие стороны искали помощи и поддержки у нас. Полагая, что согласие на пользу всем, мы управляли союзниками на основе общих законов, обращались с ними не иначе как с равными, взяв в свои руки лишь руководство союзом, но не ущемляя свободы его участников. (105) Сочувствуя народовластию и будучи противниками владычества немногих, мы считали несправедливым, чтобы большинство подчинялось меньшинству, чтобы людей бедных, но в остальном ничуть не худших, отстраняли от государственных дел, чтобы в отечестве, общем для всех, одни себя чувствовали хозяевами, а другие — бесправными чужаками, чтоы те, кто по праву рождения является гражданином, по закону51 были лишены гражданских прав, (106) и потому мы установили во многих государствах тот же строй, что у нас самих. Его достоинства очевидны, и долго расписывать иx нет нужды. Пользуясь благами этого строя, семьдесят лет наши союзники жили52 не зная тирании, свободные от варваров, без внутренних распрей и в мире со всеми. (107) Великой благодарностью платить нам за это должны были бы разумные люди, вместо того чтобы бранить нас за посылку поселенцев53 которых мы расселяли в опустевших городах, не из алчности и стремления к захватам, а лишь для охраны этих мест, и вот доказательство: хотя земли у нас слишком мало, особенно если учесть число наших граждан, хотя властвовали мы над огромной державой и располагали вдвое большим, чем остальные государства, числом боевых кораблей, да еще таких, каждый из которых стоит двух вражеских, хотя Евбея расположена совсем близко от Аттики (108) и обладание ею дает ключ к господству над морем, да и в прочих отношениях она ценнее любого другого из островов, хотя нам ничего не стоило ее захватить и удержать ее было бы даже проще, чем наши сухопутные владения, и к тому же мы по опыту знали, что всюду в почете именно те государства, которые сгоняют с земли соседей, чтобы обеспечить себе сытую, беззаботную жизнь, — ни одно из этих соображений, однако, не побудило нас к захвату Евбеи,54 (109) но мы были единственной великой державой, которая мирилась с тем, что живет в большей бедности, чем те, кого упрекают в покорности нам. Если бы мы искали чем поживиться, то, наверное, позарились бы не на земли Скионы, которые к тому же отдали платейским беженцам,55 а на такую обширную страну, как Евбея, которая обогатила бы каждого из нас.
(110) Но несмотря на столь явные свидетельства нашего бескорыстия, нас имеют наглость обвинять бывшие члены декархий,56 мучители и палачи своих собственных городов, перед зверствами которых бледнеют все прошлые и будущие преступления, которые себя называют сторонниками Спарты, но действуют отнюдь не как спартанцы и, лицемерно оплакивая участь жителей Мелоса, без колебаний расправлялись с собственными согражданами. (111) Есть ли злодеяние, которого они не совершили, гнусность, которой не осуществили? В преступниках они видели свою верную опору, перед изменниками пресмыкались, как перед благодетелями и покровителями. Они добровольно прислуживали илоту,57 чтобы иметь возможность надругаться над родиной; убийц, запятнавших себя кровью сограждан, они почитали больше, чем мать и отца. (112) Даже нас они приучили к такой жестокости, что если раньше, во времена общего благоденствия, каждый в беде находил сочувствие, то при владычестве этих негодяев мы, угнетенные каждый своим горем, потеряли друг к другу всякое сострадание. Они никому не оставляли времени, чтобы сочувствовать другому. (113) Жестокость их не знала границ: даже люди, далекие от государственных дел, не избежали преследования этих чудовищ. И они-то, уничтожившие закон и право, обвиняют наш город в самоуправстве и недовольны приговорами, выносившимися в Афинах, хотя сами за три месяца казнили без суда больше людей, чем афиняне судили за все время своего господства. (114) А уж изгнания и мятежи, беззакония и перевороты, насилия над женщинами и детьми невозможно и перечислить. В общем, можно только сказать, что одного постановления оказалось достаточно, чтобы положить нашим злоупотреблениям конец, а кровоточащие раны от их злодеяний не залечить никогда и ничем.
(115) Неужели мир, который мы имеем сейчас,58 и свобода городам, которая только числится в договоре, лучше, чем былое господство Афин? Кому нужен мир, при котором на море хозяйничают пираты, когда города отданы во власть наемников, (116) а их жители воюют не с внешним врагом, а друг с другом, внутри городских стен, когда города становятся военной добычей чаще, чем во время войны, когда из-за частых переворотов гражданам приходится хуже, чем изгнанникам, потому что граждане в постоянном страхе перед будущим, а изгнанникам оно сулит возвращение? (117) А уж свободы и самоуправления нет и в помине: одни города под игом тиранов, другими правят спартанские наместники, третьи стерты с лица земли, четвертые стонут под властью персов.59 А ведь персов, когда они посмели проникнуть в Европу и слишком много о себе возомнили, мы в свое время укротили настолько, (118) что они не только перестали нападать на нас, но и смирились с опустошением своей собственной страны. Кичившихся флотом в тысячу двести триер мы привели в такую покорность, что ни один их корабль не смел заплывать по эту сторону Фаселиды;60 им ничего не оставалось, как соблюдать мир и уповать на будущее, не рассчитывая на свои нынешние силы. (119) Что причиной тому была доблесть наших предков, ясно показало падение Афин: стоило нам лишиться державы, как несчастья Эллады начались одно за другим.61 После поражения в Геллеспонте, когда мы окончательно проиграли войну, варвары одержали морскую победу и снова стали хозяевами на море; они захватили большую часть островов, совершили набег на Лаконику, овладели Киферой и на кораблях проплыли вдоль побережья Пелопоннеса, разоряя и опустошая его. (120) Как резко изменилось соотношение сил, будет ясно, если сравнить условия договора,62 заключенного с персами во времена афинского могущества, и договора, который заново заключен теперь. Тогда мы определили границы царских владений, установили предел дани, которую выплачивали царю некоторые эллинские города, и запретили варварам плавать по морю; а теперь царь заправляет делами Эллады, раздает нам приказы и только что не посылает в наши города наместников. (121) Остальное уже в его полной власти: он определяет исход войны, он назначает условия мира, он распоряжается решительно всем. К нему мы ездим с жалобами друг на друга, как к своему верховному владыке. Как рабы, мы его именуем великим царем. Ведя непрерывные войны друг с другом, мы уповаем на его поддержку и помощь, хотя он с радостью истребил бы нас всех.
(122) Но мы не должны с этим мириться, мы должны возродить афинскую державу, мы должны открыто осудить спартанцев за то, что они начали войну под предлогом освобождения эллинов,63 а кончили тем, что предали их: ионийцев, для которых наш город — праматерь, которых мы не раз спасали от гибели, они подстрекнули к восстанию против Афин, а потом отдали во власть персам, их ненавистникам и смертельным врагам. (123) Тогда спартанцы возмущались тем, что мы совершенно законно управляли некоторыми городами, а теперь их ничуть не заботит, что ионийские города в ужасающем рабстве. Мало того что они платят дань, что их крепости заняты вражескими войсками, — их жителей, свободнорожденных граждан, подвергают телесным наказаниям и побоям, более унизительным, чем в Афинах — рабов. (124) Но хуже всего то, что их заставляют сражаться за рабство против тех, кто борется за свободу,64 в войне, где поражение сулит им смерть, а победа — еще более тяжкое иго. (125) На ком же еще, как не на спартанцах, лежит ответственность за это? Обладая огромной военной мощью, они равнодушно взирают на беды еще недавних своих союзников, на то, как варвар силами эллинов расширяет и укрепляет свое господство. Когда-то они изгоняли тиранов65 и оказывали поддержку простому народу, а теперь воюют против народных правлений и всюду, где можно, поддерживают единовластие. (126) Они разрушили Мантинею после того, как заключили с ней мир, они захватили у фиванцев Кадмею и сейчас осаждают Олинф и Флиунт, зато царю Македонии Аминте,66 сицилийскому тирану Дионисию и варвару, властвующему над Азией, они помогают расширять владения. (127) Поистине чудовищно, что те, кто должны быть защитниками Элладе, отдали во власть одному человеку неисчислимое множество ее людей, а ее крупнейшие города обрекают на рабство или стирают с лица земли. (128) Но еще страшнее видеть, что государство, которое считает себя первым в Элладе, воюет против эллинов каждый день, а с варварами заключило вечный союз.
(129) Пусть не думают, что я враждебен к Спарте, хотя обещал говорить о примирении с ней. Не для того я употребил резкие выражения, чтобы очернить и оклеветать спартанцев, а только затем, чтобы убедить их отказаться от их нынешнего образа мыслей. (130) Невозможно пресечь дурные поступки и направить виновного на истинный путь, не осудив сурово его теперешних действий. Порицать человека для его же пользы — значит не хулить, а вразумлять его, ибо слова надо воспринимать соответственно цели, которую они преследуют. (131) Так вот, я хочу упрекнуть спартанцев в том, что они закабаляют своих ближайших соседей в интересах лишь своего государства, а для Эллады в целом сделать то же самое не хотят. А ведь если бы они помирились с нами, то легко могли подчинить Элладе всех варваров, живущих по соседсву с ней. (132) Для государства, гордого силой и мощью, это куда более достойная цель, чем собирать дань с островных эллинов,67 которых и без того можно лишь пожалеть, видя, как они из-за нехватки земли вынуждены распахивать горные склоны, в то время как у персов живущих на материке, плодороднейшие земли большей частью пустуют.
(133) Если бы нашелся сторонний наблюдатель и взглянул на нынешнее положение вещей, он решил бы, что и мы и спартанцы безумны, потому что враждуем из-за ничтожных выгод, хотя под рукой огромные, богатства, и разоряем друг у друга наши собственные земли, хотя в Азии нас ждет обильная жатва. (134) Персидскому царю только и остается заботы — постоянно разжигать между нами распрю, не давая затихнуть междоусобной войне, а нам настолько не приходит в голову сеять смуту в его державе, что мы сами помогаем ему усмирять восстания, как это сейчас происходит на Кипре,68 где с помощью одного эллинского войска мы позволяем ему расправляться с другим. (135) Восставшие жители Кипра дружественны Афинaм и готовы всецело подчиниться Спарте; что же касается сил Тирибаза,69 то самую боеспособную часть его пехоты составляют эллинские наемники, а моряки его — почти сплошь ионийцы. Насколько охотнее они бы объединились для совместного похода за богатствами Азии, чем сражаться друг с другом из-за ничтожной добычи! (136) Но нам не до этого: забыв обо всем, мы воюем друг с другом за Кикладские острова, а множество городов и многочисленные войска отдали варвару, по сути, даром. Одними городами он уже владеет, другими завладеет наверняка и готовится уже к захвату третьих, справедливо не ставя нас ни во что. (137) Ему удалось то, чего не сумели его предки: от нас и спартанцев он добился признания своего безраздельного господства над Азией, а ионийские города захватил так прочно, что одни уничтожает, сровнивая с землей, в других сооружает стены и укрепления. И все это — не столько благодаря своей силе, сколько из-за нашего безрассудства.
(138) Многие опасаются могущества царя и утверждают, что он очень грозный противник, напоминая о его большом влянии на эллинские дела. Но этим, я полагаю, они лишь убеждают, что войну надо начинать как можно скорей: если даже при полном нашем единстве и при раздорах в стане врага война с ним будет трудна и опасна, тем опаснее, что может настать время, когда варвары будут выступать сплоченно, а мы все еще будем враждовать, как сейчас. (139) К тому же они совершенно неправы в том, как оценивают силы царя. Если б они назвали хоть один случай в прошлом, когда бы царь оказался сильнее Афин и Спарты, то нам было бы чего бояться, но такого ни разу еще не случалось. А что царь, поддерживая то афинян, то спартанцев, враждующих между собой, приносил то тем, то этим успех, еще не говорит о его могуществе. В таких случаях даже небольшая сила часто бывает очень весомой; сошлюсь для примера хотя бы на Хиос:70 как только он присоединялся к одной из сторон, она сразу получала перевес на море. (140) Чтобы правильно оценить возможности царя, нужно брать в расчет только те примеры, когда царь воевал не как чей-то союзник, а самостоятельно, сам по себе. Так вот, когда против него восстал Египет, что было сделано для подавления мятежа? Царь послал на войну своих лучших полководцев Аброкома, Тифравста и Фарнабаза, а те, протоптавшись на месте три года и испытав больше поражений, чем удач, отступили из Египта с таким позором, что восставшие, не довольствуясь добытой свободой, уже посягают на соседние земли.71 (141) Другой пример — война с Евагором, правителем одного из кипрских городов, который по условиям мирного договора отошел к владениям персидского царя. Хотя на море Евагор был разбит, а все его сухопутные силы состоят лишь из трех тысяч легковооруженных, даже такого слабого противника царь не может одолеть шестой год подряд, и, если позволительно предсказывать будущее, успеет подняться новый мятеж, прежде чем будет подавлен этот, — так медлителен в своих действиях царь. (142) В Родосской войне царю сочувствовали даже союзники Спарты, недовольные ее жестким правлением; в его распоряжении были афинские моряки, командовал его флотом не кто иной, как Конон, опытнейший полководец, пользующийся огромным доверием эллинов. Но даже имея такого помощника, царь целых три года позволял сотне триер держать взаперти у малоазийского побережья весь свой флот; больше, того, не выплатив войску жалованья за целых пятнадцать месяцев, царь привел его в состояние такого развала, что войско едва не разошлось по домам, и только благодаря своему полководцу, а также союзу, заключенному в Коринфе, оно выиграло морскую битву, и то еле-еле, с большим трудом. (143) Таковы самые крупные царские победы, о которых не умолкая твердят повсюду те, кто превозносит могущество царя. Никто не может меня упрекнуть в том, что я привожу не те примеры и замалчиваю подлинные успехи царя. (144) Я назвал самые удачные для персов войны, но могу напомнить и другие примеры: как Деркилид с тысячью латников завладел Эолидой, как Драконт, заняв Атарней, с тремя тысячами легковооруженных опустошил Мисийскую равнину, как Фиброн с чуть большими силами разорил Лидию, как Агесилай с войском Кира захватил почти все земли по эту сторону реки Галис.72 (145) Не следует бояться ни отборных войск, составляющих личную охрану царя, ни пресловутой доблести чистокровных персов: и они, как показал поход Кира73 в глубь материка, не лучше тех войск, что имеются в приморье. Я не стану перечислять все поражения варваров, допуская, что они были нерасположены к Артаксерксу и неохотно сражались против брата царя. (146) Но после гибели Кира, когда в царском войске собрались бесчисленные племена азиатов, они проявили такую трусость, что отныне придется умолкнуть всем, кто привык восхвалять персидскую доблесть. Имея против себя шеститысячное войско, состоящее к тому же из всякого сброда, незнакомое с местностью, преданное союзниками и лишившееся полководца, (147) варвары оказались такими беспомощными, что царь, не зная, что делать дальше, и не полагаясь более на военную силу, вместо честного боя предпочел вероломство и, нарушив клятву, велел схватить полководцев, командовавших наемниками Кира, в надежде на то, что этим преступлением он повергнет в смятение эллинское войско. (148) А когда его замысел провалился, так как эллины стойко перенесли случившееся и начали пробивать себе путь к отступлению, царь послал им вдогонку конницу во главе с Тиссаферном, но эллины, не обращая на нее внимания, словно в сопровождении почетной охраны спокойно и уверенно прошли свой путь, опасаясь не столько встречи с врагом, сколько пустынных и необитаемых мест. (149) Самое важное во всем этом то, что войско, которое вторглось в страну не для мелкого грабежа в какой-то пограничной деревне, а для того, чтобы свергнуть самого царя, вернулось из похода более невредимым, чем послы, которые к царю ездят с заверениями в дружбе. Итак, мы видим, что всюду персы ясно показали свою слабость: в азиатских областях, прилегающих к морю, они многократно терпели поражения, за вторжение в Европу они тоже поплатились бесславной гибелью и постыдным бегством и, наконец, покрыли себя позором в глубине страны, на пороге столицы.
(150) Ничего удивительного в этом нет; то, что случилось, вполне естественно. Не могут люди, выросшие в рабстве и никогда не знавшие свободы, доблестно сражаться и побеждать. Откуда взяться хорошему полководцу или храброму воину из нестройной толпы, непривычной к опасностям, неспособной к войне, зато к рабству приученной как нельзя лучше. (151) Даже знатнейшие их вельможи не имеют понятия о достоинстве и чести; унижая одних и пресмыкаясь перед другими, они губят природные свои задатки; изнеженные телом и трусливые душой, каждый день во дворце они соревнуются в раболепии, валяются у смертного человека в ногах, называют его не иначе как богом и отбивают ему земные поклоны, оскорбляя тем самым бессмертных богов. (152) Не удивительно, что те из них, кто отправляется к морю в качестве так называемых сатрапов, оказываются достойны своего воспитания и полностью сохраняют усвоенные привычки: они вероломны с друзьями и трусливы с врагами, раболепны с одними и высокомерны с другими, пренебрегают союзниками и угождают противникам. (153) Войско Агесилая они, в сущности, кормили за свой счет целых восемь месяцев, а собственное войско оставили без жалованья на срок вдвое больший. Врагу, захватившему Кисфену,74 они уплатили сотню талантов, а своих воинов, воевавших на Кипре, содержали хуже, чем пленных рабов. (154) Каждый, кто идет на них войной, уходит с богатыми дарами, а те, кто у них состоит на службе, умирают от побоев и истязаний. Конона, который, обороняя Азию, сокрушил могущественную спартанскую державу, они вероломно схватили и казнили, а Фемистокла,75 который, защищая Элладу, наголову разбил их в морском бою, они неслыханно щедро вознаградили. (155) Можно ли полагаться на дружбу тех, кто казнят оказавших им услугу и заискивают перед своими врагами? Скольким уже эллинам они причинили зло! С каким упорством они строят козни Элладе! Им ненавистно у нас решительно все: даже изваяния и храмы наших богов они дерзнули сжечь и разграбить.76 (156) Воистину достойны похвал ионийцы за то, что запретили под угрозой проклятия заново отстраивать сожженные храмы, чтобы потомки, помня об этом кощунстве, впредь остереглись доверять святотатцам, которые воевали не только против нас, но подняли оружие и на наши святыни. (157) То же самое могу сказать и о моих согражданах. Стоит им заключить с противником мир, как они уже не питают к нему вражды, но к персам они не чувствуют благодарности даже за оказанные теми услуги, — таким гневом против них пылают афиняне. Многих наши предки казнили за сочувствие мидийцам,77 и до сих пор в Народном собрании, прежде чем обсуждать любое дело, возглашают проклятие тому, кто предложит вступить с персами в переговоры, а при посвящении в таинства Евмолпиды и Керики78 из ненависти к персам не допускают к обрядам всех варваров наравне с убийцами. (158) Вражда наша к персам так велика, что нет для нас более приятных сказаний, чем о Троянской и Персидской войне, потому что в них говорится о поражениях варваров. Легко заметить, что о войне против персов у нас слагают хвалебные песни, а о войнах против эллинов — только плачи; те поют на торжествах и праздниках, а эти вспоминают в горести и беде.79 (159) Думаю, что и творения Гомера славятся больше других за то, что он воспел войну против варваров. Именно потому наши предки сочли полезным исполнять их на состязаниях музыкантов и при обучении детей, чтобы, часто слушая эти поэмы, мы учились ненавидеть варваров и, подражая доблести воевавших с ними, стремились совершить такой же подвиг.
(160) Даже слишком многое, я считаю, нас побуждает к войне против персов, а сейчас для этого самое время. Позор упускать удобный случай и потом о нем с горечью вспоминать. А ведь лучших условий для войны с царем, чем теперешние, и пожелать нельзя. (161) Египет и Кипр против него восстали; Финикия и Сирия разорены войной; Тир, который для царя столь важен, захвачен его врагами; большая часть городов Киликии уже в руках наших союзников, остальные же будет легко покорить; а Ликия персам вообще неподвластна. (162) Наместник Карии Гекатомн, по сути, давно отложился от персов и открыто станет на нашу сторону, как только мы этого захотим. Побережье Малой Азии от Книда до Синопы населяют наши соплеменники, эллины, а их не нужно настраивать против персов, они сами горят желанием воевать. Имея в запасе стольких союзников, окруживших Азию со всех сторон, нужно ли гадать об исходе войны? Если даже воюя с каждым в отдельности, персы не могут его одолеть, нетрудно представить, что с ними будет, когда мы пойдем на них все вместе. (163) Сейчас положение дел таково: если варвары укрепят приморские города, усилив размещенные там войска, не исключено, что соседние острова, такие как Родос, Самос и Хиос, перейдут на сторону персов; но если мы первые их захватим, то наверняка лидийцы, фригийцы и жители более отдаленных областей не выдержат нападения с моря. (164) Значит, надо спешить, не терять времени даром, чтобы избежать ошибки наших предков: они дали варварам опередить себя и, потеряв из-за этого многих союзников, были вынуждены сражаться против превосходящих сил врага, хотя могли первыми высадиться в Азии и объединенными силами всей Эллады покорять местные племена одно за другим. (165) Опыт учит, что в случае войны с разноплеменным противником следует не ждать, пока он соберет свои силы, а нападать, пока они разбросаны по разным местам. Наши предки допустили явный промах, но исправили его в тяжелых боях; а мы, если будем действовать умнее, подобной оплошности не повторим и постараемся внезапным ударом занять Лидию и Ионию, (166) зная, что жители этих областей давно тяготятся господством персов и лишь потому терпят их власть, что поодиночке не справятся с царским войском. И если мы туда переправим большие силы — а это нетрудно, стоит лишь захотеть, — то без риска станем владыками Азии. Куда лучше отвоевывать у царя его державу, чем оспаривать друг у друга первенство в Элладе.
(167) Хорошо бы начать этот поход еще при нынешнем поколении, чтобы оно, перенесшее столько бед,80 смогло наконец насладиться счастьем. Слишком много ему пришлось выстрадать: хотя жизнь вообще неотделима от горя, к естественным страданиям, неизбежным от природы, мы сами прибавили войны и смуты, (168) из-за которых одни беззаконно гибнут, другие скитаются с семьей по чужбине, многие ради заработка уходят в наемники и, сражаясь с друзьями, умирают за врагов. Никого это не трогает; люди плачут над вымыслами поэтов, а на подлинные страдания, порожденные войной, взирают спокойно и равнодушно. (169) Впрочем, смешно с моей стороны сокрушаться об отдельных людях, между тем как Италия опустошена, Сицилия в рабстве,81 ионийские города отданы персам, а судьба остальной Эллады на волоске.
(170) Как могут власти наших городов гордиться собой, когда они бездействуют, видя все это? Будь они достойны своего положения, им следовало давно отложить все дела и настойчиво предлагать войну против персов. Они могли бы хоть что-нибудь сделать, (171) а если бы даже и не достигли успеха, то по крайней мере оставили бы в назидание потомкам свои вдохновенные речи. А сейчас они заняты пустяками и оставили это важнейшее дело нам, далеким от государственных дел. (172) Но чем мелочнее заботы, в которых они погрязли, тем усерднее мы должны искать путей к единству Эллады. Сейчас наши мирные договоры бессмысленны: мы не прекращаем, а лишь откладываем войны, выжидая случая нанести друг другу смертельный удар. (173) Пора покончить с этим коварством и сделать так, чтобы мы могли жить спокойно и с доверием относиться друг к другу. А как это сделать, объяснить очень просто: не будет у нас прочного мира, пока варварам мы не объявим войну; не будет между нами согласия до тех пор, пока мы не найдем себе общего врага и общий источник обогащения. (174) А когда это осуществится и исчезнет у нас бедность, которая разрушает дружбу, родных делает врагами, вовлекает людей в мятежи и войны, тогда воцарится всеобщее согласие и мы станем по-настоящему доброжелательны друг к другу. Значит, надо как можно скорее перенести войну из Европы в Азию и извлечь из наших распрей хотя бы ту пользу, что опыт, накопленный в междоусобной войне, мы сможем применить в походе на персов.
(175) Мне могут возразить, что от объявления войны нас обязывает воздержаться мирный договор с Персией. Но из-за него города, получившие независимость, признательны царю как своему освободителю, а города, отданные под власть варварам, клянут как виновников своего рабства спартанцев и других подписавших мир. Неужели не следует порвать договор, создающий впечатление, будто варвар заботится об Элладе и потому охраняет мир, а некоторые из нас нарушают мир и тем причиняют Элладе зло? (176) Нелепее всего то, что мы соблюдаем самые ненавистные положения договора: тот его раздел, где говорится о свободе островам и городам европейской части Эллады, уже давно и прочно забыт, а самая позорная для нас статья, отдавшая ионийцев в рабство персам, по-прежнему остается в полной силе. Мы признаем законным то, чего не должны были терпеть ни дня, считая это не договором, а основанным на грубой силе приказом. (177) Виноваты также и наши послы, которые вели с персами переговоры и, вместо того чтобы отстаивать интересы Эллады, заключили выгодный варварам мир. Им следовало требовать, чтобы каждая сторона сохранила или только исконные свои земли, или еще и позднейшие приобретения, или то, чем она владела непосредственно перед заключением мира. Вот какие условия они должны были поставить, чтобы справедливость была обеспечена всем, и только тогда подписывать договор. (178) А они оставили ни с чем афинян и спартанцев, зато варвару целиком отдали Азию, словно мы воевали ради него или словно его держава существует издревле, а наши города возникли только что. Это персы лишь недавно достигли могущества, а мы искони были главной силой в Элладе. (179) Чтобы яснее показать, в каком мы бесчестии и как непомерны владения царя, попробую выразиться по-другому. Из двух равных частей света, именуемых Азией и Европой, царь половину забрал себе, словно он делил власть с Зевсом, а не заключал договор с людьми. (180) И этот кощунственный договор он нас заставил высечь на камне и поставить в главнейших эллинских храмах82 как памятник своей победы, более почетный, чем те, что воздвигаются на поле брани.83 Те ставятся в честь мелких и единичных побед, а этот знаменует итог всей войны и означает победу над всей Элладой.
(181) Поэтому мы должны во что бы то ни стало отомстить за прошлое и обеспечить свое будущее. Позор, что у себя дома мы держим варваров на положении рабов, а в делах Эллады миримся с тем, что наши союзники в рабстве у них. Когда-то, во времена Троянской войны, из-за похищения одной женщины наши предки вознегодовали настолько, что родной город преступника сровняли с землей. (182) А сейчас, когда жертва насилия — вся Эллада, мы не желаем отомстить за нее, хотя могли бы осуществить свои лучшие мечты. Это единственная война, которая лучше, чем мир. Похожая больше на легкую прогулку, чем на поход, она выгодна и тем, кто хочет мира, и тем, кто горит желанием воевать: те смогут открыто пользоваться своим богатством, а эти разбогатеют за чужой счет. (183) Во всех отношениях эта война необходима. Если нам дорога не пожива, а справедливость, мы должны сокрушить наших злейших врагов, которые всегда вредили Элладе. (184) Если есть в нас хоть капля мужества, мы должны отобрать у персов державу, владеть которой они недостойны. И честь и выгода требуют от нас отомстить нашим кровным врагам и отнять у варваров богатства, защищать которые они не способны. (185) Нам даже не придется обременять города воинскими наборами, столь тягостными сейчас, при междоусобных войнах: желающих отправиться в этот поход, несомненно, будет гораздо больше, чем тех, кто предпочтет остаться дома. Найдется ли кто-нибудь столь равнодушный, будь то юноша или старик, кто не захочет попасть в это войско с афинянами и спартанцами во главе, снаряженное от имени всей Эллады, чтобы союзников избавить от рабства, а персов заслуженно покарать? (186) А какую славу стяжают при жизни, какую посмертную память оставят те, кто отличится в этой войне! Если воевавших когда-то против Париса и взявших осадой один только город продолжают восхвалять до сих пор, то какая же слава ждет храбрецов, которые завоюют Азию целиком? Любой поэт и любой оратор не пожалеет ни сил, ни труда, чтобы навеки запечатлеть их доблесть.
(187) Я уже не чувствую той уверенности, с которой начинал свою речь: я думал, что речь будет достойна своего предмета, но вижу, что не сумел его охватить и многое не сказал из того, что хотел. Значит, вам остается самим подумать, какое нас ждет великое счастье, если войну, губящую нас, мы перенесем из Европы в Азию, а сокровища Азии доставим к себе. (188) Я хочу, чтобы вы ушли отсюда не просто слушателями. Пусть те из вас, кто сведущ в делах государства, добиваются примирения Афин и Спарты, а те, кто опытен в красноречии, пусть перестанут рассуждать о денежных залогах и прочих безделках, пусть лучше попробуют превзойти эту речь и поищут способа на эту же тему высказаться красноречивей, чем я, (189) помня, что настоящему мастеру слова следует не с пустяками возиться и не то внушать слушателям, что для них бесполезно, а то, что и их избавит от бедности, и другим принесет великие блага.
ДЕМОСФЕН О ПРЕДАТЕЛЬСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ
84
(1) Какая суета, какие хлопоты начались из-за нынешней тяжбы, — это чуть ли не все бы, афиняне, я полагаю, заметили сами, видя, сколько людей стало вам докучать и не отступалось, едва только вас выбрали жребием.85 Я тоже буду просить вас, но о том, к чему и без просьб обязывают честность и право: ни приязнь, ни лицо не ставить выше справедливости и присяги, которую каждый из вас дал, вступая сюда, и не забывать, что это будет на благо и вам, и всему городу, между тем как мольбы и хлопоты заступников имеют целью частную корысть, которой и должны вы стать преградою, ибо за этим, а не затем, чтобы усиливать преступников, собрали вас законы. (2) Как я наблюдаю, те, кто честно относится к общественным делам, даже сдав отчет, готовы отчитаться снова, — а вот он, Эсхин, совсем наоборот: прежде чем выйти перед вами и держать ответ за содеянное, он устранил одного из обжаловавших его отчет, а других обходит с угрозами, заводя самый страшный для государства и вредный для вас обычай: ведь если кто-либо, выполнив государственное дело, сумеет устроить так, что из страха перед ним и его бесчестностью не отыщется на него обвинителя, то вы окажетесь вовсе бессильными. (3) Что до изобличения его бесчестных дел, многих и страшных, заслуживающих самой тяжкой кары, то тут я осмеливаюсь не сомневаться; хотя, даже полагая так, боюсь одного и скажу вам об этом без утайки: по-моему, для вас, афиняне, во всяком судебном разборе срок значит не меньше обстоятельств, а так как времени после того посольства прошло много, то я опасаюсь, что вы либо позабыли его преступления, либо к ним притерпелись.
(4) И чтобы при всем том вы даже теперь могли знать, что справедливо, и судить по справедливости, скажу вам так. Пусть каждый из вас, судьи, про себя разберется и сообразит: в чем надлежит получить отчет от посла? Во-первых, в том, что он доложил; во-вторых, в чем убедил; в-третьих, что ему было поручено; затем — каковы сроки; и наконец — бескорыстно ли все было сделано. (5) Почему же именно в этом? Потому что на основании его доклада вы должны обсуждать дела, и если доложена правда, то и решите вы как нужно, а если нет, так и решения будут неправильны. Надежнейшими же советчиками вы считаете послов и слушаете их как самых сведущих в том, ради чего их посылали. Потому-то по справедливости не положено, чтобы посол был изобличен в подаче дурных или бесполезных советов. (6) Также и то, что вы поручили ему сказать и сделать, постановив все с полной ясностью, надлежит исполнять. Все это так; зачем спрашивать о сроках? А затем, афиняне, что нередко время, нужное для многих больших дел, оказывается коротким, и если кто намеренно, предавая вас противнику, упустит его, то уж никаким способом не сможет ничего поправить. (7) Что же до того, был подкуп или нет, так все вы наверняка согласитесь, что наживаться на делах, приносящих ущерб государству, и преступно и возмутительно. Хотя установивший этот закон и не сделал разграничений, зато просто сказал, что даров вообще нельзя брать, считая, по-моему, что однажды принявший подкуп и совращенный деньгами не останется надежным судьей в делах о пользе государства. (8) Итак, если я изобличу Эсхина и ясно покажу, что он, Эсхин, и не доложил вам правды, и помешал народу слышать ее от меня, и дал все советы вопреки пользе, и не сделал ничего из предписанного ему, а растратил время, из-за чего государство упустило благоприятный срок для многих больших дел, и за все это получил вместе с Филократом подарки и деньги, то осудите его и наложите кару, достойную его преступлений. Если же я не докажу этого либо докажу не все, то меня считайте негодяем, а его отпустите.
(9) Есть у меня, кроме этих, и другие обвинения, столь многие и тяжкие, что каждый из вас, афиняне, по заслугам возненавидел бы этого человека; но прежде чем говорить о том, о чем я намерен сказать, хочу вам напомнить — пусть даже зная, что многим это памятно, — к числу каких людей в нашем государстве причислял себя раньше Эсхин и какие речи против Филиппа считал своим долгом держать: ведь эти прежние дела и речи лучше всего уличают его в получении мзды. (10) В тогдашних речах утверждал он, будто первым из афинян заметил и то, что Филипп задумал зло против греков, и то, что им подкуплены некоторые начальствующие лица в Аркадии; будто это он, Эсхин, имея при себе на вторых ролях Исхандра,86 сына Неоптолема, говорил об этом совету, говорил народу, убедил вас отправить во все стороны послов, чтобы созвать сюда людей на совет о войне против Филиппа, (11) а потом, по возвращении из Аркадии,87 докладывал, какие длинные и прекрасные речи произносил он перед десятью тысячами в Мегалополе, защищая вас и опровергая Гиеронима, защищавшего Филиппа, и распространялся о том, сколь преступен перед всей Грецией, а не только перед своим родным городом всякий мздоимец, получающий от Филиппа подарки и деньги. (12) Так судил он тогда о государственных делах, таким выставлял себя, и когда вы решили отрядить послов договариваться с Филиппом о мире, убежденные Аристодемом, Неоптолемом, Ктесифонтом88 и прочими, не сообщавшими оттуда ничего вразумительного, одним из послов стал и он, человек, который не только не предаст ваше дело и не поверит Филиппу, но будет надзирать за остальными: такую заслужил он славу среди вас своими речами и ненавистью к Филиппу. (13) После этого, подойдя ко мне, он стал настаивать, чтобы и я принял участие в посольстве: вдвоем-де мы будем лучше надзирать за этим бесстыжим подлецом Филократом, — внушал он мне. И вплоть до возвращения сюда из первого посольства я не видел, афиняне, чтобы он был подкуплен и продался. Помимо сказанного им прежде, о чем я говорил, на первом же Народном собрании, где совещались о мире, он встал и начал с такого начала, которое я надеюсь напомнить вам слово в слово. (14) «Сколько бы времени, афиняне, — говорил он, — Филократ ни высматривал, как бы лучше воспротивиться мирному договору, никогда не найти бы ему средства удачнее, чем такое предложение. Я бы ни за что не посоветовал городу заключать этот мир, покуда хоть один афинянин остается в плену, но мир заключать надо». И еще он говорил в том же роде, кратко и благоразумно. (15) Так во всеуслышанье сказал он при вас в первый день; а на второй,89 когда надобно было выносить решение о мире и я, соглашаясь с постановлением союзников, добивался мира равного и справедливого,90 да и вы хотели того же и не желали слышать даже голоса гнусного Филократа, — он, Эсхин, встал и произнес в его пользу много такого, за что, клянусь Зевсом и всеми богами, заслуживал бы ста смертей: (16) дескать, незачем вам и предков помнить, и допускать речи о памятниках побед и о морских боях, а надобно учредить и издать закон, чтобы вы не помогали никому из эллинов, если они прежде не помогли вам.91 И такие вещи он, подлый и бесстыжий Эсхин, осмелился говорить, когда рядом стояли и слушали послы,92 созванные от всех греков по его же наущению, когда он еще не продался!
(17) А сейчас, афиняне, вы услышите, каким образом этот Эсхин, когда вы проголосовали за то, чтобы он принял присягу, зря потом потратил время и привел в расстройство все дела государства и какая вражда возникла из-за этого между нами, когда я хотел ему помешать. После того как вернулось наше посольство, отправленное принять присягу,93 — то самое, за которое мы сейчас отчитываемся, — вернулось, обманутое во всем, не найдя ни большого, ни малого из того, что говорено было и чего ожидали при заключении мира, — тогда мы обратились в совет,94 поскольку эти люди делали совсем не то и отправляли свои посольские обязанности не по вашему постановлению.95 То, что я собираюсь сказать, известно многим, так как здание совета было полно народу. (18) Я тогда, выступив, доложил совету всю правду и обвинил их, перечислив все, начиная от первых надежд, которые внушили вам Ктесифонт и Аристодем, потом перейдя к речам, которые он держал, когда вы заключали мир, и к тому, до чего они довели город, а под конец посоветовав не упускать из виду остального (то есть фокидян и Фермопил),96 не быть слишком терпеливыми и не позволять, чтобы, покуда мы держимся за все новые надежды и посулы, дела дошли до крайности. Совет я в этом убедил.
(19) А когда сошлось Народное собрание и надо было говорить перед вами, тогда он, Эсхин, выступил первым из всех нас (ради Зевса и всех богов, постарайтесь вспомнить, правду ли я говорю: ведь отсюда и пошла во всех ваших делах порча и полное расстройство!) и не стал ни докладывать о посольстве, ни упоминать, о чем говорилось в совете и оспорил ли он там правдивость моих слов, зато произнес такие речи о столь многих и великих выгодах, что ушел, всех вас увлекши. (20) По его словам, он, до того как вернуться, убедил Филиппа в деле об амфиктионах и во всем прочем действовать на благо нашему городу, причем долго пересказывал длинную обвинительную речь против фиванцев,97 которую якобы держал перед Филиппом, излагая вам главное в ней и разъясняя, будто это его стараниями в посольстве через три-четыре дня вы, не выходя из дому, не воюя и не зная докуки, услышите и о Фивах, осажденных отдельно от остальной Беотии, (21) и о заселении Феспий и Платей,98 и о взыскании денег в пользу божества99 не с фокидян, а с фиванцев, замышлявших завладеть святилищем: ведь он, мол, сам внушил Филиппу, что замыслившие святотатство виновны не меньше, чем совершившие его на деле, и за это-де фиванцы даже объявили денежную награду за его, Эсхина, голову. (22) И еще он якобы слышал, как кто-то из евбейцев, испуганных сближением между нашим городом и Филиппом, говорил, что «для нас, господа послы, не тайна, каковы условия мира, заключенного вами с Филиппом, и нам известно, что вы ему уступили Амфиполь, а он согласился отдать вам Евбею». К тому же он, мол, достиг еще кое-чего, о чем не хочет говорить, так как среди послов есть такие, что завидуют ему. А имел он в виду Ороп100 и на него намекал. (23) Снискав этим заслуженное одобрение, Эсхин, который всем показался и превосходным оратором, и достойным восхищения человеком, окончил речь и ушел весьма торжественно.
Тогда встал я, сказал, что ничего этого не знаю, и попытался говорить о том, о чем доложил совету. Но тут вот он, Эсхин, и с ним Филократ, встав один по одну, другой по другую руку от меня, начали гнать меня криками, а под конец и высмеивать.101 Вы же стали хохотать и ни слушать не хотели, ни верить не желали ничему, кроме его доклада. (24) Но клянусь богами, мне самому ваши чувства казались законными: ведь когда ждешь столько великих благ, как допустить, чтобы их либо объявили несуществующими, либо ставили их в вину тем, кто их добился? Все отступило, я думаю, перед близкими ожиданиями и надеждами, всякое возражение представлялось лишней докукой и завистливой клеветой, — зато чудом казалось, сколько полезного для города они сделали.
(25) Но ради чего я первым делом напомнил вам все это и пространно пересказал те речи? Больше всего и прежде всего, афиняне, ради одной цели: чтобы никто из вас, услыхав, как я говорю о содеянном ими, и сочтя мои слова чрезмерно резкими, не удивился бы: «А почему ты тогда же, сразу не сказал нам этого и не просветил нас?» — (26) но чтобы всякий вспомнил их посулы, к которым они при каждом удобном случае прибегали, лишь бы не дать больше никому слова, — вспомнил то прекрасное Эсхиново обещание и понял бы, что, помимо всех прочих вин, он повинен еще в одном: когда надо было сразу узнать правду, он помешал вам надеждами и обманными посулами. (27) Вот то первое и главное, ради чего я, как сказано, все это подробно изложил; что же второе и не менее важное? А то, чтобы вы вспомнили, каковы были его предпочтения в государственных делах до подкупа, как он был осторожен и недоверчив к Филиппу; чтобы обратили внимание, какая дружба и доверие к Филиппу появились в нем немедля после подкупа; и чтобы рассудили так: (28) если все, что он наобещал вам, сбылось и все дела его приняли благоприятный оборот, — значит, они велись по правде и ради пользы государства; а если все вышло вопреки тому, что он говорил, если принесло городу много позора и опасностей, — значит, он переменился из низкой алчности, продав за деньги правду.
(29) Прежде всего я хочу, коль скоро зашла об этом речь, сказать, как вынули у нас из рук фокидские дела. Нельзя, судьи, чтобы хоть кто-нибудь из вас при нынешних обстоятельствах счел мои обвинения и причины к ним слишком тяжкими для такого человека, каким он прослыл. Нет, смотреть следует так: кого бы вы ни возвели так высоко, кому бы ни дали возможность воспользоваться стечением благоприятных обстоятельств, всякий, если захочет, как Эсхин, обманывать вас и дурачить за плату, причинит вам не меньше зла. (30) Ведь если вы часто прибегаете в общественных делах к услугам ничтожных людей, так это никак не означает, будто ничтожны дела, которые считает достойными наш город. Поэтому я и думаю, что если погубил фокидян Филипп, то пособниками Филиппа были они. Нужно приглядеться к тому, они ли, эти люди, погубили и испортили все, что зависело от посольства в деле спасения фокидян, а не к тому, погубил ли фокидян один Эсхин. Как же это сделать?
(31) Подай мне предварительное решение совета по моему докладу и свидетельство того человека, который предложил его принять: ведь вам надо знать, что я если сейчас объявляю себя непричастным к содеянному, то и тогда не молчал,102 но сразу стал их обвинять и предвидел все последующее; и совет, беспрепятственно выслушав от меня эту правду, не одобрил их и не счел достойными приглашения в Пританей.103 А такого — это скажет вам всякий — не случалось с тех пор, как стоит наш город, ни с одним послом, даже с Тимагором,104 за чью казнь голосовал весь народ. Только с нами это было. (32) Так прочти им сперва показания свидетеля, потом решение. [Читаются показания и решение.] Итак, тут нет ни одобрения совета, ни приглашения в Пританей. Если же он скажет, что есть, пусть докажет и предъявит подтверждения, тогда я отступлюсь. Только ему этого не сделать! Далее, если все мы, будучи послами, вели себя одинаково, то совет по справедливости не одобрил никого из нас, так как пагубны поступки всех, а если одни из нас действовали как велит честность, другие же — вопреки ей, то, как обычно, из-за негодяев бесчестье досталось заодно и людям порядочным. (33) Но как вам всем с легкостью узнать, кто мошенник? Вспомните сами, кто с самого начала обвинял их в содеянном. Ведь ясно: преступнику довольно промолчать и потом, затянув время, никогда не заводить речи о содеянном, а не знающему за собой вины страшно прослыть из-за своего молчания сообщником в делах гнусных и страшных. И не кто иной, как я с самого начала обвинял их, меня же — ни один из них.
(34) Вот что предварительно решил совет; а когда собралось Народное собрание и Филипп стоял уже в Фермопилах, — ибо первым из преступлений было поручать Филиппу стать во главе этих дел, — хотя полагалось бы вам сначала об этом услышать, потом посовещаться, а потом действовать, как решено, но пришлось вместо этого услыхать, что Филипп уже рядом, и нелегко даже высказать то, что надо делать. (35) К тому же никто не прочел народу решения совета, и оно до слуха народа не дошло; но выступил вот он, Эсхин, и держал ту речь, которую я вам только что изложил: что, дескать, он прибыл, уговорив Филиппа сделать много хорошего для вас, и фиванцы объявили поэтому награду за его голову. И вы, хотя сперва встревожились приближением Филиппа и разгневались за то, что о нем не доложили заранее, потом стали мягче мягкого, ожидая исполнения всех ваших желаний, и ни от меня, ни от кого больше не хотели слышать ни звука. (36) После этого было прочитано письмо от самого Филиппа, которое написал Эсхин, расставшись с нами;105 написано же оно явно и прямо как оправдание всех их провинностей. Якобы сам Филипп помешал им, когда они хотели, отправиться по городам принимать присяги, и он же задержал их, чтобы они помогли ему примирить жителей Тала и Фарсала,106 — вот что было там. Словом, Филипп брал на себя все, в чем провинились они. (37) А о фокидянах, о феспийцах, о том, что докладывал вам он, — ни слова. И все получалось таким образом не само собой, — нет, вину во всем, за что вам следовало наказать их, не сделавших и не добившихся ничего из предписанного вашим постановлением, брал на себя Филипп, то есть признавал себя виновным человек, которого вы, я полагаю, и подумать не могли покарать; (38) зато обо всем, в чем Филипп желал обмануть и опередить наш город, докладывал Эсхин, чтобы впредь вам не за что было ни обвинять, ни порицать Филиппа, который и в письме, и вообще нигде об этом не помянул ни словом. Прочитай-ка им письмо, которое вот этот написал, а тот послал! И смотрите сами: в нем все так, как я рассказал. Читай. [Читается письмо.] (39) Вот, афиняне, вы и услышали это послание, какое оно прекрасное и дружелюбное. Ни о фокидянах, ни о фиванцах, ни о прочем, о чем докладывал Эсхин, — ни звука. К тому же все в нем лживо, и вы сами это сейчас воочию увидите. Например, галейцы, ради умиротворения которых он якобы задержал послов при себе, были замирены до того, что оказались изгнанными, а город их разорен. А про пленных107 этот ваш друг, только и ищущий вам услужить, говорит, что их и не думал вызволять. (40) Однако свидетели не раз во всеуслышание утверждали перед вами, что именно я отправился за ними, имея при себе талант денег; то же самое покажут они и сейчас; потому-то, желая лишить меня такой чести, Эсхин уговорил Филиппа вписать все это. А теперь самое главное: в прежнем послании, которое доставили мы, он писал так: «Я бы ясно написал, сколько услуг оказал бы вам, если бы был уверен, что мы станем союзниками», — а когда мы стали союзниками, он говорит, будто знать не знает ни чем можно нам услужить, ни что сам нам обещал, хотя очевидно, что знать он все знал, да обманывал нас. А что он так и писал, — прочти-ка нам из прежнего послания, вот отсюда. Ну, читай. [Читается письмо.] (41) Итак, не добившись мира, он готов был написать о том, сколько оказал бы нам услуг, если бы мы пошли еще и на союз с ним, а достигнув и того и другого, заявил, будто не ведает, чем можно нам услужить, но ежели вы скажете, то сделает все, лишь бы от того не было ему позора и бесславия: к таким уверткам прибегает он, чтобы на тот случай, если вы выскажетесь и наконец объявите свою волю, оставить себе путь к отступлению.
(42) И это, и еще многое можно было тогда изобличить перед вами сразу же, просветив вас и не допустив, чтобы дела пошли сами собой, если бы Феспиями, да Платеями, да Фивами, которые, мол, немедля понесут кару, не заслонили от вас правды. Между тем уместно было говорить о них, если надобно было, чтобы все услыхали и город попался на обман; а если хотели выполнить все на самом деле, то полезнее было бы молчать. Если все обстояло уже так, что фиванцам, даже и узнавшим обо всем, делать ничего не оставалось, — почему ничего не произошло? Если же помешало то, что фиванцы все узнали заранее, — так кто проболтался? Не Эсхин (43) Нет, не это он имел в виду, не этого хотел, не на это надеялся, так что в разглашении тайны его винить нельзя: просто ему нужно было обмануть вас теми речами, чтобы вы не пожелали услыхать от меня правду, сами остались дома и победило бы такое решение, которое губило фокидян. Ради этого он и сплел все, ради этого и держал речь.
(44) Я же, услышавши от него столько прекрасных посулов и точно зная, что он лжет, — а откуда, я не утаю от вас: во-первых, когда Филипп собирался скрепить мир присягою, эти люди представили дело так, что фокидян договор не касается, хотя, ежели бы они собирались их спасти, следовало бы это обойти молчанием; во-вторых, сказано было все не послами Филиппа и не в его письме, а Эсхином, — (45) итак, я, сделав из этого свой вывод, встал и выступил, пытаясь его оспорить, а когда вы не пожелали слушать, то замолчал, дав только одно показание (вспомните его, ради Зевса и всех богов!): что я ни о чем не знаю, ни к чему не причастен и вдобавок не жду обещанного. Когда же вы рассердились на мои слова, что я не жду обещанного, я сказал: «Пусть бы, афиняне, сбылось хоть что-нибудь, — тогда их, а не меня, наградите хвалами, почестями и венками; если же выйдет вопреки их словам, то гневайтесь на них, а я тут ни при чем». (46) «Теперь, — перебил меня Эсхин, — теперь не говори, что ты ни при чем, или уж потом к нам не примазывайся». — «Клянусь, что не буду, не то и сам окажусь преступником». Тут встал Филократ и весьма нагло заявил: «Не удивительно, афиняне, что мы с Демосфеном думаем по-разному: ведь он пьет воду, а я вино». И вы хохотали.
(47) Посмотрите, какое постановление написал и предложил после этого Филократ.108 Послушать это постановление просто так — все в нем отлично, а вот если сообразить сроки, когда он его написал, и все, чего тогда наобещал Эсхин, то станет ясно: они просто-напросто фокидян выдавали головой Филиппу и фиванцам, разве что не связали им рук за спиной. Прочти же постановление. [Читается постановление.] (48) Видите, афиняне, столько тут похвал и славословий: и «быть миру как с Филиппом, так и с его потомками, и союзу тоже», и «воздать Филиппу хвалу, ибо он обещает поступать но справедливости». Он же не только не обещал — какое там! — а даже говорил, будто знать не знает, чем можно нам услужить. (49) И говорил, и обещания давал за него вот он, Эсхин. К тому же, Филократ воспользовался тем, что вы увлеклись Эсхиновыми речами, и вписал в постановление, что «если фокидяне не сделают что надобно и не передадут святилища амфиктионам, то афинский народ пойдет походом на препятствующих этому». (50) Итак, афиняне, в то время, как вы сидели дома и не двигались в поход, а спартанцы, предвидя обман, отступили109 и в наличии были из амфиктионов только фиванцы и фессалийцы, этот Филократ в благопристойных словах предложил передать святилище им: он написал постановление о передаче его амфиктионам (каким? никого ведь не было, кроме фиванцев и фессалийцев!), а не о том, чтобы созвать амфиктионов, или чтобы дождаться, когда они соберутся, или чтобы Проксену выступить на фокидян, или чтобы выйти в поход афинянам, или еще что-нибудь в таком роде. (51) Да и оба призывающих вас письма Филипп прислал не затем, чтобы вы двинулись в поход — какое там! Да если бы вы могли на самом деле выступить, он бы ни за что вас не призвал и меня бы не стал задерживать, когда я хотел отплыть назад, и не приказал бы вот этому говорить так, чтобы вы поменьше думали о походе, — а затем он это сделал, чтобы вы, полагая, будто он сам выполнит все ваши желания, не приняли против него постановления и чтобы фокидяне вдруг не стали обороняться и противиться ему в надежде на вас, но, во всем разуверившись, сами предались ему. Так прочти же им письма от Филиппа! [Читаются письма.]
(52) В самих письмах нас зовут прийти, даже ради Зевса, прийти сей же час, — и если бы это была правда, то что следовало бы делать Эсхину и прочим, как не уговаривать вас выйти в поход и не написать Проксену (который, они знали, был в тех местах), чтобы он поскорее шел на помощь? А они — вы видите — сделали все наоборот. И не случайно: ведь они имели в виду не то, что Филипп прислал, а то, что держал, как они знали, в уме, и этому содействовали, и за это ратовали. (53) Поэтому для фокидян услышать, как все шло у вас в Народном собрании, получить Филократово постановление и узнать о его, Эсхина, докладе и обещаниях означало окончательную гибель. Ведь посмотрите: среди них тоже были такие, кто не верил Филиппу и сохранял разум, — но и они теперь поневоле поверили. Почему? Да они полагали, что их самих Филипп обманет хоть десять раз, но афинские послы не осмелятся обманывать афинян, а значит, послы доложили вам правду и конец пришел не им, а фиванцам. (54) Были также другие, считавшие, что надо вынести все и обороняться, однако и они утратили твердость, едва поверили в помощь Филиппа и в то, что если они так не сделают, то пойдете против них вы, от кого они надеялись получить помощь. Были и такие, кто думал, будто вы раскаиваетесь в заключении мира с Филиппом; но им указали, что ваше постановление имеет силу и для потомков, так что в вас они отчаялись совершенно. Затем-то люди Эсхина и запихнули все это в одно постановление. (55) Из всех их преступлений против вас это, я думаю, наитягчайшее: предложив заключить мир с человеком кратковечным и сильным лишь до поры, они навлекли на город вечный позор, лишили его, помимо прочего, благодеяний счастливой судьбы и в избытке подлости нанесли ущерб не только ныне живущим, но и будущим афинянам. Разве это не гнуснее гнусного? (56) Ведь вы сами ни за что не решились бы вписать в мирный договор слова о потомках,110 если бы не поверили посулам Эсхина, как поверили им фокидяне и от этого погибли. А когда они сдались Филиппу и добровольно вручили ему города, с ними все вышло вопреки тому, о чем он вам докладывал.
(57) Чтобы вы ясно поняли, что все пропало именно так и только из-за них, я расчислю вам сроки каждого события. Если кто-нибудь найдет, в чем меня оспорить, пусть встанет и говорит за счет моего времени.111 Итак, мир заключили 19 элафеболиона; отсутствовали мы, отправившись принять клятву, целых три месяца, и все это время фокидяне были целы и невредимы. (58) Сюда из посольства, принимавшего присягу, мы возвратились в месяце скирофорионе,112 13 числа, — Филипп тогда был уже в Фермопилах и морочил фокидян посулами, которым они не верили (и вот доказательство: они бы не пришли к вам сюда). А Народное собрание, на котором Эсхин и прочие ложью и обманом все погубили, состоялось позже, 16 скирофориона. (59) До фокидян случившееся у вас дошло, по моим расчетам, на пятый день: ведь здесь находились фокидские послы, нарочно чтобы узнать, что доложат эти люди и что вы постановите. Значит, будем считать, что фокидяне узнали о происходившем у вас 20 числа, — после 16-го это и есть пятый день. Затем идут десятый, девятый и восьмой день,113 когда заключили перемирие114 и все там пошло прахом и окончилось. (60) Из чего это явствует? За четыре дня до конца месяца вы собирались в Пирее обсудить дела на верфях, и тут-то прибыл халкидянин Деркил,115 объявил вам, что Филипп передал все дела в руки фиванцам, и высчитал, что идет пятый день после перемирия. Значит, прошли уже седьмой, шестой, пятый и наступил четвертый день, он же пятый после перемирия. Так что и срок их доклада, и срок внесенного предложения уличают их пособничество Филиппу и доказывают совиновность в гибели фокидян. (61) Далее, ни один город в Фокиде не был взят силой, после осады или приступа, но решительно все погублены перемирием, а это бесспорно доказывает, что претерпели они такую участь, убежденные Эсхином и прочими в готовности Филиппа помочь им, — а Филиппа они не могли не знать. Принеси-ка мне договор о союзе с фокидянами и решения, по которым срыты у них стены: надо вам знать, что им предоставляли мы и что с ними сталось из-за этих богомерзких людишек. Читай! [Читается договор между афинянами и фокидянами.] (62) Вот что, значит, было им от вас предоставлено: дружба, военный союз, помощь. А что с ними сталось из-за Эсхина, когда он не дал помочь им, — об этом послушайте сейчас. Читай. [Читается соглашение Филиппа с фокидянами.]116 Слышите, афиняне, тут ведь сказано: «соглашение между Филиппом и фокидянами», а не между фокидянами и фиванцами, не между фокидянами и фессалийцами, или локрами, или другими присутствовавшими там. И опять-таки сказано: «фокидяне сдают города Филиппу» — Филиппу, а не фиванцам, или фессалийцам, или еще кому-нибудь. (63) Почему? Потому что Филипп через этого Эсхина сообщил нам, будто пришел ради спасения фокидян. А ему, Эсхину, во всем верили, на него смотрели, по его советам заключили мир. Читай теперь все остальное; а вы смотрите, чему поверили и что получили! Есть ли хоть какое-то сходство и подобье тому, что он вам доложил? Читай-ка. [Читаются решения амфиктионов.]117 (64) Ничего страшнее, афиняне, ничего тяжелее не бывало среди греков ни на наших глазах, ни в прежние времена. А вершителем всех дел, столь многих и важных, стал благодаря Эсхину и прочим один человек, хотя есть еще государство афинян, которым от отцов завещано стоять во главе эллинов и не допускать, чтобы происходило такое. А каким образом погибли злосчастные фокидяне, можно узнать, не только выслушав эти решения (65), но и посмотрев на происшедшее — зрелище страшное и плачевное! Когда мы ехали в Дельфы,118 то поневоле видели все: сожженные дома, срытые стены, страну без молодых, жалких женщин, детей и стариков, — одному человеку и не рассказать словами обо всех их бедах. А ведь в старину,119 когда фиванцы подали свое предложение, фокидяне голосовали против обращения афинян в рабство, — об этом я слышу от вас от всех. (66) Что же, по-вашему, афиняне, постановили бы и решили насчет виновных в их погибели наши деды, если бы вдруг обрели слух и зрение? Я думаю так: даже собственноручно побив преступников камнями, они считали бы себя чистыми. Неужели не постыдно — и даже, если это возможно, больше чем постыдно, — что ваших спасителей постигло то, от чего они спасли вас, подав за вас голос, а вы закрывали глаза на их страдания, каких не знал никто из эллинов? Кто же во всем виноват? Кто добился этого обманом? Не он ли?
(67) Да, много счастья, афиняне, получил Филипп от судьбы, но в одном он счастливее всех, клянусь всеми богами и богинями; я даже не могу сказать, был ли при нашей жизни другой такой счастливец. Брал он большие города, подчинил себе много земель, вершил многое, столь же блистательное и достойное зависти, — я не спорю, но ведь и другие делывали такое. (68) Но в одном ему повезло, как никому на свете. В чем же? Для своих дел он нуждался в людях подлых — и нашел их, даже более подлых, чем он сам хотел. Разве несправедливо будет думать о них так, если эти двое за плату обманули вас в том, о чем сам Филипп не отваживался, несмотря на многие выгоды, ни солгать, ни написать в письме, ни передать через послов? (69) Даже Антипатр и Парменион,120 хотя и служили своему господину, а с вами не собирались еще раз свидеться, устроили так, чтобы вы были обмануты не ими. Зато афиняне, уроженцы самого свободного города, будучи назначены послами, взялись обманывать вас — тех, с кем они должны были встречаться взглядами и поневоле прожить бок о бок всю свою жизнь, перед кем им предстояло отчитываться. Где еще бывали такие низкие, вернее сказать, такие отчаянные люди?
(70) Далее, вы должны знать, что он подпадает под ваше проклятие121 и будет нечестиво и безбожно с вашей стороны отпустить такого лжеца. Прочти же и огласи проклятие — вот это, что записано в законе. [Читается проклятие.] Так на каждом Народном собрании, афиняне, за вас молится по предписанию закона глашатай, и когда заседает совет — тоже, и ему, Эсхину, нельзя говорить, будто он этого не знал: ведь он, помогая совету в должности письмоводителя,122 сам объяснял закон глашатаю. (71) Так разве не странно и нелепо самим не сделать того, что вы поручаете богам, вернее, требуете от них себе в защиту, хотя сегодня это в ваших собственных силах, — не странно ли оправдать преступника, на чью голову, на чей дом и род вы призываете погибель свыше? Не быть по сему! Оставляйте на произвол бессмертных кару тех, кто укрылся от вас, а кого вы поймали, тех им не поручайте.
(72) Но, я слышал, он дошел до такого бесстыдства, до такой дерзости, что отперся от всего им содеянного, — как будто и не докладывал, и не сулил, и города не обманывал, — так, словно судите его не вы, кому все известно, а кто-то другой; зато он свалил вину сперва на спартанцев, потом на фокидян, потом на Гегесиппа.123 Смешно это, или, вернее, совсем уж бесстыдно! (73) Сколько бы он ни говорил о фокидянах, о спартанцах или о Гегесиппе, — будто это они не подпустили к себе Проксена, будто все они нечестивцы, будто… — короче, в чем бы он их ни обвинял, все это было сделано до возвращения сюда послов124 и не препятствовало спасению фокидян, как утверждает — кто же? — да сам Эсхин! (74) А тогда, в докладе, он не говорил, что когда бы не спартанцы, когда бы не отказ принять Проксена, когда бы не Гегесипп, когда бы не то да не се, тогда бы фокидяне были спасены, — нет, все это он обошел и ясно заявил, что прибыл к нам, убедив Филиппа спасти фокидян, заселить Беотию и все делать на руку нам, и будет это сделано за два или три дня, потому-то фиванцы и объявили за его голову награду. (75) Так что не терпите и не слушайте разговоров о том, что было сделано спартанцами либо фокидянами до его доклада и не позволяйте чернить фокидян. Ведь не ради их доблести вы когда-то спасли и спартанцев,125 и этих проклятых евбейцев,126 и еще многих, а потому что их независимость была выгодна нашему городу, как теперь — свобода фокидян. Но пусть даже фокидяне, или спартанцы, или вы, или любые другие люди сделали что-нибудь не так после его речей, — разве поэтому не выполнено ничего из обещанного вам Эсхином? Спросите так — и ему нечего будет сказать. (76) Ведь всего только за пять дней все произошло: он доложил вам неправду, вы поверили, фокидяне это узнали, сдались, погибли. Из чего, я полагаю, явствует, что ловкий этот обман был подстроен лишь ради погубления фокидян. Ведь Филипп в то время хотя из-за мирного договора сам прийти не мог, зато снаряжался и призывал к себе спартанцев, обещая все сделать для них, лишь бы фокидяне через вас не склонили их к себе. (77) Когда же он сам явился в Фермопилы127 и спартанцы ушли, почуяв ловушку, то Филипп опять послал Эсхина вперед обмануть вас, чтобы, после того как вы узнаете, что он действует в пользу фиванцев, не вышло опять долгой проволочки и войны, если вдруг фокидяне станут обороняться, а вы придете им на подмогу, — но со всем легко и просто управился бы он сам, как оно и случилось. Но пусть это Филипп обманул и спартанцев, и фокидян, — несправедливо будет, если из-за этого он, Эсхин, обманув вас, не понесет возмездия.
(78) Если же он скажет, что взамен фокидян, Фермопил и прочих потерь у нашего города остался Херсонес, то, ради Зевса и всех богов, не слушайте его, судьи, и не потерпите, чтобы, помимо беззаконного ущерба от посольства, город был опозорен такою защитой и стяжал упрек в том, будто ради сохранения собственных владений вы пренебрегли спасением союзников. Так вы не поступили, — ведь уже после заключения мира и сохранения Херсонеса128 фокидяне были невредимы еще четыре месяца, пока их в конце концов не погубила ложь вот этого человека, обманувшего вас. (79) А теперь и Херсонес под угрозой больше, чем в то время! В самом деле, когда сподручнее было наказать Филиппа за преступные посягательства на эту землю: до того как он захватил часть афинских владений или теперь? По-моему, тогда. Так в чем наше преимущество там, если любой, кто пожелает беззаконно им завладеть, избавлен от страха и не чувствует опасности?
(80) Далее, как я слышал, он, Эсхин, намерен говорить, будто удивляется, почему против него выступает Демосфен, а не кто-нибудь из Фокиды. О том, как это так вышло, вам лучше заранее услышать от меня. По-моему, самые благородные и умеренные из фокидских беглецов после перенесенных бед держатся тихо и не желают ради общего блага сами на себя навлекать вражду; а другие, готовые за деньги сделать все, не находят себе нанимателя. (81) Я бы во всяком случае ничего не дал тому, кто бы встал тут рядом со мной и кричал о перенесенных бедах: кричит все происшедшее, кричит сама правда! Поистине дела у жителей Фокиды так плачевны и плохи, что никому и в мысль не придет выступить в Афинах с обвинением в лживом отчете: ведь они попали в рабство и умирают от страха перед фиванцами и Филипповыми наемниками, которых обязаны кормить, сами расселенные по деревням и, обезоруженные. (82) Поэтому не позволяйте ему говорить так, — либо пусть он докажет, что он не сулил, будто их спасет Филипп. В том и состоит отчет посла: чего ты добился? что доложил? Правду — тогда живи без боязни, а ложь — так неси наказанье. Если и нет здесь фокидян, что из того? Ведь в немалой мере ты сам довел их до того, что они не в силах ни помогать друзьям, ни обороняться от врагов.
(83) Помимо того, что содеянное им опозорило нас и обесславило, оно же навлекло на город и прямые опасности со всех сторон, — доказать это нетрудно. Кому не известно, что благодаря Фокидской войне и тому, что хозяевами Фермопил оставались фокидяне, мы были ограждены от фиванцев и сам Филипп никак не мог прийти ни в Пелопоннес, ни на Евбею, ни в Аттику? (84) Ту безопасность, которую городу давали и местоположение и обстоятельства, вы упустили из рук, поверив обманам и лжи Эсхина и прочих, и хотя безопасность ваша укреплена была и оружием, и долгой войной, и силою союзных городов, и обширностью страны, вы позволили ее разрушить. Напрасным оказался прежний ваш поход129 на помощь Фермопилам, хотя он и стоил вам больше двухсот талантов, если подсчитать частные затраты воевавших; напрасны и надежды на обуздание фиванцев. (85) Конечно, он, Эсхин, сделал много зла, чтобы услужить Филиппу, но чем он поистине больше всего оскорбил и город, и всех вас, вы услышите от меня: хотя Филипп с самого начала собирался сделать для фиванцев то, что сделал, — этот человек докладывал вам все наоборот и, дав ясно увидеть ваше нежелание, добился того, что фиванцы стали к вам еще враждебнее, а к Филиппу — еще приязненнее. Мог ли кто-нибудь поступить с вами более нагло?
(86) Возьми-ка теперь и прочти постановление Диофанта и постановление Каллисфена,130 так как надо вам знать, что, выполнив свой долг, вы удостаивались похвал и от себя и от других и устраивали жертвоприношения, как подобало, а когда вас сбили с пути Эсхин и прочие, вы свезли из деревень детей и женщин и постановили в мирное время принесть жертвы Гераклу в стенах города. Так что я удивлюсь, если человека, который даже богов помешал вам почтить по обычаю предков, вы отпустите безнаказанно. Читай же постановление! [Читается постановление.] Такого постановления вы, афиняне, заслужили за ваши дела. Читай же другое. [Читается постановление.] (87) Вот что вам пришлось постановить по их вине, хотя не на это надеялись и вначале, когда заключали мир и союз, и потом, когда вас убедили вписать слова «с потомками», — нет, по их вине вы поверили в бессчетные и невиданные блага. Впрочем, вы все сами знаете: сколько, раз был у вас переполох, стоило вам услышать, что силы Филиппа или его наемники оказались у Портма или близ Мегар.131 И если он не вступает еще в Аттику, то надобно не предаваться беспечности, а смотреть в оба и видеть, что благодаря Эсхину и прочим он может сделать это, когда ему заблагорассудится, и нельзя упускать этой опасности из виду, а виновного в том, что Филипп имеет такую возможность, должно ненавидеть и наказывать.
(88) Далее, я знаю, что Эсхин будет уходить от обвинений, стараясь увести вас подальше от содеянного и распространяясь о том, сколько благ приносит всем людям мир и сколько бедствий — война, и так, произнося хвалы миру, станет себя защищать.132 Но и это говорит против него. Если источник благ сделался для вас источником столь многих хлопот и такого беспокойства, это значит только одно: приняв подкуп, они обратили во зло вещь, прекрасную по своей природе. (89) «Как так? разве благодаря миру не осталось и не останется у нас триста кораблей и снаряжение к ним и деньги?» — скажет, наверное, Эсхин. Вам же в ответ следует сказать, что и у Филиппа дела поправились благодаря миру: заготовлено оружие, захвачены земли и доходы стали очень велики. (90) — Но ведь и у нас кое-что прибавилось. — Да, но обилие средств союзников, благодаря которому все добывают блага или себе, или сильнейшим, у нас совсем сошло на нет, так как они все продали, а у Филиппа оно возросло и стало грозно. Так что несправедливо, коль скоро Филипп выиграл вдвойне, приобретя и земли и союзников, чтобы нам засчитывали взамен проданного ими то, что и так дал бы нам мир. Ведь одно пришло вовсе не взамен другого, но было бы у нас все равно, а другое к нему бы не прибавилось, если бы не они.
(91) Вообще вы, афиняне, могли бы сказать так: несправедливо, чтобы весь гнев пал на Эсхина, если он не повинен ни в одном из бедствий, случившихся с нашим городом, но и несправедливо, чтобы он остался невредим, если нужное дело было сделано другими, — нет, но следует рассмотреть, в чем он виновен, и поблагодарить его, если он заслужил, или если выяснится другое, то обрушить на него гнев. (92) Как же тут разобраться по справедливости? Нельзя позволить ему смешать все: преступления стратегов, войну с Филиппом, блага мира, — но должно рассматривать все по отдельности. Вели мы войну с Филиппом? Вели. Призывает кто-нибудь Эсхина к ответу за нее? Хочет кто-нибудь осудить его за происходившее на войне? Никто. Значит, тут он оправдан и ему нет нужды говорить об этом: ведь обвиняемому следует призывать свидетелей и зачитывать показания там, где есть разногласия, а не обманывать там, где его единогласно оправдывают. Поэтому и ты ничего не говори о войне: тут тебя никто ни в чем не обвиняет. (93) Потом стали уговаривать нас заключить мир; мы послушались, отправили послов, послы привели сюда представителей, отряженных для заключения мира. Опять-таки разве тут кто-нибудь упрекает Эсхина? говорит, будто он предлагал мириться, будто совершил преступление, приведя сюда отряженных? Никто. Значит, о том, что город заключил мир, ему говорить незачем: тут нет его вины. (94) «Что же ты говоришь, — спросят меня, пожалуй, — с чего начинаешь свои обвинения?» — С того времени, как вы совещались уже не о том, заключать ли мир (это-то было решено), но о том, на каких заключать его условиях, а он стал перечить говорившим по справедливости, поддерживать, приняв подкуп, внесенное за плату предложение, а после этого, избранный для принятия присяги, не исполнил ни единого вашего предписания, погубил тех из союзников, кого пощадила война, и налгал столько, сколько ни один человек ни до, ни после него. Ведь с самого начала до того дня, как Филипп заговорил о мире, обманывать стали сперва Ктесифонт и Аристодем, а когда дошло до дела, передали это дело Филократу и Эсхину, которые, взявшись, все и погубили. (95) И теперь, когда пришлось отвечать и платиться за содеянное, этот мошенник и богомерзкий писец будет, верно, оправдываться так, будто судят его за мир, — не с тем, чтобы дать ответ и по другим делам, помимо тех, в которых его обвиняют (это было бы безумие), — нет, он видит сам, что не сделано им ничего доброго, а всё сплошь одни преступления, если же он будет оправдываться в заключении мира, так это хоть по названию дело человеколюбивое. (96) Да и насчет мира, боюсь, афиняне, боюсь, говоря откровенно, что обошелся он вам дорого, как заем у ростовщика: ведь они отдали именно то, чем мир был нерушим и крепок — фокидян и Фермопилы. И с самого начала мир был заключен не по Эсхинову почину, — пусть то, что я намерен сказать, странно, но это чистая правда: кто поистине рад миру, тот пусть благодарит наших военачальников, которых все осуждают. Ведь если бы они воевали так, как вам хотелось, вы бы даже слово «мир» не пожелали слышать. (97) Это из-за них стал мир, а опасным, шатким и неверным получился он из-за мздоимства Эсхина и прочих. Запретите же, запретите ему держать речь о мире и заставьте говорить о содеянном! Ведь Эсхина судят не за мир, нет, мир опозорен Эсхином. Вот вам доказательство: если бы наступил мир, и вы потом не были бы обмануты, и никто бы не погиб, неужели хоть один человек опечалился бы чем-нибудь, кроме разве бесславия? Впрочем, и тут он, Эсхин, совиновен, так как говорил одно с Филократом, но все же ничего непоправимого не случилось. А теперь, я полагаю, вина за многое лежит на нем.
(98) Сейчас все вы, по-моему, усвоили, что ими, нашими послами, все погублено и развалено самым постыдным и гнусным образом. А я, судьи, и сам не помышляю вести себя в этих делах как сутяга и не домогаюсь этого от вас, — настолько, что если Эсхин совершил все по глупости, по простоте душевной — словом, по недомыслию, я готов его оправдать и вам посоветовать то же. (99) Однако таких отговорок не должно быть, когда дело касается государства: тут ни одна из них не справедлива. Ведь вы никого не заставляете против воли заниматься общественными делами, но если кто приходит к вам, веря, что способен на это, вы поступаете как люди честные и благосклонные, принимаете его радушно и без зависти, голосуете за него и поручаете вести ваши дела. (100) Кто благополучно справится, тот за это будет почтен и получит больше многих. А кто потерпит неудачу, тот будет оправдываться и отговариваться? Нет, это не по справедливости. Ведь ни погубленным союзникам, ни их детям и женам, никому вообще не легче от того, что беда постигла их по моей — чтобы не сказать по его — глупости. Какое там! (101) Но Эсхину все равно пусть простится это непомерное зло, если обнаружится, что он все расстроил по простоте душевной или по недомыслию. Но уж если по своей подлости, взяв дары и деньги, и если его уличит в этом само содеянное, то предайте его, если возможно, смерти, а нет — так пусть и оставшись в живых послужит примером для всех прочих. Рассмотрите же улики его деяний, чтобы все было по справедливости.
(102) Если вот он, Эсхин, произносил перед вами свои речи о фокидянах, о Феспиях и о Евбее, не продавшись и не мороча вас намеренно, то неизбежно остается одно из двух: либо он слышал от Филиппа ясные обещания действовать и поступать так, либо был обольщен и обманут мягкосердечием Филиппа133 в других делах и вновь ожидал от него того же. А кроме этого ничего быть не может. (103) Далее, в обоих случаях ему полагалось бы больше всех людей ненавидеть Филиппа. За что? За то, что дела с ним вышли у Эсхина до крайности худо и позорно: вас он обманул, сам лишился чести, навлек на себя по справедливости погибель, оказался под судом. Если бы все шло как положено, дело разбиралось бы как особо важное,134 — лишь по вашей кротости и мягкосердечию он всего только отчитывается,135 да и то когда сам того пожелал. (104-109) Однако слышал ли кто-нибудь из вас, чтобы Эсхин хоть словом осудил Филиппа? Неужели? Видел ли кто-нибудь, чтобы он говорил про Филиппа что-либо обличающее? Никто не видел! Зато в пример ему осуждают Филиппа все афиняне, кого ни возьми, хотя никому лично Филипп не нанес ущерба. Я, например, желал бы услышать от него такие речи, если бы он не продался: «Поступайте со мной, как вам угодно, афиняне: я поверил, попался, оплошал, не спорю. Но того человека, афиняне, остерегайтесь: он вероломен, лжив, подл. Не видите разве, что он со мной сделал? как обманул?» Однако таких речей не слышали ни я, ни вы. (110) Почему же? Потому что не был он ни сбит с толку, ни обманут, но говорил все, нанятый за деньги; вас предал Филиппу, для него стал добропорядочным и честным наемником, а для вас — предателем, который как посол и гражданин, по чести, заслуживает не одной, а трех смертей.
(111) Далее, не только отсюда явствует, что он говорил все это за мзду. Совсем недавно136 побывали у вас фессалийцы и с ними послы Филиппа; они просили вас подать голос за то, чтобы Филиппа приняли в амфиктионы. Кому полагалось бы возражать против этого больше всех? Ему, Эсхину. Почему? Потому что Филипп сделал все вопреки тому, о чем вам докладывал Эсхин. (112) Он говорил, что тот Феспии и Платеи отстроит, фокидян не погубит, а с фиванцев собьет спесь; Филипп же вопреки этому фиванцев усилил больше, чем следовало, фокидян погубил вконец, Феспий и Платей не отстроил да еще обратил в рабство Орхомен и Коронею.137 Может ли больше расходиться слово с делом? А Эсхин не возразил, рта не раскрыл, звука не произнес против этого. (113) Но мало того, — он единственный в нашем городе говорил в пользу фессалийцев.138 Даже подлец Филократ не отважился на это, — один только Эсхин. А когда вы зашумели и не пожелали слушать его, он сошел с возвышения и, чтобы показать себя прибывшим от Филиппа послам, заявил, что, мол, много есть готовых шуметь, зато мало готовых в поход, когда это надо, — вы это, верно, помните, — как будто сам он воин всем на удивление, о Зевс!
(114) Далее, если бы мы не могли доказать ни про кого из послов, получил ли он мзду, и все не было бы видно воочию, то пришлось бы для расследования прибегать к свидетельствам под пыткой139 и прочему в таком роде. Но коль скоро Филократ не раз в вашем присутствии и всенародно сам признавал это и явно вам показывал, торгуя зерном, строя дом, утверждая, что поедет к царю,140 даже без вашего голосования, подвозя лес, открыто разменивая золото у менял, то ему, Эсхину, невозможно уже было говорить, будто Филократ не брал, когда тот и признавал это, и показывал. (115) Но есть ли такой глупый и злосчастный человек, который ради того, чтобы Филократ нажился, навлек бы на себя позор и опасность и, хотя мог бы слыть ничем не запятнанным, по доброй воле стал бы с порядочными людьми воевать, а к нему примкнул бы и пошел бы под суд? Думаю, что нет. И если вы присмотритесь как следует, афиняне, то увидите, какие это веские и ясные доказательства тому, что и он, Эсхин, получил деньги.
(116) А вот это, смотрите, произошло последним, но ничуть не хуже доказывает, что Эсхин продался Филиппу. Вам наверняка известно, что недавно, когда Гиперид обвинил Филократа в государственном преступлении, я выступил и сказал, что одним только недоволен в его обвинении: получается, что Филократ единственный виновен во многих и тяжких беззакониях, а остальные девять послов ни в чем. Я не согласился, что это так: его самого по себе никто бы и не заметил, не будь иные из них с ним заодно. (117) А чтобы мне никого не оправдывать и никого не винить, сказал я, но чтобы само дело обнаружило виновника, а непричастных оправдало, пусть, кто пожелает, выступит перед вами и заявит, что сам ни в чем не замешан и содеянного Филократом не одобряет. Кто так сделает, того я оправдываю, сказал я. Это, я полагаю, вы помните. Но никто из них не выступил и не показался вам. (118) Правда, у каждого был свой предлог: один не обязан отчитываться,141 другой отсутствует, у третьего в Македонии есть свойственник; только у Эсхина ничего такого не было. Значит, он продался раз навсегда и получил плату не только за прошлое, а и впредь, если теперь избежит наказания, будет подчиняться Филиппу в ущерб вам, — это ясно, если он, чтобы словом не обмолвиться против Филиппа, не оправдывается, когда можно оправдаться, а предпочитает опозориться, попасть под суд, все вытерпеть, лишь бы ничего не сделать к неудовольствию Филиппа. (119) Но что это за единомыслие с Филократом, что за великая о нем забота? Ведь если бы даже тот выполнил обязанности посла наилучшим образом и со всею пользой, но признал бы, как признает сейчас, что получил за посольство деньги, то Эсхину, будь он в посольстве безвозмездно, следовало бы его избегать и остерегаться и даже свидетельствовать против него. Эсхин же этого не сделал. Так разве дело не ясно, афиняне? Разве все это не вопиет, что Эсхин деньги взял, что он всегда за деньги готов на подлость, что не было ни оплошности, ни неразумья, ни неудачи?
(120) «Кто же свидетельствует против меня?» — скажет он. Вот это блистательно! Дела, Эсхин, которые надежнее всех свидетелей, ибо нельзя ни сказать про них, ни обвинить их, будто они таковы кому-нибудь в угоду или по чужому наущению: нет, они такими и предстают, какими ты их сделал, предавая и губя. А кроме твоих дел, ты сам против себя свидетельствуешь. Встань-ка сюда и отвечай мне. И не говори, будто по неопытности тебе нечего сказать! Ведь если ты как обвинитель выигрывал, словно в драмах,142 в недавних тяжбах, притом без свидетелей и при отмеренном времени, значит, ты весьма изворотлив.
(121) Как ни страшны несчетные беззакония этого Эсхина, как ни много от них зла, — по-моему, и вы так полагаете, — но нет, на мой взгляд, ничего страшнее того, о чем я собираюсь сказать и что верней всего изобличит его в мздоимстве и преступлениях. Когда вы в третий раз отряжали послов к Филиппу ради тех великих и прекрасных надежд, которые он посулами внушил вам, вы избрали и его, и меня, и большинство тех же самых людей. (122) Я тогда выступил и тотчас же под клятвой отказался,143 и даже когда иные зашумели и стали требовать, я сказал, что не пойду, — он же был избран. Когда Народное собрание после этого разошлось, они все вместе стали совещаться, кого им оставить тут: так как все висело тогда в воздухе и будущее было неясно, то по всей площади кучки людей вели разговоры, (123) и вот они испугались, как бы не было вдруг созвано без них Народное собрание144 и как бы вы, услышавши от меня правду, не приняли должного постановления в пользу фокидян, так что дело бы у Филиппа сорвалось. Ведь если бы вы приняли постановление145 и подали фокидянам хоть какую-то, хоть самую малую надежду, они были бы спасены. Ибо нельзя, никак нельзя было Филиппу оставаться, не будь вы сбиты с толку. Хлеба в той стороне не было, так как поля остались из-за войны не засеяны, подвоз его был невозможен, так как там находились ваши корабли, владевшие морем, а города у фокидян многочисленны и взять их иначе как долгой осадой непросто; да если бы он даже брал по городу в день, все равно их там двадцать два! (124) По всем этим причинам, чтобы вы не отступились от того, ради чего вас обманули, они оставили здесь Эсхина. Отказаться безо всякой причины было, конечно, страшно и подозрительно. — «Что же ты говоришь? Доложил нам о стольких великих благах, а теперь за ними не едешь, не хочешь быть послом?» — А остаться было необходимо. Каким способом? Сам он сказывается больным, а его брат, взяв с собой врача Эксекеста, является в совет, клянется, что Эсхин болен, и избирается вместо него. (125) А после того как через пять-шесть дней фокидянам пришел конец, и Эсхинову найму, как любому, вышел срок, и прибыл Деркил, повернув назад из Фокиды, и доложил вам на Народном собрании в Пирее о гибели фокидян, вы же, само собой, и за них погоревали, и за себя так встревожились, что постановили свезти женщин и детей из деревень, починить укрепления, обнести Пирей стенами и принести жертвы на Гераклеи в городе,146 (126) — после того как начался этот переполох и пошло в городе смятение, этот мудрец, этот умелец и сладкопевец, не избранный ни советом, ни народом, отправился послом к виновнику всего и не посчитался ни с болезнью, в которой прежде поклялся, ни с тем, что на его место избран другой и закон повелевает наказывать такие вещи смертью, (127) ни с самым страшным — с тем, что за его голову, как он докладывал, в Фивах была объявлена награда, — да как раз когда фиванцы, помимо того что завладели всей Беотией, стали хозяевами и в земле фокидян, он отправлялся в самые Фивы, в фиванский стан, и до такой степени лишился ума от денег и подарков, что пустился в путь, все отстранивши и всем пренебрегая.
(128) Но хотя и это уже было немаловажно, куда страшнее то, что он сделал по прибытии туда. Ведь и вы здесь, и все остальные афиняне сочли участь несчастных фокидян такой страшной и жалкой, что не отправили ни наблюдателей от совета, ни архонтов-законодателей на Пифийские празднества,147 отказавшись от завещанного отцами священного посольства, — а он между тем явился на победные жертвоприношения, которыми Филипп и фиванцы ознаменовали успех своего предприятия и войны, пировал там, совершал возлияния и молился вместе с Филиппом, молившимся за погибель наших союзников, за уничтожение их стен, их страны, их оружия, вместе с ним надевал венки, и пел гимны, и пил за его здоровье.
(129) Тут нет возможности мне рассказать об этом так, а ему иначе. О его клятвенном отказе есть в ваших общих записях, к которым в храме Матери богов приставлен государственный раб, есть и постановление, где прямо написано его имя, а о том, что он делал у Филиппа, дадут против него показания сотоварищи по посольству и другие присутствовавшие там, которые и мне рассказали об этом: я ведь, отказавшись под клятвой, в посольстве не был. (130) Прочти теперь постановление и записи и позови свидетелей. [Читаются постановление и показания свидетелей.] Какие, по-вашему, молитвы возносил богам, творя возлияния, Филипп или же фиванцы? Не о том ли, чтобы одоление в битвах и победу ниспослали им самим и их союзникам, а поражение — помощникам фокидян? Значит, о том же самом молил и он, накликая на свою родину погибель, которую должно теперь отвратить на его голову.
(131) Итак, уехал он вопреки закону, повелевающему наказывать за такие вещи смертью. За то, что было явно им совершено по прибытии туда, он еще раз заслужил смерти. И за содеянное раньше, за посольство, тоже справедливо было бы его казнить. Так обдумайте же меру наказания, которую он заслужил, — такую, чтобы она была достойна его беззаконий! (132) Не позорно ли, афиняне, когда вы всем государством, всем народом порицаете последствия мира, не хотите иметь дело с амфиктионами, угрюмо и с подозрением смотрите на Филиппа, чьи деяния считаете нечестивыми и страшными, чуждыми справедливости и для вас вредными, — не позорно ли, чтобы вы, явившиеся в суд судить отчет по этим делам, присягнувшие охранять город, оправдали виновника всех этих бед, да еще пойманного с поличным? (133) Кто из наших граждан, больше того, кто из всех Эллинов по праву не упрекнет вас, видя, что вы гневаетесь на Филиппа, когда он, в дни войны стараясь о мире, покупает услуги продажных людей, — поступок, заслуживающий снисхождения, — и что оправдываете того самого, кто постыдно продал ваше дело, между тем как законы устанавливают для виновного в этом тягчайшую кару?
(134) Может быть, Эсхин и прочие приведут и такой довод, что, мол, начнется у нас с Филиппом вражда, если только вы осудите послов, способствовавших миру. Но тогда, если это правда, мне не найти более сильного обвинения, сколько бы я ни искал. Если тот, кто ради мира, лишь бы его добиться, потратил деньги, стал таким могучим и страшным, что вы, пренебрегая присягой и справедливостью, смотрите только, чем бы угодить Филиппу, то как поступить с виновными в этом, чтобы они поплатились должным образом? (135) Но я думаю доказать вам, что, поступив как должно, вы скорее положите начало полезной дружбе. Нужно твердо помнить, афиняне, что Филипп не презирает ваш город и выбрал фиванцев не потому, что считает вас менее полезными, а потому, что был подучен Эсхином и прочими и наслышался от них такого, о чем я говорил перед народом раньше, они же меня не опровергали: (136) что, мол, нет народа более неуемного и вероломного, чем наш, непостоянный и мечущийся, как волны в море: один приходит, другой уходит, никто об общем деле не думает и не помнит. Значит, нужно приобрести друзей, которые бы делали среди вас его дела и устраивали все не хуже него, и если он их добудет, то легко добьется от вас, чего захочет. (137) Однако если бы он услыхал, что говорившие тогда все это немедля по приезде были засечены розгами, — он, думаю, сделал бы то же, что царь.148 А что сделал царь? Обманутый Тимогором, которому дал, говорят, сорок талантов, он, когда узнал, что тот, бессильный стать хозяином даже над собственной жизнью, а не то что выполнить обещания, казнен вами, тотчас понял, что заплатил вовсе не тому, кто бы был хозяином положения. Поэтому царь первым делом опять признал Амфиполь149 вашим владением, хотя раньше писал о нем как о своем союзнике и друге, а потом никому уже денег не давал. (138) То же самое сделал бы и Филипп, если бы узнал, что кто-нибудь из этих людей поплатился, да и сейчас сделает, если узнает. А если услышит, что они у вас произносят речи, пребывают в почете, судят других, тогда что он сделает? Постарается потратить больше, когда можно потратить меньше? Захочет расположить к себе всех, когда можно двоих; или троих? Вот было бы безумие! Ведь когда Филипп решил взять город фиванцев под покровительство, это не было государственным делом — какое там! — а поступил он так по наущению послов. (139) Как так вышло, я вам расскажу.
Послы из Фив явились к нему, когда и мы были у него по вашему поручению. Он захотел дать им деньги, и весьма немалые, как говорили. Но послы фиванцев не взяли и не приняли подкупа. Потом на каком-то жертвоприношении и пиру, обласкивая их, Филипп пил за их здоровье и дарил им много всего: и пленников и прочее в таком роде, и, наконец, золотые и серебряные кубки. Но они отвергли все и ничего себе не позволили. (140) Наконец Филон, один из послов, произнес речь, которую достойно было бы сказать не ради фиванцев, а ради вас, афиняне. Он говорил, что рад и доволен, видя, как Филипп великодушен и ласков к ним, они тоже расположены к нему, как друзья и гости, безо всяких даров, но настоятельно просят, чтобы он простер свое благорасположение на те дела, которыми сейчас занят их город, и совершил нечто достойное себя и фиванцев, — тогда весь город будет предан ему, как они сами. (141) Вот и смотрите, что это дало фиванцам, и убедитесь воочию на этом правдивом примере, что значит не торговать своим государством! Прежде всего они получили мир, когда были изнурены войной, несчастны и почти что побеждены; затем добились полной гибели своих врагов фокидян и разрушения их стен и городов. Да разве только это? Нет, клянусь Зевсом, но вдобавок им достались Корсия, Орхомен, Коронея, Тилфосей150 и столько фокидской земли, сколько они захотели. (142) Вот что получили от мира фиванцы — столько, что о большем они и не молились! А что послы фиванцев? Только одно: заслугу перед отчизной, для которой они всего этого добились, — дело прекрасное и благородное, афиняне, если помнить о добродетели и слове, которые Эсхин и прочие продали за деньги. Сравним же, что дал мир афинскому государству и что — афинским послам, и вы увидите, одинаковы ли выгоды государства и послов. (143) Государству пришлось отступиться от всех владений и всех союзников, поклясться Филиппу, что даже если кто пойдет их спасать, вы воспрепятствуете, и кто захочет вам их вернуть, того сочтете злейшим врагом, а кто у вас их отнял, того — союзником и другом. (144) Все это он, Эсхин, поддерживал, а предложил его сообщник Филократ. И хотя в первый день я одержал верх и убедил вас утвердить решение союзников и призвать послов Филиппа,151 Эсхин задержал дело до завтра и убедил вас принять предложение Филократа, где было записано и это, и еще многое похуже того. (145) Итак, нашему городу мир принес такой позор, что хуже не сыщешь, а послам, которые его сладили? Не буду говорить обо всем том, что вы видели сами: о домах, о лесе, о зерне, — скажу только о владениях в земле погубленных союзников, о пространных угодьях, которые Филократу приносят талант дохода, а ему, Эсхину, — половину таланта. (146) Разве не страшно и не гнусно, афиняне, если беды ваших союзников обернулись доходами для ваших послов, а мир принес для отправившего их города гибель союзников, отказ от владений, позор вместо славы, зато послам, сладившим его в ущерб городу, — доходы, благоденствие, владения, богатства взамен крайней бедности? О том, что я говорю правду, пусть свидетельствуют олинфяне;152 позови их. [Читаются показания свидетелей.]
(147) Далее, я не удивился бы, если бы он осмелился говорить, будто невозможно было заключить почетный мир, какого я требовал, потому что военачальники плохо вели войну. Если он скажет такое, то вспомните мои слова и спросите его, из этого ли города отправлялся он в посольство либо из другого? Если из другого, такого, который одерживал верх в войне и имел дельных военачальников, — значит, он получил деньги недаром; если же из этого, то по какой такой причине то, что лишило собственности пославший его город, самому ему, оказывается, принесло подарки? Ведь если бы все вышло по справедливости, то полагалось бы, чтобы и городу, и послам досталось бы одно и то же. (148) А теперь, судьи, посмотрите вот на что. Кто, по-вашему, больше побеждал в этой войне: фокидяне фиванцев или Филипп — нас? Насколько мне известно, фокидяне фиванцев. Они взяли Орхомен, Коронею и Тилфосей, захватили стоявших в Неоне неприятелей, истребили у Гедилея двести семьдесят человек и воздвигли там победный памятник, брали верх в конных стычках, — короче говоря, столько бедствий обступило фиванцев, что хватило бы на целую «Илиаду». (149) А с вами такого не бывало и впредь, надеюсь, не случится; самым же худшим в войне с Филиппом было то, что вы не могли нанести ему столько вреда, сколько хотели, — а самим терпеть такое вам и не грозило. Как же вышло, что благодаря одному и тому же миру фиванцы, терпевшие поражение в войне, и свое сохранили, и принадлежавшее противнику прихватили, а вам, афинянам, пришлось по условиям мира потерять то, что война для вас сберегла? Потому что их послы не предавали, а нас Эсхин и прочие предали. Что все было сделано так, вы еще лучше поймете из дальнейших моих слов.
(150) После того как закончились переговоры о мире, о том самом Филократовом мире, за который выступал и он, Эсхин, а послы Филиппа довольствовались тем, что приняли нашу присягу (сделанное до той поры еще не было непоправимо, только мир заключили позорный и недостойный государства, — ну да ведь взамен нам предстояло получить небывалые блага!), я стал настаивать перед вами и им говорить, что нужно как можно скорее плыть на Геллеспонт, чтобы ничего не упустить и не позволить Филиппу тем временем завладеть каким-нибудь из тамошних мест. (151) Я наверняка знал, что если упустить что-нибудь, когда война сменяется миром, то оно потеряно для нерадивых: ведь никто, согласившись во всех случаях соблюдать мир, не захочет воевать из-за того, что оставлено было с самого начала без внимания, и оно достается первому захватчику. Кроме того я думал, что наш город, если мы отплывем туда, не упустит двух выгод: одна — если мы там будем и примем от Филиппа должную присягу, то взятое у города он отдаст и впредь от захватов воздержится; (152) другая — если он этого не сделает, мы быстро сообщим вам сюда, чтобы вы, увидев его жадность и вероломство на примере мест дальних и не столь важных, не упустили самого близкого и важного, а именно фокидян и Фермопил. Если он первым их не захватит и вас не обманет, то вам ничто не будет угрожать, а он по доброй воле станет соблюдать справедливость. (153) И я полагал, что все само собой так и будет. Если бы и сейчас, как тогда, фокидяне были не разбиты и владели бы Фермопилами, Филиппу нечем было бы вас запугать, чтобы вы предали справедливость: он не пришел бы в Аттику ни по суше, ни одолев в морском бою, а вы бы незамедлительно, если бы он нарушил справедливость, закрыли бы торговые пристани, так что не вы, а он, стесненный безденежьем, как бы отрезанный осадою от всего, оказался бы в рабской зависимости от выгод мирного состояния. (154) А что я не теперь, когда все уже случилось, сочиняю это и приписываю себе, но еще тогда сразу все понял и предвидел вашу пользу и говорил им, вы убедитесь вот из чего. Так как не оставалось ни одной сходки153 Народного собрания — все положенные уже состоялись, — а эти люди не уехали и теряли время здесь, то я как член совета — а народ дал совету на это полномочия — внес такое постановление: послы пусть отправляются как можно скорее, а военачальник Проксен доставит их в те места, где, по нашим сведениям, будет Филипп. Я так и написал, как говорю, теми же словами. Возьми-ка постановление и прочти его. [Читается постановление.] (155) Этим способом я выпроводил послов отсюда — против их воли, как вы поймете по их дальнейшим поступкам. Когда мы добрались до Орея154 и соединились с Проксеном, они и не подумали плыть и выполнить предписание, но пустились кружным путем и, прежде чем прибыть в Македонию, растратили двадцать три дня, а все остальные дни мы просидели в Пелле, до самого возвращения Филиппа, потеряв вместе с дорогою пятьдесят дней. (156) Тем временем Филипп захватил — в мирное-то время и заключив договор155 — Дориск, Фракию, укрепления, Святую гору и все прочее, я же постоянно говорил и твердил об этом, сперва как бы доводя до общего сведения мое мнение, потом — как бы поучая неведающих и наконец — бесстрашно и откровенно обращаясь к ним как к людям продажным и нечестивым. (157) И если кто открыто все это оспаривал и перечил всему, что говорил я и что было вами постановлено, так это Эсхин. А по душе ли это было остальным послам, вы сейчас узнаете. Я, со своей стороны, ничего ни о ком не говорю, никого не обвиняю, и незачем принуждать их нынче же доказывать свою честность, — нет, пусть каждый сам убедит вас в том, что к преступлениям непричастен. Что содеянное ими постыдно и страшно и что был подкуп, это вы все видели, а кто из них замешан, станет ясно само собой.
(158) «Но ведь за это время они, клянусь Зевсом, приняли от союзников присягу и сделали все, что положено». Какое там! Пробыв в отсутствии три месяца, получив от вас тысячу драхм на путевые расходы, они не приняли присяги ни от единого города ни по пути — туда, ни по пути оттуда, — нет, на постоялом дворе, что против храма Диоскуров (если кто из вас ездил в Феры,156 тот знает, о чем я говорю) — вот где были приняты присяги, позорно и недостойно вас, афиняне, и к тому же когда Филипп уже шел сюда с войском. (159) Филиппу было важней всего, чтобы это делалось именно таким образом, поскольку в соглашении о мире невозможно было написать, как пытались они: «кроме фокидян и галеян», но вы заставили Филократа это выбросить и написать просто «афинянам и союзникам афинян», — Филипп не хотел, чтобы кто-либо из его союзников принес именно такую присягу, так как под предлогом этой присяги никто не пошел бы с ним походом на захваченные им теперь у вас земли; (160) и он не желал также ни иметь свидетелей тех обещаний, которыми старался добиться мира, ни показывать всем, что не Афинское государство проиграло войну, а он сам, Филипп, жаждал мира и много чего насулил, лишь бы получить его от афинян. Чтобы все, о чем я говорю, не выплыло наружу, он и надумал, что послам не следует никуда ездить. А они всячески ему угождали, прислуживаясь и стараясь перещеголять друг друга в лести. (161) И вот теперь, когда изобличается все это: и что время было зря потрачено, и что Фракия потеряна, и что не выполнено ваше постановление и вообще ничего полезного послы не сделали, а сюда сообщали неправду, — как возможно, чтобы этот человек ушел подобру-поздорову от судей разумных и верных присяге? А что я говорю правду — так прочти постановление, какую нам предписано было принять присягу, потом послание от Филиппа, а потом предложение Филократа и постановление народа. [Читаются постановление, письмо, постановление.] (162) А к тому, что мы бы захватили Филиппа на Геллеспонте, если бы кто меня послушал и выполнил предписанное вашими постановлениями, — позови-ка присутствовавших там свидетелей. [Читаются показания свидетелей.] Прочитай и еще одно свидетельство — о том, что Филипп отвечал сидящему здесь Евклиду,157 когда он позднее приехал туда. [Читается показание свидетеля.]
(163) А что они не могут отпереться и утверждать, будто не действовали в пользу Филиппа, об этом послушайте меня. Когда мы в первый раз ехали в посольство договариваться о мире, вы отправили вперед глашатая, чтобы он совершил за вас возлияния. И вот тогда, спешно добравшись до Орея, они там не задержались в ожидании глашатая, но, хотя Гал и был в осаде, отплыли туда, явились к осаждавшему его Пармениону, проследовали сквозь вражеское войско к Пагасам и, двинувшись дальше, встретились с глашатаем в Ларисе.158 Вот с каким рвением и готовностью путешествовали они тогда. (164) Зато в мирное время, когда путь был безопасен, а от вас дан приказ торопиться, им и в голову не пришло ни спешить по суше, ни плыть морем. Почему же так? Потому что тогда Филиппу на пользу было скорей заключить мир, а теперь — чтобы было потрачено как можно больше времени до принесения клятв. (165) А что я и тут говорю правду, возьми еще это свидетельство. [Читаются свидетельские показания.] Можно ли яснее уличить этих людей в том, что они делали все на пользу Филиппу, если, двигаясь одним и тем же путем, они рассиживались, когда надо было спешить ради вас, а когда не следовало двигаться с места до прихода глашатая, гнали во всю прыть?
(166) Далее, взгляните, что предпочитал делать каждый из нас, пока мы были там и сидели в Пелле.159 Я сам выручал и искал наших пленников,160 тратил собственные деньги, домогался у Филиппа, чтобы он, вместо подарков нам, отпускал этих пленников. А в каких занятиях проводил время он, Эсхин, вы сейчас услышите. Что, собственно, означали те деньги, которые Филипп давал нам всем сообща? (167) Я скажу вам: это он всех нас испытывал. Каким образом? К каждому он подсылал человека и давал много золота, афиняне. А когда это кое-где не получалось (не мне говорить о себе самом, но дела и поступки сделают все явным), он счел, что данное всем сообща будет принято без раздумий: ведь те, кто продался поодиночке, будут в безопасности, коль скоро мы все вместе окажемся замешаны хотя бы понемногу. Вот он и давал нам дары под видом обычных гостинцев. (168) Когда же я воспротивился, они и мою долю разделили между собой. А Филиппу, когда я потребовал израсходовать эти деньги на пленных, неприлично было ни перечислить их и сказать: «Получил такой-то и такой-то», ни избежать этого расхода, вот он и согласился, но отложил дело до Панафиней,161 сказав, что пришлет пленных. Прочти теперь показания Аполлофана, а потом других, бывших там. [Читаются показания свидетелей.] (169) А теперь давайте-ка я скажу вам, сколько я вызволил пленных. За то время, что мы потеряли в Пелле в отсутствие Филиппа, некоторые из них, отпущенные на поруки, не веря, кажется, что мне удастся убедить Филиппа, объявили, что хотят сами себя выкупить, не прибегая к милости Филиппа, и взяли у меня в долг кто три мины, кто пять — словом, столько, во сколько обходился каждому выкуп. (170) Потом, когда Филипп дал согласие отпустить остальных, я созвал тех, которых ссудил деньгами, напомнил им о сделанном и, чтобы они не думали, будто из-за поспешности остались внакладе и, будучи людьми бедными, выкупились на свои средства, между тем как другие ждут освобождения от Филиппа, подарил им эти выкупные. А что это правда, прочитай вот эти свидетельства. [Читаются свидетельские показания.] (171) Вот сколько денег я издержал и раздарил нашим гражданам в беде.
Но, быть может, он, Эсхин, сейчас же перед вами скажет: «Почему же ты, Демосфен, если по моим речам в поддержку Филократа понял, что мы ничего полезного не делаем, снова отправился в посольство принимать присягу, а не отказался под клятвой?» Но вы-то помните, что я сговорился с теми, кого вызволил, о том, что привезу им выкуп и по мере сил буду их спасать. (172) Гнусно было бы солгать и бросить в беде людей, своих сограждан! А отрекись я под клятвой, странствовать там частным порядком было бы и неприлично и небезопасно. Если бы не желание их спасти, то — чтоб мне сгинуть и пропасть!162 — ни за какие деньги не отправился бы я послом заодно с Эсхином и прочими. А вот доказательство: дважды избранный вами в третье посольство, я дважды отказывался. Да и во время той отлучки я во всем им противился, (173) и что из посольских дел было в моем единоличном распоряжении, то я делал по-вашему, но они, будучи в большинстве, чаще всего брали верх. Хотя ведь и все остальное могло быть сделано соответственным образом, если б меня кто-нибудь послушался. Не настолько же я жалок и глуп, чтобы раздавать деньги только ради почестей от вас, видя, как другие их получают, и не желать того, что можно было бы сделать безо всяких затрат и с большей пользой для государства. Я желал этого, и очень даже, афиняне! Но, видимо, они меня одолели.
(174) Ну, а теперь взгляните, что в это время сделано Эсхином и что Филократом: одно рядом с другим будет яснее. Во-первых, они объявили, что мир не распространяется на фокидян, галеян и Керсоблепта — вопреки постановлению и тому, что сами вам говорили, затем они принялись искажать и отменять постановление, по которому мы прибыли послами; затем они вписали туда кардианцев163 как союзников Филиппа. И послание, которое я написал вам, они постановили не отправлять, а отправили свое, не написав в нем ничего дельного. (175) И еще этот благороднейший муж сказал, будто я обещал Филиппу уничтожить у вас народоправство164 — потому что я порицал их, не только считая сделанное ими постыдным, но и боясь погибнуть с ними и из-за них, — а сам он все время проводил с Филиппом, встречаясь с ним не как посол. Не говоря об остальном, в Ферах Деркил — Деркил, а не я! — всю ночь караулил его, имея при себе вот этого моего раба, а поймав его выходящим из Филиппова шатра, наказал рабу сообщить об этом мне и запомнить самому. И под конец, после нашего отъезда, этот бесстыдный пакостник оставался у Филиппа еще ночь и день.165 (176) А что я говорю правду, это я, во-первых, сам засвидетельствовал письменно и понесу полную ответственность,166 а во-вторых, призову каждого посла и заставлю — одно из двух — или дать показания, или отречься под клятвой; и кто отречется, того я уличу перед вами в клятвопреступлении. [Читаются свидетельские показания.] (177) Теперь вы видели, сколько неприятностей и хлопот было у меня во все время отсутствия, Ведь что, по-вашему, они делали там, рядом с подкупившим их, если творят такое на глазах у вас, властных, наградить их почестями, и, напротив того, наказать?
А теперь я хочу подвести итоги обвинениям и показать, что я выполнил все обещанное вам в начале речи.167 Я доказал, что доложил он неправду, обманул вас, и свидетельствовали об этом не слова, а события. (178) Я доказал, что по его вине вы не захотели услышать от меня правду, соблазнившись его обещаниями и посулами, что советовал он вам совсем не то, что нужно, противился мирному договору, в который были бы включены союзники, выступал в поддержку Филократа, даром тратил время, чтобы вы, даже если бы захотели, не могли выступить в Фокиду, и, находясь вдали от дома, совершил много чудовищных дел — все предал, продал, принял подкуп, не отступал ни перед какой гнусностью. Что я обещал вначале, то и доказал вам.
(179) А теперь взгляните, что было потом: то, что я собираюсь вам сказать, и вовсе просто. Вы все168 дали присягу решать согласно законам и постановлениям народа или Совета пятисот, — он же, став послом, явно действовал наперекор законам, постановлениям, справедливости, и, значит, положено его осудить, если судьи не утратили разума. Двух его преступлений, даже если он ни в чем больше не виноват, довольно для казни: он предал Филиппу не только фокидян, но и Фракию. (180) Никто не указал бы во всем мире двух мест полезнее для города, чем Фермопилы на суше и Геллеспонт на море, — а они бесстыдно, продали их и, отняв у вас, вручили Филиппу. Но и кроме всего прочего великое преступление — выпустить из рук Фракию и крепости; об этом можно произнести хоть тысячу речей, нетрудно перечислить, сколько людей было за это казнено вами или подвергнуто большому денежному взысканию. Эргофил, Кефисодот, Тимомах, а в старые времена — Эргокл, Дионисий169 и другие, хотя я почти с уверенностью скажу, что все они принесли городу меньше ущерба, чем один Эсхин. (181) Ведь тогда, афиняне, вы благоразумно остерегались грозившего вам и смотрели вперед, а теперь не смотрите ни на что, кроме сегодняшней докуки и нынешних огорчений, — и при этом постановляете: «Пусть Филипп даст клятву еще и Керсоблепту», «нельзя ему участвовать в амфиктионии», «изменить к лучшему условия мира». Хотя никаких таких постановлений не понадобилось бы, если бы Эсхин соизволил плыть и выполнить предписанное, — он же, распорядившись двигаться посуху, погубил то, что можно было бы спасти, поплыв морем, а солгавши — то, что можно бы спасти, сказав правду.
(182) Как я узнал, он сейчас будет возмущаться170 тем, что из всех говоривших тогда речи по делам государства ему одному приходится давать отчет. Я промолчу о том, что всем, кто, выступая, говорил за деньги, следовало бы держать ответ, и скажу лишь одно: если Эсхин что-нибудь сболтнул или в чем-нибудь оплошал как частное лицо, — не слишком в это вникайте, оставьте без внимания, будьте снисходительны; но если он, будучи послом, нарочно обманул вас ради денег, — не спускайте ему, не соглашайтесь, будто не нужно держать ответ за свои речи. (183) За что еще приводить к ответу послов, кроме как за их слова? Ведь не кораблями, не местностями, не крепостями, не латниками распоряжаются послы — никто им такого не поручает, — но только словами и сроками. Что до сроков, выгодных для государства, то не упустил он их — значит, прав, упустил — значит, виноват; а что до слов, то донес правдиво и на пользу — значит, избег кары, а солгал, нанялся, пользы не принес — значит, должен быть осужден. (184) Ведь нет большего преступления перед вами, чем солгать. И если у тех, кто служат государству словом, будет оно неправдиво, то откуда быть в государственных делах благополучию? А если кто скажет что-нибудь на пользу врагу, получив от него мзду, то как не быть вам в опасности? К тому же упустить сроки при олигархии, при тиране либо при вас171 — вовсе не одинаковое преступление. (185) При олигархии и тирании все, по-моему, делается немедля по приказу, а при вас нужно, чтобы сначала все выслушал и посовещался совет, да и то не в любой час, а когда отведено время для вестников и посольств,172 затем чтобы устроили Народное собрание, и притом когда это установлено законом. И еще нужно, чтобы отстаивающие в речах лучшее одолели и победили тех, кто по невежеству или подлости им противится. (186) Но и при всем этом, когда, кажется, принято полезное решение, нужно ради немощи большинства отвести время на то, чтобы люди обзавелись необходимым и решение возможно было бы исполнить. А кто не соблюдает тех сроков, какие нужны при нашем строе, — тот не просто не соблюдает сроки, но отменяет само дело.
(187) Далее, у всех, кто желает вас провести, есть под рукой один довод: «Они вносят смуту в государство, они не дают Филиппу облагодетельствовать государство». Им я не скажу поперек ни слова, а вам прочту письма Филиппа и напомню сроки каждого из его обманов, чтобы вы поняли, что было их куда больше, чем (как говорится) «по горло». [Читаются письма Филиппа.]
(188) Совершив во время посольства столько позорных дел и во всем навредив вам, Эсхин ходит теперь везде и говорит: «Что вы скажете про Демосфена, который обвиняет сотоварищей по посольству?» Да, клянусь Зевсом, хочу я этого или нет, но после их козней против меня во все время нашей отлучки мне теперь остается выбирать одно из двух: либо при том, что вы натворили, прослыть вашим сообщником, либо обвинять вас. (189) Я и не признаю себя твоим сотоварищем, коль скоро ты в посольстве совершил много зла, а я делал для них173 лучшее, что мог. Сотоварищем тебе был Филократ, а ты ему, а вам обоим Фринон: ведь вы делали одно и то же, одно и то же было вам по душе. «А что же соль, что трапеза, что возлияния?» — расхаживая повсюду, вопит он, как трагический актер, как будто не преступники предали все это, а те, кто поступал честно. (190) Ведь все пританы приносят вместе жертвы и совместно едят и творят возлиянья, но из-за этого порядочные люди не подражают подлым, и если кого-нибудь из них поймают на бесчестном поступке, об этом открыто сообщают совету и народу. То же самое совет: он приносит вступительные жертвы,174 он связан общей трапезой, возлияниями, священнодействиями — так же, как и военачальники и почти что все правители у вас. Но разве это обеспечивает безнаказанность тем из них, кто поступает бесчестно? Вовсе нет. (191) Леонт обвинил Тимагора,175 с которым четыре года был послом, Евбул — Фаррека и Смикифа,176 с которыми вместе вкушал пищу, а Конон в старину — Адиманта,177 своего сотоварища по военачальству. Кто же, Эсхин, преступает союз, скрепленный солью и возлияниями: послы — предатели и мздоимцы либо их обвинители? Ясное дело: те, кто, как ты, предал союз со всей своей родиной, а не с отдельными лицами.
(192) Далее, чтобы вы поняли, насколько Эсхин и прочие подлее и гнуснее всех людей, приходивших к Филиппу не только по государственным, но и по частным делам, послушайте немного о том, что не касается нашего посольства. Филипп, когда захватил Олинф, справил Олимпии178 и созвал на это жертвоприношение и сборище всех, кто занимается искусством. (193) Давая им пир и награждая победителей венками, он спросил вот этого Сатира,179 комического актера, почему тот один ничего для себя не требует: разве он заметил у Филиппа хоть какую-то скаредность или неприязнь? Говорят, на это Сатир ответил: в том, что надобно другим, ему нужды нет, а чего бы он с удовольствием пожелал, то Филиппу легче легкого дать, и он будет вполне доволен, но только боится просить зря. (194) Когда же Филипп велел ему говорить и даже пошутил, что нет такой вещи, которой он бы не сделал, Сатир сказал, что был связан гостеприимством и дружбой с Аполлофаном из Пидны; когда же тот окончил свои дни, убитый исподтишка, то родственники из страха отправили его девочек-дочерей в Олинф. «Теперь, после взятия города, они попали в плен и находятся у тебя, а по возрасту им уже можно замуж. Вот их и отдай мне, прошу тебя и умоляю. (195) Хочу, однако, чтобы ты выслушал меня и понял, какой ты мне сделаешь подарок, если только сделаешь: я, если получу его, ничего на нем не наживу, но без выкупа выдам их замуж с приданым и позабочусь, чтобы с ними не приключилось ничего недостойного ни нас, ни их отца». Когда присутствующие на пиру услыхали это, поднялся такой плеск рук и шум, раздались такие похвалы ото всех, что даже Филипп был тронут и отдал пленниц. А ведь этот Аполлофан был одним из убийц Александра, брата Филиппа! (196) Сравним теперь с Сатаровым пиром другой, на котором вот эти люди были в Македонии, и поглядим, как все близко и похоже. Они отправились туда, приглашенные Ксенофроном, сыном Федима, одного из тридцати тиранов,180 а я не пошел. Когда приступили к питью, он ввел женщину из Олинфа, пригожую, свободнорожденную и, как выяснилось далее, целомудренную. (197) Вначале, видимо, эти люди заставляли ее спокойно пить и угощаться, как мне на другой день рассказывал Патрокл,181 но потом, когда дело пошло дальше и они разгорячились, приказали возлечь за стол и что-нибудь спеть. А когда женщина в горе сказала, что не хочет и не умеет, вот он, Эсхин, и с ним Фринон, назвав это дерзостью, объявили, что, мол, для них несносно, чтобы кто-нибудь из проклятых богами и гнусных олинфских пленных своевольничал, и тут же — «позвать раба!» и «принесть ремень!». Является прислужник с плетью, и пока она что-то говорит и льет слезы — а выпивших людей, по-моему, может разозлить любая мелочь, — он срывает с нее жалкое платье и начинает часто стегать по спине. (198) Женщина, забыв себя от боли и от того, что с ней сделали, вскакивает, припадает к коленям Патрокла и опрокидывает стол. И если бы тот ее не отнял, она погибла бы от пьяного бесчинства: ведь у таких негодяев, как эти вот, буйство во хмелю очень страшно. Речь об этой женщине шла в Аркадии, перед Десятью тысячами,182 и вам об этом докладывал Диофант, — а теперь я заставлю его дать показания, — и в Фессалии и везде много об этом говорилось.
(199) Так вот, зная за собой такие поступки, этот грязный человек смеет глядеть на вас и своим красивым голосом рассказывать о прожитой жизни, — а у меня от этого горло перехватывает. Разве не все здесь знают про тебя, что ты вначале читал матери книги во время таинств, что мальчишкой околачивался в вакхических шествиях среди пьяных? (200) А потом, будучи младшим писцом у властей, мошенничал за две-три драхмы? Что, наконец, совсем недавно ты радовался, если тебя подкармливали в чужих хорегеях,183 взяв третьим актером? О какой такой жизни ты будешь говорить? Где ты ее прожил? Вот ведь какой она оказывается! И что он себе позволяет! Он еще возбуждает перед вами дело о блуде против другого!184 Но сейчас не об этом, — сначала прочти мне показания свидетелей. [Читаются свидетельские показания.]
(201) Вот, судьи, сколь многочисленны и тяжки беззакония, в которых он уличен перед вами. Есть ли такое преступление, чтобы его не было за ним? Мздоимец, льстец, лжец, подпавший под все проклятья предатель друзей, — самые страшные грехи! Ни в одном ему не оправдаться, ни в чем не найти справедливого и простого оправдания. А что он, как я узнал, намерен говорить, то почти безумно: по-видимому, когда нет ни одного честного довода, приходится изворачиваться и измышлять. (202) Я слышал, он скажет, будто я сам замешан во всем,185 в чем обвиняю его, будто одобрял их дела и действовал с ним заодно, а потом вдруг переменился и пустился обвинять его. Оправдываться так в содеянном, правда, и нечестно и негоже, но на меня падает обвинение: если я так поступил, значит, я человек подлый. Правда, дело его от этого не улучшается, вовсе нет! (203) Впрочем, мне, я думаю, следует и доказать вам, что он, говоря так, солжет, и показать, что такое честная защита. Она бывает честной и простой, когда доказывает либо что вменяемое в вину не было совершено, либо что совершенное полезно государству. Ему же не удастся сделать ни того, ни другого. (204) Нельзя же говорить, будто полезны и гибель фокидян, и захват Фермопил Филиппом, и усиление фиванцев, и пребывание воинов на Евбее, и козни против Мегар, и отсрочка скрепленного присягою мира, когда именно все противоположное этому он называл полезным и обещал вам. А в том, что этого не было, ему не удастся вас убедить, так как вы сами все видели и знаете. (205) Значит, мне остается доказать, что я ни в чем не был с ними заодно. Так что же, — хотите, чтобы я, умолчав и о том, как возражал им перед вами, и о том, как вступал с ними в стычки во время поездки и постоянно им противился, немедля представил их самих свидетелями в том, что мы всегда все делали наперекор друг другу и что они нажились вам в ущерб, а я денег взять не пожелал? Смотрите же!
(206) Кто, по-вашему, в нашем городе всех гнусней, всех бесстыдней и спесивей? Даже по ошибке ни один из вас, я уверен, не назвал бы никого, кроме Филократа. А кто кричит громче всех и может самым внятным голосом сказать что захочет? Конечно, он, Эсхин. А кого они именуют робким и трусливым перед чернью, я же называю осмотрительным? Меня: ведь я никогда не докучал вам и ничего не принуждал делать против воли. (207) В каждом Народном собрании, как только речь заходила о них, вы слышали, как я всегда их обвиняю, и уличаю, и прямо говорю, что они приняли подкуп и продали наше государство. И никто из них, слыша это, ни разу не возразил, не открыл рта, даже не показался вам. (208) В чем же причина, что самые гнусные люди в городе, самые громкие крикуны сдаются передо мной, самым робким изо всех и никого не умеющим перекричать? В том, что правда сильна, зато бессильно сознание, что ты продал свой город. Это отнимает у них дерзость, связывает им язык, замыкает губы, душит, заставляет молчать. (209) И наконец, последнее: вы наверняка знаете, что недавно в Пирее, когда вы не допустили его в посольство,186 он вопил, что привлечет меня к суду, напишет жалобу по делу государственной важности — и горе мне! Но с этого начинают долгие тяжбы и речи, а тут дело простое, все оно в двух-трех словах, которые под силу сказать хоть вчера купленному рабу:187 «Вот, афиняне, какое страшное дело. Он обвиняет меня в том, в чем был соучастником, утверждает, что я брал деньги, хотя и сам брал, один или в числе других». (210) Но ничего такого он не говорил и не кричал, никто из вас этого не слышал, он только грозился. Почему? Потому что знал за собой такие дела и, как раб, боялся этого разговора. Его помыслы к тому и не приближались, а бежали прочь, настигнутые сознанием вины. А браниться по другим поводам и ругаться ему ничто не мешало.
(211) Теперь о самом главном, и не о словах, а о деле. Когда я, как положено по справедливости, хотел, дважды быв послом, дважды перед вами отчитаться, этот самый Эсхин, придя со многими свидетелями к тем, кто обязан вести проверку, запретил вызывать меня в суд, так как я уже якобы сдал отчет и отчитываться не должен. Ничего смешнее не придумаешь! В чем было дело? По первому посольству, за которое никто его не обвинял, он прошел проверку и не хотел являться в суд снова, беспокоясь за то свое посольство, из-за которого его судят сейчас и в котором он совершил все преступления; (212) а коль скоро я бы явился в суд дважды, то и ему было бы необходимо явиться вторично, потому он и не позволил меня вызвать. Это дело, афиняне, ясно показывает вам две вещи: во-первых, он осудил себя сам, так что теперь будет нечестьем голосовать за его оправдание; во-вторых, обо мне он не скажет ни слова правды, так как будь у него что сказать, он бы и говорил, и обвинял, и добился расследования надо мной, и уж, клянусь Зевсом, не запрещал бы меня вызвать. (213) А что я говорю правду, позови мне свидетелей.
Если он станет злословить меня за то, что не относится к посольству, у вас будут все причины его не слушать. Сегодня судят не меня, и никто не добавит мне времени.188 Что это, как не отсутствие честных доводов? Кто, находясь под судом и имея чем оправдаться, начнет вдруг обвинять? (214) Взгляните еще вот на что, судьи. Если бы под судом был я, обвинял бы он, Эсхин, а судил бы Филипп, и если бы я, не имея возможности отрицать свои преступления, стад бы о нем злословить и пытался бы его осрамить — разве, по-вашему, сам Филипп не вознегодовал бы на то, что при нем злословят людей, старавшихся ему на благо? Будьте же не хуже Филиппа, заставьте Эсхина оправдываться в том, за что его судят! Читай показания. [Читаются свидетельские показания.]
(215) Следовательно, я, ничего за собой не зная, считал нужным отчитаться и во всем следовать законам, а он наоборот. Как же может быть, чтобы мы совершили одно и то же? Как возможно ему говорить вам то, в чем он никогда меня не обвинял? Невозможно, конечно, — но он все равно будет это говорить, и, клянусь Зевсом, так оно и должно быть. Ведь вам наверняка известно, что, с тех пор как появились люди и судебные споры, никто не был осужден, сам признавшись в преступлении — всегда все бесстыдно отпираются, лгут, измышляют отговорки, делают что угодно, лишь бы не поплатиться. (216) Но сегодня никак нельзя, чтобы все это сбило вас с толку, — нет, судите по делам, о которых сами знаете, не обращайте внимания ни на мои, ни на его слова, ни на свидетелей, готовых говорить что угодно, — таких у него будет довольно, коли сам Филипп дает деньги на постановку зрелища,189 и вы увидите, с какой охотой они будут свидетельствовать, — ни на его звучную речь, ни на мою неумелую. (217) Ведь сегодня вам, если вы в здравом уме, надлежит судить не ораторов и не речи, а обрушить позор за постыдный и пагубный провал всех дел на голову виновников, расследовав содеянное ими, которое вам известно. Но что же вы знаете сами, о чем вам нет нужды слушать от нас? (218) Если мир дал все, что вам наобещали, и в ту пору, когда ни в стране не было врагов, ни с моря никто вас не осаждал, ни городу ничего не грозило,190 а хлеб вы покупали совсем дешево и вообще вам было не хуже, чем сейчас, вы по трусости и злой воле с готовностью заключили мир, (219) хотя заранее знали и слушали от них о предстоящей гибели союзников, об усилении фиванцев, о захвате Филиппом фракийских мест, о войсках на Евбее, подготовленных для выступления против вас, обо всем, что произошло в действительности, — если вы согласитесь с этим, то, конечно, оправдайте Эсхина и к столь великому позору не присоединяйте нарушения присяги:191 ведь тогда он ничуть не виновен, а я сошел с ума и брежу, обвиняя его. (220) Но если все было наоборот и они наговорили вам много приятного: что, дескать, Филипп любит наш город, спасет фокидян, покончит с наглостью фиванцев, облагодетельствует вас больше, чем с Амфиполем, то есть, получив мир, отдаст-де вам Евбею и Ороп, — если, наговорив и наобещав вам все это, они обманули и провели вас и не отняли у вас разве что Аттику, то осудите его и ко всему, в чем вы были оскорблены (я не знаю, как сказать иначе) и за что эти люди получили мзду, не навлекайте на свой дом еще и проклятья за нарушение присяги.
(221) Далее, взгляните еще вот на что, судьи: ради чего я взялся их обвинять, если они ни в чем не виноваты? Причины вам не найти. Разве приятно иметь много врагов? Нет, и к тому же небезопасно. Враждовал ли я с ними? Нет. В чем же дело? «Ты испугался за себя и трусостью рассчитывал спастись», — слышал я от него. И это — хотя для меня не было никакой угрозы, а за мной никакой провинности, что бы ты ни говорил! Если же он опять это скажет, то посмотрите, судьи: коль скоро я, ни в чем не провинившись, боялся погибнуть из-за них, то какую же кару следует понести им, виновным? (222) Значит, причина не тут. Тогда почему я тебя обвиняю? Право же, я, как видно, просто сутяжничаю, чтобы взять с тебя деньги. Но разве не лучше было бы мне взять деньги с Филиппа, который платит много, ничуть не меньше их, и стать другом и ему и им (а они бы стали, наверняка стали друзьями своему сообщнику, ведь и теперь их вражда ко мне не наследственная, а только от того, что я не принял в их делах участия), нежели притязать на долю полученного ими и становиться врагом и им и Филиппу? Стоило ли мне тратить столько собственных денег на выкуп пленных, чтобы потом постыдно требовать с них какую-то мелочь и наживать врагов? (223) Но тут не это, — я сообщил правду и отказался брать во имя истины и справедливости и ради дальнейшей моей жизни, рассчитывал, как некоторые, достичь у вас почета своей порядочностью и полагая, что почет от вас нельзя менять ни на какую наживу; их же я ненавижу, так как узнал их богопротивную подлость во время посольства и лишился заслуженного мною уважения192 по той причине, что из-за их мздоимства вы негодовали на все посольство. А обвиняю я теперь и отчитываюсь, глядя в будущее и желая, чтобы тяжба и суд отделили меня от них, подтвердив, что их делай мои противоположны. (224) И страшно мне, страшно (уж выскажу все свои мысли), как бы вы потом и меня не повлекли заодно с ними на казнь, несмотря на мою невиновность, а теперь не опустили рук. Ведь мне кажется, афиняне, что вы вообще обессилели, покорно ждете бед, не помышляя оберегаться от них, и не думаете о том, как давно губят наш город многими и страшными способами. (225) И это, по-вашему, не ужасно и не противоестественно? — Приходится поневоле говорить о том, о чем я хотел молчать. — Вы, конечно, знаете вот этого Пифокла,193 сына Пифодора. Он всегда обходился со мной по-дружески и до сего дня между нами не было никаких неприятностей. И вот он, с тех пор как ездил к Филиппу, при встречах обходит меня стороной, а когда нам невозможно не сойтись, немедля отскакивает, чтобы не увидели, как он со мной беседует. Зато с Эсхином он ходит кругом по всей площади и что-то обсуждает. (226) Разве это не страшно и не унизительно, афиняне, что люди, взявшие здесь на себя заботу о делах Филиппа, всегда остаются под неуклонным его наблюдением и никому из них, что бы он ни делал, нечего даже думать укрыться от Филиппа, словно он сам тут присутствует, — нет, друзьями и недругами они должны считать тех, кого он найдет нужным, между тем как живущие ради вас, ожидающие от вас чести и никогда чести не предававшие наталкиваются на такую вашу глухоту и слепоту, что мне, например, приходится вести на равных спор с этими блудодеями, и вести его перед вами, которым все известно. (227) Хотите узнать и выслушать, в чем тут причина? Я-то скажу, да вы не сердитесь на мою правду. Дело в том, что у Филиппа одно тело и один дух, и кто делает ему хорошо, тех он всей душой любит, а противников ненавидит, — между тем как никто из вас не верит, что приносящий пользу или вред городу приносит пользу или вред ему самому; (228) нет, каждому важнее свое, пусть оно даже часто заводит не туда: жалость, зависть, гнев, приязнь к просителю и прочее без счета; а кто от них уйдет, не уйдет от тех, которые желают, чтобы таких людей не было вовсе.194 А проступки против каждого из таких людей, понемногу стекаясь, собираются в большую пагубу для города.
(229) Забудьте же на сегодня все эти чувства, афиняне, и не оправдывайте того, кто совершил против вас столько преступлений. Подумайте, на самом деле, что про вас будут говорить, если вы его оправдаете? Из Афин отправились к Филиппу послами несколько человек: Филократ, Эсхин, Фринон, Демосфен. И что же? Один, помимо того что ничего от посольства не получил, на свои деньги выкупил пленных; другой, продав родной город, на эти деньги покупал кругом шлюх и рыбу. (230) Один из них, негодяй Фринон, отправил к Филиппу даже сына, не успев записать его в списки граждан,195 другой не сделал ничего недостойного своего города или себя самого. Второй нес повинности, снаряжая хоры трагедий и корабли,196 но и кроме этого полагал, что нужно тратить деньги добровольно, выкупать, не оставлять сограждан, оказавшихся по бедности в несчастье; первый же не только не спасал уже попавших в плен, но и устроил так, чтобы целая страна197 была захвачена Филиппом и в плену оказалось больше десяти тысяч латников и еще тысяча конных из числа ваших союзников. (231) Что же дальше? Афиняне, которые давно все знали, схватили послов — и что? Принявших деньги и подарки, опозоривших и себя, и город, и своих детей они отпустили,198 сочтя их людьми разумными, а город благоденствующим! А как с обвинителем? Сказали, что он помешался, не знает дел в городе, не ведает, на что швырять свое добро. (232) Кто же теперь, афиняне, увидев такой пример, захочет показать себя честным? Кто задаром отправится послом, не видя возможности ни получить мзду, ни прослыть у вас более надежным человеком, чем мздоимцы? Вы не только судите сегодня их, но и принимаете на все будущие времена закон о том, как положено исполнять посольские обязанности: за деньги, с позором и на пользу врагам — либо задаром, на пользу вам, наилучшим образом и неподкупно. (233) Свидетель всех этих дел вам, само собой, не нужен, только насчет того, что Фринон отправил сына, позови мне свидетелей. Его-то Эсхин не судил за то, что он собственное дитя послал к Филиппу для постыдных дел,199 но если кто-нибудь в молодости был красивей других и, не предвидя возникающих из-за этого подозрений, жил более вольно, тех Эсхин притягивал к суду за блуд.
(234) Скажу-ка я сейчас о пире и о постановлении,200 а то я чуть было не пропустил самого главного, что надо было вам сказать. Я, когда написал предложение насчет первого посольства, а потом повторил его в народных собраниях, в которых вы намеревались совещаться о мире, и когда еще ни против них не было сказано ни слова, ни преступление их не вышло наружу, похвалил их, соблюдая общепринятый обычай, и позвал в Пританей.201 (235) Ведь и прибывших от Филиппа послов я принимал, афиняне, клянусь Зевсом, радушно и даже роскошно: после того как я там увидел, до чего они кичатся такими вещами, почитая их за счастье и блеск, я сразу подумал, что тут-то и надо их превзойти и показать себя еще щедрее. Вот это Эсхин теперь вам и представит:202 он, мол, сам нас хвалил, сам давал пир послам, — но не укажет точно, когда это было. (236) А было это до того, как город понес ущерб от их бесчестности, до того, как выяснилось, что они продались, — было тогда, когда послы только-только прибыли впервые и народ должен был выслушать, что они скажут, и не стало еще ясно, что он выступит за Филократа, который тоже еще не написал своего предложения.203 Значит, если он это скажет, помните о сроке: все это происходило еще до их преступлений. А после этого у меня с ними не было не то что близости, но ничего общего. Читай теперь показания. [Читаются свидетельские показания.]
(237) Может быть, за него выступят братья, Филохар и Афобет, — но им обоим можно возразить много справедливого. Разговаривать с ними, афиняне, нужно откровенно, не умалчивая ни о чем. Вас, Афобет и Филохар, хотя ты раскрашивал тимпаны и подставки под алавастры,204 а твои братья были младшими писцами и людьми самыми обыкновенными (дурного в этом ничего нет, но нет и причины назначать их в полководцы), мы удостоили должностей послов и полководцев — словом, самых высоких почестей. (238) Далее, если никто из вас не совершил ничего бесчестного, то не мы обязаны вам благодарностью, но вы нас по справедливости должны благодарить: ведь это мы вас возвеличили, обойдя многих, кто больше вас был достоин почестей. А если один из вас, будучи удостоен почестей, поступил бесчестно, да еще так бесчестно, то не правильнее ли будет вас ненавидеть? Намного правильнее, по-моему. Теперь, наверно, эти бессовестные крикуны будут вас принуждать и припомнят изречение «помогать брату не грех». (239) Но вы не поддавайтесь и держите в уме, что если им положено заботиться о нем, то вам — о законах, о городе, а прежде всего — о присяге, которую вы дали, чтобы сидеть здесь. И если они упросили кого-нибудь из вас оправдать его, смотрите, в каком случае делать это: если выяснится, что он не совершал преступления против государства, или несмотря на то, что совершил.
Если первое, то и я считаю нужным то же самое; если же вопреки всему, — значит, они домогались клятвопреступления. Ведь пусть даже голос подается тайно, от богов он не укроется, и это отлично знал законодатель, установивший тайное голосование: из людей никто не будет знать, кто из вас его помиловал, зато богам и божественной силе станет известно, кто голосовал вопреки правде. (240) Ведь вернее ждать от богов исполнения добрых надежд для себя и для детей, если ты знаешь, в чем справедливость и что подобает, нежели тайно и скрытно оказывать милость этим людям — и оправдывать того, кто сам себя приговорил своими свидетельствами. Кого надежней мне представить в свидетели твоих преступных дел в посольстве, чем тебя самого, Эсхин, против тебя самого? Ведь коль скоро ты готовил такую страшную беду человеку,205 пожелавшему открыть кое-что из твоих дел в посольстве, то ясно, что ты ожидал для себя ужасной кары в случае, если бы судьи о них узнали.
(241) Итак, если вы размыслите здраво, то его действия обернутся против него же, не только потому, что в них тягчайшая улика преступлений в посольстве, но и потому, что, обвиняя, он произносил такие слова, которыми теперь можно воспользоваться против него: ведь то, что на суде над Тимархом ты определил как справедливое, должно сохранять силу и для других, когда обвиняют тебя! (242) Тогда, обращаясь к судьям, Эсхин говорил, что, мол, Демосфен будет ради его защиты обвинять меня за посольство и если отвлечет вас такой речью, то станет хвалиться и везде говорить: «Так и так, я отвлек судей от сути и ушел, незаметно отобрав у них дело». Вот и ты тоже оправдывайся в том, о чем идет спор, — это когда ты привлек к суду Тимарха, тебе можно было обвинять и говорить что хочешь. (243) Но ты даже тогда читал судьям стихи, так как никого не мог представить в свидетели тех дел, за которые привлек человека к суду:
И никогда не исчезнет бесследно молва, что в народе Ходит о ком-нибудь: как там никак, и Молва ведь богиня.206Но и про тебя, Эсхин, все толкуют, что ты нажился на посольстве; так что и о тебе «не исчезнет бесследно молва, что в народе ходит». (244) Взгляни сам, чтобы знать, насколько больше народу винит тебя, чем его. Тимарха вряд ли знали даже все соседи, а про вас, послов, нет ни грека, ни варвара, кто бы не говорил, что вы нажились на посольстве. Итак, если молва правдива, то в устах народа она говорит против вас, а что ей следует верить, что «и Молва ведь богиня» и что мудр был создавший это поэт, растолковал ты сам.
(245) И еще Эсхин, подобрав ямбические стихи, кончал так:
О том, кто дружбу рад водить с негодными, Я никогда не спрашиваю, ведая, Что он и сам таков, как те, с кем водится.И еще, поговорив о человеке, который ходит на птичий рынок и разгуливает с Питталаком,207 он сказал, что, мол, неужто вам невдомек, кем его считать? А теперь, Эсхин, эти ямбы пригодятся мне против тебя, и если я повторю их судьям, это будет правильно и уместно: «кто дружбу рад водить» с Филократом, да еще в посольстве, того «я никогда не спрашиваю, ведая», что деньги он взял точно так же, как Филократ, который в этом сам признался.
(246) Далее, Эсхин, стараясь оскорбить других, называет их «наемными сочинителями» и «изворотливыми умниками», но я уличу его в том, что и к нему подходят эти клички. Ямбы взяты из «Феникса» Еврипида, а этой драмы никогда не играл ни Феодор, ни Аристодем, при которых Эсхин обычно был третьим; разве только Молон208 выступал в ней да кто-то еще из старинных актеров. А «Антигону» Софокла часто играл Феодор, часто и Аристодем, в ней есть превосходные и полезные для вас ямбы, которые сам Эсхин нередко читал и тщательно заучивал, а тут не вспомнил. (247) Вы знаете, конечно, что во всех драмах у трагиков третьим актерам дается как бы особая почесть — выступать царями и скиптроносцами. Посмотрите же, что произносит в этой драме у поэта Креонт — Эсхин и чего он не говорил ни себе самому по поводу посольства, ни судьям. Читай!
Нельзя узнать у каждого заранее И мысль, и душу, и сужденье, прежде чем У власти и в законах не испытан он. По-моему, кто правит целым городом И наилучших помыслов не держится, Но чьи уста все время страхом замкнуты, Тот наихудшим и слывет, и слыл всегда. И кто превыше своего отечества Поставит друга, ни на что не годен тот. Да будет Зевсу ведомо всезрящему: Я не смолчу, увидев, что к согражданам Приблизилась беда, а не спасение, И другом мне не стал бы тот, кто зло несет Моей земле, которая, как ведаю, Одна спасет нас, если поплывем на ней Прямой дорогой, и друзей добудет нам.209(248) Ни слова из этого Эсхин не сказал себе во время посольства, но Филипповы гостеприимство и дружбу счел полезнее и поставил выше своего государства и потому распрощался с мудрым Софоклом, а увидев, как приблизилась беда — поход на фокидян, он не предупредил и не известил о ней, напротив того, и покрывал, и помогал ему, и мешал тем, кто хотел о нем сказать, (249) и забыл, что родина «одна спасет нас», что, «плывя на ней», его мать210 правила очистительные обряды, и получала доход от обращавшихся к ней, и на эти деньги вскормила вот каких сыновей, и что его отец, который, как я слыхал от стариков, учил грамоте у храма героя-врачевателя, жил как мог на этой нашей земле, и что сами они, будучи помощниками писцов и услужая каждому должностному лицу, получали деньги, а потом, когда их избрали наконец писцами, два года кормились в Круглом доме,211 и что сам Эсхин был отправлен послом от нашей же отчизны. (250) Ни на что это он не смотрел, не заботился, чтобы она «плыла прямым путем», — нет, он перевернул корабль и потопил и, насколько это было в его силах, подстроил так, чтобы он оказался в руках врагов. Так не ты ли изворотливый умник? Ты, и еще подлец к тому же. Не ты ли наемный сочинитель? Ты, да к тому же богомерзкий. Слова, с которыми ты часто выступал и точно заучил, ты оставил без внимания, а то, чего никогда в жизни не играл, разыскал на погибель гражданам и вытащил наружу.
(251) Давайте-ка теперь посмотрим, что говорил он насчет Солона.212 Он утверждал, будто Солон являет образец скромности и разумности тех, кто держал тогда речи перед народом, так как рука у него скрыта переброшенным через плечо плащом, и этим порицал Тимарха и упрекал его в разнузданности. Но, по словам саламинцев, нет еще пятидесяти лет, как поставили эту статую, а со времен Солона прошло до сего дня уже двести сорок лет, — значит, не только изваявший его таким художник, но и его дед не жил при Солоне. (252) Насчет внешнего вида Эсхин сказал судьям и встал в такую же позу, но не вспомнил, что для города важнее было бы знать душу и образ мыслей Солона: ведь сам он им не подражал, а действовал наоборот. Ибо Солон, когда Саламин был отнят у афинян и они постановили карать смертью того, кто заговорит о его отвоевании, пренебрег грозившей ему опасностью и пропел свою элегию, чем спас остров для государства и изгладил позор. Эсхин же отдал и продал Амфиполь, хотя его признали вашим все греки и даже царь,213 и говорил в поддержку предложившего это Филократа. (253) Ему-то и подобало поминать Солона, не правда ли? И не только здесь поступал он так, но и по прибытии туда не произнес даже имени той земли, ради которой отправился послом. Об этом он сам сообщил вам: вы ведь помните, как он утверждал, что, мол, насчет Амфиполя было и мне что сказать, но я промолчал, чтобы дать говорить о нем Демосфену. (254) Я же, выступая, сказал, что он ничего из того, о чем сам хотел говорить перед Филиппом, не оставил на мою долю: ведь ему легче отдать свою кровь, чем уступить слово. Но, конечно, приняв подкуп, нельзя было перечить Филиппу, который за то и платил, чтобы не возвращать Амфиполя. Возьми теперь и прочитай эту элегию Солона, чтобы вы знали, как ненавистны были Солону люди вроде него!
(255) Не выступая с речью надо прятать руку под плащ, Эсхин, а будучи послом надо прятать руку под плащ. А ты там протягивал и подставлял ее, опозорив всех, здесь же напыщенно вещаешь и думаешь, что, заготовив жалкие слова и хорошо поставив голос, не поплатишься за такое множество тяжких преступлений? Да ступай ты сколько хочешь странствовать, покрыв голову шляпой, и поноси меня… Читай же!
Наша страна не погибнет вовек по воле Завеса И по решенью других присноблаженных богов. Ибо хранитель такой, как благая Афина Паллада, Гордая грозным отцом, длани простерла над ней. Но, уступая корысти, объятые силой безумья, Граждане сами не прочь город великий сгубить. Кривдой полны и владыки народа, и им уготован Жребий бед много снести за своеволье свое. Им непривычно спесивость обуздывать и, отдаваясь Мирной усладе пиров, их в тишине проводить. Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют И, не щадя ничего, будь это храмов казна Или народа добро, предаются, как тати, хищенью, — Правды священной закон в пренебреженье у них. Но, и молчанье храня, знает Правда, что есть и что было: Пусть хоть и поздно — за грех все-таки взыщет она! Будет тот час для народа всего неизбежною раной, К горькому рабству в полон быстро народ попадет: Рабство ж пробудит от дремы и брань, и раздор межусобный: Юности радостный цвет будет войной унесен. Ведомо иго врагов: град любезный оно сокрушает Через крамолу, — она неправдолюбцам люба! Беды какие народу грозят, а среди неимущих В землю чужую тогда мало ль несчастных пойдет, Проданных в злую неволю, в позорные ввергнутых узы, Дабы познали они рабства тяжелого гнет? Так к дому каждого быстро идет всенародное горе, Двери не в силах уже бега его задержать, Через высокую стену оно перейдет и настигнет Всюду, хотя б от него спрятался ты в тайнике. Сердце велит мне афинян наставить в одном убежденье, Что беззаконье грозит городу тучею бед, Благозаконье же всюду являет порядок и стройность. В силах оно наложить цепь на неправых людей, Сгладить неровности, наглость унизить, ослабить кичливость, Злого обмана цветы высушить вплоть до корней, Выправить дел кривизну, и чрезмерную гордость умерить, И разномыслья делам вместе с гневливой враждой Быстрый конец положить навсегда, и тогда начинает Всюду, где люди живут, разум с порядком царить.(256) Вы слышите, афиняне, что говорит Солон о таких людях и о богах, которые спасают город? Я всегда думаю, что его утверждение о спасающих нам город богах — правда, и сам желаю этого и полагаю, что даже в том, как все получилось с нынешним отчетом, являет себя некая божественная благосклонность нашему городу. (257) Смотрите сами. Человек, совершивший в посольстве много беззаконий, отдавший целые страны,214 где чтить богов надлежало бы вам и вашим союзникам, опозорил того, кто, послушавшись сограждан,215 обвинил его. Зачем? Затем, чтобы самому не найти ни жалости, ни сочувствия к собственным беззакониям. При этом, обвиняя того человека, он предпочел злословить меня, обещая подать на меня народу жалобу и прочее. Зачем? Затем, чтобы я, обвинитель, досконально знающий его подлые дела и за каждым из них следивший, нашел у вас полное сочувствие. (258) Далее, он все время тянул с явкой в суд — до тех пор, пока не наступил срок, когда хотя бы ввиду надвигающихся событий вам нельзя отпускать безнаказанно этого подкупленного человека, ибо это опасно. Всегда, афиняне, следует наказывать подкупленных предателей, но теперь это особенно своевременно и послужит к общей пользе.
(259) Страшный недуг напал на Грецию, афиняне, такой тяжелый, что нужна и великая удачливость, и большая забота с вашей стороны. Ведь по городам самые именитые люди, удостоенные возглавлять общее дело, предают, злосчастные, собственную свободу, добровольно обрекают себя рабству, прикрывая это пристойными именами дружбы с Филиппом и взаимного гостеприимства, а остальные, и даже находящиеся у власти в каждом городе, которым надо было бы их карать и сейчас же казнить, не только не делают этого, а еще удивляются им и завидуют, и каждый желает сам быть таким же. (260) И такая болезнь, такое пагубное рвение, афиняне, до вчерашнего дня или до недавнего времени отнимало первенство и уважение окружающих у фессалийцев, а сейчас отнимает и свободу, так как в некоторых акрополях у них сидит уже македонская стража. Дойдя до Пелопоннеса, та же болезнь привела к резне в Элиде и преисполнила несчастных ее жителей такого безумия и буйства, что они убивают своих сородичей и сограждан, лишь бы править друг над другом и угодить Филиппу. (261) Поветрие на этом не остановилось и перешло в Аркадию, где переворотило все вверх дном, и теперь многие из аркадцев, которым полагалось бы, как и вам, гордиться свободой (ведь из всех народов только вы и они — исконные туземцы),216 восхищаются Филиппом, ставят и венчают его статуи и постановляют допустить Филиппа в свои города, если он явится в Пелопоннес. То же самое и в Аргосе. (262) И, клянусь Деметрой, если говорить здраво, нам нужна крайняя осторожность, потому что этот недуг, бродя кругом, пришел и сюда, афиняне! Пока еще нет опасности, поберегитесь и накажите поражением в правах тех, кто заводит у вас то же самое; а нет — так смотрите, как бы вам не понять мою нынешнюю правоту, уже когда трудно будет сделать то, что нужно.
(263) Или для вас, афиняне, не ясен и не очевиден пример несчастных олинфян?217 Ведь они, бедняги, оттого и погибли, что поступали так. Вам нужно только досконально разобраться, что следует из случившегося с ними. Когда конницы у них имелось всего четыреста человек да и общее их число не превосходило пяти тысяч, потому что халкидяне еще не объединились все, (264) спартанцы напали на них большими силами, пешими и морскими (вы, конечно, знаете, что в те времена на суше и на море, так сказать, господствовали спартанцы), но хотя на них шла такая большая сила, они не потеряли ни города, ни крепостей, но выиграли несколько сражений, убили трех военачальников и закончили войну так, как им хотелось. (265) Но когда некоторые стали принимать подкуп, большинство же по глупости, а скорее по несчастью верило им больше, чем говорившим полезные для них вещи, когда Ласфен покрыл дом македонским лесом, Евтикрат, никому ничего не заплатив, завел большое стадо крупного скота, еще кто-то прибыл домой с овцами, а еще кто-то — с лошадьми, то большинство, в ущерб которому все это делалось, вместо того чтобы негодовать и требовать кары, смотрело на них снизу вверх, завидовало, чтило — словом, их-то и считало людьми. (266) Когда же дело зашло далеко и мздоимство окрепло, то хотя олинфян стало больше десяти тысяч и они имели тысячу человек конницы, союзников по всем окрестностям и, в помощь от нас, десять тысяч наемников, пятьдесят трехрядных кораблей и еще четыре тысячи граждан, — все это их уже не могло спасти, и не прошло года с начала войны, как они потеряли из-за предательства все халкидские города, а Филиппу, который сам не знал, какой город брать сначала, незачем было слушаться предателей. (267) Силой оружия Филипп взял в плен пятьсот конных, которых предали их предводители, — столько, сколько никто никогда не брал. И сделавшие это не постыдились ни солнца, ни земли, на которой стояли, — своей родной земли! — ни храмов, ни могил, ни грядущего позора за такие преступленья. Вот, афиняне, к какому умоисступлению и безумию приводит мздоимство! Вам, вам, большинству народа нужно сохранять здравый разум, не допускать ничего похожего и карать от лица государства. Разве не чудовищно было бы вам, принявшим против олинфских предателей столько грозных постановлений, на глазах у всех не покарать преступников у себя дома? Прочти постановление об олинфянах. [Читается постановление.] (268) Такое ваше постановление против ненавистных богам предателей сочтут правильным и прекрасным все, и греки и варвары. Но так как подкуп предшествует пагубным действиям и многие так поступают ради него, то вы, афиняне, любого, кто будет замечен в мздоимстве, считайте уже предателем! Один предательски упускает сроки, другой предает дело, третий — воинов, — словом, кто над чем властен, тот то и губит, но ненавидеть следует их всех одинаково.
(269) Вам одним из всех людей, афиняне, возможно обращаться к отечественным примерам и на деле подражать предкам, которых вы справедливо восхваляете. Пусть не в сраженьях, не в походах, не в опасностях, в которых они блистали славой, — сейчас для этого не время, так как вы не воюете, — но хоть в здравомыслии подражайте им! (270) Оно нужно везде, а мыслить здраво ничуть не более обременительно и хлопотно, чем мыслить дурно. Нет, если каждый из вас, просидев здесь то же самое время, поймет обстоятельства и проголосует как нужно, то он будет действовать к общему благу города и достойно предков, а если не так, как нужно, то во зло городу и недостойно предков. Как же они мыслили о таких вещах? Возьми-ка, письмоводитель, вот это и прочти нам: вы увидите сами, что за то, к чему вы относитесь беспечно, они карали смертью. [Читается надпись на плите.]218 (271) Слышите, афиняне, эта надпись гласит, что Арфмий,219 сын Пифонакта, из Зелеи, и весь его род суть недруги и враги афинского народа и его союзников. 3а что? За то, что он привез в Грецию варварское золото. Из этого, я полагаю, можно усмотреть, что ваши предки думали о том, чтобы никто из чужих людей за деньги не сделал зла Греции, а вы не глядите даже за тем, чтобы кто-нибудь из ваших граждан не совершил преступления против города. (272) «Право же, эта надпись поставлена где пришлось». — Нет, хотя и вся земля на акрополе священна и простора на нем довольно, однако надпись эту поставили по правую руку от большой бронзовой Афины,220 которую город воздвиг в честь победы над варварами, а деньги дали все греки. Да, столь святы и чтимы были тогда справедливость и кара за такие деянья, что достойным считалось воздвигнуть рядом и статую богини, и решение о воздаянии бесчестным. А теперь — смейся и ничего не бойся, если вы сейчас же не обуздаете такую наглость! (273) Мое мнение, афиняне, таково: правильно будет подражать предкам не в чем-нибудь одном, а во всем, что бы они ни делали. Я уверен, вы все слышали рассказ о Каллии,221 сыне Гиппоника, — он, отправившись послом, заключил тот знаменитый мир, по которому царь не мог приближаться к побережью меньше чем на дневной пробег коня или плыть на военном корабле дальше Хелидонских и Кианейских островов: так вот, его чуть не казнили, решив, что он принял от царя подкуп, а при отчете взыскали с него пятьдесят талантов. (274) А ведь ни до того, ни после никто бы не мог даже назвать более выгодного для города мира. Но тогда не на это смотрели, а думали, что таким миром обязаны собственной доблести и славе города, нраву же посла — тем, заключен ли он безвозмездно или нет, и от каждого, кто брался за общественные дела, требовали честности и бескорыстия. (275) Мздоимство они считали до того ненавистным и пагубным для города, что не допускали его ни в ком и ни в чем. Вы же, афиняне, были свидетелями мира, который у наших союзников срыл стены, а послам отстроил дома, у города отнял достояние, а их обогатил так, что им и не снилось, и не казнили их сами — вам еще понадобился обвинитель, и вы на словах судите тех, чье беззаконие явствует на деле.
(276) Можно бы сказать не только о давнем прошлом, чтобы примерами призвать вас ко мщению: ведь и при вашей жизни многие были наказаны. Не говоря о прочем, я упомяну только одного или двух человек, казненных за участие в посольстве, которое причинило городу куда меньше зол. Возьми-ка и прочитай вот это постановление. [Читается постановление.] (277) По этому постановлению вы, афиняне, приговорили к смерти послов, среди которых был Эликрат, человек, как я слыхал от стариков, деятельный и городу весьма полезный, один из тех, кто возвратил наш народ из Пирея222 и вообще был приверженцем народной власти. Но это ему не помогло, и по справедливости: тому, кто притязает распоряжаться большими делами, негоже быть честным наполовину и, наперед заслужив от вас доверие, пользоваться им как возможностью больше вам вредить, — нет, ему следует просто не погрешить против вас. (278) А эти вот люди если не совершили хоть одного из дел, за которые тех приговорили к смерти, то убейте меня на месте! Смотрите сами. Сказано: «Поскольку они в посольстве действовали вопреки предписанию», — таково первое обвинение. А эти не вопреки предписанию? Разве, хотя постановление гласило: «С афинянами и союзниками афинян», они не объявили, что на фокидян мир не распространяется? Разве, хотя постановление гласило: «Брать присягу с правящих в каждом городе», они не с тех только брали присягу, кого присылал им Филипп? Разве, хотя постановление гласило: «Нигде не сходиться с Филиппом наедине», они все время не обделывали с ним дела с глазу на глаз? (279) «И некоторые из них были изобличены в том, что докладывали совету неправду». А эти — и народу тоже! И кем изобличены? Это и есть самое замечательное: самим ходом событий, тем, что все вышло не по их докладу, а наоборот. Про тех говорится: «Сообщали в письмах неправду». И эти тоже. «И лгали насчет союзников, и принимали подкуп». А эти не то что лгали, но вконец их погубили, — дело пострашнее лжи, и намного. А насчет того, что они принимали подкуп, то если бы они отпирались, их оставалось бы уличить, но так как есть их признание,223 то следует прямо увести их на расправу. (280) Что же, афиняне, если все это так, то неужели вы, порождение тех мужей или даже те из них, кто дожил до наших дней, допустите, чтобы Эпикрат, благодетель народа, один из пирейцев, был изгнан и наказан, чтобы недавно Фрасибул, сын Фрасибула, приверженца народа, приведшего его назад из Филы, был присужден к уплате десяти талантов, как и один из рода Гармодия, чтобы потомки величайших ваших благодетелей, которым по закону за все сделанное для вас добро вы во всех храмах при любом жертвоприношении творите долю возлияний из каждого сосуда, которых воспеваете и чтите наравне с героями и богами, (281) чтобы все они несли наказание по законам и им не помогали бы ни снисхождение, ни жалость, ни плачущие дети, названные именами Атремота и Главкофеи, собиравшей разнузданные шествия (за которые другую жрицу казнили!), а человек; пойманный вами, рожденный от таких людей, что ни сам он не принес пользы городу, ни отец его, никто из родичей, — чтобы он был оправдан? (282) Что получило от них за все время государство: коня? корабль? вооруженье? хор? повинность? взнос? добрую волю? готовность к опасности? Да и будь все это, — если не прибавить еще одного, честного и бескорыстного посольства, то все равно, он заслуживает смерти. А тут нет ни того, ни другого — и вы его не накажете?
(283) Неужели вы не помните, как он, обвиняя Тимарха, говорил,224 что никуда не годятся ни город, если в нем нет твердости к преступникам, ни государственный строй, если при нем снисхождение и ходатайство сильнее законов, и что вам не должно жалеть ни мать Тимарха, старую женщину, ни детей, никого и смотреть только на то, что, пренебрегши однажды законом и государственным порядком, вы ни от кого не найдете впредь жалости. (284) Выходит, тот несчастный человек останется бесправным за то, что видел бесчестные дела Эсхина, а его самого вы отпустите безнаказанным? Почему же? Если Эсхин требовал так сурово наказывать людей, совершивших преступления против самих себя, то как надобно вам, под присягой заседающим в суде, карать изобличенного соучастника преступлений против всего нашего города? (285) Но, право же, после того суда молодые люди станут у нас лучше. — А после нынешнего — те, кто занимается делами государства и от кого городу грозит куда большая опасность: ведь и о них надобно думать! Знайте же, не потому он погубил Тимарха, что заботился о ваших детях, как бы сберечь их скромность (они и так скромны у вас, афиняне, и да не постигнет наш город столь злая беда, чтобы он нуждался в таких опекунах юношества, как Афобет и Эсхин), (286) а потому, что Тимарх как член совета внес предложение карать смертью всякого, кто будет пойман на поставках Филиппу оружия и корабельного снаряжения. И вот доказательство: долго ли выступал Тимарх с речами? Долго. И все это время Эсхин жил в городе и нимало этим не возмущался, не считал пагубным, чтобы такой человек говорил к народу, пока сам не побывал в Македонии и не нанялся на службу. Возьми теперь постановление Тимарха и прочти его. [Читается постановление.] (287) Значит, человек, ради вас предложивший во время войны не возить Филиппу оружия, а нет — так платиться за это жизнью, погиб, подвергшись всем оскорблениям, а тот, кто выдал врагу оружие ваших союзников,225 обвиняет его, говорит о его разврате, между тем как бок о бок с ним, о 3емля и все боги! — стоят двое свояков, при одном виде которых вы бы подняли крик: гнусный Никий, сам нанявшийся в Египет к Хабрию, и проклятый Кирибион,226 идущий в шествиях без маски!227 Да в этом ли дело? Ведь перед его глазами был Афобет, родной брат. Да, вспять потекли в тот день реки228 всех речей о разврате!
(288) О том, сколь великое бесчестье навлекли на наш город их подлость и лживость, я не стану говорить всего, скажу только о том, что вы сами знаете. Прежде, афиняне, все эллины пристально следили, что вы постановите, а теперь мы сами обходим всех, высматривая, кто что решил, прислушиваемся, навострив уши, что творится у аркадцев, что — у амфиктионов, куда направляется Филипп, жив он или умер. Разве мы не так делаем? (289) Если Филипп жив, это мне не страшно, но если в городе умерла карающая ненависть к преступникам, этого я боюсь. Филипп не внушает мне страха, если у вас здесь не будет порчи; но если при вас будут в безопасности желающие служить ему за плату и к тому же их станут поддерживать некоторые из тех, кому вы верите, и вдруг выступят за Филиппа те, кто прежде не признавал себя его пособником, — тогда мне страшно. (290) Как же так, Евбул, когда судили Гегесилая, твоего двоюродного брата, и недавно Фрасибула, Никератова дядю, при первом голосовании ты даже не пожелал услышать их призывы, а при обсуждении наказания выступил и, ничего не сказав в их защиту, просил судей явить снисходительность ради тебя? Что же, в защиту родных и близких ты не выступаешь, а в защиту Эсхина выступишь? (291) Того самого Эсхина, который, когда Аристофонт привлек к суду Филоника229 и этим обвинил и тебя за содеянное тобой, обвинял тебя вместе с ним и явно признал себя твоим врагом? Не тогда ли, когда ты испугал сограждан и сказал, что пора уже уходить в Пирей, делать взносы, деньги, раздаваемые на зрелища,230 обратить на войну или же голосовать за то, что Эсхин поддерживал, а предлагал негодный Филократ, совиновный в том, что мир оказался не равным, а позорным? (292) Не тогда ли, когда позже они все погубили своими преступлениями, ты с ним помирился? То ты при всем народе проклинал Филиппа и клялся жизнью детей, что желаешь ему гибели, — а теперь будешь помогать Эсхину? С чего же Филиппу погибнуть, если ты будешь вызволять подкупленных им? (293) Зачем было привлекать к суду Мерокла за то, что он получал с бравших на откуп рудники по двадцать драхм с каждого, зачем ты подавал жалобу на Кефисофонта за священные деньги,231 когда он положил на стол менялы семь мин на несколько дней позже? А их, принявших подкуп, сознавшихся, изобличенных на месте в том, что они все делали на погибель союзникам, их ты не только не судишь, но и призываешь спасти? (294) Нынче ведь дела у нас страшные; тут надобна большая прозорливость и осторожность. А за что ты судил тех людей, — смех, да и только! Сейчас вы это увидите. Были в Элиде расхитители общественного имущества? Очень возможно. А принимал теперь кто-нибудь из них участие в низложении власти народа? Никто. Дальше. Когда Олинф существовал, были там такие люди? Я полагаю, были. А из-за них ли погиб Олинф? Нет. Дальше, по-вашему, в Мегарах не было воров, прибиравших к рукам общее достояние? Не могло не быть. А выяснилось ли, что кто-нибудь из них виновен в случившихся событиях? Ни один не виновен. (295) Но кто же они, совершившие так много преступлений? Люди, считающие, что заслужили быть гостями и называться друзьями Филиппа, домогающиеся должности стратеги и требующие отличий в уверенности, что им следует быть выше прочих. Не судил ли недавно в Мегарах суд трехсот232 Перилла за то, что тот отправился к Филиппу, и не выпросил ли ему оправдание, выступив за него, Птеодор, всех превосходящий в Мегарах богатством, родовитостью и славой, и не отослал ли снова к Филиппу? А потом один пришел и привел чужих наемников, а другой мутил воду в городе. Так-то! (296) Одного, да, одного нужно остерегаться больше всего на свете: чтобы кто-нибудь возвышался над большинством. Не нужно мне, чтобы кого-нибудь спасали или губили потому, что так желает такой-то; но кого содеянное спасает или губит, тот пусть получает от каждого из вас голос соответственно делам: в этом суть народовластия. (297) Правда, многие у вас на какой-то срок становились сильны: Каллистрат, потом Аристофонт? Диофант, а раньше них другие. Но где каждый из них первенствовал? В Народном собрании; а в судах до сего дня не было никого сильнее вас и законов и присяги. И ему не позволяйте этого.233
А что вам следует быть не столь доверчивыми, сколь осторожными, о том я прочитаю вам прорицания богов, которые спасают город куда верней, чем предводительствующие в нем. Читай прорицания. [Читаются прорицания.]234 (298) Слышите, афиняне, что предрекают вам боги! Если это предсказано на то время, когда вы воюете, — значит, они велят вам опасаться военачальников, потому что вожди на войне — военачальники; а если на мирное время — то тех, кто стоит во главе государственных дел, потому что они предводительствуют, вы их слушаетесь, и есть опасность, что они вас обманут. «Город должен сплотиться [сказано в прорицании] так, чтобы всем держаться единого мнения и не доставлять радости врагам». (299) А что, по-вашему, афиняне, доставит Филиппу радость; спасение или наказание того, кто наделал столько зла? Я полагаю, что спасение. А предсказание требует ничего не делать на радость врагам. Далее, и Зевс, и Диона,235 и все боги велят вам единодушно карать пособников ваших врагов. Извне на вас злоумышляют, внутри им помогают. Значит, дело злоумышляющих — давать, дело их пособников — брать и вызволять тех, кто взял.
(300) Да и по человеческому разумению понятно, что всего опаснее и страшнее — допускать, чтобы стоящий во главе города сходился близко с теми, чьи желания рознятся с желаниями народа. Взгляните: как Филипп стал хозяином надо всем, чем он больше всего достиг? А вот чем: у продающих свои услуги он покупал их, стоящих во главе государств совращал мздой и подстрекал. (301) В ваших руках, если захотите, сделать оба эти средства негодными, только не соглашайтесь слушать защитников, покажите, что над вами нет хозяина (покуда они вслух считают хозяевами самих себя), а самого продажного предателя покарайте так, чтобы все видели. (302) Законен, афиняне, ваш гнев на любого, кто совершил такое, кто предал союзников и друзей и сроки, от которых всегда зависит удача или неудача; но справедливей всего ваше негодование против Эсхина. Ведь он было встал на сторону не доверявших Филиппу, он первый и единственный увидал в нем врага всех эллинов — а потом вдруг переметнулся, предал, стал защитником Филиппа. Так разве он не заслужил многих казней? (303) Что дело обстоит именно так, ему не под силу будет отрицать. Кто в самом начале привел к вам Исхандра и заявил, что тот пришел к нам в город от друзей в Аркадии? Кто кричал, что Филипп забирает всю Элладу и Пелопоннес, а вы спите? Кто произносил перед народом долгие красивые речи и читал постановления Мильтиада и Фемистокла236 и присягу эфебов в храме Аглавры?237 Не он ли? (304) Кто уговаривал вас отправлять посольства чуть ли не на Красное море, потому что Филипп злоумышляет против Эллады, а вам надлежит все предусмотреть и не упускать из рук эллинских дел? Разве не он, Евбул, написал постановление и не он, Эсхин, отправился послом в Пелопоннес? Как он там разговаривал и какие речи произносил, явившись туда, это ему знать, а что он докладывал вам, вы наверняка сами помните. (305) Это он в речах часто называл Филиппа варваром и проклятьем Эллады, это он доносил вам, что аркадцы радуются, коль скоро Афинское государство обращает внимание на их дела и пробуждается. Но больше всего его якобы возмутило вот что: на обратном пути он повстречался с ехавшим от Филиппа Атрестидом,238 за которым шло человек тридцать женщин и мальчишек, а когда он, удивившись, спросил у какого-то путника, что это за человек и что за сброд идет с ним, (306) а потом услыхал, что это Атрестид, получивший в подарок от Филиппа олинфских пленных, то счел все это ужасным и стал слезно оплакивать Грецию, до чего плохи в ней дела, если она даже не смотрит на такие ужасные вещи. И он советовал вам отправить в Аркадию послов, чтобы они обвинили пособников Филиппа: он якобы слыхал от друзей, что, если наш город обратит на это внимание и отправит послов, преступники будут наказаны. (307) Вот какие речи, прекрасные и достойные нашего города, говорил он тогда, афиняне. Ну, а после того как он побывал в Македонии и увидел своего недруга и врага всех греков, разве такими или хотя бы похожими были его речи? Какое там! Он уже не поминал предков, не говорил о победных памятниках и о помощи кому-либо, а когда некоторые призывали посовещаться с эллинами о мире с Филиппом, он удивлялся, зачем в делах, касающихся только нас, нужно слушаться кого-то еще: (308) ведь Филипп — Геракл свидетель! — сам эллин из эллинов, нет никого красноречивей и афинолюбивей, чем он, — а в городе есть еще такие нелепые и брюзгливые люди, что не стыдятся бранить его и называть варваром. Возможно ли, чтобы один и тот же человек прежде утверждал то же самое, а потом осмелился говорить иначе, если он не подкуплен? (309) Возможно ли, чтобы тот, кто возненавидел Атрестида за олинфских детей и женщин, потерпел, чтобы Филократ привел на поругание свободных олинфянок, — Филократ, до того известный своей гнусной жизнью, что мне сейчас нет нужды перечислять все его постыдные мерзости, но стоит только сказать «Филократ привел женщин», — как и вы, судьи, и собравшиеся в суд поймете остальное и, я уверен, пожалеете попавших в беду несчастных женщин, которых Эсхин не пожалел и из-за которых не оплакал Элладу, где терпят поругание от послов у ваших же союзников? (310) Слезы лить он будет о самом себе, совершившем в посольстве такие дела, и, может быть, даже приведет и покажет вам своих детей;239 но вы, судьи, при виде его детей имейте в виду, что дети ваших союзников и друзей скитаются и бродят нищими, что они, терпя по его вине такие беды, куда больше заслуживают вашей жалости, чем дети отца — преступника и предателя, и что эти люди лишили надежды ваших собственных детей, вписав в мирный договор слова «и с потомками», а при виде его слез вспомните, что перед вами сейчас тот самый человек, который когда-то призывал послать в Аркадию обвинителей против пособников Филиппа.
(311) Но теперь-то вам не надо ни посылать посольство в Пелопоннес, ни пускаться в дальний путь, ни тратиться на дорогу, а надо, чтобы каждый из вас подошел сюда, к возвышению, и благочестиво и по справедливости подал голос в защиту отчизны против человека, который — о Земля и боги! — поначалу говорил все, что я перечислил: о Марафоне, о Саламине, о битвах и победных памятниках, а потом, тотчас как побывал у македонян, стал говорить наоборот: незачем-де вспоминать предков, твердить о победных памятниках, помогать кому-либо, совещаться со всеми эллинами! — и разве что не потребовал от вас срыть стены. (312) Никогда во все времена не произносили у вас речей позорнее этих. Кто из греков или варваров до того темен и невежествен или так ненавидит наше государство, чтобы на вопрос: «Скажи, есть ли в нынешней Элладе, у нынешних ее обитателей, такое место, которое могло бы называться своим именем и оставаться обиталищем эллинов, если бы в его защиту не явили свою доблесть при Марафоне и Саламине наши предки?» — не ответить: «Нет такого места, все было бы захвачено варварами!» (313) Значит, тех, кого и врагам не лишить славословий и похвал, Эсхин запрещает вспоминать вам, их правнукам, лишь бы самому получать деньги? Но ведь если умершие не имеют доли ни в каких благах, то хвала за доблестные поступки есть неотъемлемое достояние павших за отчизну, его не отспорить у них даже зависти. За одну попытку лишить этого погибших справедливо будет самого Эсхина лишить гражданских прав, — так ради ваших предков покарайте же его этой карой! Ведь такими речами ты, подлец и негодяй, разграбил и расхитил все подвиги предков, погубил все наши дела! (314) И вдобавок еще нажил с этого земли и стал заметным лицом. До того как сделать зло государству, он, как признает сам, служил писцом, и был благодарен вам за избрание, и держался скромно; а потом, наделав столько зла, он хмурит брови, сказавшему «тот Эсхин, что был писцом» сразу становится недругом, как будто услышал оскорбление, ходит через площадь, спустив плащ до пят, словно второй Пифокл,240 надувает щеки: ведь он у вас не кто-нибудь, а один из друзей и гостеприимцев Филиппа, из тех, кто желает избавиться от власти народа и полагает нынешнее положение «вещей безумным беспорядком, хотя раньше преклонял колени перед Круглым домом.241
(315) Теперь я хочу напомнить вам самое давное о том, каким образом Филипп одолел вас в государственных делах при пособничестве этих безбожников. Ведь, право, стоит труда исследовать и рассмотреть обман с начала до конца. Уже на первых порах он желал мира, так как его страну опустошали разбойники, и рынки были заперты, и ни от каких благ не имел он пользы, и поэтому послал троих сладкоречивых ходатаев: Неоптолема, Аристодема и Ктесифонта. (316) Когда же к нему прибыли послами мы, он незамедлительно нанял Эсхина,242 чтобы тот словом и делом помогал гнусному Филократу и взял верх над желающими действовать честно, сам же написал вам письмо, на которое больше всего рассчитывал для заключения мира. (317) Но и таким образом он не мог слишком повредить вам, пока не погубит фокидян. А это было непросто: все дела у него, словно сама судьба вмешалась, сошлись так, что ему либо нельзя было осуществить своих желаний, либо необходимо было лгать и нарушать клятвы перед лицом всех эллинов и варваров. (318) Если бы он взял заодно с вами в союзники фокидян и дал бы клятвы им, как и вам, то поневоле тотчас же преступил бы клятвы фиванцам и фессалийцам, которым поклялся одним — покорить с ними Беотию, другим — вернуть их в Фермопильскую амфиктионию;243 а если бы не взял их в союзники, как не взял и на самом деле, то думал, что вы не позволите ему пройти, а пошлете подкрепление в Фермопилы, как вы бы, верно, и сделали, если бы вас не обманули; а в таком случае, рассчитывал он, пройти будет невозможно. (319) Разузнавать об этом у других ему было незачем, в этом деле он сам себе мог быть свидетелем: ведь он, когда впервые одолел фокидян,244 истребил их наемников и убил главного вождя Ономарха, но не смог тогда (хотя кроме вас никто из людей, ни эллины, ни варвары, да помогли фокидянам!) не то что пройти или, пройдя, достичь желаемого, но даже подойти близко. (320) По-моему, он ясно понимал, что в то время, когда по Фессалии начинается против него смута, и ферейцы в первый раз не пошли за ним, а фиванцы побеждены и разбиты в бою, и по этому поводу воздвигнут памятник, ему никак не пройти, если вы пришлете подкрепление, и даже сделай он попытку, ему не взять верх, если не прибегнуть к какой-нибудь уловке. «Как же мне не прослыть явным лжецом и нарушителем клятв и притом достичь всего, что я хочу? Как? А вот как: найду-ка я афинян, которые бы обманули афинян, и тут уж позор достанется не мне». (321) Потому-то послы от него предупреждали вас, что Филипп не возьмет фокидян в союзники, а эти люди, выступая следом, говорили, что, мол, Филиппу неловко из-за фиванцев и фессалийцев открыто принимать фокидян в союзники, но если он станет хозяином своих действий и получит мир, то сам сделает тогда все, что мы требуем теперь включить в договор. (322) Благодаря таким посулам и прельщениям они добились от вас мира, из которого были исключены фокидяне. Но еще надо было помешать вам послать в Фермопилы подкрепление: ведь ради того и стояло на якоре пятьдесят кораблей, чтобы вы воспрепятствовали Филиппу, если он двинется в поход. (323) Как это сделать? Какую уловку придумать и тут? Отнять у вас время и потом сразу поставить вас перед случившимся, чтобы вы при всем желании не могли прийти на помощь. Так они, очевидно для всех, и сделали, а я, как вы уже не раз слыхали,245 не имея возможности поехать, сам нанял корабль, но мне преградили путь к отплытию. (324) Еще Филиппу надо было, чтобы фокидяне ему поверили и сдались по доброй воле, чтобы на все это дело не ушло времени, а вы не приняли противоположного постановления. «Значит, о предстоящем спасении фокидян должно быть доложено афинскими послами, — тогда даже те, кто мне не верит, поверят им и предадутся мне, а афинян мы призовем самих, чтобы они, полагая, будто все будет исполнено по их желанию, ничего, не постановили вопреки прежнему; а уж эти доложат и наобещают от моего имени такого, что никто ни при каких обстоятельствах не двинется с места». (325) Таким-то способом и такими ухищрениями все погубили те люди, которым бы самим погибнуть злой смертью! И сразу же, вместо того чтоб увидеть, как отстраиваются Феспии и Платеи, вы услышали о порабощенных Орхомене и Коронее; вместо того чтобы усмирить Фивы и сбить с них гордость и спесь, стали срывать стены ваших союзников фокидян, а срывали их фиванцы, которых, по словам Эсхина, собирались расселить. (326) Вместо того чтобы отдать вам взамен Амфиполя Евбею, Филипп подготавливает на Евбее места, откуда напасть на вас, и постоянно посягает на Герест и Мегары. Вместо того чтобы получить назад Ороп, мы выступаем с оружием в руках защищать Дрим и окрестности Панакта,246 — а пока были целы фокидяне, мы бы этого не делали. (327) Вместо того чтобы восстановить в святилище247 завещанные отцами порядки и взимать деньги для бога, подлинные амфиктионы разбегаются и разгоняются, вся их область опустошается, а те, кого тут в прежние времена даже не бывало, македоняне и варвары, силой вторгаются в число амфиктионов. Если же кто спросит о священных деньгах, тех сбрасывают с обрыва,248 а у нашего города отнимают право первым вопрошать оракул.249 (328) И все дела стали для нашего города вроде загадки. Филипп ни словом не солгал и достиг всего, чего хотел, а вы увидели, как все, о чем вы молились и на что надеялись, вышло наоборот, и вроде как бы в мирное время пострадали больше, чем если бы воевали, — между тем как Эсхин и прочие на всем этом нажились и до сего дня остаются безнаказанными.
(329) Что дело тут просто в подкупе и что они за все взяли свою цену, вам уже давно и по многим уликам стало ясно, и я боюсь, что добьюсь обратного тому, чего хочу, если стану пытаться все досконально доказать и снова буду докучать вам, хотя вы сами все знаете. Но все-таки послушайте и об этом. (330) Есть ли, судьи, среди присланных Филиппом послов такой, кому вы поставили бы статую на площади? Ну, что? Дали бы вы кому-нибудь из них пропитание в Пританее или другую награду, которыми вы удостаиваете своих благодетелей? Я думаю, нет. А почему? Ведь вы люди не злые и не чуждые благодарности и справедливости. «Потому что они все сделали для Филиппа и ничего для нас», — могли бы вы ответить, и это было бы правильно и справедливо. (331) И по-вашему, вы думаете так, а Филипп иначе, и дает он им столько ценных даров за то, что они прекрасно и честно выполнили посольские обязанности на пользу вам? Ничего подобного! Вы видели, как он принял Гегесиппа250 и прибывших с ним послов. И не говоря о прочем, вот его, поэта Ксеноклида,251 он при всех изгнал за то, что тот принял их как своих сограждан. Так ведет он себя с теми, кто честно говорит что думает и помогает вам; а с теми, кто продается ему, — как с Эсхином и прочими. Нужны ли более веские свидетельства и улики? Кто их у вас отнимет?
(332) Перед самым судом один человек подошел ко мне и сообщил последнюю новость: Эсхин готовится обвинить Харета252 и надеется при таком повороте дела обмануть вас речами. Я не стану утверждать и настаивать, что, как бы ни судили Харета, будет признано, что он во всем зависевшем от него действовал как человек верный и благонамеренный, только отставал от событий, так как ему портили дело ради наживы. Я даже допущу преувеличение: пусть он скажет про Харета только правду, — все равно смешно, что обвинителем будет Эсхин. (333) Ведь я виню Эсхина не за то, что происходило на войне — за это ответственны военачальники, — и не за то, что государство заключило мир, — все, что было раньше, я пропускаю. Что же я имею в виду и с чего начинаю обвинение? С того, что при заключении мира он выступал за Филократа, а не за тех, чьи предложения были лучше; что он получил мзду; что в последнем посольстве растратил время и не выполнил ничего из предписанного вами; что обманул город, что подал надежды, будто Филипп сделает все, чего вы хотите, и этим все погубил; что потом, когда другие призывали остерегаться столь бесчестного человека, он его защищал. (334) Вот в чем я обвиняю, запомните это; ведь если бы мир был справедливым и равным, а эти люди ничего такого не совершили и вдобавок не лгали бы, я бы их восхвалял и предлагал увенчать венками. А полководец, даже если в чем против вас провинился, в сегодняшнем, деле ни при чем. Какой военачальник отдал Гал, кто погубил фокидян? И Дориск? И Керсоблепта? И Святую гору? И Фермопилы? Кто открыл Филиппу дорогу вплоть до самой Аттики через земли наших друзей и союзников? Кто отнял у нас Коронею, Орхомен, Евбею? Кто чуть было не упустил недавно Мегары? Кто умножил силы фиванцев? (335) Ни одно из этих мест, столь многих и столь важных, не было потеряно из-за военачальников и не попало в руки Филиппа потому, что вас уговорили уступить их по мирному договору, — нет, из-за Эсхина и прочих они потеряны, из-за их мздоимства! Так вот, если он будет от этого уходить, и увиливать, и говорить что угодно, только не это, возразите ему так: «Дело разбирается не о военачальнике, и суд идет не о том. Не говори, что кто-то другой тоже виновен в гибели фокидян, а докажи, что доля этой вины не лежит на тебе. Зачем, если Демосфен поступил нечестно, ты говоришь об этом сейчас, а не тогда, когда он отчитывался? За одно это тебя по справедливости следует казнить. (336) Не говори о том, как прекрасен и полезен мир: тебя обвиняют не за то, что город его заключил; а попробуй сказать, что этот мир — не постыдный и не позорный, что после этого мы не были многократно обмануты и что все не погибло. Ведь нам уже доказали, что во всем этом виноват ты. Что же ты и посейчас восхваляешь того, кто все это сделал?» Если вы будете так стеречь его, ему нечего будет сказать и незачем наращивать звук и проделывать голосом прочие упражнения.
(337) Наверно, надо сказать и о его голосе: я слышал, что он очень им гордится, как будто сможет победить вас своим актерством. По-моему же, не будет большей нелепости с вашей стороны, чем после того, как он плохо играл Фиестовы страдания и дело под Троей, а вы шиканьем выгоняли его из театра и чуть ли не побивали камнями, так что он наконец отказался выступать третьим актером, обращать внимание на красивый звук его голоса, несмотря на то зло, которое он без счета творил не на сцене, а занимаясь важнейшими общественными делами! (338) Нет, не делайте такой глупости, сообразите, что о красивом голосе надо думать, когда вы испытываете глашатая, — а когда посла и вообще человека, притязающего на общественное дело, то следует убедиться, что он честен, горд вами, но над вами не превозносится, — как я, когда не дорожил Филиппом, а дорожил вашими пленниками и спасал их, не отступаясь; Эсхин же валялся в ногах у Филиппа, пел ему хвалы, а вас презирал. (339) Далее, если вы видите, что сила речи и красота голоса — или другое подобное достоинство достались почтенному человеку, то всем надобно радоваться и помогать ему упражнять их, и тогда это достоинство станет для вас общим благом; а когда оно досталось мздоимцу и подлецу, бессильному перед любой наживой, надо ставить ему препоны и слушать его со злостью, не поддаваясь ему, потому что подлость, прослывшая у вас силой, оборачивается в ущерб городу. (340) Вы видите, каковы те обстоятельства нашего города, благодаря которым Эсхин прославился! Далее, все способности человека так или иначе довлеют себе, — кроме красноречия, которое разбивается, если встречает от вас, от слушателей, противодействие; поэтому слушайте Эсхина как мздоимца и подлеца, не говорящего ни слова правды!
(341) Теперь убедитесь, что, помимо всего прочего, и для наших отношений с Филиппом осуждение Эсхина и прочих будет полезно. Если когда-нибудь ему придет необходимость поступить с нашим городом честно, то он изменит повадку: теперь он предпочитает обманывать большинство и подольщаться к немногим, но если узнает, что эти немногие казнены, то впредь захочет все делать в угоду вам, большинству, властному надо всем. (342) А если он останется при своем нынешнем безудержном бесчинстве, то, осудив этих людей, вы уберете из города на все готовых для него пособников: ведь они совершили столько беззаконий, зная, что могут понести наказание, — что же они сделают, если от вас будет дана им воля? Разве не превзойдут они и Евтикрата, и Ласфена, и любого предателя? (343) Кто, по-вашему, не сделается наихудшим из граждан, видя, как продавшим все и вся достаются деньги, слава, богатства, гостеприимство Филиппа, а людям, показавшим свою честность и еще потратившим деньги, достаются только хлопоты, а от некоторых и вражда и зависть? Да не будет этого! Ни ради славы, ни ради благочестия, ни ради безопасности, ни ради чего нет вам пользы его оправдывать, зато, наказав его, вы всем дадите пример — и согражданам, и всем эллинам.
ЭСХИН О ПРЕДАТЕЛЬСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ
253
(1) Прошу вас, афиняне, соизвольте выслушать мои слова благосклонно, принимая в расчет и великую опасность, и множество вин, в которых должен я оправдываться, и уловки и происки сурового обвинителя, который осмелился призывать вас, присягнувших равно выслушивать обе стороны, чтобы вы даже голоса ответчика не терпели.254 (2) Все это было сказано не в гневе: лжец никогда не гневается на несправедливо оклеветанных им, а правдивые обвинители не препятствуют ответчику взять слово: ведь обвинение получает у слушателей силу не прежде, чем ответчик, защищаясь, окажется бессилен снять с себя возложенные обвинения. (3) Но, я думаю, справедливое слово не порадует Демосфена, не этого домогался он происками, а хотел разжечь ваш гнев. Он обвиняет в мздоимстве, хотя трудно поверить такому подозрению в его устах, — тот, кто старается внушить судьям гнев против мздоимцев, сам должен быть непричастен таким делам. (4) Вот что делалось со мной самим, когда я слушал обвинительную речь Демосфена: никогда не было мне так страшно, как в этот день, никогда не случалось негодовать так, как теперь, и испытывать такую огромную радость. Страшно мне было, да и теперь я еще тревожусь, как бы некоторые из вас, увлеченные коварными и зловредными противопоставлениями, не забыли всего, что знали обо мне. А когда он обвинял меня в пьяном надругательстве над свободной женщиной родом из Олинфа, я негодовал, — до того тяжко мне стало сносить такие наветы. Порадовался же я, когда вы его за этот навет освистали, так как считаю, что это было мне наградой за чистоту и скромность всей моей жизни. (5) Потому я хвалю вас и люблю так сильно, что вы больше верите жизни подсудимых, чем наветам их врагов. Сам я не премину это обвинение опровергнуть: ведь если кто-нибудь из стоящих вокруг — а присутствуют здесь чуть ли не все наши граждане — или из вас, моих судей, поверит, будто я поступил так не то что со свободным человеком, а е кем бы ни было, то, я думаю, мне до конца дней жизнь будет не в жизнь. И если я дальнейшей защитой не докажу, что этот навет лжив, а осмелившийся сказать такое — нечестивец и клеветник, и не станет ясно, что других преступлений за мной также нет, — то покарайте меня смертью. (6) И еще один довод кажется мне странным и весьма несправедливым; его вопрос к вам, можно ли в том же городе, где приговорили к смерти Филократа, который сам себя признал виновным255 и не стал ждать суда, — оправдать меня. Но именно это, я полагаю, должно по справедливости меня спасти: если сам себя признавший виновным и отсутствующий есть преступник, тогда тот, кто вины не признал и выдал себя головой, вверившись законам и согражданам, чужд преступлений.
(7) Касательно остальных обвинений я прошу вас, афиняне, если я что-нибудь пропущу и не упомяну, задать мне вопрос, ясно указав, о чем вы желаете слышать, и не осуждать меня заранее, а выслушать с такой же благосклонностью. Потому что я теряюсь, с чего мне начать, — такой сумбурной была обвинительная речь. Смотрите сами, заслуженно ли я, по-вашему, терплю теперь такое. (8) Ведь это моя жизнь сегодня в опасности, — а в обвинении он больше всего говорил о Филократе, о Фриноне и других участниках посольства, о Филиппе и о мире, о государственных предприятиях Евбула, и за все это в ответе я. Из его речи явствует, что он, Демосфен, — единственный хранитель города, все остальные — предатели; нет таких оскорблений, которыми бы он нас не оскорбил, осыпая бранью и ложью не меня одного, но и всех прочих. (9) И того, кого он так унизил, Демосфен, переменив, когда ему это кстати, весь строй речи, судит вслед за тем, словно Алкивиада и Фемистокла, самых прославленных среди эллинов, обвиняет в том, что я разрушил город у фокидян, отнял у вас и отдал в чужие руки фракийские владения, лишил власти Керсоблепта, друга и союзника нашего города. (10) Он попытался уподобить меня Дионисию, сицилийскому тирану, с великим рвением и шумом призвал вас остерегаться, рассказал сон,256 приснившийся некой жрице в Сицилии. Подняв дело на такую высоту, он пожалел на меня даже клеветы и объявил причиной случившегося не мои речи, а оружье Филиппа. (11) При таком множестве наглых россказней трудно вспомнить по отдельности все, что наговорил этот человек, и опасно отвечать на неожиданные наветы. Я начну с того, в чем полагаю найти самые очевидные, понятные для вас и справедливые доводы: с речей о мире и выбора послов. Так мне легче будет вспомнить и все сказать, а вам — понять.
(12) Я думаю, все вы помните, как послы евбейцев,257 закончив переговоры с народом о мире для своего государства, сказали, что Филипп велел им сообщить вам о его желании окончить с вами войну и жить в мире. В скором времени Фринон из Рамнунта был захвачен разбойниками во время перемирия на Олимпийские игры, как он сам жаловался. А когда он выкупился и прибыл сюда, то попросил у вас выбрать ради него посла к Филиппу, чтобы, если можно, получить выкуп назад. Так как он вас убедил, вы выбрали послом Ктесифонта. (13) Ктесифонт, прибыв сюда из посольства, доложил вам о том, зачем его посылали, и кроме того — что Филипп, как говорит сам, ведет с вами войну против воли и хотел бы сейчас же ее прекратить. Когда он сказал это и вдобавок сообщил о дружелюбии Филиппа, а народ принял известие с большой радостью и хвалил Ктесифонта, причем никто не сказал ни слова против, Филократ из Агнунта предложил постановление и весь народ единодушно проголосовал за то, чтобы Филиппу разрешили отправить сюда вестника и послов для мирных переговоров. Сначала некоторые воспротивились этому, поскольку дело было весьма важно для них, как показало дальнейшее. (14) Они вносят письменную жалобу на противозаконность решения258 и поручают Ликину вести дело, требуя пени в сто талантов. Когда после этого жалоба поступила в суд, Филократ — он был болен — позвал себе защитником Демосфена, а не меня. Демосфен же, этот заклятый враг Филиппа, явившись, потратил на защиту целый день, и в конце концов Филократ был оправдан, а подавший жалобу не получил и пятой части голосов.259 Это вы все знаете. (15) В то же примерно время был взят Олинф,260 и много наших сограждан попало в плен, в их числе Патрокл, брат Эргохара, и Еверат, сын Стромбиха. Их близкие положили на алтарь масличные ветви261 с мольбой позаботиться о пленных. Когда они пришли, их поддержали Филократ и Демосфен, а не Эсхин. Послом к Филиппу был отправлен актер Аристодем, так как тот знал и любил его искусство. (16) Аристодем, прибыв из посольства, был чем-то занят и не явился в совет, так что его опередил вернувшийся из Македонии Патрокл, отпущенный Филиппом без выкупа; и многие пришли в негодование на Аристодема, который не доложил о посольстве, потому что услышали от Патрокла те же самые слова насчет Филиппа. (17) Наконец в совет пришел Демократ из Афидны и убедил вызвать Аристодема, причем одним из членов совета был Демосфен, мой обвинитель. Аристодем, придя, доложил, что Филипп весьма расположен к нашему городу и даже хочет стать союзником Афин. Тут Демосфен ничего не сказал против и предложил наградить Аристодема венком. (18) После таких речей Филократ внес постановление выбрать послами к Филиппу десять человек, чтобы они вели с ним переговоры о мире и об общей пользе для афинян и Филиппа. Когда голосовали за десятерых послов, меня предложил Навсикл, а Демосфена — сам Филократ,262 которого теперь Демосфен обвиняет. (19) Он с таким рвением занимался этим делом, что внес в совет предложение: дабы Аристодем отправился с нами в посольство, не терпя убытков, выбрать послов в город, где Аристодем должен был играть, с просьбами избавить его от денежных взысканий.263 А что все это правда, возьми-ка постановления, и прочти заочное свидетельство Аристодема, и вызови тех, кому он его дал, чтобы судьи знали, кто Филократу товарищ и кто говорил, что убедит народ наградить Аристодема дарами. [Читаются постановления и свидетельство.] (20) Так что начало всем этим делам было положено не мною, а Демосфеном и Филократом.
Во время посольства он постарался стать нашим сотрапезником и уговорил не меня, а бывших со мною Аглаокреонта с Тенедоса, которого вы избрали послом от союзников,264 и Патрокла. А что он утверждает,265 будто я по дороге подстрекал его вместе стеречь эту тварь Филократа, так это выдумки и ложь. Как я мог подстрекать Демосфена против Филократа, если знал, что он защищал Филократа по делу о противозаконном постановлении и в посольство был предложен Филократом? (21) К тому же участникам посольства было не до таких разговоров, так как во все время пути нам приходилось терпеть несносный, тяжелый нрав Демосфена, который, когда мы обсуждали, что нужно говорить, и Кимон высказал опасение, как бы в споре о правах Филипп не взял верх, обещал нам, что отверзнет неиссякаемые источники красноречия и скажет о правах на Амфиполь и о начале войны так, чтобы сразу заткнуть Филиппу рот, и еще убедит афинян вернуть из изгнания Леосфена,266 а Филиппа — отдать афинянам Амфиполь. (22) Чтобы не рассказывать слишком долго о его высокомерии, скажу, что сразу по прибытии в Македонию мы постановили между собой, чтобы у Филиппа первым говорил самый пожилой, а потом остальные по старшинству, младшим же из нас был Демосфен. Когда нас позвали — но тут я прошу у вас особого внимания, так как из сказанного вы увидите его непомерную завистливость, его крайнюю трусость и вдобавок злонравие и узнаете о таких кознях против сотоварищей по трапезе и посольству,267 какие грешно строить злейшим врагам. Он утверждает, будто превыше всего ставит соль нашего города и получаемое от народа пропитание, — а сам он, будем говорить прямо, не здешний и не местный.268 (23) А мы, у кого здесь, в отчизне, находится все: храмы, могилы предков, друзья и знакомцы среди вас, как подобает свободным людям, и законные жены, и свойственники, и дети, — мы, удостоенные в Афинах вашего доверия, а поэтому вами избранные, едва пришли в Македонию, вдруг оказались предателями! Зато он, продавший все тело вплоть до горла, откуда исходит голос, негодует и поносит нас за мздоимство, словно он Аристид,269 за распределение взносов между эллинами прозванный Справедливым. (24) Послушайте же, какие речи произнесли в вашу защиту мы и что сказал Демосфен, этот самый полезный нашему городу гражданин: так я смогу понемногу защититься от каждого обвинения, ничего не пропуская. А вас, судьи, я хвалю выше всякой меры за то, что вы слушаете нас молча и беспристрастно, так что я если не опровергну какое-нибудь обвинение, буду упрекать себя, а не вас.
(25) После того как старшие по возрасту сказали о цели посольства, очередь говорить дошла до нас. Что там было сказано мною, как и ответные слова Филиппа, я подробно доложил на Народном собрании всем афинянам, а теперь постараюсь напомнить вам главное.
(26) Первым делом я рассказал о наследственном благоволении и об услугах, которые вы оказали Аминте,270 отцу Филиппа, ничего не пропустив и вспомнив все без изъятья; затем о той помощи, которую он сам получил от нас и может засвидетельствовать. Когда только что умерли Аминта и Александр, старший его брат, а Пердикка и Филипп были еще детьми, а их мать Евридику мнимые друзья предали, (27) а Павсаний, стремившийся захватить их власть, хотя был в изгнании, но по стечению обстоятельств усилился благодаря многочисленным сообщникам и помощи от греков и взял Анфемунт, и Ферму, и Стрепсу, и многие другие места, у македонян же не было единодумия и большая часть их склонялась к Павсанию, — при этих обстоятельствах афиняне проголосовали отправить Ификрата271 с войском против Амфиполя, где городом и плодами со своих земель тогда владели сами амфиполитанцы.272 (28) Когда Ификрат сперва прибыл в те места с немногими кораблями, больше для наблюдения за событиями, чем для осады города, твоя мать Евридика, сказал я, послала за ним и, как говорят все присутствовавшие, подвела под руки Ификрату твоего брата Пердикку, а тебя, совсем маленького, посадила ему на колени и сказала: «Аминта, отец этих детей, при жизни сделал тебя своим сыном, а Афинскому государству был близким другом, так что тебе как частному лицу должно стать этим детям братом, а как гражданину своего города — быть нашим другом». (29) При этом она настойчиво молила спасти и ее, и вас, и вашу власть, и все вообще. Услышав это, Ификрат изгнал Павсания из Македонии и спас вам престол. Потом я сказал о Птолемее,273 какие он, став опекуном и все возглавив, совершил чудовищные дела и как забыл благодарность, — то есть я разъяснил, что сперва он противодействовал нашему городу, удерживая Амфиполь, а потом сделался союзником фиванцев, несмотря на их рознь с афинянами, и что Пердикка, став у власти, воевал с нашим городом за Амфиполь. (30) Еще я рассказал о том, какое дружелюбие явили вы, обиженные, когда, побеждая Пердикку в войне под предводительством Каллисфена, заключили с ним перемирие,274 все время рассчитывая добиться справедливости. Постарался я также рассеять клевету, разъяснив, что народ казнил Каллисфена не за перемирие с Пердиккой, а за другие вины. И опять-таки я не побоялся говорить против самого Филиппа, упрекнув его за то, что он стал их преемником в войне против нашего города. (31) В доказательство всему, что я говорил, я привел их письма, и постановления народа, и Каллисфеново соглашение о перемирии. Говорить о том, чьим владением изначально была и эта местность, и то, что именуется Девятью Дорогами,275 и о сыновьях Тесея, один из которых, Акамант, получил ее в приданое за женой, тогда было уместно и потому сказано как можно подробней, но теперь, наверно, следует сократить речь. Зато доказательства, которые я брал не из старинных преданий, а из произошедших при вас событий, я вам напомню. (32) Когда собрались спартанцы276 и другие эллины — участники военного союза, Аминта, отец Филиппа, будучи одним из них и послав туда представителя, был волен распоряжаться своим голосом — и проголосовал за то, чтобы вместе с остальными греками помочь афинянам вернуть себе Амфиполь, афинское владение. В доказательство этому я привел государственные записи, подтверждающие, что таково общее решение эллинов, и назвал проголосовавших. (33) А на то, от чего Аминта отказался перед всеми эллинами не только на словах, но и подавши голос, тебе, его сыну, сказал я, притязать несправедливо. Если ты утверждаешь, что тебе положено им владеть как военной добычей, то ты если бы вел войну с нами и взял город оружием, был бы его хозяином по праву войны, но коль скоро ты отнял афинский город у амфиполитанцев, то завладел не их землей, а афинской.
(34) Когда и эта, и другие речи были произнесены, очередь выступать от посольства пришла Демосфену, и мы все навострили уши, ожидая услышать речи небывалой силы, — ведь и самому Филиппу, как мы слыхали после, и его присным было сказано о небывалых обещаниях Демосфена. Итак, когда все были расположены его слушать, это чудовище, мертвое от страха, выговаривает какое-то невнятное вступление, потом, возвратившись вкратце к прежним событиям, умолкает в замешательстве и лишается дара речи. (35) Видя, что с ним творится, Филипп призывает его ободриться и не думать, что он провалился, как актер в театре, а успокоиться и, помаленьку опомнившись, говорить, как он собирался. Но Демосфен в полном смятении сбился с написанного и не смог овладеть собой, так что когда он опять попытался говорить, с ним случилось то же самое. И так как наступило молчание, вестник приказал нам удалиться.
(36) Когда мы, послы, остались одни, этот честнейший Демосфен с весьма сумрачным видом заявил, будто я погубил город и союзников. Когда же не только я, но и все послы удивились и спросили о причине, почему он так сказал, Демосфен спросил меня, неужто я забыл, как у афинян обстоят дела, и не помню, до чего народ истомлен и желает мира. (37) «Откуда такое высокомерие, — сказал он, — не от тех ли пятидесяти кораблей,277 о которых народ принял постановление, но никогда не наберет на них людей? Ты так раздражал Филиппа и говорил такое, что скорее живущие в мире начнут из-за этого войну не на жизнь, а на смерть, чем воюющие помирятся». Когда я начал с ним спорить, слуги Филиппа позвали нас. (38) Когда мы вошли и сели, Филипп стал отвечать на сказанное каждым, но дольше всего он задержался, как следовало ждать, на моих словах, — ведь я, по-моему, не пропустил ничего, что можно было сказать, — и часто в своих речах называл мое имя, а с Демосфеном, под конец насмешившим всех, ни о чем, кажется, не стал и разговаривать. И тому такое огорчение было, все равно что петля на шее. (39) А когда Филипп повел речь весьма дружелюбно и поклеп, который Демосфен возвел на меня перед другими послами, будто по моей вине будут война и распри, сам собой отпал, тут он явно совсем уже вышел из себя, так что даже на пиру, куда нас позвали, держал себя безобразно.
(40) Когда же мы отправились из посольства домой, по дороге он вдруг, вопреки ожиданиям, стал разговаривать с каждым из нас вполне дружелюбно. Раньше я не знал, что такое «керкоп»278 и кого называют оборотнем и перевертышем, а теперь, имея такого наставника, как он, я изучил всяческое злонравие. (41) Обращаясь по очереди к каждому из нас, он одному обещал устроить складчину и помочь из своих собственных средств, другому — сделать его военачальником, а за мной ходил по пятам и, прославляя мой природный дар и восхваляя произнесенные мною речи, был в этих похвалах неумерен и крайне докучал мне. А во время нашего общего обеда в Ларисе он стал смеяться над тем, как сам зашел в своей речи в тупик, и утверждать, что Филипп — самый красноречивый из живущих под солнцем людей. (42) Когда я высказался в том же роде и заметил, что Филипп оказался весьма памятливым к сказанному нами, а самый старший из нас, Ктесифонт, сославшись на свой более чем преклонный возраст и число прожитых лет, добавил, что за всю долгую жизнь не видал такого приятного и любезного человека, (43) этот Сизиф, всплеснув руками, сказал: «Этого, Ктесифонт, ты не скажешь народу, и он, — Демосфен имел в виду меня, — не осмелится сказать афинянам, что Филипп речист и памятлив». Так как мы были невнимательны и не предвидели его злого умысла, о котором вы сейчас услышите, он уговорил нас заключить с ним условие, что мы все это вам скажем. А меня он просил самыми настойчивыми просьбами, чтобы я не преминул сказать, будто и Демосфен говорил в защиту Амфиполя.279
(44) До сих пор свидетели мне — участники посольства, которых — он в обвинительной речи осыпал поношениями и поклепами: речи, произнесенные перед вами с возвышения,280 вы слышали сами, так что мне нет возможности лгать. Правда, мне ясно, что каждый из вас жаждет услыхать насчет Керсоблепта и вины за случившееся с фокидянами, и я сам к этому спешу, но если вы не выслушаете, что было раньше, то не сможете точно так же следить и за этими делами. А если вы дадите мне, ответчику, говорить, как я хочу, то сможете, имея веские основания, спасти меня, если я ни в чем не виноват, и рассмотреть все разногласия, исходя из того, в чем все согласны.
(45) Когда мы пришли сюда, доложили в главных чертах совету об исполнении посольства и передали письмо Филиппа, главным нашим хвалителем перед членами совета был Демосфен, который поклялся Гестией281 Советной, что она радуется за наш город, отправивший в посольство таких мужей, которые верностью долгу и речами были достойны Афин. (46) Обо мне же он сказал в таком роде, что я не обманул надежд тех, кто избрал меня в посольство. В конце концов он внес предложение увенчать каждого из нас лавровым венком за преданность народу и пригласить назавтра на обед в Пританей. А что я ни в чем вам не солгал, то пусть письмоводитель возьмет постановление и прочитает показания членов посольства. [Читаются постановления и показания.] (47) Далее, когда мы докладывали о посольстве народу, первым из нас выступил как старший возрастом Ктесифонт и среди прочего говорил о том, о чем условился сказать с Демосфеном: о Филипповом обхождении, о его наружности и веселости за вином. После него коротко говорили Филократ и Деркил, потом выступил я. (48) Подробно рассказав о посольстве, я приступил к тому, о чем мы договорились с другими послами, и сказал, что в речи Филиппа были памятливость и сила; не забыл я и просьбы Демосфена упомянуть, что ему было поручено говорить в защиту Амфиполя, если мы что-нибудь упустим. (49) Последним за всеми нами выступает Демосфен и, по обыкновению приняв чудной вид и потеряв голову при виде того, с каким одобрением народ принимает мои слова, заявляет, что удивляется и тем и другим, и слушателям и послам, как они, упустив срок одни — для того, чтобы посоветоваться, другие — чтобы дать совет, с таким удовольствием тратят нужное для афинских дел время на болтовню о чужеземных делах, между тем как легче всего отчитаться после посольства. (50) «Я хочу, — сказал он, — показать вам, как должно идти дело». При этом он велел прочесть постановление народа.282 Когда его прочли, он сказал, что «в соответствии с ним мы были посланы и добивались того, о чем здесь написано. Возьми-ка теперь письмо, которое мы привезли от Филиппа». Когда оно было прочитано, он заявил: «Ответ вы получили, а об остальном нужно посовещаться вам самим». (51) Когда некоторые зашумели на это, одобряя его красноречие и краткость, а большинство — порицая его зависть и низость, он сказал: «Смотрите, как кратко я вам доложу и обо всем остальном. Эсхину Филипп показался искусным в речах, а мне — нисколько, ведь если отнять у Филиппа высокий сан и облечь им другого, он окажется ничуть не плоше. (52) Ктесифонту также наружность его показалась блистательной, а по мне так актер Аристодем нисколько не хуже». (Он был вместе с нами и участвовал в посольстве.) «Кто-то еще говорил,283 что Филипп памятлив, — но памятливы и другие; и что Филипп силен в выпивке, — но Филократ, что был с нами, еще сильнее. Говорил он также, что на мою долю оставили речь в защиту Амфиполя, но этот краснобай ни за что не дал бы сказать ни вам, ни мне. (53) Однако это все пустые слова, а вношу я такое предложение: заключить договор с пришедшим от Филиппа вестником и с имеющими прийти от него сюда послами, а очередным председателям, когда явятся послы, назначить двухдневное Народное собрание для совета не только о мире, но и о военном союзе, а нас, послов, если сочтут достойными, пусть похвалят и пригласят на завтра к обеду в Пританей». (54) А что я говорю правду, возьми-ка постановления, чтобы вы, судьи, знали переменчивость Демосфена, его завистливость, его сообщничество с Филократом и его нрав, злокозненный и вероломный. Позови мне также наших сотоварищей по посольству и прочти их показания и Демосфеновы постановления. [Читаются постановления.] (55) Далее, он предложил не только это, но потом, когда пришли послы от Филиппа, добился в совете, чтобы им на Дионисии284 были отведены в театре места. Прочти и это постановление. [Читается постановление]. Прочти также показания наших сотоварищей по посольству, чтобы вы, афиняне, знали, что Демосфен в защиту города ничего не способен сказать, зато держит умысел на людей, с которыми делил трапезу и вместе творил возлиянья. [Читаются показания.]
(56) Итак, вы обнаружили, что в хлопотах о мире сообщником Филократа был не я, а Демосфен, — ведь я, по-моему, представил вам веские доказательства сказанному. Что касается наших докладов, тут вы сами мне свидетели, а свидетелями тому, что говорилось в Македонии и что случилось по дороге, я представил вам членов посольства. Вы сами слышали и помните только что произнесенную обвинительную речь Демосфена, которую он начал с моего выступления о мире. (57) Так как все сказанное в этой части обвинения ложь, то он весьма негодовал по поводу сроков. Ведь он утверждал, будто эти речи были сказаны в присутствии направленных к вам по приглашению народа послов от всех эллинов, чтобы в случае нужды им либо воевать заодно с афинянами против Филиппа, либо также заодно заключить мир, если это будет признано полезным. Посмотрите, каков в этом деле обман и до чего бесстыден этот человек. (58) Что до тех послов, которых вы разослали по Греции, еще когда вели войну с Филиппом, то время их избрания, время отбытия, их имена — все занесено в государственные записи, да и сами они не в Македонии, а в Афинах. Иноземным же посольствам дается доступ в Народное собрание решением совета, он же утверждает, что посольства от греков присутствовали здесь. (59) Взойди-ка, Демосфен, на это возвышение и хоть за счет моего времени285 назови имя любого греческого города, откуда, по-твоему, пришли послы, и дай прочесть решение о них из дел совета, и позови свидетелями афинских послов, которых мы отправили в эти города! Если они засвидетельствуют, что были здесь, а не в отсутствии, когда город заключил мир, и если ты докажешь, что они допускались в совет и постановления принимались именно тогда, когда ты говоришь, то я схожу прочь и признаю себя достойным казни.
(60) Прочти-ка еще решение союзников, что оно гласит. В нем ясно написано, что поскольку афинский народ совещается о заключении мира с Филиппом, а послы, которых народ разослал по Греции пригласить города на совет о свободе греков, еще отсутствуют, то союзники решают, чтобы очередные председатели после возврата послов и докладов афинянам и союзникам о посольствах назначили два Народных собрания и на них афиняне совещались бы о мире; то, что будет угодно народу, станет общим решением союзников. Прочти также решение членов совета. [Читается решение.] (61) И еще прочитай предложение Демосфена, где он требует у председателей назначить после городских Дионисий и после собрания в театре Диониса286 два собрания, одно на восемнадцатое, другое на девятнадцатое число, определяя время и торопя созыв собраний, чтобы не успели вернуться послы от эллинов. При этом решение союзников — которое я, по правде сказать, поддерживал — требует, чтобы вы совещались только о мире, Демосфен же требует, чтобы и о союзе. Прочти им предложение. [Читается предложение.] (62) Вот вы, афиняне, слышали оба предложения, которые уличают Демосфена, утверждавшего, что бывшие в отсутствии послы находились в Афинах, и лишившего силы решение союзников, хотя вы и желали их послушаться. Некоторые люди заявляли, что надобно городу дождаться греческих посольств, но Демосфен, который всех быстрей и бесстыдней готов переметнуться, помешал ждать не только словом, но и делом и предложением, настояв, чтобы началось обсуждение.
(63) Он говорил, будто на первом собрании287 после речи Филократа я выступил вслед и порицал такой мир, который тот навязывал, называя его позорным и недостойным города, а на следующий день поддержал Филократа и удалился с собрания, добившись успеха, так как убедил вас не обращать внимания на говорящих о сражениях и победных памятниках предков и не помогать эллинам. (64) То, в чем меня обвинил Демосфен, не только ложь, но и вообще вещь невозможная, первое свидетельство этому — показания Демосфена против самого себя, второе — память ваша и всех афинян, третье — неубедительность жалобы, четвертое — слова Аминтора, почтенного человека, одного из руководителей государства, которому Демосфен показывал свое предложение и спрашивал совета, давать ли писцу то же самое, что написал Филократ, вместо того чтобы предлагать ему наперекор. (65) Возьми и прочитай постановление Демосфена, из него станет очевидно, что на первом собрании он написал, чтобы высказывал свое суждение каждый желающий, а на втором — чтобы девять председательствующих поставили поданные мнения на голосование, слова же никому не давали. На этом собрании я, по его словам, поддерживал Филократа. [Читается постановление.] (66) Итак, постановления остаются такими, какими были написаны изначально, а речи сутяг произносятся по обстоятельствам дня. Обвинитель приписывает мне две речи, а постановление и истина — одну: ведь на втором собрании, когда председательствующие не давали слова, выступать было невозможно. И ради чего бы я, даже если бы предпочитал то же самое, что Филократ, на первом собрании стал бы его обвинять, а ночь спустя защищать перед теми же слушателями? Чтобы самому стяжать добрую славу или чтобы помочь ему? Но ни то, ни другое было невозможно: нет, от всех я заслужил бы ненависть и ничего бы не добился.
(67) Позови мне Аминтора из Эрхий и прочти его показания. Я хочу подробно изложить вам, каким образом было написано предложение. Аминтор свидетельствует Эсхину: когда народ совещался о мире и союзе с Филиппом по предложению Демосфена, на втором собрании, когда нельзя было выступать, а только подавали голоса за или против мира и союза, (68) на этом собрании Демосфен, подсев к Аминтору, показал ему постановление, подписанное именем Демосфена, и советовался, дать ли его председательствующим для голосования, а условия, на которых он предлагал заключить мир и союз, были те же самые, какие предлагал Филократ. Позови же мне эрхийца Аминтора и приведи его, если он не явится по доброй воле. [Читается показание.] (69) Вы слышали свидетельство, афиняне, смотрите же, меня ли, по вашему мнению, обвинил Демосфен или, наоборот, самого себя? Коль скоро он извращает клеветой мою речь и толкует к худшему мои слова, я не стану ни увиливать, ни отпираться, потому что не стыжусь сказанного мною, а горжусь им.
(70) Хочу напомнить вам и те обстоятельства, при которых вы совещались. Мы начали войну из-за Амфиполя, но в войне нашему полководцу288 пришлось отдать семьдесят пять союзных городов, которые и присоединил к союзу Тимофей, сын Конона. Я предпочитаю говорить откровенно, чтобы свободное и правдивое слово меня спасло, а если вы полагаете иначе, то казните меня, я не уклонюсь. (71) Как вам доказывали обвинители во время нескончаемых судов над Харетом, с верфей было взято сто пятьдесят судов и не возвращено назад, а тысяча пятьсот талантов была истрачена не на войска, а на обманные действия полководцев Денара, Деипира и Полифонта,289 на собравшихся со всей Эллады бродяг, не говоря уже о наемниках, которые, входя на возвышение в Народном собрании, требовали ежегодно с несчастных островитян по шестьдесят талантов дани и захватывали корабли и эллинов на принадлежавшем всем море. (72) Вместо прежнего почета и первенства среди эллинов наш город заслужил такую же славу, как Мионнес, убежище морских разбойников; а Филипп, двинувшись из Македонии, сражался с нами уже не за Амфиполь, а за Лемнос, Имброс и Скирос, наши собственные владения, и даже Херсонес, всеми признанный афинским, был покинут нашими гражданами, и вы от страха и смятения вынуждены были созывать Народные собрания чаще, чем полагалось по закону.290 (73) Положение было столь непрочно и опасно, что пеаниец Кефисофонт, один из друзей и приятелей Харета, принужден был написать предложение, чтобы Антиох, стоявший во главе вспомогательного флота, отплыл как можно скорее на поиски нашего главного военачальника291 и, если найдет его, сказал ему, что афинский народ удивляется, как это Филипп двигается на афинский Херсонес, а афиняне даже не знают, где находится военачальник и войска, посланные ими. Что я говорю правду, убедитесь из этого предложения, вспомните войну и требуйте к ответу за мир военачальников, а не послов.292 [Читается предложение.]
(74) Таковы были обстоятельства нашего государства, когда велись переговоры о мире, — и между тем заранее подученные ораторы, выступая, не пытались даже говорить о спасении государства, а призывали вас взглянуть на Пропилеи Акрополя и вспомнить о битве с персами при Саламине, о могилах предков и победных памятниках.293 (75) Я соглашался, что все это надобно помнить, но подражать благоразумию предков, и остерегаться их оплошностей и неуместной жажды побеждать, и призывал соперничать со сражавшимися против персов при Платеях, совершавшими подвиги у Саламина, в Марафонском бою и в морской битве при Артемисии, с военачальником Толмидом, который, имея тысячу отборных афинян, бесстрашно прошёл насквозь половину враждебного Пелопоннеса, (76) но опасаться повторить Сицилийский поход, когда мы послали помощь леонтинцам в то время, как враги вторглись в нашу страну и укрепили Декелею, и остерегаться повторить их последнее безрассудство, когда, побежденные в войне, они не пожелали ничего сделать, хотя сами спартанцы предлагали заключить мир,294 оставить за Афинами, кроме Аттики, Лемнос, Имброс и Скирос и сохранить в городе народовластие и прежние законы, и сами выбрали войну, на которую не имели сил, а Клеофонт, делавший лиры, которого многие помнили скованным по ногам за то, что он постыдным образом вписался в число граждан, подкупив народ раздачей денег, угрожал перерезать мечом горло всякому, кто упомянет о мире. (77) В конце концов город довели до того, что с радостью заключили мир, отказавшись от всего, срыв стены, приняв вражеский гарнизон и спартанского наместника, отменив народовластие в пользу тридцати тиранов, которые без суда казнили полторы тысячи граждан. Такого безрассудства я призывал остерегаться, не спорю, а перечисленному раньше — подражать. Ведь обо всем этом я узнал не от чужих людей, а от того, кто мне ближе всех.295 (78) Наш отец Атромет, которого ты поносишь, не зная и не видев, каким он был в молодости, — поносишь, Демосфен, хотя сам по матери ведешь род от кочевых скифов, — при тридцати тиранах оказался в изгнании, а потом содействовал возвращению народа к власти. И брат нашей матери, наш дядя Клеобул, сын Главка из Ахарны, вместе с Демениппом, из рода Бузигидов, победил в морском бою Хилона,296 возглавлявшего спартанский флот, — так что я в родном доме привык своими ушами слышать о бедствиях города.
(79) Ты ставишь мне в вину также речь,297 которую я как посол произнес в Аркадии перед десятью тысячами, и утверждаешь, будто я переметнулся, хотя сам ты раб по своей низости и чуть ли не клейменый перебежчик. Да, во время войны я старался, насколько возможно, подстрекнуть аркадян и других греков против Филиппа: ведь ни один человек не помогал нашему городу, одни выжидали, что произойдет, другие воевали с нами,298 а здесь, в городе, наши краснобаи сделали из войны повседневный источник дохода, — поэтому я, не спорю, советовал народу прекратить войну с Филиппом и заключить мир, который ты, никогда не прикасавшийся к оружию, зовешь теперь позорным, а я считаю, что он намного лучше войны. (80) Послы должны смотреть, афиняне, на обстоятельства, когда отправляется посольство, а военачальники — на те силы, которыми предводительствуют. Вы ставите статуи, награждаете почетными местами в театре, венками, обедами в Пританее не тех, кто сообщит вам о заключении мира, а победителей в сражениях. Но если за войну придется держать ответ послам, а дары получать полководцам, то воевать вам предстоит без договоров и без посредников, потому что никто не захочет отправляться послом.
(81) Остается сказать о Керсоблепте, о фокидянах и обо всем остальном, в чем я был оклеветан. Я, афиняне, и в первом посольстве, и во втором доложил вам о том, что видал, как видал, и что слыхал, как слыхал. Каково же было и то, что я видел, и то, что я слышал насчет Керсоблепта? И я, и остальные послы видели, что сын Керсоблепта в заложниках у Филиппа, — это по сей день так. (82) Случилось так, что, когда мыс сотоварищами возвращались сюда после первого посольства, Филипп выступил во Фракию, хотя и договорился с нами не наступать с оружием на Херсонес, пока вы будете совещаться о мире. И в тот день, когда вы постановили заключить мир, не было даже упомянуто о Керсоблепте. Лишь когда уже проголосовали, что мы отправимся принимать присягу, но в путь мы еще не выехали, состоялось Народное собрание, где по жребию пришлось быть председательствующим Демосфену, моему нынешнему обвинителю. (83) На этом собрании Критобул из Лампсака, вышедши вперед, сказал, что его прислал Керсоблепт, и пожелал дать присягу послам Филиппа, чтобы Керсоблепта записали в число наших союзников. После такой речи пелекиец Алексимах подает председательствующим предложение, чтобы вместе с другими союзниками клятву Филиппу дал пришедший от Керсоблепта. (84) Когда предложение было прочитано, — я полагаю, вы все это помните, — из числа председательствующих встал Демосфен и сказал, что не поставит предложения на голосование, не позволит нарушать мир с Филиппом и не признает тех союзников, которые как будто примазываются к чужому жертвоприношению: ведь на то отведено особое собрание. Когда же вы закричали, требуя на возвышение остальных председательствующих, он против воли поставил предложение на голосование. (85) А что я говорю правду, позови мне внесшего предложение Алексимаха и тех, кто председательствовал вместе с Демосфеном, и прочти их показания. [Читаются показания.] Значит, Демосфен, который недавно лил тут слезы, вспоминая о Керсоблепте, не принимал его, как выясняется, в союзники! Когда же собрание распустили, послы Филиппа стали принимать от союзников присягу у вас же, в палате военачальников. (86) Мой обвинитель осмелился сказать вам, будто я прогнал от жертвенника Критобула, Керсоблептова посла, хотя присутствовали все союзники, народ принял постановление и тут же сидели все военачальники, — да откуда во мне такая сила? И как о таком деле могли молчать? А если бы я осмелился сделать такое, — как ты, Демосфен, допустил это, почему не стал кричать и вопить на всю площадь, видя, что я, как ты недавно говорил, отталкиваю от жертвенника посла? Пусть-ка глашатай позовет военачальников и тех, кто участвовал в собрании от союзников, а вы послушайте их показания. [Читаются показания.]
(87) Разве не страшно, афиняне, — если кто-то дерзает возвести столько напраслины на гражданина — и, добавлю во уточнение, не своего гражданина, а вашего, — когда тому грозит смертельная опасность? Разве неправильно установили наши предки, чтобы в делах об убийстве, разбираемых у Палладия,299 получивший большинство голосов давал при жертвоприношении клятву (этот отеческий обычай сохраняется у вас и теперь), что все голосовавшие за него судьи поступили по правде и справедливости, а он сам не сказал ни слова лжи, если же не так, то призывал бы на себя и свой дом погибель, а судьям вымаливал множество благ? Правильно и на пользу городу, афиняне! (88) Если никто из вас не желает взять на себя бремя законного убийства, то тем более вы остережетесь незаконно отнять жизнь, достояние, честь, — ведь из-за этого некоторые сами лишили себя жизни, а иные были казнены государством. Так неужели вы, афиняне, не отнесетесь со снисхождением к тому, что я обозвал его блудодеем, у которого нет на теле чистого места вплоть до уст, откуда исходит голос, если я со всей очевидностью докажу, что и все остальные его обвинения по поводу Керсоблепта — тоже ложь?
(89) Одно дело делается у вас, по-моему, прекрасное и полезное для оклеветанных: вы навсегда сохраняете в государственных записях сроки, постановления и имена предложивших. Он, Демосфен, сказал вам, будто дело Керсоблепта погублено тем, что я, будучи главой посольства и пользуясь у вас влиянием, не последовал его призыву отправиться во Фракию, где был осажден Керсоблепт, и заклинать Филиппа не делать этого, а сидел вместе с другими послами в Орее и старался набрать гостеприимцев. (90) Но узнайте из письма Харета, которое он тогда отправил народу, что Керсоблепт утратил власть, а Филипп взял Святую гору накануне седьмого числа месяца элафеболиона, Демосфен же, один из послов, председательствовал в Народном собрании в том же месяце, но накануне шестого числа. [Читается письмо.] (91) Мы не только зря потратили остальные дни этого месяца, но отправились в путь в мунихионе.300 Свидетелем этого я представлю вам совет: есть его постановление, приказывающее послам выехать для принятия присяги. Прочти-ка постановление совета. [Читается постановление.] Прочти также, когда оно было принято. [Читаются сроки.] (92) Вы слышите, что постановили третьего мунихиона. А за сколько дней до того, как мы выехали, лишился власти Керсоблепт? Как говорит в письме полководец Харет, еще в предыдущем месяце, если перед мунихионом идет элафеболион. Так мог ли я спасти Керсоблепта, если он погиб еще до моего отъезда из дому? И вы думаете, что он, Демосфен, говорил правду о происходившем в Македонии или в Фессалии, — он, извращающий государственные записи из хранилища совета и сроки народных собраний? (93) Неужели же ты того Керсоблепта, которого исключил из перемирия, председательствуя в Афинах, пожалел в Орее? Неужели это ты обвиняешь в мздоимстве, хотя только что сам уплатил наложенную Ареопагом пеню301 за то, что подал жалобу за нанесение раны на пеанийца Демомела, своего родича, и не стал его преследовать по суду, так как это ты сам себе рассек голову? И ты ли произносишь пышные речи, как будто неизвестно, что ты незаконный сын302 оружейника Демосфена?
(94) Ты пытался утверждать,303 что я, отказавшись под клятвой, противозаконно принял участие в посольстве к амфиктионам,304 и одно постановление прочел, другое пропустил. Я, будучи избран послом к амфиктионам, но захворав, с готовностью доложил о том посольстве, из которого прибыл к вам, а от следующего отказался, но обещал принять в нем участие, если буду в силах, в совет же я при отправлении моих сотоварищей прислал брата, племянника и врача не затем, чтобы отказаться, — (95) закон не позволяет тем, за кого проголосовал народ, давать в совете клятву с отказом, — но чтобы сообщить о моей болезни. Когда же сотоварищи, узнав, что произошло с фокидянами, возвратились, то я, оправившись телом, присутствовал на состоявшемся Народном собрании, и после того, как народ заставил нас, избранных прежде, все равно отправляться послами, я счел, что афинян нельзя обманывать.
(96) Ты и не обвиняешь меня за то первое посольство, в котором я отчитался, но переходишь к посольству, отправленному принимать присягу, — и тут я буду защищаться внятно и по справедливости. Тебе, как и всем лжецам, пристало перепутывать сроки, а мне — говорить последовательно, начав речь с путешествия для принятия присяги.305 (97) Во-первых, хотя нас было десять послов и одиннадцатый от союзников, никто во время второго посольства не хотел есть с ним за одним столом и по пути останавливаться, если была возможность, на одном постоялом дворе, так как еще в первом посольстве видели те козни, которые он всем строит. (98) О том, чтобы направиться во Фракию,306 даже не упоминалось: это не было предписано нам постановлением, наказ был только принять клятвы и сделать еще что-то, а когда мы прибыли, сделать ничего нельзя было, потому что с Керсоблептом случилось уже то, о чем вы сейчас слыхали, а он, Демосфен, не говорит правды, лжет и, так как не может обвинять по правде, морочит вас. (99) Демосфена сопровождали двое и несли два мешка. В одном из них, как он сам говорил, был талант серебра. Поэтому сотоварищи стали вспоминать его постыдные клички: ведь мальчишкой он за бесстыдное поведение и разврат был прозван «Бабень», потом, когда вышел из детского возраста и вчинил каждому из своих опекунов иск на десять талантов, его прозвали Гадюкой, а став взрослым, он получил кличку, обычную для подлецов: ябедник. (100) Шел он с тем, чтобы выкупать пленных, как говорил и нам и вам недавно, хотя знал, что даже во время войны Филипп ни разу не взял выкупа с афинянина, слышал от всех его друзей, что в случае заключения мира он отпустит и остальных, и хотя, несмотря на множество попавших в беду, взял с собой только талант, которого хватило бы на выкуп одного человека, да и то не самого зажиточного. (101) Когда мы в Македонии собрались вместе и узнали о возврате Филиппа из Фракии, то было прочитано постановление, по которому нас отправили послами, а пересчитано все, что предписывалось нам помимо принятия клятв, и так как никто не помянул о главном, но беседу вели о делах менее важных, я сказал слова, которые необходимо пересказать вам. (102) Во имя всех богов, судьи, выслушайте мою защиту так же чинно, как слушали обвинение, что бы ни вздумалось говорить моему обвинителю, и сохраните то же расположение ко мне, с каким выслушивали с самого начала то, что было уже сказано! Как я сейчас изложил, афиняне, я сказал собравшимся послам, что, по моему мнению, они наихудшим образом пренебрегают самым главным наказом народа. (103) «Принять клятвы, поговорить об остальном, замолвить слово за пленных — все это, я думаю, сделали бы даже рабы, если бы город послал их и облек доверием; а дело мудрых послов — правильно обсудить все, что касается нас и Филиппа. Я имею в виду поход его на Фермопилы, который, вы видите сами, уже подготавливается. А что я сужу об этом деле верно, в том я представлю вам неоспоримые улики. (104) Здесь находятся послы из Фив, придут и из Спарты, явились мы с постановлением народа, в котором записано: «И в остальном послам добиваться наилучшего, чего только смогут». Все эллины смотрят, что же будет. Если бы народ полагал, что лучшее для него — откровенно объявить Филиппу, чтобы он сбил с фиванцев спесь и отстроил стены у беотийцев,307 то в постановлении потребовали бы этого, а так афиняне оставили за собой возможность сослаться на его неясность, если мы не убедим Филиппа, и решили, что взять на себя опасность должны мы. (105) Тем, кто стремится к общественным делам из честолюбия, не следует занимать места других послов, которых афиняне могли бы отправить вместо нас, а нам нужно избежать вражды с фиванцами, один из которых, Эпаминонд, не оробев перед великой славой афинян, прямо сказал перед толпой фиванцев, что Пропилеи афинского Акрополя следует перенести и поставить перед Кадмеей».308 (106) Посреди этой моей речи Демосфен начинает громко вопить, — об этом известно всем участникам посольства, — а он, помимо прочих своих пороков, еще привержен Беотии.309 Сказано им было вот что: «Человек этот исполнен сумбурной дерзости, а я, не спорю, кроток и загодя боюсь того, что страшно, потому советую не встревать между городами и не затевать нам, послам, ничего лишнего: это я и полагаю наилучшим. (107) Филипп идет на Фермопилы, а я закрываю на это глаза. За поход Филиппа меня судить не будут, а будут, если я скажу, чего не следует, или сделаю, чего мне не предписывали». В конце концов послы постановили просить каждого, чтобы он ответил, что считает полезным. А что я говорю правду, позови участников посольства и прочти их показания. [Читаются показания.]
(108) Далее, афиняне, когда посольства собрались в Пеллу, прибыл Филипп и глашатай позвал афинских послов, то мы выступали не по старшинству, как в первом посольстве, что тогда было одобрено некоторыми людьми и явно послужило к чести города, а по бесстыдству Демосфена. Ибо он, признавая себя самым младшим, заявил, что не уступит первой очереди говорить и не допустит, чтобы кто-нибудь (намекал он на меня) завладел слухом Филиппа и не дал другим сказать ни слова. (109) Начав говорить, он первым делом наклеветал на сотоварищей-послов, что, мол, не все мы пришли ради одного и того же и держимся единого мнения, затем подробно перечислил услуги, оказанные им Филиппу: во-первых, рассказал, как поддержал предложение Филократа, когда тот, написав, что Филиппу можно прислать послов для переговоров о мире, был привлечен к ответу за нарушение закона, во-вторых, прочитал написанное им самим предложение заключить договор с вестником и послами Филиппа, в-третьих, вспомнил, что народ совещался о мире в назначенные им дни. (110) К сказанному он добавил также выдумку, будто заставил замолчать противников мира, и не словами, а сроками. Затем он напомнил еще одно предложение — о том, чтобы народ обсудил также военный союз; а после и о том, чтобы послам Филиппа были отведены в театре на Дионисиях передние места, — (111) и еще он добавил, что заботился о них, клал им подушки, охранял их и не спал ночами из-за завистников, желавших надругаться над его рвением. А потом стал говорить и совсем смехотворные вещи, так что его сотоварищи закрыли от стыда лица: как он угощал Филипповых послов, как при отъезде нанял им парные упряжки мулов и сам провожал их верхом на коне, и не прячась в темноте, как некоторые, а явно показывая всем свою заботу. (112) И сказанное310 вам он всячески поправлял: «Я не сказал, как ты красив, ибо самое красивое существо — это женщина; и как ты силен в выпивке, — я полагаю, что такая похвала больше пристала губке; и как ты памятлив, — я считаю, что за это надо превозносить софиста, трудами зарабатывающего на жизнь». Короче сказать, он говорил в присутствии послов, можно сказать, от всей Эллады такое, что недаром все стали смеяться.
(113) Когда он кончил и наступило молчание, после такой непристойной и непомерно льстивой речи пришлось говорить мне. Сначала мне невозможно было хотя бы кратко не упомянуть о клевете, которую он возвел на послов, и сказать, что афиняне отправили нас в посольство не затем, чтобы мы выгораживали самих себя, но что дома, видя нашу жизнь, нас признали достойными представлять город. (114) В немногих словах я сказал о присяге, принять которую мы явились, и перечислил остальные ваши наказы: ведь безудержно болтливый Демосфен даже не вспомнил о самом необходимом, так что я сказал и о походе на Фермопилы, и о святилищах, и о Дельфах, и об амфиктионах и настоятельно просил Филиппа навести там порядок не оружием, а голосованием и судом, а если это невозможно (ясное дело, невозможно, притом что войско собралось и находилось тут же), тогда, говорил я, тому, кто намерен вести речь о всегреческих святынях, надлежит особенно печься о благочестии и со вниманием слушать наставляющих его в отеческих обычаях. (115) При этом я с самого начала рассказал об основании святилища и о первом сходбище амфиктионов и прочитал клятвы, которыми амфиктионы прежних времен клялись не разорять ни единого города из их числа, не лишать его воды ни в дни войны, ни в дни мира, а кто преступит запрет, на того идти походом и поднять города, а кто разграбит достояние бога или станет в чем соучастником или замыслит против святилища зло, того наказывать оружием, походом, словом и всяческой силой; к клятве этой присовокуплялось грозное проклятие. (116) Прочитав это, я во всеуслышанье заявил, что по справедливости нельзя не замечать разрушенных городов Беотии! А что они тоже принадлежали к амфиктионам, допущенным к клятве, я перечислил двенадцать племен, связанных со святилищем: фессалийцы, беотийцы (а не одни фиванцы!), дорийцы, ионийцы, перребы, магнеты, долопы, локры, этейцы, фтиотийцы, малидяне и фокидяне. Я указал на то, что все племена — как самое большое, так и самое маленькое — имеют равное число голосов, пришедшие из Дория или Китиния311 равномочны со спартанцами, так как у каждого племени два голоса, ионийцы из Эретрии и Приены — с афинянами, и то же самое остальные племена. (117) Начало похода, заявил я, было благочестиво и справедливо, когда же амфиктионы собрались в святилище312 и, спасенные вновь обрели право голоса, то изначально виновных в захвате святилища должна постигнуть кара, — этого я требовал, — но отнюдь не их города, а самих осуществивших дело и задумавших; государства же, если они выдадут на суд преступников, наказывать не следует. «Если ты, выступив с войсками, поддержишь беззакония фиванцев, то не будет тебе благодарности от тех, кому ты шел на помощь, потому что тебе не под силу сделать им столько добра, сколько раньше афиняне,313 о чем они забыли, а кого ты оставишь без помощи и тем обидишь, станут тебе не друзьями, а злейшими врагами». (118) Чтобы мне не тратить времени, подробно пересказывая вам произнесенные там речи, я закончу, так как главное обо всем сказано. Дела были во власти судьбы и Филиппа, а в моей власти — преданность вам и слова. Мною было сказано все, чего требовали справедливость и ваша польза, а вышло не по нашим молитвам, а по делам Филиппа. Кто же заслуживает доброй славы: тот ли, кто и не подумал сделать ничего хорошего, или тот, кто не упустил ничего из того, что было в его силах? Но теперь по краткости времени я многое пропускаю.
(119) По его словам, я солгал вам,314 утверждая, будто Фивы будут за несколько дней усмирены, и пугал евбейцев, внушив вам напрасные надежды. Поймите же, афиняне, что он делает! Я перед Филиппом требовал, а вам по возвращении докладывал, что по справедливости, как я считаю, Фивы должны быть беотийскими, а не Беотия фиванской. Об этом я доложил, а он говорит, что я обещал! (120) Я сказал вам, что евбеец Клеохар удивлялся вашему внезапному единодушию с Филиппом и еще постановлению, в котором вы наказывали нам сделать ко благу все, что мы сможем: ведь таких, как он, граждан малых городов пугает все, что большие города не высказывают прямо. Демосфен же утверждает, будто я не рассказывал вам об этом, я обещал, что Евбея будет вам передана! Между тем я полагал, что ни одно слово, сказанное в Элладе, не должно миновать ваших ушей, коль скоро вы намерены обсуждать ее дела.
(121) Демосфен, толкуя тут о том и о сем, клеветал, будто мы с Филократом помешали ему, когда он хотел доложить вам правду. А я с радостью спрошу вас: бывало ли, чтобы отправленному афинянами послу помешали доложить народу о делах посольства и чтобы обиженный и оскорбленный сотоварищами внес предложение похвалить их и пригласить к обеду? А вот Демосфен, возвратившись из второго посольства, которое, по его словам, погубило все эллинское дело, не только похвалил нас в постановлении, (122) но и тогда, когда я отчитывался перед народом в сказанном об амфиктионах и о беотийцах, причем не так кратко и поспешно, как сейчас, а насколько возможно слово в слово, и народ весьма меня одобрял, я же вызвал его вместе с остальными послами и спросил, правдиво ли я докладываю афинянам о том, что говорил Филиппу, а наши сотоварищи в своих показаниях все хвалили меня, — он, встав после всех, заявил, что там я говорил не так, как здесь, а вдвое лучше. И вы все, кому предстоит подать обо мне голос, будьте мне в этом свидетелями. (123) А мог ли представиться ему лучший случай тотчас же изобличить меня, если я обманывал город? Как ты утверждаешь, в первом посольстве от тебя укрылось, что я пошел против государства, а заметил ты это во втором, — когда сам явно меня поддерживал! Обвиняя первое посольство, ты говоришь, что обвиняешь не его, а то, которое отправилось принимать присягу. Но если ты порицаешь мир, то ты сам предлагал заключить еще и союз; и если Филипп в чем обманул наш город, то лгал он, чтобы добиться выгодного ему мира. Значит, самое время обличать было в первом посольстве; а второе состоялось, когда все было кончено.
(124) В чем же состоял обман? Сообразите сами, из сказанного этим мошенником. По его словам, я приплыл315 ночью в долбленой лодке по реке Лидию к Филиппу и написал Филиппу письмо, пришедшее сюда! Как будто Леосфен, изгнанный отсюда происками сутяг, не мог ловко написать письмо, хотя некоторые не колеблются провозгласить его искуснейшим оратором наряду с Каллистратом из Афидны!316 (125) А сам Филипп, которому Демосфен не мог ничего возразить в вашу защиту? А Пифон из Византия,317 который кичится своим умением писать? Но, видимо, для его дела понадобился я. Ты сам говоришь, что мы с Филиппом часто беседовали наедине днем, и заодно обвиняешь меня, что я плавал к нему по реке ночью, — так нужно было для твоего дела это ночное письмо! (126) А что ты лжешь, пришли засвидетельствовать Аглаокреонт с Тенедоса и Патрокл, сын Пасифонта, с которым и я делил стол и все время ночевал вместе: они знают, что я ни разу не отлучался от них ни на целую ночь, ни на часть ночи! Приведем также рабов и отдадим их на пытку: мою речь я прекращаю, если угодно обвинителю, — пусть придет палач и пытает их на ваших глазах, если вы прикажете! За остаток дня можно успеть это сделать: ведь день, отведенный для суда надо мной, разделен на одиннадцать амфор.318 (127) Если скажут, что я когда-нибудь покидал этих моих спутников, тогда не щадите меня, афиняне, а встаньте и казните. А если изобличат во лжи тебя, Демосфен, то пусть тебя накажут вот чем: ты сам должен будешь при них признать, что ты скопец и раб! Позови мне сюда на возвышение рабов и прочти свидетельство участников посольства. [Читаются показания и вызов.] (128) Что же, если он не соглашается на вызов и возражает против пытки рабов, возьми это письмо, одно из тех, что прислал Филипп. В нем, ясное дело, заключен великий обман государства, коль скоро мы не спали ночь, когда его писали! [Читается письмо.] (129) Вы слышите, судьи, что в нем говорит Филипп: «Я принес присягу вашим послам», — и пишет о присутствовавших там своих союзниках, называя поименно их самих и их города, а тех союзников, что опоздали, обещает прислать к вам. И вы думаете, что Филипп не мог написать этого днем и без меня?
(130) Клянусь богами, мне сдается, что он думает только об одном: как бы снискать одобрение во время самой речи, — а что спустя недолгое время его признают самым подлым из эллинов, до этого ему нет никакого дела. Ведь кто поверит человеку, который взялся утверждать, будто Филипп прошел дальше Фермопил не благодаря своим военным хитростям, а с помощью моих речей? Он еще приводил вам какой-то счет дней,319 когда я отчитывался в делах посольства, а скороходы фокидского тирана Фалека принесли оттуда сюда весть о том, что, мол, фокидяне, поверив мне, пропустили Филиппа за Фермопилы и передали ему свои города. (131) Вот что нагромоздил обвинитель, между тем как фокидян погубила, во-первых, судьба, властная над всем, во-вторых, долгие сроки и десятилетняя война. Одна и та же причина возвысила среди фокидян могущество тиранов и разрушила его: они пришли к власти, осмелившись присвоить деньги святилища и руками наемников изменив государственный строй, а погибли от недостатка денег, когда растратили на наем войск то, что имели. (132) В-третьих же, погубил их мятеж, обычный спутник войск, не имеющих чем жить, и, в-четвертых, неведенье Фалека насчет того, что должно было произойти. Ведь было ясно, что Филипп и фессалийцы готовят поход, и совсем незадолго до того, как был заключен мир, к вам пришли послы от фокидян с просьбой о помощи и обещанием передать вам Альпон, Фроний и Никею, места, господствующие над подходами к Фермопилам. (133) Когда же вы приняли постановление, чтобы фокидяне передали эти места военачальнику Проксену, были снаряжены пятьдесят судов и все младше сорока лет выступили в поход, тираны вместо того, чтобы передать сторожевые места Проксену, заключили в темницу послов, посуливших вам передать их, а с объявившими священное перемирие320 вестниками не заключили договора из всех греков одни фокидяне. И когда лаконец Архидам321 готов был принять и оборонять эти места, они не послушались, но ответили ему, что боятся опасности из Спарты, а не у себя. (134) Тогда вы еще не порвали с Филиппом, но в один день совещались о мире и слушали письмо Проксена о том, что фокидяне не передают ему обещанных мест, а возвещавшие начало мистерий заявили, что из всех греков одни фокидяне не приняли перемирия и даже бросили в темницу приходивших сюда послов. А что я говорю правду, — позови мне сюда вестников перемирия и еще Калликрата и Метагена, ходивших послами от Проксена к фокидянам, и выслушайте письмо Проксена. [Читаются показания и письмо.] (135) Вы слышали, афиняне, числа и сроки, которые были вам прочитаны из государственных записей, и свидетели засвидетельствовали вам, что еще до того, как меня выбрали послом, Фалек, фокидский тиран, нам и спартанцам не доверял, а Филиппу верил.
(136) Да разве он один не знал, что случится? А как вы были настроены всем государством? Не все ли ждали, что Филипп, видя наглость фиванцев, не захочет, чтобы сила таких ненадежных людей возрастала, и обуздает их? Разве послы лакедемонян не противились заодно с вами фиванцам и в конце концов открыто не столкнулись в Македонии с их послами и не угрожали им? И сами фиванские послы разве не испытывали затруднений и не боялись? А фессалийцы не смеялись над всеми, говоря, что поход предпринят ради них? (137) Разве иные присные Филиппа не говорили открыто некоторым из нас, что Филипп заселит беотийские города? А фиванцы не выступили в поход всем народом, считая свое положение ненадежным? А Филипп, видя это, не послал нам письма, чтобы мы всем войском выступили на защиту справедливости? А нынешние вояки, называющие мир трусостью, не помешали нам выступить, говоря, что, хотя заключены мир и союз, они опасаются, как бы Филипп не взял наших воинов заложниками? (138) Так кто же помешал народу поступить по примеру предков — я или ты и те, кто с тобой ополчился против общего стремления? И когда афинянам было безопаснее и лучше начать поход — когда фокидяне в разгаре безумия воевали с Филиппом, удерживали Альпон и Никею, еще не переданные Фалеком македонянам, когда те, кому мы собирались помогать, отказались от перемирия на время мистерий, а фиванцев мы оставили в тылу, — или когда Филипп призывал нас, давших клятву и заключивших союз, а фессалийцы и прочие амфиктионы отправились в поход? (139) Разве этот срок был не намного лучше того, когда из-за твоей трусости и зависти афиняне свезли добро из деревень,322 а я уже в третий раз отправился послом323 на сход амфиктионов, не будучи даже избран, как ты нагло утверждал?324 Хоть ты мне и враг, но до сегодня не обвинял меня в противозаконном участии в посольстве, — не потому, конечно, что ты не хотел бы добиться для меня смертной казни. (140) Итак, когда фиванцы находились тут же как просители, когда наш город был приведен тобой в смятение, а афинских латников не было, когда фессалийцы примкнули к фиванцам из-за нашего неразумия и вражды к фокидянам, питаемой фессалийцами с тех давних пор, как фокидяне истребили взятых у них заложников, когда Фалек уехал, заключив перемирие до того, как прибыли и я, и Стефан с Деркилом, и другие послы, (141) когда жители Орхомена были до того перепуганы, что просили мира лишь с тем, чтобы невредимыми уйти из Беотии, когда фиванцы находились здесь, а Филипп по-прежнему был в открытой вражде с фиванцами и фессалийцами, тогда-то все было погублено, и не мною, а тобой — твоим предательством и дружбой с фиванцами! Думаю, что могу подтвердить это вескими доказательствами. (142) Если бы хоть что-нибудь в твоих словах было правдой, меня бы обвиняли беотийские и фокидские изгнанники,325 так как одни из-за меня покинули родину, другие не могли вернуться, однако сейчас, не считаясь со случившимся, но отвечая на мое к ним расположение, изгнанные беотийцы сошлись вместе и выбрали мне защитников, а от фокидских городов пришли послами те, кого я спас во время третьего посольства к амфиктионам, когда этейцы стали говорить, что всех взрослых надобно столкнуть с обрыва,326 я же привел их к амфиктионам, чтобы они могли оправдаться. Фалек был отпущен по условию перемирия, а невинным предстояло умереть; спаслись же они моим заступничеством. (143) А что я говорю правду, — позови мне фокидянина Мнасона с его товарищами-послами и тех, кого избрали беотийские изгнанники. Взойдите сюда, Липар и Пифион, окажите мне ту же милость и спасите мне жизнь, как я вам. [Читается ходатайство беотийцев и фокидян.] Разве не ужасно будет, если я погибну, обвиненный Демосфеном, другом фиванцев и подлейшим из греков, хотя за меня заступаются фокидяне и беотийцы?
(144) Демосфен имел дерзость сказать, будто я обвиняю себя своими же словами.327 Я, дескать, сказал на суде над Тимархом, что молва об его развратной жизни дошла до всех, а Гесиод, превосходный поэт, говорил:
И никогда не исчезнет бесследно молва, что в народе Ходит о ком-нибудь: как там никак, и Молва ведь богиня.И это самое божество явилось теперь обвинять меня, ибо все говорят, что я получил от Филиппа деньги. (145) Но вам отлично известно, афиняне, что есть большая разница между молвой и наветом. Молва ничего общего не имеет с клеветой, а клевета и навет — родные брат и сестра. Я определю вполне ясно и то и другое. Когда большинство граждан само по себе, без ложного повода, говорит о чем-то как о происшедшем событии — это молва, а когда один человек наговаривает толпе на другого, виня его в чем-то и клевеща во всех народных собраниях и советах, — это навет. Молве мы как богине приносим жертвы от лица народа, а занимающихся наветами как злодеев привлекаем к суду. Так что нельзя путать самое прекрасное с самым позорным.
(146) Многие обвинения привели меня в негодование, но больше всего то, что он винит меня в предательстве. Возводя на меня такую вину, следовало показать, что я — бездушный зверь,328 еще раньше запятнавший себя многими преступлениями. Но вас я считаю самыми правомочными судьями над моей жизнью и моим повседневным поведением, а то, что не видно многим, но что важнее всего людям благородной души, — наибольшую и по законам наилучшую часть этого я покажу вам воочию, чтобы вы знали, какой залог я оставил дома, отправляясь послом в Македонию. (147) Ты, Демосфен, и тут налгал на меня, но я все расскажу по справедливости, как меня учили в детстве. Вот он, мой отец Атромет, едва ли не старейший из граждан, проживший девяносто четыре года; в молодости, не лишившись еще имущества из-за войны, он состязался как атлет, потом, изгнанный Тридцатью тиранами,329 был воином в Азии, отличился в опасных делах, а родом он из той фратрии, которая имеет общие алтари с Этеобутадами, откуда избирается жрица Афины Градской;330 и, как я говорил недавно,331 он участвовал в возвращении народа. (148) И со стороны матери вся моя родня — свободные люди, а сама мать предстоит у меня перед очами в страхе за мое спасение и в отчаянии: знай, Демосфен, она вместе с мужем была в изгнании в Коринфе, ее коснулись все гражданские бедствия. А ты — мужчина ли, нет ли, не берусь сказать — был обвинен в бегстве из войска332 и избег осуждения, убедив деньгами своего обвинителя Никодема из Афидны, которого потом убил вместе с Аристархом,333 — а теперь, оскверненный кровью, вторгаешься на площадь? (149) Вот и Филохор, старший мой брат, не занимающийся, как ты ни поноси его, ничем неблаговидным, но надзирающий за телесными упражнениями, принимавший участие в походах Ификрата и уже третий год подряд избираемый военачальником: он явился просить вас спасти меня. А вот Афобет, наш младший брат, который был достойным нашего города послом у персидского царя, рачительно и честно пекся о ваших доходах, когда вы его выбрали ведать общей казной, и родил детей по закону, не отдавая свою жену, как ты, в наложницы Кносиону: он презирает твою брань, потому что лживая брань только уши марает. (150) У тебя достало наглости говорить и о моих свойственниках,334 в своей бесстыдной неблагодарности ты не любишь и не чтишь даже Филодема, отца Филона и Эпикрата, хотя его стараниями ты был записан в дем,335 как это известно всем старым пеанийцам. Мне удивительно, что ты смеешь поносить Филона, причем среди самых почтенных афинян, собравшихся сюда принять наилучшее для государства решение и больше внимания обращающих на нашу жизнь, чем на твои слова. (151) Чего им желать, по-твоему: чтобы у нас появилось десять тысяч латников, подобных Филону, столь же закаленных телом и целомудренных душою, как он, или тридцать тысяч развратников вроде тебя? Ты стараешься опорочить благонравие Эпикрата, брата Филодема. Но кто видел, чтобы он вел себя непристойно днем ли, как ты говоришь, в шествии Диониса или ночью? Ты не можешь сказать, что этого не заметили: ведь он человек известный. (152) У меня, сограждане, есть трое детей от дочери Филодема, сестры Филона и Эпикрата, одна дочь и двое сыновей, я привел их сюда вместе с другими,336 чтобы задать судьям один вопрос и привести одно доказательство, что я и сделаю немедля. Неужели, афиняне, я, по-вашему, мог предать Филиппу, кроме родины и друзей, с которыми я сжился, кроме святынь и отеческих могил, которые есть у меня здесь, еще и этих самых дорогих для меня людей и поставить дружбу с ним выше их безопасности? Что за блажь меня одолела? Когда я поступал из-за денег не по совести? Ведь не Македония делает людей подлыми или честными, а природа! Вернувшись из посольства, мы не стали другими против того, какими нас отправляли!
(153) Служа государству, я связался с человеком такой хитрости и подлости, что он даже против воли не скажет правды. Солгав, он в подтверждение клянется своими бесстыжими глазами и не только выдает небывшее за бывшее, но и называет день, когда это якобы было, и добавляет какое-нибудь вымышленное имя, будто бы этот человек там присутствовал, — словом, подражает говорящим правду. В одном только повезло нам, ничем не виноватым: при всей изворотливости и умении выдумывать имена умом он обделен. Смотрите же, до чего глуп и невежествен человек, который возвел на меня такую напраслину, как тот случай с олинфской женщиной; недаром вы тут прогнали его посреди речи: ведь он оклеветал человека, совершенно на такие вещи не способного, перед теми, кто хорошо его знает. (154) Посмотрите также, как задолго готовился он к этому обвинению. Есть некий переселившийся к нам в город олинфянин Аристофан; сойдясь с ним и разузнав у кого-то, что тот умеет говорить, Демосфен принялся обхаживать его и улещать, а потом уговаривать дать вам против меня ложное свидетельство и, если тот согласится покривить душой и сказать, будто я во хмелю оскорбил его попавшую в плен родственницу, обещал дать ему пятьсот драхм вперед и пятьсот — после свидетельства. (155) Но Аристофан, как сам рассказывал, ответил Демосфену, что тот как нельзя лучше взял в расчет его изгнание и нынешнюю бедность, но вот насчет его нрава ошибся: ничего такого он делать не станет. А что я говорю правду, в этом представлю вам свидетелем самого Аристофана. Вызови же олинфянина Аристофана, и прочти его показание, и еще вызови слышавших от него об этом деле и сообщивших мне Деркила, сына Автокла, из Агнунта, и кефисейца Аристида, сына Евфилета. [Читаются показания.] (156) Вы слышали, что показали под присягой свидетели; что же до бесчестных уловок, которые он преподносит молодежи, а сейчас пускает в ход против меня, то вы наверняка помните, как он пустил слезу, оплакивая Грецию,337 и восхвалял комического актера Сатира,338 который на пиру выпросил у Филиппа каких-то своих приятелей, попавших в плен и в цепях окапывавших Филипповы лозы, (157) и как, рассказав об этом, он напряг свой бесстыжий пронзительный голос и прибавил, что, мол, страшное дело, если игравший Карионов и Ксанфиев339 так благороден и великодушен, а я, дававший советы великому городу, увещевавший десять тысяч аркадцев, не совладал с собственной наглостью и, разгоряченный хмелем на пиру у Ксенодока,340 одного из присных Филиппа, таскал за волосы и стегал ремнем пленную женщину. (158) Если бы вы ему поверили или Аристофан оболгал бы меня, позорное обвинение погубило бы меня вопреки справедливости. Неужели вы допустите, чтобы расплата за преступление, совершенное им, а не городом, обернулась на вас? Неужели будете очищать Народное собрание,341 а потом по его предложениям возносить молитвы, посылать в поход пехоту и корабли? Ведь Гесиод говорит:342
Целому городу часто в ответе бывать приходилось За человека, который грешит и творит беззаконье.(159) К сказанному я хочу добавить еще одно: если есть какой-нибудь людской порок и я не докажу, что Демосфен в нем первенствует, — значит, я заслуживаю смерти. Но, видимо, множество тягот неразлучно с подсудимым, а опасность возвращает душу от гнева к доводам во спасение и заставляет сообразить, как бы не пропустить какое-нибудь обвинение. Так что я хочу напомнить их и вам, и заодно себе. (160) Посмотрите, афиняне, статью за статьей: какое постановление я предложил, что меня судят? какой закон нарушил? чему помещал? какое соглашение заключил от имени города? каким решением касательно мира пренебрег? что вписал такого, что вы не решали? (161) Кое-кому из наших краснобаев этот мир не нравится.
Так разве не тогда надо было им спорить, вместо того чтобы теперь судить меня? Некоторые наживались на войне, за счет ваших взносов и государственных доходов, а теперь перестали: ведь мир не кормит бездельников. И после этого не обиженные, а обидчики нашего города покарают того, кто отстаивал мир, вы же оставите без помощи тех, чьи действия послужили к общему благу? (162) Я пел с Филиппом благодарственные гимны, покуда разрушали фокидские города, — так говорит обвинитель. Чьим же свидетельством он сможет неопровержимо это доказать? Меня позвали на пир вместе с другими послами, званых и сотрапезников было вместе с посольствами от других эллинов не меньше двухсот человек. Среди всех я, верно, был приметен тем, что не молчал, а пел, как утверждает Демосфен, который и сам там не был, и никого из бывших не представил свидетелями. (163) Чем же я там бросался в глаза, если не был запевалой, как в хоре? Значит, если я молчал, то обвинение твое — ложь, если же при том, что наш город стоял невредимо и общину граждан не постигло бедствий, я с другими послами пел гимн, славя божество и ничуть не бесславя Афин, так это было благочестиво, а не преступно, и справедливость велит меня оправдать. Выходит, что я — человек бесчувственный, а благочестив ты, обвинитель приносивших с тобой присягу и деливших пищу!
(164) Ты упрекнул меня в том, что я был безрассуден в государственных делах, коль скоро участвовал в посольстве к Филиппу, а раньше подстрекал греков против него. Но это же обвинение ты, если хочешь, можешь предъявить государству и всем афинянам. Вы воевали со спартанцами, а после бедствия при Левктрах помогали им; вы помогли возвращению на родину изгнанных фиванцев — и опять сражались с ними при Мантинее; вы вели войну с эретрийцами и Фемисоном343 — и спасли их. И с другими эллинами вы тысячу раз вели себя так же, ибо подчиняться силе обстоятельств необходимо и человеку и городу. (165) Что же надлежит делать хорошему советчику? Не давать ли городу советы, наилучшие в эту пору? А что следует говорить подлому обвинителю? Не обвинять ли за поступки, скрывая обстоятельства? А прирожденному предателю как следует смотреть на вещи? Разве не так, как ты? Ведь вот как ты обходишься с теми, кто доверчиво обращается к тебе: ты за плату пишешь им судебные речи, а потом относишь их противникам в тяжбе. За деньги ты написал речь меняле Формиону, а потом отнес ее Аполлодору, который возбудил против него дело. (166). Ты вошел в благоденствующий дом Аристарха, сына Мосха — и погубил его.344 У изгнанного Аристарха ты взял три таланта, лишив его средств на дорогу в ссылку, и не устыдился молвы, которую сам же и пустил: будто ты был поклонником его юности и красоты. Но это неправда: истинная любовь с подлостью несовместима. А это — предательство и прочее подобное.
(167) Вспомнил Демосфен о службе в войске и назвал меня храбрым воином.345 Думаю, мне не поставят в укор, если я скажу и об этом, имея в виду не его поношения, а насущную опасность. Где, когда, кому напомню я об этом, если упущу нынешний день? Едва выйдя из детства, я два года был пограничным стражем этой страны,346 в чем представлю вам свидетелями сотоварищей по службе и начальников. (168) Первый поход я проделал, будучи призван по частичному набору:347 вместе со сверстниками и с наемниками Алкивиадамы были посланы сторожевым охранением во Флиунт, а когда возле ущелья, именуемого Немейским, нас настигла опасность, я сражался так, что заслужил похвалу начальников, и впоследствии принимал участие во всех походах, когда призывался мой год, (169) и под Мантинеей не осрамил, сражаясь, ни себя, ни города, и в поход на Евбею ходил тоже, и при Таминах348 так рисковал жизнью в числе отборных воинов, что меня наградили венком и там, и, волей народа, по возвращении сюда: когда я принес весть о победе нашего города, а предводитель филы Пандиониды Теменид, пришедший со мной послом из нашего стана, сообщил, какова была опасность. (170) А что я говорю правду, — возьми это постановление и позови Теменида и моих однополчан, защищавших город в том походе, и полководца Фокиона, если судьи согласятся, но не как ходатая, а как свидетеля, который, если солжет, будет отвечать за ложные показания. [Читаются постановление и показания.]
(171) И вот я, первым сообщивший вам о победе города и о подвигах ваших сыновей, прошу у вас самой первой милости — спасения жизни, ибо я, вопреки словам обвинителя, враг не народу, а пороку и не запрещаю вам брать пример с Демосфеновых предков, которых не было, а призываю соревновать им в мудрых и спасительных для города решениях. А сейчас, начав издалека, я скажу об этом пространнее. (172) В старину наш город прославился морской битвой с персами при Саламине, и, хотя стены были снесены варварами, власть народа в нашем государстве сохранилась, так как со спартанцами мы жили в мире. Но, подстрекаемые иными людьми, вы стали воевать со спартанцами, а потом, вытерпев и сделав много зла, отправили к ним вестником Мильтиада, сына Кимона, связанного со спартанцами гостеприимством, и заключили с ними мирный договор на пятьдесят лет,349 соблюдали же его только тринадцать. (173) За эти годы мы обнесли стеной Пирей и построили северную стену, соорудили сто судов вдобавок к имевшимся, подготовили триста конных воинов, купили триста скифов,350 и народовластие оставалось нерушимо. Но когда до управления государством дорвались люди неблагородные, необузданного нрава, мы вновь стали воевать со спартанцами из-за эгинетов; (174) потом, понеся немалый урон, снова захотели мира, отправили к спартанцам Андокида с другими послами и жили тридцать лет в мире,351 так что благосостояние народа весьма возросло: тысячу талантов звонкой монетой мы отнесли на акрополь, соорудили сто новых судов, построили стоянки для кораблей, собрали тысячу двести конных воинов и столько же лучников, воздвигли Длинную стену с юга, и никто не покушался ниспровергнуть власть народа. (175) Потом, послушавшись мегарцев, мы снова стали воевать,352 допустили, чтобы наша страна была разорена, лишились множества благ и при посредстве Никия, сына Никерата, выпросили и заключили мир. И снова за это время мы благодаря миру отнесли в акрополь семь тысяч талантов, приобрели не меньше трехсот ходких и полностью снаряженных судов, получали ежегодно больше тысячи двухсот талантов дохода, владели Херсонесом и Наксосом и Евбеей и вывели за это время много новых поселений. (176) И от столь многих благ мы опять начали войну со спартанцами, послушавшись аргосцев,353 так что в конце концов из-за драчливости наших краснобаев попали под власть занявших город врагов, и четырехсот, и тридцати нечестивцев,354 причем мы не заключили мира, а принуждены были повиноваться приказам. После того как государственные дела вновь стали вестись разумно, народ вернулся из Филы, во главе его стали Архин и Фрасибул и заставили нас под клятвой не поминать друг другу зла, из-за чего все сочли наш город самым мудрым, — (177) после этого народ снова воспрянул и набрался сил, но явились люди, незаконно записавшие себя в граждане, привлекавшие к себе все, что было в городе больного, и повели государство от войны к войне, в дни мира произнося речи о предвидимых опасностях и подстрекая честолюбивые и слишком пылкие души, но в дни войны не прикасаясь к оружию, зато по должности проверяя других и надзирая за снаряжением кораблей. Народив детей от гетер,355 обесчестив себя ложными доносами, они ставили город на край гибели, чтили имя народовластия не добрыми нравами, а льстивыми словами, подрывали мир, которым крепко народовластие, и способствовали войнам, подрывающим силу народа.
(178) Теперь, соединившись против меня, они здесь говорят, будто Филипп купил мир и во всех соглашениях провел нас, преступив тот мирный договор, который сам находил полезным для себя. Меня же судят не как посла, а как поручителя за Филиппа и за мир, и от человека, властного только над своими словами, требуют ответа за события, которых ожидали. Тот, кто в своих предложениях был моим хвалителем, на суде стал обвинителем. Отправившись в посольство сам-десятый, я один держу ответ. (179) Со мною пришли к вам просители: мой отец — не отнимайте же надежду его старости! — мои братья, которые, расставшись со мной, вряд ли захотят жить, мои свойственники и эти малые дети, еще не сознающие грозящих опасностей, но достойные жалости, если мне придется пострадать. О них я прошу, для них молю величайшего снисхождения: не предавайте их врагам и злобе человека трусливого и обабившегося. (180) И с мольбой о моем спасении я взываю сперва к богам, потом к вам, властным подать голос, перед кем я, насколько хватило памяти, оправдывался по каждому обвинению. Спасти меня и не предавать этому наемному сочинителю речей, этому скифу я прошу вас, — всех, у кого есть дети, кому дороги младшие братья, ибо вы вспомните, каким вечно памятным призывом к благонравию был начатый мною суд над Тимархом; (181) и всех остальных, кому я не приносил горя, потому что судьба сделала меня частным лицом, подобным самым скромным из вас, а в гражданских распрях я единственный не становился против вас; я прошу вас о спасении, потому что преданно служил городу, будучи послом, и один выдерживал крик клеветников, — которого не стерпели многие, являвшие на войне блистательное мужество. Не смерть страшна, а ужасно надругательство над кончиной. (182) Разве не прискорбно видеть лицо насмехающегося врага и своими ушами слушать его поношения? Но дерзость совершена, над головой опасность. При вас я вскормлен, в общении с вами прожил жизнь. Никто из вас не скажет, что ради моих наслаждений стал жить хуже, никто не лишился отчизны из-за того, что я обвинил его при пересмотре гражданства, никто не подвергся опасности, отчитываясь в исполнении должности.
(183) Я скажу еще немного и сойду с возвышения. В моей власти, афиняне, было не совершать против вас преступлений; а избежать обвинения — это было во власти судьбы, сделавшей меня сотоварищем сутяге и варвару, которому нет дела до общих святынь и возлияний и трапез, но который из страха перед теми, кто впредь бы мог его оспорить, явился с ложным обвинением против меня. Итак, если вы пожелаете спасти споспешествовавших миру и вашей безопасности, то благо города приобретет множество помощников, готовых ради вас на любую опасность.
(184) Моим ходатаем из числа руководителей государства и людей умеренных я призываю быть Евбула; из числа военачальников — Фокиона, всех превосходящего справедливостью; а из числа моих друзей и сверстников — Навсикла и всех других, с которыми я привык делить мои занятия. Мое слово сказано, а эту голову вам вручаю я и вручает закон.
ЭСХИН ПРОТИВ КТЕСИФОНТА О ВЕНКЕ
356
(1) Вы видите, афиняне, как иные здесь ведут происки, как смыкают ряды, как затекают уговоры по всей площади, чтобы все у нас в городе пошло не по заведенному порядку и обычаю, — и все-таки я иду к вам с верою прежде всего в богов, а потом в законы и в вас, ибо знаю: перед вашим лицом никакие происки не осилят законности и справедливости. (2) Как бы мне хотелось, афиняне, чтобы и Совет пятисот, и Народные собрания направлялись очередными председателями но верному пути, чтобы в силе были Солоновы законы о благочинии ораторов, чтобы первым мог по их велению чинно выступить на помост старейшин из граждан и без шума и смуты подать гражданам лучшие советы своей опытности, а за ним чтобы и другие граждане по желанию высказывались обо всяком деле по очереди и в порядке возраста! Думаю, что тогда и город управлялся бы лучше, и судебных дел стало бы меньше. (3) Но с тех пор, как перевелось все, что прежде единодушно признавалось лучшим, и одни стали с легким сердцем вносить противозаконные предложения, а другие ставить их на голосование, сами получив председательство не справедливейшим жребием, но посредством происков, а если кто из других членов совета, честно председательствуя по жребию, правильно объявляет итоги вашего голосования, то все считающие государство не общим, а своим достоянием, грозят им чрезвычайными обвинениями и тем порабощают рядовых граждан, а себе присваивают деспотическую власть, (4) и когда суды по закону перевелись, а судить стали по злобе и по особым постановлениям, — с тех самых пор умолк в городе столь прекрасный и разумный клич глашатая: «Кто желает высказаться из достигших пятидесяти лет, а затем по очереди из прочих афинян?», и с тех пор уже ораторская разнузданность не подвластна ни законам, ни председателям, ни первоприсутствующим, ни председательствующей филе,357 хоть это и десятая часть нашего города.
(5) При таком-то положении государственных дел, при таких обстоятельствах, смысл которых вы сами понимаете, один лишь осколок, по разумению моему, остался от нашего государственного устройства, и этот осколок — обвинения в противозаконии. Ежели и их вы отмените или будете потворствовать стремящимся к отмене, то предрекаю вам, что, сами того не заметив, вы и все наше государство уступите кое-каким господам. (6) Вы ведь знаете, афиняне, что у всех людей есть только три способа государственного устройства: власть единоличная, власть немногих и власть народная; при единоличной власти и власти немногих государство управляется по произволу начальствующих, и лишь при народной власти — по незыблемо установленным законам. Пусть же ясно знает и твердо помнит каждый из вас: всякий раз, как он входит в судилище судить дело о противозаконии, ему предстоит голосовать за собственную свободу слова. Потому ведь и законодатель поставил на первое место в судейской присяге такие слова: «я буду голосовать по закону…» — он понимал, что пока неприкосновенны в государстве законы, крепка в нем и народная власть. (7) Памятуя об этом, вы должны ненавистью встречать подателей противозаконных предложений, вы должны ни единое из них не считать незначительным, но каждое — чудовищным, вы должны никого не допускать отбить у вас это право, не поддаваясь ни ходатайствам военачальников, которые давно уже заодно с кое-какими краснобаями подтачивают наше государство, ни прошениям чужестранцев, которых иные из противозаконных заправил нашего правления приводят к нам, чтобы самим ускользнуть от суда, — нет: как на войне каждый из вас постыдился бы покинуть место в строю, куда его поставили, так и ныне да будет вам стыдно покинуть строй, куда сегодня законы поставили вас охранять народовластие. (8) А еще должны вы помнить о том, что сейчас все граждане — и те, что здесь и слушают суд, и те, что в отлучке по своим делам, — вверили вам наш город и его государственное устройство; и вы, афиняне, стыдясь этих граждан и памятуя о принесенной вами присяге и о наших законах, в ответ на мое изобличение Ктесифонта в подаче предложения противозаконного, неверного и пагубного государству пресеките это противозаконие, укрепите в городе народовластие, покарайте заправил, правящих наперекор законам и вашей пользе. И если вы с такими чувствами выслушаете предстоящую мою речь, то я уверен, что проголосуете вы так, как требуют законы, присяга и польза — ваша собственная и всего нашего города.
(9) Я надеюсь, что о смысле моего обвинения в целом предуведомил я вас достаточно; а теперь я хочу коротко рассказать о тех законах относительно подотчетных лиц, которые нарушил Ктесифонт своим предложением.
В прежние времена бывало так, что некоторые люди, когда занимали высшие должности или распоряжались доходами и на этом наживались, заранее заручались для себя краснобаями в совете и в Народном собрании и задолго предвосхищали свой отчет всенародно возглашаемыми себе хвалами, так что потом при отчете оказывались в затруднении и обвинители, и особенно судьи. (10) Очень многие подотчетные лица, схваченные с поличным на краже государственных средств, ускользали от суда, и недаром: судьям, видимо, было стыдно, что один и тот же человек в одном и том же городе и даже в одном и том же году оказывался сперва провозглашен на играх достойным венка358 и получал от народа золотой венок за доблесть и справедливость, а спустя немного времени выходил из судилища после отчета осужденный за казнокрадство, — и судьи поневоле голосовали не о наказании за преступление, а о том, чтоб оградить народ от стыда. (11) И вот, заметив это, некий законодатель установил закон, и отличный закон, прямо запрещающий награждать венками подотчетных лиц.
Правда, несмотря даже на столь мудрую предусмотрительность законодателя, нашлись слова сильнее законов, и если не сказать о них заранее, то вас обманут незаметно. Ведь среди тех, кто противозаконно награждает венками подотчетных лиц, есть и люди, более умеренные по природе (если в нарушении закона можно остаться умеренным); во всяком случае, они прикрывают стыд, к своему предложению увенчать подотчетного добавляя слова «когда он даст ответ и отчет в исполнении должности». (12) Государству от этого вред не меньший, потому что отчет все равно предваряется похвалами и венками, но предлагающий хотя бы показывает слушателям, что предложение его противозаконно и он стыдится своего проступка. Однако Ктесифонт, афиняне, преступив закон о подотчетных лицах, не прибегнул даже к вышесказанной оговорке: он предложил наградить Демосфена венком до ответа, до отчета, когда тот еще исполняет должность.
(13) Вам, афиняне, против этих моих слов возразят еще вот что: если кто-то что-то делает, будучи избран по особому постановлению, то это-де не должность, а поручение и служба, — должности же суть только те, которые распределяются законоблюстителями359 в храме Тесея по жребию и народом на выборах открытым голосованием, а все остальное — это поручения по особым постановлениям. (14) Но я в ответ этим господам приведу вам, афиняне, ваш собственный закон, нарочно вами установленный против таких оговорок. Здесь прямо сказано: «Должностные лица, избранные голосованием…» — то есть они все названы одним именем, и сказано, что все, назначаемое народом по голосованию, есть должность; «…и распорядители общественных работ…» — а Демосфен ведь распорядитель при постройке стен, самой большой из этих работ; «…и все, кто ведают любым государственным достоянием долее тридцати дней и кто принимают руководство в судах…» — а ведь все производители работ получают руководство в судах!360 Что же закон велит им делать? (15) Не «отправлять служение», но «…пройдя проверку361 в суде, исполнять свою должность…» — ибо в самом деле, даже к должностям, занимаемым по жребию, люди допускаются не без проверки, а лишь с проверкой; «…и давать ответ и письменный отчет писцу и проверщикам…» — то есть так же, как это велено и для других должностей. А что я говорю правду, вам сейчас подтвердят эти самые законы. [Читаются законы.]
(16) Так-то, афиняне: если законодатель что-то прямо называет «должностью», а эти господа именуют «поручениями» и «занятиями», уж это ваше дело — образумить их, и поставить закон преградою их бесстыдству, и внушить им, что вы не потерпите, чтобы какой-то зловредный умник болтовнёю подрывал бы законы, — напротив, чем кто красней говорит в пользу противозаконного предложения, тем тот большее встретит негодование. Нужно, афиняне, чтобы оратор и закон говорили одно; если же закон гласит одно, а оратор другое, то голос следует подавать за правду закона, а не за бесстыдство говорящего.
(17) Далее я хочу наперед вкратце сказать вам еще об одном доводе, который Демосфен считает неоспоримым. Он вам скажет: «Я распорядитель при постройке стен, это так; но я от себя прибавил городу сто мин и сделал сооружение еще больше, — в чем же мне давать отчет? разве что в благотворительности!» Так вот, послушайте, что я отвечу на такую отговорку и во имя правды, и во имя пользы.
Во всем нашем городе, столь древнем и столь великом, ни единого нет человека, который, имея хоть какое-то отношение к общественным средствам, не был бы обязан отчетом. (18) Это я вам докажу сперва на самых неожиданных примерах. Так, закон велит отчитываться даже жрецам и жрицам, вместе и порознь, и не только поодиночке, но и целыми родами: Евмолпидам, Керикам и прочим,362 — а ведь они получают лишь почетные дары и молятся за вас богам! (19) Далее, закон велит отчитываться тем, кто строит на свои средства корабли,363 — а ведь они не распоряжаются общественными средствами, не присваивают из вашего добра помногу, уделяя вам из своего понемногу, не хвастаются щедротами, на самом деле лишь возвращая вам ваше; нет, они и вправду тратят свои наследственные состояния, чтобы только быть за это у вас в чести. Но не только строители кораблей, но и заседатели самых важных в городе собраний предстают в судилище для проверки голосованием! (20) Прежде всего, закон велит самому совету Ареопага давать проверщикам ответ и отчет, так что и он, столь суровый у себя и ведающий столь важными делами, подчиняется вашим голосам. Стало быть, никто в нем не получит венка? Никто: таков отеческий обычай. Что же, в них нет и честолюбия? Конечно, есть: ведь им мало избегать беззаконий, они подвергают себя наказаниям даже за малейшую ошибку, — не то что ваши краснобаи, которые так избаловались. Равным образом законодатель подчинил отчетности и самый Совет пятисот. (21) Да и к подотчетным лицам у него так мало доверия, что сразу же в начале закона он говорит: «подотчетному должностному лицу из города не отлучаться!» Великий Геракл! — скажет кто-нибудь, — если я занимал должность, значит, мне и отлучаться нельзя? Да, нельзя, чтобы ты не сбежал, взяв государственные деньги или не доделав дела. Кроме того, подотчетное лицо не имеет права ни жертвовать свое состояние богам, ни делать приношения в храмы, ни быть усыновленным, ни завещать свое имущество, ни многое другое, — одним словом, законодатель смотрит на достояние подотчетного как на залог,364 пока тот не сдаст отчета государству. (22) А разве не бывает так, что человек ничего из государственных средств не брал и не тратил, а все-таки имел к ним доступ? Так нет же: закон и ему велит держать ответ перед проверщиками! Как же он будет держать ответ, ничего не взяв и не истратив? А это ему подсказывает и учит сам закон: так, мол, и напиши, что-де из государственных средств я ничего не взял и не истратил. Одним словом, в городе нет ничего, что не подлежало бы отчету, проверке и расследованию! А что я правду говорю, о том послушайте сами законы. [Читаются законы.]
(23) Вот; и если Демосфен еще осмелится говорить, будто благодаря своему пожертвованию свободен от отчета, то скажите ему так: «А не лучше ли тебе, Демосфен, не препятствовать глашатаю проверщиков возгласить по закону и обычаю: «кто желает выйти обвинителем?» И не препятствуй же любому, кто захочет возразить тебе, что вовсе ты ничего не жертвовал, а лишь отдал немногое из многого, что получил ты на постройку стен, взял же ты на это у города целых десять талантов. Не захватывай же почести силой, не вырывай у судей из рук судейские камешки,365 в государственных делах не подчиняй себе законы, а подчиняйся им сам: только этим укрепляется народовластие».
(24) Сказанного довольно против тех пустых отговорок, которыми будут отговариваться эти господа. А что в то время, когда Ктесифонт выступил со своим предложением, Демосфен доподлинно был лицом подотчетным, заведуя зрелищными деньгами366 и заведуя постройкой стен, но ни по той, ни по другой должности не давши ответа и отчета, — это я постараюсь доказать вам по государственным ведомостям. Прочитай-ка, в какой год, месяц и день и на каком народном собрании избран был Демосфен, чтобы ведать зрелищными деньгами! [Читается постановление.] Вот видите: если даже я больше ничего не докажу, все равно Ктесифонт попался, уличенный даже не моим обвинением, а государственною ведомостью. (25) Однако, господа афиняне, если в старину у нас в городе избирался голосованием особый надзиратель, который давал отчет о государственных доходах каждой смене председательствующих, то потом из-за вашего доверия к Евбулу367 эту должность вплоть до принятия Гегемонова закона отправляли именно те, кто был избран ведать зрелищными деньгами: они принимали доходы, начальствовали над верфями, возводили склады, строили дороги и распоряжались чуть ли не всем в городе. (26) Это я говорю не в порицание и не в осуждение им, а желая показать, что законодатель не позволил нам награждать венком никого, кто не даст ответ и отчет даже по одной ничтожной должности, — а Ктесифонт не зазрился предложить венок для Демосфена, ведавшего сразу чуть не всеми должностями в Афинах! (27) В самом деле: что во время Ктесифонтова предложения Демосфен по должности и ведал постройкою стен, и распоряжался государственными деньгами, и налагал пени, как все остальные должностные лица, и брался руководить в судах, — свидетелем этого будет перед вами он сам. Ведь в архонтство Херонта,368 в предпоследний день, месяца фаргелиона, не кто иной, как Демосфен предложил в Народном собрании созвать на второй и третий день месяца скирофориона сходки по филам, чтобы от каждой филы избрать надзирателей и казначеев по крепостным работам — и совершенно правильно, чтобы городу было с кого требовать отчета за истраченные деньги. Прочти мне это постановление! [Читается постановление.]
(28) Что ж; но теперь на это он исхитрится заявить, что народ не избирал-де его строителем стен ни по жребию, ни голосованием! И по этому поводу Демосфен и Ктесифонт поведут долгие разговоры; но закон краток, ясен и быстро положит конец их уловкам. Впрочем, об этом я сперва хочу сказать вам несколько слов. (29) Существует, афиняне, три рода должностных лиц: первый, самый очевидный, — это те, которых избирают по жребию или голосованием; второй — те, которые распоряжаются чем-либо из государственных средств дольше 30-ти дней и которые ведают общественными работами; а третий — тот, о котором в законе написано: ежели кто еще будет избран и допущен к руководству в суде, то и он, пройдя проверку, считается должностным лицом. (30) Итак, если не считать должностных лиц, избранных по жребию или народным голосованием, остаются те, которых филы, триттии369 и демы избирают из своих людей распоряжаться государственными средствами; это бывает, когда, как и теперь, филам что-нибудь поручается: копать рвы или строить корабли. А что я говорю правду, вы убедитесь из самих законов. [Читаются законы.] (31) Вот теперь и вспомните, что было сказано: законодатель велит избранным от фил пройти проверку и исполнять должность, фила Пандионида назначает на должность строителя стен Демосфена, который получает на это дело из казны почти десять талантов; другой закон запрещает награждать венком подотчетное должностное лицо; вы же дали присягу решать дела по законам. И вот наш краснобай370 предлагает наградить венком подотчетное должностное лицо, не прибавивши: «когда он даст ответ и отчет»; а я изобличаю противозаконие, представляя вам свидетелями и законы, и постановления, и самих моих противников. Можно ли несомненнее уличить человека в противозаконии?
(32) А теперь я вам докажу, что и объявлять-то о награждении венком так, как это сказано в его предложении, — тоже дело противозаконное. Закон указывает ясно: если кого-нибудь награждает совет, то об этом провозглашается в совете, если народ — то в Народном собрании, а больше нигде. Прочти-ка закон. [Читается закон.] (33) Вот каков закон, афиняне, и это отличный закон: видимо, законодатель полагал, что незачем оратору красоваться перед посторонними, а надобно довольствоваться почетом от народа в своем городе и не искать поживы в огласках. Так полагал законодатель; а Ктесифонт? Прочитай теперь, что он нам предлагает! [Читается предложение.] (34) Вы слышите, афиняне? Законодатель велит объявлять о награждении венком от народа пред самим народом в собрании на Пниксе и больше нигде; Ктесифонт же, в обход закона меняя место, велит сделать это в театре, и не во время Народного собрания, а на представлении новых трагедий,371 и не пред лицом народа, а пред лицом всех эллинов, чтобы и они вместе с нами знали, какого мужа мы чтим.
(35) После столь явно противозаконного предложения Ктесифонт, конечно, вкупе с Демосфеном начнет покушаться на закон всякими хитростями; но я эти хитрости обнаружу и заранее объясню вам, чтобы вы невольно не поддались на обман. Отрицать, что законы запрещают объявлять о награждении венком где-либо кроме Народного собрания, эти господа, конечно, не смогут. Однако они сошлются в оправдание на закон о Дионисиях, приводя его лишь частично, чтобы вкрасться в ваше внимание; (36) они приплетут этот закон, не имеющий никакого касательства к нынешнему делу, и начнут уверять, что-де в городе у нас действуют не один, а два закона об оглашениях: первый, о котором я сейчас говорил, ясно запрещает объявлять о награждении венком где-либо кроме Народного собрания, но еще-де будто бы есть и второй, который, наоборот, позволяет сделать объявление о венке в театре во время представлений, ежели о том постановит народ; в соответствии с этим-то законом и внес, мол, свое предложение Ктесифонт. (37) А я в защиту себе от таких уверток выставлю собственные ваши законы, о чем неизменно стараюсь во всем этом моем обличении. В самом деле, если это правда, что завелся у вас в государстве такой обычай, чтобы недействительные законы стояли вперемежку с действующими и об одном деле было по два противоположных закона, то что же это, спрашивается, за государство, где законы велят одно и то же и делать и не делать? (38) К счастью, это не так: ни вы не дошли до такой путаницы в законах, ни законодатель, установивший у нас народовластие, не оставил это без внимания, а, напротив, ясно предписал архонтам-законоблюстителям каждый год перед Народным собранием исправлять законы,372 тщательно их выверив и досмотрев, не вписан ли один закон вопреки другому, не попал ли недействительный в число действующих и не оказалось ли об одном предмете по нескольку законов. (39) И ежели обнаружится что-нибудь подобное, то велено такие законы написать на досках и выставить перед статуями десяти фил,373 а очередным председателям созвать Народное собрание для назначения законоисправителей, а главному из первоприсутствующих поставить на голосование, какие законы отменить и какие оставить, чтобы на каждый предмет был один закон и не более. Прочитай-ка законы на этот счет! [Читаются законы.] (40) Стало быть, афиняне, если бы эти господа говорили правду и существовало бы два закона об оглашении наград, то архонты-законодатели непременно бы их обнаружили, а очередные председатели передали бы их законоисправителям, и один из законов был бы отменен: либо дозволяющий такое оглашение, либо запрещающий. Но так как этого нет, то и ясно: эти господа не только лгут, но и утверждают вещи вовсе невозможные.
(41) Я объясню вам, откуда они выдумали свою ложь, а для этого расскажу, из-за чего был издан закон об оглашениях в театре. Когда в городе нашем давались трагедии, то некоторые пользовались этим, чтобы без народного разрешения провозгласить, что одни-де удостоены венка от сограждан по филе, а другие — от соседей по дему, а третьи отпускают на волю своих рабов, и чтобы свидетелями тому были все эллины. (42) А всего возмутительнее бывало, когда иные люди, завязавши дружбу с чужими городами, добивались, коли удавалось, объявления, что они-де за свою доблесть и добродетель награждаются венком от Родоса, от Хиоса или еще от какого-нибудь города. И устраивали они себе это самовольно, без вашего о том решения, а не так, как те, которые получали венок от собственного вашего совета и народа в знак большой благодарности, по постановлению и с разрешения вашего. (43) Из-за такого обычая получалась немалая докука и зрителям, и устроителям, и исполнителям трагедий; а почестей доставалось больше оглашенным в театре, чем увенчанным от народа, потому что последним велено было венчаться с разрешения и по постановлению вашему только в Народном собрании, и более об этом не возвещалось нигде, а о первых провозглашение делалось пред лицом всех эллинов, причем без всякого постановления. (44) В рассуждении всего этого и издал законодатель тот второй закон; с законом о лицах, награждаемых венком от народа, он не имеет ничего общего, нимало не отменяет его (ведь докука была не Народному собранию, а театру!) и подавно не противоречит ему (что и недопустимо!). Закон этот говорит о лицах, без вашего постановления награжденных венком от филы или от дема, об отпускающих рабов на волю и о венках от чужих городов. В нем прямо запрещается объявлять в театре об отпуске раба или о венках, полученных от филы, от дема или еще от кого-нибудь, а не то глашатай будет лишен гражданских прав. (45) Так вот: если указано, чтобы о венках от совета объявлять в здании совета, от народа — в Народном собрании, а от демов и фил — никоим образом не на представлениях трагедий (чтобы никто, выклянчив венки и оглашения, не величался неподобающими почестями), и если в законе особо добавлено, чтобы и никто другой не делал таких провозглашений, — то за вычетом венков и от совета, и от народа, и от демов, и от фил что же остается, кроме как венки от чужих городов?
(46) Что это так, наилучшее тому доказательство — в ваших же законах. Ведь тот золотой венок, о котором делается оглашение в городском театре, закон велит считать посвященным Афине, отбирая его у награждаемого. Кто же осмелится заподозрить афинский народ в таком неблагородстве? Ведь не то что город, а и простой человек не дойдет до такой низости, чтобы присудить венок и тут же объявить о нем и отобрать его. Нет, я полагаю, венок потому и посвящается богине, что он — от чужого города, а никто не должен развращаться душой, ставя чужую приязнь выше благоволения отчизны. (47) Зато венок, о котором сделано оглашение в Народном собрании, никому не посвящается, и его можно держать у себя, чтобы не только награжденный, но и его потомки, имея в доме такое напоминание, никогда не озлоблялись душой против народа. Ради этого законодатель даже прибавил, что о венке от чужих городов нельзя объявлять в театре, «ежели о том не будет особого народного постановления», — чтобы город, пожелавший увенчать кого-нибудь из вас, слал послов просить об этом у народа и чтобы тот, о ком кричит глашатай, был бы признательнее не им, увенчавшим, а вам, дозволившим возгласить об этом. А что я говорю правду, убедитесь, выслушавши законы. [Читаются законы.] (48) Так вот, ежели эти господа, обманывая вас, станут твердить, будто в законе прибавлено, что-де можно объявлять о венке, «ежели о том есть особое народное постановление», то не забудьте им на то ответить: «Да, если это венок от чужого города; если же это венок от афинского народа, то вот тебе Народное собрание, где об этом можно объявить, а кроме того — нигде». И хоть ты целый день рассуждай, что значит «кроме того — нигде», все равно ты не докажешь, что предложение Ктесифонта не противозаконно.
(49) А теперь мне остается та часть обвинения, на которой я настаиваю больше всего: это повод, по которому Ктесифонт считает Демосфена достойным венка. В предложении его говорится: «И пусть глашатай объявит в театре перед эллинами, что афинский народ награждает его венком за доблесть и добродетель», а главное, «что он словом и делом всегда стремится к вящему благу народа». (50) После этого и мне говорить совсем просто, и вам слушать и понимать и судить совсем легко. В самом деле, мне как обвинителю нужно теперь только доказать, что все эти похвалы Демосфену — ложь, что ни словом в начале, ни делом в конце не творил он народу ни пользы, ни блага. И если я это докажу, то Ктесифонт справедливо будет осужден по такому обвинению: ведь ни один закон не допускает, чтобы в государственных постановлениях значилась ложь. Защитнику нужно будет доказывать противное, а вам — судить о моих и его доводах.
(51) Дело обстоит так.
Разбирать всю Демосфенову жизнь было бы, думается мне, непомерно долго. Для чего нам нынче рассказывать, как он жаловался Ареопагу на Демомела Пеанийского,374 двоюродного своего брата, за то, что тот проломил ему голову? Или о том, как при полководце Кефисодоте,375 когда наши корабли отплывали в Геллеспонт, Демосфен был начальником над одним из судов, (52) вез на нем полководца и делил с ним стол376 и жертвы и возлияния, удостоенный этого ради наследственной с ним дружбы, а потом не посовестился выступить против него по чрезвычайному обвинению, когда дело шло о жизни и смерти? Или о том, как Мидий избил его,377 начальника хора, прямо на орхестре, а он потом за тридцать мин продал и свою обиду, и волю народа, проголосовавшего против Мидия в театре Диониса? (53) Все это и многое подобное можно, я полагаю, пропустить, не обманывая вас и не смягчая спора, а лишь избегая от вас упрека в том, что хоть все это и правда, но слишком уж старо и общеизвестно. Однако, Ктесифонт, ежели чей-нибудь великий позор столь заведомо достоверен слушателям, что слова обвинителя кажутся хоть и правдою, но слишком уж старой и общеизвестной, — что приличнее, разбранить его или увенчать золотым венком? А тебе с твоим лживым и противозаконным предложением что приличнее — насмехаться над судом или понести от народа наказание?
(54) Но о преступлениях Демосфена против государства я попробую сказать поподробнее. Как я слышал, Демосфен намерен, дождавшись своей очереди говорить, насчитать вам четыре срока времени с тех пор, как он служит государству. Первый срок, как я слышал, — это когда мы воевали с Филиппом из-за Амфиполя, а пределом этому сроку он считает мир и союз, принятые по предложению Филократа Гагнунтского (и его собственному, как я покажу). (55) Второй срок — это когда мы жили в мире, то есть до того самого дня, когда этот же краснобай нарушил царивший мир и предложил воевать. Третий — время войны вплоть до Херонеи; четвертый — нынешнее время. Перечислив все это, он намерен, как я слышал, воззвать ко мне и спросить: какой же срок из четырех я имею в виду, когда обвиняю, что служил он народу не к вящему благу народа? А ежели я уклонюсь, не захочу отвечать и закрою лицо, то он, мол, сам подступит ко мне, и откроет лицо, и втащит на помост, и принудит к ответу.
(56) Так вот, чтобы он так не разнуздывался и чтобы вы обо всем знали заранее, я сейчас перед лицом судей, перед лицом всех граждан, собравшихся вокруг, перед лицом всех эллинов, которым приспела охота услышать этот суд, — а их здесь, я вижу, немало: никто не упомнит, чтобы столько народу пришло на спор по государственному делу, — отвечаю тебе, Демосфен: я обвиняю тебя за все твои четыре срока времени, (57) и ежели боги будут благосклонны, а судьи выслушают меня беспристрастно, а сам я смогу припомнить все, что за тобою знаю, то я уверен, что докажу: спасением своим город наш обязан богам и тем людям, которые явили ему милость и кротость,378 а во всех его бедах виноват был Демосфен. И я буду следовать тому самому порядку речи, которого, как слышно, намерен держаться он сам: во-первых, скажу о первом сроке, во-вторых — о втором, в-третьих — о следующем, и в-четвертых — о нынешнем положении дел.
Итак, я возвращаюсь к тому мирному договору, который предложили ты и Филократ.379 (58) Тогда, афиняне, была у вас возможность заключить тот первый мир заодно с союзным советом эллинов, если бы некоторые господа не помешали вам дождаться посольств,380 отправленных вами в ту пору по всей Греции с призывом против Филиппа. Тогда со временем эллины бы сами по доброй воле вернули вам первенство; но вы это упустили, а все из-за Демосфена с Филостратом и той мзды, которую получили эти мздоимцы, соединясь на погибель вам и государству!
(59) Ежели кому из вас от неожиданности такая речь покажется невероятной,381 то давайте все остальное слушать так, как будто мы заседаем по делу о растрате и разбираем давнишние счета: иногда ведь мы садимся за это с предвзятыми мнениями, но когда счета сверены, то никто не бывает столь упрям, чтобы уйти, не согласившись с истинностью того, что доказано счетом. (60) Вот так и вы слушайте меня сейчас. Если кто из вас пришел сюда, сохранивши с прежнего времени мнение, что уж Демосфен-то никогда ничего не говорил в пользу Филиппа по сговору с Филократом, то пусть такие ничего не решают ни за, ни против, пока не выслушают меня, ибо это не по справедливости. Но когда я коротко напомню вам все обстоятельства и приведу постановления, предложенные Демосфеном вместе с Филократом, когда самый истинный счет уличит Демосфена в том, что об этом мире и союзе он предлагал даже больше постановлений, чем Филократ, (61) что он льстил Филиппу и его послам, забывши всякий стыд, что это по его вине народ пошел на мир отдельно от союзного совета эллинов, что это он выдал Филиппу фракийского царя Керсоблепта, друга и союзника нашего города, — если все это я докажу вам с полной ясностью, то прошу у вас немногого: ради всех богов согласитесь со мной, что в первый из четырех своих сроков служил он государству отнюдь не хорошо. А начну я речь с того, откуда вы легко сможете за мной уследить.
(62) Филократ внес предложение разрешить Филиппу прислать сюда глашатая и послов для мирных переговоров. Предложение это было обжаловано как противозаконное. Настало время суда: обвинял подавший жалобу Ликин, Филократ оправдывался, Демосфен помогал ему в защите, и Филократ был оправдан. Вскоре потом архонтом стал Фемистокл.382 Демосфен входит в совет, не будучи по избранию ни действительным, ни запасным его членом,383 но купивши эту должность происками, чтобы заранее быть наготове словом и делом помочь Филократу, как и показали дальнейшие события.
(63) А именно, Фидократ провел новое постановление — о том, чтобы избрать и отправить к Филиппу десять послов просить, чтобы он прислал сюда свое полномочное посольство для заключения мира. Одним из десятерых был Демосфен. Вернулся он оттуда рьяным хвалителем мира, докладывал то же, что остальные послы, и единственный из членов совета поддержал предложение Филократа обещать неприкосновенность глашатаю и послам Филиппа. Итак, один дал возможность послам и вестнику явиться, а другой — вступить в переговоры. (64) При этом обратите особое внимание вот на что: Филипп вел свои переговоры, понятным образом, не с остальными послами — теми, которых потом так оклеветал переметнувшийся Демосфен,384 — а с самими Филократом и Демосфеном, вместе державшимися в посольстве и вместе потом внесшими три предложения: во-первых — не ждать возвращения послов, разосланных вами с призывом против Филиппа, то есть заключить мир не заодно с эллинами, а отдельно; (65) во-вторых, — заключить с Филиппом не только мир, но и союз, чтобы державшие вашу сторону совсем пали духом, видя, что вы их призываете к войне, а сами постановляете заключить не только мир, но и союз; в-третьих — фракийского царя Керсоблепта в клятвенный договор не включать и от мира и союза отлучить; против него даже был объявлен поход. (66) Тот, кто покупал у них все эти выгоды,385 ни в чем не виноват: пока не было клятв и договоров, он вправе был без упрека добиваться своей пользы; а вот те, кто предал и продал силу нашего города, заслужили величайшего вашего гнева.
Посмотрите: вот Демосфен, величающий себя теперь врагом Александра, а тогда врагом Филиппа, попрекающий меня моей дружбою с Александром, этот самый Демосфен лишает нас выгоднейшего для нас времени и вносит предложение, (67) чтобы очередные председатели назначили Народное собрание на восьмое число месяца элафеболиона, то есть — слыханное ли дело? — на священный день жертвоприношений и начала игр в честь Асклепия!386 А под каким предлогом? Для того-де, чтобы если к тому времени прибудут послы Филиппа, то как можно скорее обсудить свои с ним дела! То есть он заранее назначает Народное собрание для еще не прибывших послов, оставляя вам времени в обрез и торопя решения, а все затем, чтобы вы заключили мир не по возвращении разосланных посольств, не заодно с остальными эллинами, а отдельно. (68) После этого, афиняне, послы от Филиппа и впрямь явились, а ваши посольства все еще по чужим городам поднимали эллинов против Филиппа. И тогда Демосфен проводит второе постановление: обсудить условия не только мира, но и союза восемнадцатого и девятнадцатого числа элафеболиона,387 тотчас после городских Дионисий, не дожидаясь возвращения ваших посольств. Что так оно и было, о том послушайте сами эти постановления. [Читаются постановления.]
(69) И вот, афиняне, миновали Дионисии и состоялись назначенные собрания. В первый же день нам было оглашено общее решение наших союзников. Главные его требования я коротко перечислю. Прежде всего, они писали, чтобы мы совещались только о мире; слово «союз» не упоминалось, и не по недосмотру, а потому что и мир-то они считали скорее вынужденным, чем почетным. (70) А затем они сделали добавление, отлично противостоявшее Демосфенову мздоимству и поправлявшее его последствия: дать три месяца на то, чтобы все желающие эллинские государства могли записать себя на том же камне,388 что и афиняне, и принять участие в клятвах и договорах. Этим достигались две большие выгоды: во-первых, выгадывались три месяца времени, достаточные для того, чтобы прибыли посольства от эллинов, а во-вторых, приобреталось благорасположение всех эллинов и общего их совета, чтобы в случае нарушения договоров не пришлось нам воевать в одиночку и без подготовки (а теперь из-за Демосфена так оно и вышло!). Что так это и было, вы убедитесь, выслушав это самое решение. [Читается решение союзников.] (71) Такое решение поддерживал и я, и все выступавшие в тот первый день, и народ тогда разошелся в уверенности, что будет заключен мир, и притом при участии всех эллинов, а о союзе нам лучше и не поминать после всех наших обращений к эллинам.
Но прошла ночь, на другой день мы опять явились в собрание, — и тут-то Демосфен, захвативши возвышение и никому не давая сказать слова, начал твердить, что все сказанное вчера бесполезно без согласия Филипповых послов и что никакого мира без союза быть не может. (72) Незачем, говорил он, «отрывать» мир от союза (я запомнил точно это выражение — так отвратительны были и слово и оратор), незачем ждать, пока соберутся остальные эллины, а нужно самим или воевать, или заключать отдельный мир. А потом он подозвал к возвышению Антипатра389 и стал задавать ему вопросы, о которых предупредил его заранее и на которые подсказал ответы на погибель нашему городу. И в конце концов так оно и сделалось: речью приневолил вас Демосфен, а предложение написал Филократ.
(73) После этого им осталось лишь выдать Керсоблепта и фракийские владения; это они и сделали двадцать пятого числа элафеболиона, перед тем как Демосфен отправился со вторым посольством скреплять договор присягою (да, да, этот враг Александра, враг Филиппа, призывающий нас теперь плевать на македонян, ездил туда послом дважды, хотя мог бы не ездить ни единожды!). Двадцать пятого числа элафеболиона, председательствуя в Народном собрании как член совета (куда втерся происками!), Демосфен вместе с Филократом предал Керсоблепта: (74) Филократ незаметно сделал лишнюю приписку к своему предложению, а Демосфен незаметно провел ее через голосование. В приписке было сказано: «представителям совета союзников в тот же день присягнуть перед послами Филиппа», — а от Керсоблепта в совете представителей не было; стало быть, указав присягать представителям совета, он отлучил от присяги не представленного там Керсоблепта. (75) Прочти-ка, во избежание сомнений, кто внес это предложение и кто поставил его на голосование! [Читается постановление.] Замечательно, право, замечательно, афиняне, что у вас сохраняются государственные записи: ведь слова их незыблемы, не меняются в угоду каждому политическому перебежчику и позволяют народу всякий раз узнать прежних негодяев в тех переменщиках, которые нынче притязают зваться честными людьми.
(76) Еще мне надобно рассказать и о его раболепстве. Ведь Демосфен, афиняне, год заседая в совете, ни разу ни для одного посольства не предлагал почетных мест в театре, а на этот раз впервые и места им назначил, и подушки им подкладывал,390 и ковры расстилал, и ни свет ни заря провожал послов в театр, так что даже был освистан за непристойную лесть. А когда послы отъезжали, он им нанял три запряжки мулов и провожал до самых Фив, выставляя наш город на посмешище. Но чтобы мне не отклоняться от предмета, возьми-ка постановление о почетных местах! [Читается постановление.]
(77) И при таком-то раболепном угодничестве, господа афиняне, этот самый Демосфен, первым узнав от Харидемовых391 лазутчиков о кончине Филиппа, сочинил себе вещее сновидение, будто бы узнал о случившемся не от Харидема, а прямо от Зевса и Афины, ими же днем поклявшись в том, что ночью они с ним разговаривают и предрекают ему будущее. То был седьмой день после смерти его дочери, — а он, не оплакав ее, не совершив всего, что положено, вопреки всем законам, в венке и белом одеянии заклал в праздничную жертву быка, хоть и потерял, несчастный человек, первое и единственное существо, назвавшее его отцом! (78) Я не попрекаю его несчастием, а только думаю о его характере: ведь дурной отец, враг собственных детей вряд ли годен в народные вожди — кто не любит самых родных и близких, тот и вас, чужих, не станет уважать, кто в своих делах нехорош, тот не будет хорош и в государственных, кто дома низок, от того и в Македонии благородства не жди: он меняет лишь место, а не душу!392
(79) А с чего он оказался переметчиком (это у нас пошел второй уже срок его времени!) и как это получилось, что за одни и те же государственные дела Филократ оказался изгнанником по чрезвычайному обвинению, а Демосфен заделался общим обличителем, и как этот мерзавец вверг вас в беду, — обо всем этом стоит послушать поподробнее.
(80) Как только Филипп перешел Фермопилы, неожиданно разрушил фокидские города, а фиванцев так усилил, что это казалось несовместно ни с общим положением, ни с вашей пользой, — тогда вы тотчас начали в тревоге свозить добро из деревень393 в город, а послы ваши, ездившие для мирных переговоров, оказались под тягчайшими обвинениями,394 особенно же Филократ и Демосфен: не только как послы, но и как податели предложений. (81) А как раз в это самое время между ними двумя случилась ссора, из-за чего — вы и сами догадываетесь; и тогда-то в том нежданном общем смятении Демосфен со всеми его пороками, врожденными и приобретенными, с трусостью и завистью к Филократовым взяткам задумался и рассудил вот как: ежели он открыто выступит против и Филиппа, и своих товарищей по посольству к нему, то Филократ заведомо погибнет, остальные послы окажутся в большой опасности, а он сам, вероломный предатель своих товарищей, возвеличится как верный друг народа.
(82) Когда увидели это враги нашего общественного спокойствия, они с радостью стали науськивать его к выступлениям, именуя неподкупнейшим человеком в городе; и он выступил, и с того пошла вся война и смута. Ведь это он, афиняне, первый выдумал и Серрийские укрепления, и Дориск, и Эргиску, и Миртиску,395 и Ган, и Ганиаду, которых мы раньше и названий-то не слыхивали. Это он довел дело до того, что утверждал: ежели Филипп не присылает послов, то это неуважение к нашему городу, а ежели присылает, то это не послы, а соглядатаи. (83) Если же Филипп предлагал наши споры на третейский суд какого-нибудь города ничейного и беспристрастного, то Демосфен заявлял: «нет беспристрастного судьи между нами и Филиппом!» Филипп давал нам Галоннес;396 Демосфен приказывал не брать, если он «дает», а только если «отдает», — сколько спору из-за полуслова! А когда он наградил венками посольство Аристодема, вопреки мирному договору отправленное в Фессалию и Магнесию, то разрушил мир и уготовил нам несчастие и войну.
(84) Пусть так; но ведь он утверждает, будто медными и стальными стенами укрепил страну, заключив союз с евбейцами и фиванцами? Нет, афиняне: именно здесь были вы обижены больше всего и незаметнее всего. И хотя я очень спешу к рассказу об удивительном нашем союзе с фиванцами, однако, чтобы не сбиваться с порядка, я сперва напомню вам, как было дело с евбейцами.
(85) Вспомните, афиняне, как много тяжких обид претерпели вы от халкидянина Мнесарха, отца Каллия и Тавросфена (которым этот Демосфен теперь, взяв взятку, смеет предлагать афинское гражданство), сколько от эретрийца Фемисона,397 который в мирное время захватил у вас Ороп! Однако же, когда фиванцы, переправясь на Евбею, пытались поработить евбейские города,398 вы охотно позабыли обиды, через пять дней пришли им на помощь с кораблями и пехотою и через тридцать дней заставили фиванцев заключить перемирие и уйти, сделавшись господами над Евбеей; но все города с их образом правления вы честно и справедливо вернули вверившимся вам, полагая, что неправильно в ответ на доверие вспоминать злобу. (86) Однако за все эти услуги халкидяне не ответили вам добром. Нет: когда вы потом явились в Евбею на помощь Плутарху,399 то поначалу они притворялись вам друзьями, но потом, когда вы достигли Тамин и переваливали через так называемый Котилейский хребет, то этот самый халкидянин Каллий (которого так нахваливает взяточник Демосфен), (87) как увидел войско нашего государства запертым в страшном бездорожье, откуда не выйти без большой победы и куда не подать помощи ни с суши, ни с моря, так скорей собрал войска со всей Евбеи да выпросил подкрепление от Филиппа, да брат его Тавросфен (который нынче ко всем так приветлив и улыбчив) переправил к нему фокидских наемников, и все они двинулись, чтобы нас уничтожить. (88) И если бы, самое главное, тут не спас наше войско некий бог и если бы, кроме того, наши воины, пешие и конные, не явили свою доблесть и не одержали бы победы в открытом бою при Таминском ристалище, заставив неприятеля заключить перемирие и отступить, то великий позор грозил бы нашему государству: ведь не худшая беда — потерпеть поражение, но двойная беда — потерпеть его от недостойных противников.
Но и после этих всех испытаний вы опять примирились с евбейцами. (89) И тогда этот халкидянин Каллий, получив от вас прощение, по недолгом времени вновь вернулся к природному своему праву: для виду стал созывать в Халкиду всеевбейский совет, а на деле укреплять против вас евбейские силы, а себе приготавливать исключительную тираническую власть. Надеясь в этом заполучить себе помощь Филиппа, он отправился в Македонию, обхаживал царя, звался одним из ближних его товарищей; (90) потом, обидевши Филиппа, сбежал оттуда и предался фиванцам; а потом покинул и их, и вот так-то, переменчивей, чем Еврип,400 над которым он живет, оказался между враждой фиванцев и враждой Филиппа. Не зная, что делать, и слыша, что на него уже готовится поход, он увидел, что единственная оставшаяся надежда на спасение — это заключить клятвенный союз с афинским народом на условии, что ему помогут, если кто ополчится на него (и, конечно, ополчились бы, если бы вы не воспрепятствовали).
(91) Рассудивши таким образом, он отправляет к нам послами Главкета, Эмпедона и бегуна Диодора — с праздными надеждами для народа, с серебряными деньгами для Демосфена и его приспешников. Выторговать себе он хотел три выгоды: во-первых, безобманного союза с вами (ибо если бы народ припомнил ему прежние обиды и отказал в союзе, то ему лишь оставалось бы или бежать из Халкиды, или попасться и погибнуть, — такие мощные силы шли на него и от Филиппа и от фиванцев); во-вторых, ходатаю об этом союзе сулил он мзду за то, чтобы не заседали в Афинах представители от его Халкиды; а в-третьих, чтобы халкидяне не платили союзных взносов.401 (92) И ни в одном из этих расчетов Каллий не обманулся. В самом деле: этот Демосфен, который представляет себя тираноборцем и который, по словам Ктесифонта, печется лишь о вящем народном благе, продал нашу государственную пользу и написал в предложении о союзе: «помогать халкидянам», уравновесив это ради приличия пустою добавкою, «чтобы и халкидяне помогали, ежели кто ополчится на афинян». (93) А представительство халкидян в совете и союзные их взносы, которыми должна была крепиться наша военная сила, Демосфен продал еще того пуще, не жалея красивых слов для позорных дел и убеждая вас речами, будто наше государство так и должно всякий раз первым помогать всем нуждающимся эллинам, чтоб сперва была услуга, а потом — союз. А чтобы вы не сомневались, что это правда, возьми-ка мне договор о союзе с Каллием и прочитай постановление. [Читается постановление.]
(94) Но и то не страшно, что преданы оказались столь важные для нас вещи — представительство и взносы; куда страшнее то, о чем мне сейчас предстоит говорить. До такой наглости и алчности дошел Каллий, до такой продажности — Ктесифонтов хваленый Демосфен, что на глазах у вас, живых, здравых, зрячих, они выкрали десять талантов союзных взносов от Орея и от Эретрии, что от вас увели они представителей этих городов и вернули их в Халкиду, в этот так называемый всеевбейский совет! А какими это сделано происками и кознями, о том не мешает вам послушать.
(95) Появляется однажды перед нами этот Каллий, не посланцы его, а самолично, и, представши в Народное собрание, произносит речь, сочиненную ему Демосфеном. Говорит, будто он только что из Пелопоннеса, где он сделал-де раскладку взносов против Филиппа, и перечисляет, от кого сколько: от мегарцев и всех ахейцев 60 талантов да от всех евбейских городов 40 талантов, а всего 100 талантов, чтобы эти деньги шли на пешую и морскую силу; (96) а немало-де есть и других эллинов, которые хотят участвовать во взносах, так что ни в деньгах, ни в воинах недостатка не будет. Это, говорит он, дела гласные, а еще он делал дела негласные, о которых он может представить свидетелей из наших граждан, — и тут он называет по имени Демосфена и просит подтвердить его слова. (97) Демосфен величаво выступает и восхваляет Каллия с таким видом, словно и впрямь знает дела негласные. Он говорит, что хочет доложить о посольстве, с которым он вернулся из Пелопоннеса и Акарнании. И смысл его речи был такой: все пелопоннесцы уже наготове, все акарнанцы уже взносят взносы против Филиппа (а все благодаря ему!), собранных взносов достанет снарядить сотню быстроходных кораблей, десять тысяч пехоты и тысячу конницы, (98) наготове будут и гражданские ополчения, более двух тысяч латников из Пелопоннеса и столько же из Акарнании, а начальствовать над всеми над ними будете вы; и начнется это дело в самой скорости, шестнадцатого числа анфестериона,402 потому что он объявил по городам, чтобы всем явиться на совет в Афины к полнолунию.
(99) Даже здесь этот Демосфен ведет себя не по-людски, а по-особенному! Ведь когда другие хвастуны принимаются лгать, то стараются говорить неопределенно и неясно, опасаясь изобличения; а Демосфен когда хвастается, то прежде всего ложь свою подкрепляет клятвою, призывая погибель на свою голову, а потом в глаза говорит, когда будет то, чему заведомо не быть, поименно называет людей, которых отродясь не видывал, и так вкрадывается в ваш слух, притворяясь говорящим правду. И поэтому он ненавистен еще сильней: из-за него, негодяя, теперь не опознать и людей порядочных.
(100) Кончив этакий рассказ, Демосфен дает письмоводителю прочесть постановление — длинней «Илиады», пустопорожней собственных его речей и собственной его жизни, и все про надежды, которым не сбыться, и про войска, которым не собраться. А отведя вам глаза от обмана и обольстив вас этими надеждами, он уже в немногих словах предлагает назначить послов в Эретрию просить эретрийцев (очень надо было их просить!) платить свои пять талантов взноса уж не вам, а Каллию, и назначить других послов в Орей просить, чтобы были у нас общие и друзья и враги. (101) Тут-то и видно, что постановлением своим он только хочет вас обокрасть; ведь и орейцев он предлагает послам просить, чтобы они платили свои пять талантов не вам, а опять-таки Каллию! А что это так, ты прочти постановление, только пропусти и пустословие, и триеры, и похвальбы, а начни прямо с этой кражи, которую затеял этот безбожник и мерзавец, по словам Ктесифонтова предложения будто бы всю жизнь трудившийся словом и делом для вящего блага афинского народа! [Читается постановление.] (102) Вот так-то на словах вы услышали и о кораблях, и о пехоте, и о полнолунии, и о союзном совете, а на деле лишились десяти талантов союзных взносов.
(103) Остается только сказать, что за предложение свое Демосфен получил мзду в три таланта: талант из Халкиды от Каллия, талант из Эретрии от тирана Клитарха и талант из Орея. Через Орей-то это все и раскрылось, потому что власть в этом городе народная и дела решаются народными постановлениями. Орейцы, издержавшись на войну и оказавшись в бедственном положении, посылают к Демосфену послом Гносидема, сына бывшего орейского тирана Харигена, умоляя простить им этот талант и обещая ему за это поставить медную статую; (104) но Демосфен ему ответил, что медь ему нимало не надобна, и стал взыскивать свой талант через Каллия. И орейцы на своем безденежье были вынуждены заложить ему за этот талант государственные доходы и выплачивали Демосфену по драхме с мины каждый месяц,403 пока не погасили всего капитала. Все это было сделано по народному постановлению; прочти нам это орейское постановление в знак того, что я не лгу! [Читается постановление.] (105) Такое постановление, афиняне, для города нашего — позор, для Демосфена — разоблачение его пронырства в государственных делах, а для Ктесифонта — прямое обвинение: ведь такой подлый взяточник никак не может быть тем достойным мужем, какого изображает нам Ктесифонт в предложении о венке!.
(106) Вот мы и дошли до третьего срока времени, а вернее сказать — наихудшего: именно здесь погубил Демосфен и наш город, и всех эллинов, явив свое нечестие пред дельфийскою святынею и свою несправедливость в неравном нашем союзе с фиванцами. Я начну с его прегрешений против богов.
(107) Есть, афиняне, в Кирре404 равнина и пристань, ныне именуемая не иначе как окаянною и проклятою. Насельниками этих мест были некогда киррейцы и крагалиды, беззаконнейшие племена, против Дельфов и дельфийских приношений чинившие нечестия, а против окрестных амфиктионов — обиды. Негодуя на происходящее, ваши предки (так гласит предание), а за ними и остальные амфиктионы испросили божие вещание, какому наказанию обречь этих людей? (108) И бог повелевает: воевать против киррейцев и крагалидов вседневно и всенощно, народ поработить, а землю и город, разорив, посвятить Аполлону Пифийскому, Артемиде, Латоне и Афине Промыслительнице, чтобы больше этих мест никогда не возделывать. Вняв такому вещанию, окрестные амфиктионы по почину Солона Афинского, мужа и в законодательстве сильного, и в стихотворстве и любомудрии искушенного, порешили по воле божией идти войной против этих окаянных. (109) И, собрав со своих окрестностей сильное войско, они поработили народ, срыли город и пристань, а землю по божьему слову объявили заповедною и о том поклялись великою клятвою, что заповедную ту землю ни сами не будут возделывать, ни другим не попустят, а заступаться будут за бога и заповедную ту землю и руками, и ногами, и всеми силами. (110) Но не удовольствовавшись и этою клятвою, они добавили к этому мольбу и страшное отлучение; а в отлучении этом сказано: «ежели кто нарушит запрет, будь то город, народ или человек, то да будет он отлучен от Аполлона, и Артемиды, и Латоны, и Афины Промыслительницы»; (111) и далее, чтобы земля им не давала урожая, а скотина приплода, а жены чтобы рождали уродов вместо детей, похожих на родителей, и чтобы на войне, в суде и в совете им терпеть лишь неудачи, и чтобы сгинули вконец и сами они, и домы их, и роды их; «и да не приносят они, — сказано, — угодных жертв ни Аполлону, ни Артемиде, ни Латоне, ни Афине Промыслительнице, и те да не приемлют их жертв!» (112) В подтверждение сказанного прочти нам божие веление; выслушайте и отлучение; припомните и те клятвы, которыми ваши предки поклялись вместе со всеми амфиктионами, [Читаются оракул, клятвы и отлучение.]….
(113) Но вот, несмотря на то что и отлучение, и вещание, и клятвы до сих пор стоят там начертаны,405 локрийцы из Амфиссы (а вернее — те беззаконники, которые встали во главе их) вновь начали ту равнину возделывать, а проклятую и окаянную пристань заселять, обносить стенами и даже взыскивать пошлины с приплывающих; а когда в Дельфы приходили заседатели на собор амфиктионов, то иных они подкупали деньгами; и конечно, среди них был и Демосфен. (114) Избранный вами в заседатели совета амфиктионов,406 он принял от амфиссейцев две тысячи драхм за то, чтобы меж амфиктионов не было об Амфиссе ни слова; а на будущее ему было обещано и в Афины посылать по двадцать мин в год из этих проклятых и окаянных денег, чтобы и в Афинах он всячески заступался за амфиссейцев. Тут и получилось еще видней, чем прежде: с кем ни свяжется Демосфен, будь то частный человек или правитель или даже город с народной властью, всем он приносит лишь непоправимые несчастия. (115) Посмотрите же, как судьба и божество превысили нечестие амфиссейцев.
В архонтство Феофраста вы избрали священнопредстоятелем407 в совет амфиктионов Диогнета Анафлистийского, а заседателями при нем — Мидия из Анагиррунта (жалко мне, и небеспричинно жалко, что его уже нет в живых!), Фрасикла из Эя и третьим меня. Только мы пришли в Дельфы, как священнопредстоятель Диогнет заболел горячкою, вслед за ним — и Мидий; а остальные амфиктионы уже заседали. (116) Между тем благожелатели нашего города донесли нам, что амфиссейцы, которые тогда подчинялись и рабски прислуживались к фиванцам, предложили против нашего города постановление: взыскать с афинского народа пятьдесят талантов за то, что мы пожертвовали в новый храм еще до его освящения408 золотые щиты с приличной надписью: «Афиняне из добычи от мидян и фиванцев,409 когда те воевали против эллинов». Наш священнопредстоятель послал за мною и попросил выступить в совете перед амфиктионами в защиту нашего города; да я уже и сам так хотел.
(117) Когда я пришел в совет и начал говорить с особенным пылом, потому что другие заседатели уже разошлись, то один из амфиссейцев, большой наглец, видимый невежда, а быть может, даже неким демоном побуждаемый к такому вздору, закричал: «Эллины! да если бы вы были в здравом уме, вы бы даже имени афинского народа не стали произносить в такие дни, а сразу бы изгнали их из храма как отверженных!» — (118) и напомнил о союзе нашем с фокидянами, который предложил когда-то этот наш Хохлатый,410 и много еще говорил поносного для нашего города, что я и тогда едва вытерпел, и теперь вспоминать не хочу. Услыхав такое, я разозлился, как никогда в жизни. Не стану пересказывать, что я там отповедал ему, скажу только, что захотелось мне напомнить, как сами амфиссейцы осквернили ту заповедную землю; и вот, вставши перед амфиктионами, показал я на эту землю — ведь Киррейская равнина лежит ниже храма и вся оттуда видна — и сказал им так: (119) «Смотрите, амфиктионы: вся равнина возделана амфиссейцами, и гончарни на ней построены, и дворы; пристань их, окаянная и проклятая, на глазах у вас обнесена стеною; и что с пристани этой, посвященной богу, получают они доход и дают его на откуп, это вы знаете сами и без свидетелей». И велел прочесть им божье вещание, и клятву предков, и объявленное отлучение, и возгласил: (120) «За афинский мой народ, за себя, за дом мой и детей моих я по давней той клятве заступаюсь за бога и священную ту землю и руками, и ногами, и голосом, и всеми силами, избавляя наш город от скверны перед богами. Вы же, амфиктионы, решайте сами за себя. Корзины с освященною мукою411 приготовлены, жертвенные животные стоят у алтарей, вы намерены молить богов о благе, частном и общем; (121) так подумайте же, каким голосом, с каким чувством, с какими глазами, с какою наглостью вознесете вы такие мольбы, ежели оставите безнаказанными этих отлученных нечестивцев! Ведь не загадками, а прямыми словами сказано в отлучении, что падет на тех, кто нарушит запрет и кто другим попустит, особенно в самом конце: «кто не отмстит за Аполлона, и Артемиду, и Латону, и Афину Промыслительницу, те да не приносят угодных жертв и боги да не приемлют тех жертв!»
(122) Высказавши все это и многое другое, я умолк и вышел из совета, а среди амфиктионов поднялся великий крик и шум, но уже не о щитах, которые мы посвятили, а только о наказании амфиссейцев. Наконец, уже на исходе дня выступил глашатай и объявил: всем дельфийцам старше восемнадцати лет, будь они рабы или свободные, явиться на рассвете с заступами и лопатами к месту, называемому Жертвенным; и еще объявил: всем священнопредстоятелям и заседателям тоже прийти туда же в помощь богу и священной земле, а какой город не явится,412 тому быть прокляту, окаянну и отвержену от храма. (123) И на следующее утро мы сошлись к назначенному месту, спустились в Киррейскую равнину, срыли пристань, пожгли строения и пустились обратно. Тут локрийцы из Амфиссы, что живут за шестьдесят стадиев от Дельфов, всем людом пошли на нас с оружием, так что мы погибли бы, если бы бегом не укрылись в Дельфы! (124) На следующий день Коттиф,413 ставивший в совете дела на голосование, созывает собрание амфиктионов; а собраниями у них называются такие сходки, к которым созывают не только священнопредстоятелей с заседателями, но и всех, кто приносит богу жертвы или спрашивает у него вещания. В том собрании было сказано много обвинений против амфиссейцев, много похвал нашему городу, а в конце прений было постановлено, чтобы перед следующим собранием414 священнопредстоятели явились в Фермопилы заранее, имея решения о том, какое наказание наложить на амфиссейцев за их проступки перед священною землею, богами и амфиктионами. В доказательство того, что я не лгу, прочитай нам то постановление. [Читается постановление.]
(125) Когда мы доложили это постановление совету и потом Народному собранию, то народ одобрил наше поведение, весь город встал за благочестие, и только Демосфен, льстясь на посулы амфиссейцев, выступал против. Я изобличил его на ваших глазах; и тогда он, не имея возможности обманывать государство открыто, отправляется в совет, удаляет оттуда посторонних и, воспользовавшись неопытностью письмоводителя, наговаривает предварительное решение для Народного собрания, (126) а потом проводит его и через собрание, чтобы оно стало народным постановлением, — собрание тогда уже кончалось, многие уже разошлись, не было и меня, потому что я-то уж этого бы не допустил. Смысл постановления был такой: «Священнопредстоятелю афинского народа и заседателям, находящимся в должности, всякий раз отправляться в Фермопилы и Дельфы в те сроки, какие установлены были предками». На словах это было благолепно, а на деле отвратительно, потому что не позволило нам явиться на то собрание в Фермопилах, которое по необходимости должно было состояться раньше обычного срока. (127) Но еще того откровеннее и хуже, что в том же его постановлении указано: «Священнопредстоятелю афинского народа и заседателям ни словом, ни делом, ни решением, ни иным деянием не соучаствовать с собравшимися там». Что значит «не соучаствовать»? Сказать вам льстиво или сказать вам правдиво? Скажу правдиво, потому что именно вечная льстивость и довела наш город до нынешнего положения. Это значит: нельзя напоминать о клятвах наших предков, нельзя напоминать об отлучении, нельзя напоминать о вещании божьем!
(128) Вот, афиняне, из-за какого постановления мы остались дома. Остальные же амфиктионы собрались в Фермопилах все, — кроме одного лишь города, которого не назову,415 чтобы бедствия его не коснулись никого из эллинов, — и, собравшись, постановили идти войной на дмфиссейцев, а полководцем выбрали Коттифа Фарсальского, который тогда ставил у них дела на голосование. Филиппа тогда не было ни в Македонии, ни в Элладе, он воевал далеко у скифов (хотя Демосфен непременно скажет, будто это я привел его на эллинов!). (129) И при этом первом походе амфиктионы обошлись с амфиссейцами очень кротко: за все их великие преступления наложили на них лишь денежную пеню, чтобы выплатить богу в установленный срок, нечестивцев и виновников случившегося отправили в изгнание, а изгнанников, пострадавших за благочестие, вернули. Лишь когда оказалось, что пеню богу амфиссейцы не платят, нечестивцев вернули, а благочестивцев, возвращенных амфиктионами, изгнали, то был назначен второй поход на Амфиссу, — но прошло уже много времени, и из скифской войны вернулся Филипп. Сами боги, можно сказать, вручали нам начальство в благочестивом подвиге, — и вот из-за Демосфенова мздоимства все сорвалось!
(130) И разве боги не давали вещаний, не давали знамений, не остерегали нас чуть ли не человечьим языком? Ввек я не видывал другого государства, которое боги бы так спасали, а иные собственные болтуны так губили! Разве мало было нам знаменья при таинствах, когда погибали посвященные?416 Разве не советовал тогда Аминиад417 остеречься и спросить в Дельфах, что нужно делать, и разве Демосфен не возражал ему, что-де пифия держит сторону Филиппа, — Демосфен, этот неуч, которому вы дали и отведать и пресытиться властью! (131) А когда после всего этого и жертвы оказались недобрыми и неблагоприятными, разве не послал он воинов на верную смерть?418 И еще он смел недавно напоминать, что-де Филипп оттого не пошел на нашу землю, что жертвы вещали ему недоброе! Какой же казни после этого достоин ты сам, пагуба всей Эллады? Да ведь ежели Филипп, уже победив, не пошел на землю побежденных оттого лишь, что недобрыми были жертвы, а ты, еще не зная будущего, отправляешь войско, сам не дождавшись добрых жертв, то венчать тебя следует или изгнать за все несчастья нашего города?
(132) Ах, есть ли что нежданное и негаданное, что миновало бы нас! Не обычную мы прожили людскую жизнь, а словно родились затем, чтобы потомки о нас рассказывали невероятности! Разве персидский царь, прокопавший Афон, замостивший Геллеспонт, требовавший от эллинов земли и воды, в посланиях дерзавший величать себя владыкою всех народов от востока до заката, разве он теперь не бьется не за власть, а за собственную жизнь? А ведь славы предводительства в войне против персов удостоились те самые [македоняне], которые освободили Дельфийский храм!419 (133) А Фивы, Фивы, соседний нам город, в единый день исторгнутый из самой сердцевины Эллады, — пусть поделом, пусть все их решения были неправильны, но безумие их и одержимость все же были не от людей, а от божества! А несчастные лакедемоняне,420 лишь в самом начале, при захвате храма прикоснувшиеся к этому худому делу, — они, некогда притязавшие первенствовать над всеми эллинами, теперь посылают к Александру заложников во свидетельство своих бедствий и должны будут вверить себя и отечество любому его решению, уповая лишь на сдержанность оскорбленного ими победителя! (134) А наш собственный город, общее прибежище эллинов, куда прежде сходились посольства со всей Эллады, где каждый город надеялся найти у вас спасение? Теперь он борется уже не за первенство среди эллинов, а за родные свои очаги. И все это постигло нас с тех пор, как к государственным нашим делам пробрался Демосфен!
Именно о таких, как Демосфен, превосходно сказано в стихах Гесиода — там, где он поучает народ и советует городам не вверяться худшим из народоводцев. (135) Я напомню вам эти стихи: мы ведь затем и заучиваем детьми изречения поэтов, чтобы потом взрослыми применять их к делу.
Часто немалый град за единого платится мужа, Мужа, который творит грехи и вершит безрассудство: Оному граду с высоких небес наказатель Кронион Рушит глад и мор, от которых погибель народу; Или ввергает в разор обширное войско и стены Или морские суда рассыпает Зевес-громовержец.421(136) Отвлекитесь от стихотворного размера и вдумайтесь в мысль — и, верно, вам покажется, что это не стихи Гесиода, а божье пророчество о Демосфеновом правлении: ведь и впрямь его правлением погублены и корабли, и пешее войско, и целые города!
(137) Но я уверен: никакой Фринонд, никакой Еврибат,422 ни иной мерзавец былого времени не дошел до такого обмана и коварства, чтобы нагло утверждать, глядя вам в глаза, — слушайте, земля, и боги, и демоны; и вы, коли хотите слышать правду! — что фиванцы-де заключили с вами союз не под давлением обстоятельств, не из-за теснящего их страха, не ради вашей доброй славы, а только из-за силы Демосфеновых речей! (138) Ведь и раньше в Фивы не раз снаряжались самые угодные фиванцам послы: сначала Фрасибул из Коллита, которому фиванцы доверяли, как никому, потом Фрасон из Эрхия, который был им гостеприимцем, и Леодамант Ахарнский, умевший говорить не хуже Демосфена (а по мне, так и слаще), (139) и Архедем из Пелеки, тоже мастер говорить и немалым ради фиванцев подвергшийся у нас опасностям, и Аристофонт из Азении, столько лет живший под обвинением в потворстве беотийцам, и Пиррандр из Анафлиста, который и сейчас в живых. Но и из них никто никогда не мог склонить фиванцев к дружбе с вами. Причину тому я знаю, но не скажу, — Фивы и так достаточно пострадали. (140) И только тут, когда Филипп отбил и передал фессалийцам Никею, когда эту самую войну, им же когда-то отстраненную от беотийской земли,423 он двинул через Фокиду на самые Фивы, когда, наконец, он взял Элатею, укрепил ее и занял войском, — только тут, почувствовав, что опасность уже рядом, фиванцы отправили к вам послов, а вы выступили и вошли в Фивы пехотою и конницею с оружием в руках раньше, чем Демосфен звуком успел обмолвиться о союзе!
(141) Обстоятельства, страх и нужда фиванцев в вашем союзе, — вот что привело вас в Фивы, а вовсе не Демосфен. Больше того: именно в деле об этом союзе Демосфен трижды тягчайшим образом провинился перед вами.
Во-первых, хотя Филипп на словах воевал и с вами, настоящую вражду он питал не к вам, а к фиванцам:424 это настолько видно из событий, что об этом нечего и говорить. Демосфен же, уверяя, будто к союзу привели не обстоятельства, а его посольства, утаил от вас это важнейшее из обстоятельств. (142) Этим он, прежде всего, убедил народ не обсуждать условий союза, а радоваться любым условиям, лишь бы состоялся союз; между тем при этом он головой выдал Фивам всю Беотию,425 написав в своем предложении: «Если какой город отложится от фиванских беотийцев, то афиняне должны им помочь». На словах он опять плутовал и все запутывал, но на деле-то беотийцы, попав под гнет, ведь не будут любоваться на Демосфеновы хитросплетения, а обратят ненависть против вас, из-за которых этот гнет. (143) Этим он, далее, возложил две трети военных издержек на вас и только треть на фиванцев, хоть вы и дальше находились от войны (и то и другое, конечно, за взятку); начальство на море сделал совместным, а издержки взвалил на вас одних; начальство же на суше, говоря без громких слов, целиком вручил фиванцам, так что во время военных действий ваш же полководец Стратокл426 оказался не вправе позаботиться о спасении ваших воинов. (144) Вы даже не можете сказать, будто я один говорю против него, а другие молчат: нет, и я обвиняю, и другие бранятся, и вы сами все понимаете, а гневу никакого. Таково уж ваше отношение к Демосфену: вы настолько привыкли слышать о его подлостях, что уже не удивляетесь. А надо не так: надо негодовать и карать, ежели вы хотите, чтобы городу нашему хоть впредь было хорошо!
(145) Во-вторых, — и эта подлость еще того подлее, — он договорился с беотархами о соучастии их во всех делах, и этим, ни много ни мало, перенес и совет ваш, и народную власть в Фивы, на Кадмею,427 а вы и не заметили! Для себя же он добился такого самовластия, что, всходя на помост, говорил, что пойдет послом туда, куда сам захочет, даже против вашей воли, (146) а если кто из военачальников перечил ему, то приводил их к рабской покорности и отучал перечить, говоря, что затеет тяжбу между ораторским помостом и военным советом, потому что вам-де куда больше было пользы от него с помоста, чем от военачальников из совета. Получая от вас военные деньги на наемников, он обкрадывал вас,428 нанимая их меньше нужного; а когда он отдал десять тысяч наемников в службу амфиссейцам, — хоть уж я ли клятвенно не корил его во всех собраниях! — то этим лишил город наемной защиты и оставил открытым перед опасностью. (147) В самом деле: сразиться отдельно в Амфиссе429 с вашими наемниками, а потом отдельно с вашим гражданским ополчением и под впечатлением такого разгрома взять отчаявшихся эллинов голыми руками, — да чего еще Филиппу было и желать! А Демосфен, виновник всех этих бедствий, не только не доволен, что избежал расплаты, а еще и гневается, если ему не дадут золотого венка; не доволен, что о венке объявят перед вами, а еще и гневается, если не пред всеми эллинами. Как видно, это и значит: дурной нрав, дорвавшись до большой власти, творит бедствия целому народу.
(148) В-третьих же, я должен сказать и о таком деле, которое еще важнее первых двух. Филипп был умный человек, эллинов не недооценивал и понимал, что за несколько часов должна решиться судьба всех уже достигнутых им преимуществ; поэтому он был готов к миру и собирался послать в Фивы посольство. Фиванские правители тоже опасались близящейся опасности, — и понятно, потому что наставником их был не краснобай, непривычный к оружию и бросающий свое место в строю, а сама десятилетняя Фокидская война дала им приснопамятный урок. (149) Демосфен заметил такие настроения и заподозрил, что беотархи без него получили от Филиппа взятку, чтобы заключить отдельный мир. Упустить взятку — этого уж он пережить не мог; и вот он вскакивает в фиванском собрании, где тогда и разговору не было ни о мире, ни о размирье с Филиппом, и, — словно подавая знак беотархам поделиться с ним частью прибыли, начинает клясться Афиною, — (150) видно, Фидий нарочно ее выделал ради Демосфеновой наживы и лживых клятв! — начинает клясться Афиною, что ежели кто заикнется о мире с Филиппом, то он-детого своею рукою за волосы потащит в тюрьму: ни дать ни взять как тот Клеофонт,430 который, говорят, во время войны с лакедемонянами так и погубил наше государство. Но когда фиванские правители и на это не обратили внимания, а даже отослали обратно уже выступивших ваших воинов, чтобы вы порассудили о мире, — (151) тогда Демосфен, вконец обезумевши, выскочил на помост, стал обзывать беотархов предателями эллинов и грозиться, что предложит послать в Фивы послов, чтобы фиванцы пропустили наше войско на бой с Филиппом (это он-то, никогда не глядевший врагу в глаза!). Тут уж фиванские правители, устыдившись и впрямь показаться предателями эллинов, отказались от мысли о мире и принялись готовиться к войне.
(152) Как мне здесь не вспомнить о тех наших доблестных мужах, которых этот Демосфен вопреки недобрым и неблагоприятным жертвам сам отправил на верную смерть, а теперь еще смеет, взойдя на их курган теми же стопами, какими бежал с поля боя и с места в строю, прославлять хвалою их мужество!431 Ты, который на деле не способен ни к чему великому и хорошему, на словах же удивительно смел, — неужели ты посмеешь, глядя этим гражданам в глаза, объявить, что за все бедствия нашего отечества тебе причитается венок? А ежели он и посмеет, — то неужели вы, граждане, это потерпите, неужели ваша память впрямь умерла вместе с этими павшими? (153) Представьте на мгновение, что вы не в судилище, а в театре, и подумайте, что вот к вам выходит глашатай и возглашает то, о чем речь в Ктесифонтовом постановлении, и потом скажите, о чем больше прольют слез родственники павших: о страданиях героев в последующих трагедиях или о несправедливости отечества? (154) Какой эллин, воспитанный как свободный человек, не загрустит, припомнив хотя бы о том, как когда-то, когда в городе законы были лучше и вожди достойнее, в этот самый день, перед началом таких же трагических представлений, как нынче, глашатай выводил к народу во всеоружии достигших совершеннолетия сыновей тех, кто пал на поле боя, и возглашал прекраснейшие и вдохновляющие к доблести слова: этих-де юношей, чьи отцы пали в битве смертью доблестных, сам народ вскормил до зрелой младости, а теперь наделяет их всеоружием и предоставляет в добрый час самим избирать себе дело и приглашает на лучшие в театре места. (155) Так бывало прежде, но не теперь: ибо что сказать, что крикнуть глашатаю, выведя к народу виновника их сиротства? Да ведь если он и повторит, что сказано в Ктесифонтовом предложении, то сам голос истины не смолчит о позоре, и послышатся нам слова, противозначные глашатаевым: этого-де мужа, коли он — муж, награждает венком афинский народ: порочней него — за добродетель, малодушнейшего беглеца — за доблесть! (156) Нет, афиняне, во имя Зевса и всех богов, не воздвигайте в Дионисовом театре трофея в честь собственного поражения, не уличайте афинский народ в безумстве пред всеми эллинами, не напоминайте о непоправимых и неисцелимых бедствиях несчастным этим фиванцам, которых Демосфен обрек на изгнание, а вы дали им убежище, чьи погублены святыни, гробницы, отпрыски Демосфеновым мздоимством и золотом персидского царя!432 (157) Вас там не было, но представьте их бедствия хоть мысленно: вообразите воочию, как гибнет город, рушатся стены, горят дома, влачатся в рабство женщины и дети, а те старцы и старухи, которым поздно уж отвыкать от свободы, плачутся, взывают к вам, негодуют не на тех, кто казнит, а на тех, кто виновник такой казни, и наказывают вам не венчать венком этого губителя всей Эллады, а беречься того злого божества и злого рока, которые всюду спешат за ним вслед! (158) Ведь и впрямь ни городу, ни частным лицам никогда не случалось добра от советов Демосфена. Не стыдно ли вам, афиняне? У вас есть закон о перевозчиках на Саламин: у кого-де при перевозе нечаянно перевернется лодка, того более не допускать к перевозу, чтобы неповадно было беспечничать жизнью эллинов; так вы ли дозволите вновь заправлять общественными делами этому человеку, вконец перевернувшему вверх дном и ваш город, и всю Элладу?
(159) Перехожу, наконец, к четвертому сроку времени и к нынешнему положению дел. Прежде всего хочу напомнить вам: Демосфен покинул свое место433 не только в ратном строе, но и в государственном — он взял у вас корабль и отправился собирать деньги с эллинов. А когда после нашего негаданного спасения он вернулся в город, то весь трясся, на помост взошел еле жив и предложил вам себя на должность «мироблюстителя», вы же отказывались даже имя его упоминать434 при предложениях и называли вместо него Навсикла. А теперь он еще и требует венка!
(160) Но Филипп скончался, власть принял Александр, и Демосфен снова пустился вздорить: Павсанию воздвиг святилище, совет наш поставил в опасность благодарственными жертвами за добрую весть, Александра обзывал «Маргитом»435 и имел нахальство уверять, что он-де и не двинется из своей Македонии, ему-де милей прохаживаться по Пелле и рассматривать животные потроха,436 и это-де не догадка, а заведомость, потому что доблесть добывается ценой крови. И это говорил он, сам не имея крови в жилах, а царя Александра меря не его нравом, а собственным безнравием! (161) Но когда уже и фессалийцы постановили выступить против вас,437 и юный царь впервые вспыхнул законной яростью, и войска уже были возле Фив, то этот Демосфен, выбранный от вас к нему послом, с полпути, от Киферона, удрал обратно: впрямь не было никакого от него толку ни в мирное время, ни в военное! И вы его не выдали, не отдали на суд всеэллинского совета,438 тогда как он — и это самое страшное — выдал вас Александру головой, если только правду о том рассказывают. (162) А рассказывают моряки с «Парала»439 и послы, ходившие к Александру, вот какую историю, очень похожую на правду. Есть такой Аристион из платейского рода, сын Аристобула, торговца зельями, которого, может быть, и из вас кто-нибудь знает. В юности своей он отличался красотою и долго жил в Демосфеновом доме; что он там делал или что с ним делали — это дело темное, и мне о том непристойно говорить. Вот о нем и говорят, будто он вкрался в доверие к Александру и стал с ним близок (благо там не знали, кто он есть и какого поведения) и будто через него-то Демосфен отправил Александру письмо, полное всяческой лести и снискавшее ему прощенье и мир.
(163) Посмотрите сами, разве такое обвинение не подтверждается на деле? Ведь если Демосфен и впрямь к Александру так враждебен, как он уверяет, то у него были три прекрасных случая проявить эту вражду, а он ни одним не воспользовался. Первый — это когда Александр, только что приняв, власть и еще не управив собственных дел, двинулся в Азию: персидский царь был тогда в полной своей силе, пешей, конной и морской, и перед лицом надвигающейся опасности охотно бы принял вас в союзники, — но скажи, Демосфен, молвил ли ты тогда об этом хоть слово, сделал ли хоть какое предложение? Не вернее ли сказать, что, по обычаю своему, ты был тогда в смертном страхе? Что ж: выгодный народу случай не станет дожидаться трусливого ходатая. (164) Далее — когда Дарий со всеми силами вышел к морю, и Александр оказался заперт в Киликии и терпел-де крайнюю нужду, и вот-вот-де был бы растоптан персидскими копытами, — тогда наш город не мог вместить твоей заносчивости, ты расхаживал, держа напоказ по письму под каждым пальцем, говорил, что в лице у меня страх и отчаянье, издевался, что мне уже вызолотили рога440 и надели жертвенный венок на случай Александрова поражения, — но и тут ничего ты не предпринял, а все откладывал до лучших времен. (165) Пропускаю остальное подобное — скажу лишь о делах сегодняшних: вот лакедемоняне с наемниками одержали победу, разгромили войско Коррага,441 к ним пристали элидяне с ахейцами, кроме лишь Пеллены, и аркадяне, кроме лишь Мегалополя, да и тот был в осаде и со дня на день должен был пасть; Александр уже по ту сторону севера и едва ли не за краем света, Антипатр долго-долго собирает свои силы, будущее покрыто неизвестностью, — и что же, Демосфен, что ты тогда сделал, что ты хотя бы сказал? Если хочешь — вот тебе помост, скажи сам.
(166) Молчишь? Не знаешь? Так и быть, повторю твои слова вместо тебя. Неужели вы не помните, каковы были мерзкие и непонятные его словечки,442 которые и выслушать-то нужно было иметь железные силы? Он еще говорил: «Иные обирают наш град, как вертоград, обрезают молодые лозы народа, подрубают жилы наших сил, нас сшивают, как плетенки, нас втыкают, как иголки, в самые стесненные обстоятельства!» (167) Что это такое, словоблудие? слова или чудовища? А в другой раз ты кричал, вертясь волчком на помосте, будто борешься с Александром: «Да, это я поднял лаконян, это я заставил отложиться фессалийцев и перребов!» Это ты-то заставил отложиться фессалийцев? Да как будто ты можешь хоть деревушку заставить отложиться, как будто ты на шаг подойдешь не то что к городу, а к дому, где есть хоть малая опасность! Вот где деньги раздают, там ты неотлучен; но мужское дело никакое не по тебе. Случись что само собою, ты присвоишь это и припишешь себя к событию; случись страшное, ты удерешь; а случись народу вздохнуть свободно, ты требуешь наград и золотых венков.
(168) «Пусть так; но он друг народа!» На этот счет коли будете вы слушать лишь его красивые слова, то останетесь обмануты, как и прежде, но коли посмотрите на истинный характер его, то сумеете не даться в обман. Потребуйте же с него отчета вот каким образом. Я вместе с вами буду перечислять, какие черты характера должны быть у человека здравомыслящего и преданного народу, а какие, наоборот, у человека злонамеренного и приверженного к власти немногих. Вы же, сопоставляя то и другое, сами посмотрите, каков этот Демосфен не на словах, а в жизни.
(169) Все вы, наверное, согласитесь, что у друга народа должны быть вот какие качества. Во-первых, он должен быть свободнорожденным как по отцу, так и по матери, чтобы вследствие неблагополучного происхождения не встала в нем обида на законы, которыми держится народная власть. Во-вторых, предки его должны иметь заслуги перед народом или по крайней мере никакой вражды с народом, чтобы месть за невзгоды предков не толкнула его против нашего государства. (170) В-третьих, он должен быть умерен и здравомыслен в повседневном образе жизни, чтобы из-за разнузданного расточительства не поддаться подкупу во вред народу. В-четвертых, он должен быть благомыслящим и красноречивым: хорошо, когда силою ума человек может выбрать наилучшее решение, а силою образования и красноречия убедить в нем слушателей; если же этого не дано, то благомыслие в любом случае важнее красноречия. В-пятых, наконец, он должен быть мужествен духом, чтобы не покинуть народ в час беды и опасности. А у человека, приверженного к власти немногих, все свойства должны быть противоположны этим, так что их не надобно и перечислять. Рассмотрите же теперь, какими из этих качеств обладает Демосфен, и ведите вашу проверку по всей справедливости.
(171) Отец этого Демосфена, Демосфен Пеанийский, был человек свободнорожденный, тут ничего не скажешь. Зато о матери, о ее отце и прочей родне я кое-что скажу. Был у нас такой Гилон Керамейский; он когда-то предал врагам Нимфей на Понте,443 принадлежавший в то время нашему городу, и бежал из-под чрезвычайного обвинения, грозившего смертью, не дожидаясь суда; он является в Боспор, получает в подарок от боспорских тиранов так называемые Сады, (172) и тут-то он женится на женщине, которая была богата (еще бы!) и много принесла ему золота в приданое, но роду-то она была скифского. От нее у него были две дочери, которых он прислал в Афины с богатым приданым: за кого он выдал первую, не скажу, чтобы не завести лишних врагов, а вторую взял за себя, не считаясь с афинскими законами,444 тот самый Демосфен Пеанийский, и от нее-то родился вот этот хлопотун и сутяга Демосфен. Стало быть, по деду он — враг народа, так как предка его вы приговорили к смертной казни; по матери же он — скиф, то есть варвар, лишь говорящий эллинским языком. От этого чуждого происхождения и пороки его.
(173) А каков его повседневный образ жизни? Он был снарядителем кораблей — а оказался наемным сочинителем судебных речей,445 потому что смехотворно расточил все отцовское имущество. Лишась доверия и здесь — за то, что он выдавал противникам доводы защиты,446 — выскочил он на помост Народного собрания. Заправляя государственными делами, брал он вдоволь, но осталась при нем самая малость. Нынче он покрыл свои расходы царским золотом, но и это ненадолго: дурному нраву никакого золота недостанет. Самое же главное, что живет он за счет не своих доходов, а ваших, афиняне, бедствий.
(174) А благомыслие и красноречие? Говорит красно, живет гнусно: с кем он сходится сам и от кого рождает детей, я и говорить не хочу, — кто слишком ясно говорит о чужом позоре, тому не миновать чужой злобы. Что же остается государству? Пышные слова и скверные дела.
(175) Наконец, о мужестве его мне довольно немногих слов. Если бы он сам не признавал, что он — трус, или если бы вы сами о том не знали, то я бы многое должен был сказать; но так как и вам это небезведомо, и он не раз соглашался с этим при всем народе, то я лишь напомню, какие на этот случай есть законы. Древний наш законодатель Солон почел нужным назначить равные наказания за уклонение от воинской службы, за оставление места в строю и за трусость: в самом деле, ведь привлечь к суду можно и за трусость! Иные удивятся, что к суду привлекают за свойство характера. Но для чего это делается? Для того, чтобы каждый из вас пуще врагов боялся кары собственных законов и поэтому отважней сражался за отечество. (176) Стало быть, и уклоняющегося, и беглеца, и труса наш законодатель отлучает от площади, окропляемой жертвенною кровью,447 от венчания венком, от участия во всенародных жертвоприношениях; ты же, Ктесифонт, велишь нам увенчать того, кого отлучают законы, призываешь на трагические зрелища того, кто к ним не допущен, вводишь в святилище Диониса того, кто предал своею трусостью все святыни.
Я не стану долго отвлекаться от предмета; но когда Демосфен начнет твердить, что он друг народа, то припомните все, что я сказал, и судите его не по словам, а по делам, и не по тому, каким он представляет себя, а по тому, каков он есть.
(177) Но коли уж зашла речь о наградах и венках, то, пока я не забыл, позвольте предостеречь вас, афиняне: если вы не перестанете так щедро дарить награды и так бездумно жаловать венки, то ни от награждаемых не ждите благодарности, ни для государства — поправления дел: потому что подлецов вы не переделаете к лучшему, а хороших людей только вгоните в крайнюю тоску. Что я правду говорю, тому можно привести убедительные примеры. (178) Так, если бы вас спросили, когда была больше слава нашего города, нынче или в прежние времена, все бы, конечно, ответили, что в прежние. А люди когда были лучше, тогда или теперь? Тогда — отличные, теперь — гораздо хуже. А наград, венков, провозглашений, пританейских угощений когда было больше, тогда или теперь? Тогда все это было редкостью, и само имя добродетели уже было почетно; ныне же все это обесценилось, и венки вы назначаете по привычке, а не подумавши. (179) Не странно ли это, по-вашему: наград было меньше, а город был крепче, и люди тогда были лучше, а теперь хуже? Я попробую вам это объяснить. Как по-вашему, афиняне, захотел бы кто-нибудь упражнять себя в разноборье или ином тяжелом состязании ради олимпийского или другого подобного венка, если бы венки эти давались не самому сильному, а самому сговорчивому? Конечно, никто бы не захотел. (180) Если люди отваживаются на великие лишения, чтобы только укрепить и закалить себя, то это оттого, что награды эти — редкие, добываются с бою и остаются прекрасны и приснопамятны, благодаря победе. Вообразите же себя самих распорядителями состязаний в гражданской доблести и рассудите: ежели награды вы будете раздавать лишь немногим, лишь достойным и лишь по правилам, то состязателей в доблести у вас окажется множество, если же вы станете их жаловать каждому желающему и по договоренности с ним, то и у честных людей развратится нрав.
(181) Что это так, я сейчас покажу вам еще нагляднее. Кто, по-вашему, лучше: Фемистокл, начальствовавший при Саламине, когда вы в море разбили персов, или этот Демосфен, нынче бросивший строй? Мильтиад, одолевший варваров при Марафоне, или этот господин? Он или те, кто из Филы воротили в Афины народовластие? Он или Аристид, чье прозвище, в отличие от Демосфенова, — Справедливый? (182) Клянусь олимпийскими богами, грешно кажется и упоминать-то рядом об этих мужах и о нашем чудище! А вот пусть Демосфен покажет, было ли постановлено хоть одного из них наградить венком. Нет? Неужели народ так неблагодарен? Напротив, народ наш высокодушен, и мужи эти вполне его достойны: они полагали, что слава — не в писаных постановлениях, а в памяти облагодетельствованных, и память эта остается жива с тех давних пор и до нынешнего дня.
Какие все же получили они награды, об этом тоже стоит напомнить. (183) Были, например, тогда воины, которые ценою тяжких трудов и больших опасностей одержали победу над мидянами на реке Стримоне,448 а потом вернулись и просили народ о награде; и народ назначил им великую по тому времени почесть — позволил поставить три гермы в Портике Герм, но не надписывая никаких имен, чтобы видно было, что надпись эта не от полководцев, а от народа. (184) Что я правду говорю, видно из самих стихов. Вот что написано на первой герме:
Много пришлось претерпеть и тем, что, с сынами мидийцев Встретясь в Эйонском краю, их у Стримона-реки Голодом жгучим терзали и в схватках Ареса кровавых Первыми ввергли врагов в горе и злую нужду.449На второй:
Здесь в награду вождям афинский народ благодарный В память великих заслуг им эту герму дарит; Пусть же, взглянув на нее, стремится каждый потомок, Общему благу служа, смело на битву идти.(185) И на третьей:
Некогда царь Менесфей450 отсюда с Атридами вместе К Трои священной полям мощное войско повел. Был он, Гомер говорит, среди крепкобронных данайцев Славен искусством своим воинов строить на бой. Вот почему и теперь подобает афинянам зваться Славными в ратных делах, доблесть являя свою.Названы ли здесь по именам полководцы? Нет, но только народ.
(186) Перенеситесь мысленно в Пестрый портик451 на ту площадь, где стоят памятники всех ваших лучших подвигов. Что в нем запечатлено? Марафонская битва. Кто был в ней военачальником? На такой вопрос всякий ответит: Мильтиад. А ведь имя его там не надписано; почему? Может быть, он об этом не просил? Просил, но народ отказал, а вместо этого позволил изобразить его шагающим впереди и воодушевляющим воинов. (187) А в храме Матери богов можно видеть награду, данную вами тем, кто из Филы воротил вам народную власть. Предложение об этом внес тогда Архин из Келы, сам один из восстановителей народовластия. И предложил он, во-первых, отпустить на жертвы и священные приношения всего тысячу драхм, то есть меньше, чем по девяти драхм на человека; во-вторых, венчать каждого венком, но не золотым, а оливковым, — тогда и оливковый венок был в почете, а теперь и золотой в презрении; в-третьих же, даже это делать не без разбора, а лишь тщательно рассмотрев в совете, кто именно находился в Филе и осаждался там лакедемонянами и тридцатью тиранами (это не то, что «кто покинул строй при Херонее перед натиском врага»!). Что это так, вам подтвердит само постановление. [Читается постановление о наградах тем, кто были в Филе.] (188) А теперь прочти для сравнения постановление Ктесифонта о Демосфене, виновнике худших наших бед! [Читается постановление.] Разве нынешнее постановление не отменяет всех наград восстановителям народовластия? Если здесь все хорошо, то там нехорошо; и напротив, если те награждены по заслугам, то этот господин нипочем не достоин венка.
(189) Но он, кажется, собирается возражать, что я нечестно сравниваю его деда с делами предков: ведь и в Олимпии-де борец Филаммон452 получил венок за борьбу со сверстниками, а не с Главком, знаменитым борцом древности! Как будто вы не знаете, что простые борцы и впрямь борются друг с другом, но взыскующие венка борются с той самою доблестью, за которую они ищут венка. Глашатай не должен лгать, когда делает оглашение в театре перед эллинами! Поэтому не доказывай нам, что ты лучше управляешь, чем какой-нибудь Патэкион,453 а сумей достигнуть добродетели и тогда уже требуй от народа наград.
(190) Но чтобы не отвлекаться от предмета, пусть лучше писец прочтет нам надпись, начертанную в честь тех, кто из Филы воротили в Афины народовластие:
Некогда этих мужей наградил за доблесть венками Древний афинский народ, в этой живущий земле: Жизни своей не щадя, они первыми встали в защиту Города против владык, правый поправших закон.(191) Стихотворец говорит, что эти герои удостоились почестей за то, что ниспровергли власть, правившую противозаконно. Ведь у всех еще живо было в памяти, что народное правление пало тотчас после того, как кое-кто отменил судебные дела о противозаконии.454 Я сам об этом слышал от моего отца, который прожил девяносто пять лет, разделяя все невзгоды государства, и не раз мне рассказывал об этом на досуге. Когда воротилась народная власть, говорил он, то самые слова «обвинение в противозаконии» звучали в судилище как доказанное дело: ибо что может быть преступнее, чем говорить или действовать против законов? (192) И слушались такие дела, говорил он, совсем не так, как сейчас: к обвиняемому в противозаконии судьи были еще круче, чем обвинитель, они по многу раз поднимали на ноги письмоводителя и заставляли перечитывать законы и новое предложение, и даже если предложение шло не поперек всех законов, а лишь на словечко отклонялось от какого-нибудь одного, все равно внесший осуждался за противозаконие. А теперь это делается словно насмех: писец зачитывает противозаконную статью, судьи слушают, словно это какое-то заклинание, к делу не относящееся, а сами думают о чем попало. (193) Этот скверный обычай укоренился в наших судах из-за плутней того же Демосфена: вся законность в государстве выворочена наизнанку, обвинитель оправдывается, обвиняемый напирает, а судьи подчас позабывают, о чем суд, и должны голосовать о том, что их и не касается. Если же обвиняемый и заговорит по существу, то не о том, что предложение его не противозаконно, а о том, что кто-то уже предлагал такое и был оправдан; говорят, и сейчас Ктесифонт надеется на то же самое. (194) Помните, Аристофонт Азанийский имел нахальство хвастаться перед вами, что семьдесят пять раз привлекался за противозаконие и всегда уходил оправдан? То ли дело в старину, когда Кефал,455 этот истиннейший друг народа, вменял себе в заслугу как раз противоположное: что предложений он вносил больше всех, а в противозаконии не обвинялся ни разу. Справедливая гордость! Ведь в противозаконии тогда обвиняли друг друга не только противники, но и друзья, если видели ущерб государству. (195) Да вот и пример: Архин из Келы обвинил в противозаконии самого Фрасибула Стирийского, с которым они вместе были в Филе, и добился его осуждения, несмотря на недавние его заслуги перед государством, — и судьи не возражали, рассудив, что тогда Фрасибул воротил их из Фил в Афины, а теперь своим противозаконным предложением словно изгоняет из Афин. (196) Нынче же все наоборот: отменные наши полководцы и пританейские застольники456 сами вымаливают прощение обвиняемым в противозаконии! Право же, это неблагодарность: кто достиг почестей при народной власти, хранимой богами и законами, и еще смеет помогать противозаконникам, тот губит ту самую власть, от которой принял почести.
(197) А как следует вести защиту по справедливости, об этом я сейчас скажу. Когда судится дело о противозаконии, то день разделяется на три части. Первая часть предоставляется обвинителю, законам и народной власти; вторая — обвиняемому и тем, кто говорит за него; а затем, если первое голосование не отвергло обвинения в противозаконии, то назначается третья часть времени для определения наказания и меры вашего гнева. (198) Кто приступает к вам с просьбою здесь, при определении наказания, тот лишь молит вас умерить гнев; но кто приступает с просьбою при первом голосовании, тот молит вас попрать клятву, попрать закон, попрать народовластие, а этого и просить никому нельзя, и удовлетворить никому нельзя. Повелите же этим заступникам: пусть они не мешают вам вершить первое голосование по закону, а потом уже просят о смягчении наказания.
(199) Да и вообще, афиняне, я почти готов предложить для дел о противозаконии принять особый закон: чтобы ни обвинителю, ни обвиняемому не дозволялось приводить с собою совыступателей. Ведь здесь нет спора о том, где правда: правда бесспорно определена вашими законами. Как в строительстве ежели мы хотим узнать, что стоит прямо, а что нет, то прикладываем отвес, и все становится ясно, — (200) так и в делах о противозаконии, чтобы узнать, где правда, мы прикладываем вместо отвеса вот эту дощечку, где записаны рядом новое предложение и старые законы. Докажи, что они между собой согласны, и можешь удалиться: никакой Демосфен тебе не надобен. Если же вместо справедливой защиты ты зовешь на помощь негодяя и сутягу, то этим ты обманываешь слушателей, развращаешь государство, губишь народную власть.
(201) Как же отвратить эти негодные речи? Я скажу вам. Когда сюда выйдет Ктесифонт, перескажет вам сочиненное для него вступление,457 а потом вместо оправданий начнет попусту тянуть время, то спокойно напомните ему взять эту дощечку и сравнить новое предложение и старые законы. А ежели он притворится, что не слышит, то и вы его не слушайте: вы пришли слушать защиту по существу, а не увиливание от защиты. (202) Если же он, отмахнувшись от защиты по существу, призовет на помощь Демосфена, то не допускайте сюда этого мудрователя, словами подрывающего законы, и пусть никто не хвастается, первый закричав на вопрос Ктесифонта, позвать ли Демосфена, «зови, зови!»: зовешь ты его себе же во вред, законам во вред, народу во вред. А коли уж захотите его выслушать, то хотя бы потребуйте, чтобы он вел защиту в том же порядке, как я обвинение.458
А в каком порядке вел я обвинение, об этом я сейчас напомню. (203) Я не начал вам рассказывать ни о частной жизни Демосфена, ни об отдельных его выходках против государства, хотя примеров и тут у меня было вдоволь, иначе куда же бы я годился? Вместо этого я, во-первых, указал вам на законы, запрещающие награждать венками подотчетных лиц; потом уличил Ктесифонта в том, что он предложил наградить Демосфена венком, пока тот был подотчетным лицом, и даже не добавил «когда он представит отчеты», а лишь отмахнулся свысока и от вас, и от ваших законов; я предупредил и о том, какие отговорки начнут они на это выставлять, не забудьте о них. (204) Во-вторых, я рассказал вам, каковы наши законы об оглашениях, прямо запрещающие объявлять о награде народным венком где-нибудь, кроме как в Народном собрании; а обвиняемый в противозаконии Ктесифонт нарушил не только закон, но и место и время, предложив сделать оглашение не в Народном собрании, а в театре, и не во время заседания, а перед представлением трагедий. И лишь после этого я сказал вам кое-что и о частной жизни Демосфена, и особенно о его проступках против государства. (205) Вот так потребуйте, чтобы и Демосфен вел свою защиту: сперва о законах относительно подотчетных лиц, во-вторых, о законах относительно провозглашений, а в-третьих и в-главных, о том, заслужена ли им награда. Если же он начнет проситься нарушить этот порядок, обещая, что уже в конце он отведет все обвинения в противозаконии, то не позволяйте ему этого и помните, что это лишь крючкотворская уловка: вовсе он не собирается оправдываться в противозаконии, потому что и нечего ему сказать по существу, а хочет лишь посторонними вопросами заставить вас забыть о главном обвинении. (206) Как борцы во время состязаний стараются друг друга столкнуть, а сами устоять, так и вы в борьбе за государственное дело не давайте ему себя сбить и отойти от вопроса о противозаконии: будьте наготове, прислушивайтесь настороже, пресекайте его вылазки и загоняйте его вновь и вновь в вопрос о противозаконии.
(207) Если же вы не так будете его слушать, то я заранее вам скажу, что из этого получится. Ктесифонт к вам выведет этого мошенника, хищника, смутьяна, которому легче прослезиться, чем иному рассмеяться, а нарушить клятву и вовсе пустяк; и я не удивлюсь, если он, переменив голос, сам пойдет бранить стоящих вокруг, восклицая, что вот-де сама правда развела поборников власти немногих к помосту обвинителя, а поборников власти народа — к помосту обвиняемого. (208) Но на такие поджигательные речи отвечайте ему вот как: «Послушай, Демосфен, если бы те, кто из Филы восстановили у нас народную власть, вели себя по-твоему, то не бывать бы в Афинах народовластию! Они произнесли прекраснейшее слово,459 плод благородного воспитания, «не поминать худого», и этим спасли отечество от великих бед; а ты лишь бередишь нам раны и больше думаешь о мгновенном своем успехе, чем о спасении государства». Если же он опять начнет втираться в доверие лживыми клятвами, то вы лишь напомните ему: кто часто клятвопреступничает, а все же хочет, чтобы ему верили, тот должен или клясться все новыми богами, или слушателей иметь перед собою всякий раз иных; у него же, Демосфена, нет ни того, ни другого.
(209) Когда же он дойдет и до слез, и до дрожи в голосе и начнет вопрошать: «Куда же мне бежать, афиняне? куда лететь? я зажат со всех сторон!» — то вы отвечайте ему так: «А народу афинскому куда бежать, Демосфен? где найти союзников? откуда взять средства? что ты сделал для народа, заправляя государством? Что ты сделал для себя самого, это мы видим: из города ты скрылся, в Пирее тоже не живешь, а готов бежать куда глаза глядят, прихватив от трусости на дорогу царское золото да взятки от граждан». (210) Да с какой, собственно, стати все эти слезы, и крики, и дрожь в голосе? Обвиняется ведь сейчас Ктесифонт; наказание даже ему заранее не назначено; ничто не грозит ни твоей жизни, ни имуществу, ни гражданским правам; о чем же ты так стараешься? Да о золотом венке и о провозглашении в театре, вопреки всем законам! (211) А между тем если бы и впрямь наш народ, обезумев или обеспамятев, пожелал бы столь не вовремя наградить Демосфена венком, то ему бы следовало выйти пред собрание и сказать: «Афиняне, венок ваш я принимаю, но повод для оглашения награды отклоняю: не пристало мне венчаться за то, от чего город в горе и скорби». Но так мог сказать бы лишь подлинно добродетельный человек; ты же будешь говорить, как подонок, притворяющийся порядочным. (212) Клянусь Гераклом, нечего вам опасаться, что этот Демосфен, столь высокодушный и воинственный, отлучась от такой награды, уйдет домой да наложит на себя руки. Ваши чествования настолько ему смешны, что эту окаянную свою подотчетную голову, которую Ктесифонт вопреки всем законам предлагает венчать венком, он сто раз сам рассекал и брал пеню по суду за предумышленное увечье, а уж били его так, что на нем и посейчас должны быть видны побои Мидия: видит бог, у него не голова, а доходная статья!
(213) Что же до обвиняемого Ктесифонта, то здесь довольно немногих слов, а о прочем промолчу: смотрите сами, сумеете ли вы без подсказки опознать мерзавцев. Я скажу только то, что присуще им обоим и что по правде надо высказать против них обоих. Ибо расхаживают они по площади, имея друг о друге самые верные мысли и говоря самые дельные речи. (214) А именно, Ктесифонт говорит, что за себя-то он не боится, суд увидит, что он человек простой, а вот как бы не попало Демосфену за мздоимство, безрассудство и трусость; Демосфен же говорит, что за себя он совершенно спокоен, а в тревоге за Ктесифонтову подлость и разврат. Коли сами они так судят друг о друге, то уж вы, судя обоих, не оспаривайте этих обвинений!
(215) Наконец, я хочу коротко предупредить и те упреки, которые будут высказаны мне самому. Слышал я, будто Демосфен собирается говорить, что городу нашему от него была одна польза, а от меня один вред, и взваливать на меня все, что идет от Филиппа и Александра. Он так ловок на словах, что ему мало обвинять меня за то, что я говорил перед народом или делал для государства: (216) нет, он напускается и на то, как я жил спокойно и молчал вдали от дел, чтобы ничего уж не оставить необолганным. Он меня попрекнет и за то, что в гимнасиях я занимаюсь вместе с молодыми, и еще того первее — за то, что не затем-де я затеял весь этот суд, чтобы заступиться за государство, а затем-де, чтобы угодить Александру, который Демосфена терпеть не может. (217) Клянусь Зевсом, я даже слышал, что он хочет меня спросить: почему это я осуждаю общее направление его государственных дел, а порознь не выступал ни против какого, а лишь теперь, хоть и редко занимаюсь делами города, взял да и привлек его к суду?
Я на это скажу, что ни Демосфенов у образу жизни я не завидую, ни своего не стыжусь; я не жалею, что сказал те речи, которые сказал, а вот если бы мне пришлось говорить такое, как Демосфен, то лучше было бы и не жить. (218) Если я молчалив, то этому, Демосфен, причиною мой умеренный образ жизни: я довольствуюсь немногим, не гоняюсь, потерявши стыд, за большим и потому говорю и молчу по своему усмотрению, а не под давлением природной расточительности. Ты же, взяв деньги, молчишь, а истратив их, кричишь; говоришь не когда хочешь и не что хочешь, а по, приказанию твоих наемщиков; и тебе не стыдно похваляться ложью, которая вот-вот будет изобличена.
(219) Это самое мое обвинение против Ктесифонтова предложения, затеянное будто бы не для блага нашего города, а в угоду царю Александру, представлено было еще при жизни Филиппа, когда Александр еще не стоял у власти, и тебе еще не снился сон о Павсании, и ни о чем тебе ночью не говорили Афина и Гера.460 Как же я мог тут угодничать перед Александром? разве что увидев тот же сон, что и ты?
(220) Ты упрекаешь меня за то, что я выступаю перед народом не почасту, а изредка, и думаешь, что мы не видим: сам упрек этот — в духе не народной власти, а совсем другой. Ведь это при власти немногих выступать может не тот, кто хочет, а тот, кто в силе; при народной же власти — всякий, кто хочет, и тогда, когда он сочтет нужным. Поэтому выступать изредка свойственно человеку, занимающемуся государственными делами по обстоятельствам и для народной пользы, выступать же каждодневно — это дело наемника и ремесленника.
(221) Если же ты утверждаешь, будто я тебя до сих пор никогда не привлекал к суду и ты не расплачивался за свои преступления, то ты или сам сбился со счета, или нас считаешь вовсе беспамятными. Может быть, ты надеешься, что за давностью времени народ забыл, как я вывел на чистую воду и кощунственный твой сговор с амфиссейцами, и мздоимство твое вокруг Евбеи? (222) А когда было дело о твоих хищеньях от судостроительства и ты провел закон о Трехстах и убедил афинян поставить тебя начальником над флотом, а я уличил тебя в том, что, сократив число судостроителей, ты урезал наш флот на шестьдесят пять быстроходных кораблей — больше, чем у нас было, когда мы при Наксосе разбили Поллида461 с лакедемонянами, — ты думаешь, и это с годами могло позабыться? (223) Когда тебе грозили наказанием, ты выворачивал обвинение наизнанку, так что в опасности оказывался не ты, виновный, а твой обвинитель: то ты поминал в своих наветах и Александра и Филиппа, то бранился, что кто-то не умеет пользоваться обстоятельствами на благо государства, а сам только и умел, что портить настоящее и сулить будущее. А когда тебе грозило от меня чрезвычайное обвинение, разве ты не приказал схватить Анаксина Орейского,462 приехавшего за покупками для Олимпиады? (224) И ты дважды собственноручно пытал его и предлагал на смертную казнь, хоть когда-то сам гостил у него в Орее, ел и пил и творил возлияния у него за столом, дружески жал руку и заключал гостеприимственный союз. И этого человека ты убил! а когда я изобличил тебя пред всеми афинянами и назвал гостеубийцею, ты не отрекся от преступления, а сказал такое, от чего вскрикнул и народ, и все чужестранцы, которые были в собрании: сказал, что соль родины тебе дороже, чем стол гостеприимства. (225) А о подметных письмах, о твоих соглядатаях, которые под допросами и пытками доляшы были лгать, будто я с друзьями замышляю-де государственный переворот, — об этом я и говорить не хочу.
И вот после всего этого он, как слышно, хочет спросить меня что же это за врач, который, пока человек болен, ничем ему не поможет, а когда человек помрет, то приходит на поминки и объясняет домашним, что бы надо сделать, чтобы выздороветь. (226) А не спросишь ли ты самого себя, что же это за народоводец, который умеет льстить народу, а сам готов продать всякий случай к его спасению; который клеветой не допускает к совету людей благомыслящих, а сам, укрывшись от опасности и ввергнув город в непоправимую беду, требует себе венка за доблесть, хоть и ничего не сделал доброго, а лишь был виновником всяческого зла; который выживал совместников из государственных дел, пока те были еще поправимы, а потом их же и вопрошает, почему они не препятствовали его ошибкам; (227) который словно не понимает, что после херонейского сражения всем нам только потому было не до его наказания, что мы заняты были в посольстве для спасения государства! Но тебе мало было уйти от расплаты, ты еще потребовал награды, выставляя наш город на потеху всей Элладе, — и тогда-то я выступил вот с этим моим обвинением.
(228) Но всего для меня возмутительнее, клянусь олимпийцами, то предвидимое Демосфеново злословие, о котором мне придется говорить теперь. Он, как слышно, скажет, что я похож на тех Сирен,463 которые пением губят своих слушателей, и за это у них такая дурная слава: так, мол, и мои речи текут не на благо слушающим. Но я таких слов о себе никому не собираюсь дозволить. Стыдно обвинять, когда нечем подкрепить обвинение; (229) а уж если говорить такое, то это к лицу не Демосфену, а какому-нибудь полководцу, который совершил для народа великие подвиги, но в речах не силен и поэтому завидует своим противникам: сам он не в силах выразить все, что сделал, а те готовы расписать слушателям даже то, чего они не сделали. Но когда такое простодушие и видимость славных дел напускает на себя человек, в котором нет ничего, кроме слов, высокопарных и язвительных, то можно ли это стерпеть? Да отними у него язычок, как у флейты, и что от него останется!
(230) Я же, афиняне, не могу взять в толк, на каком основании могли бы вы отвергнуть мое обвинение? Оттого, что обвиняемое постановление законно? Нет, никогда не бывало постановления противозаконнее! Оттого, что предложивший не заслуживает наказания? Но уж если вы его отпустите, значит, никто у вас не отвечает за свой образ жизни. А не печально ли, что когда-то этот день нарочно был назначен для принятия венков от чужих городов,464 и театр ломился от венков, подносимых народу от всех эллинов, ныне же из-за Демосфенова хозяйничанья ни венков у вас не видно, ни глашатая не слышно, а единственная честь — самому Демосфену?! (231) Право, если бы кто-нибудь из сочинителей трагедий, которые будут ставиться вслед за этим, взял бы да представил Ферсита, которому эллины подносят венок, то никто бы из вас этого не стерпел, ибо сказано у Гомера, что Ферсит был трус и вздорщик; а когда вы сами увенчиваете такого господина, то неужели, по-вашему, эллины мысленно не освистывают вас? Отцы ваши лучшие и славнейшие деяния относили на счет народа, а низкие и подлые на счет площадных краснобаев, — Ктесифонт, напротив, предлагает вам перевалить все бесчестия с Демосфеновой головы на народную! (232) Вы радуетесь, что вы счастливы и судьба к вам благосклонна, — и хотите постановить, что судьба вас обездолила, а Демосфен облагодетельствовал? Что может быть нелепее: в одном и том же судилище вы отъемлете гражданские права у тех, кто уличен во мздоимстве, и вы же предлагаете наградить венком того, кто у вас на глазах брал взятки за государственные дела! Если судьи на празднике Дионисий несправедливо присуждают награду дифирамбическому хору, вы их наказываете; неужели же вы сами, ставши судьями не над дифирамбическими хорами, а над законами и гражданской доблестью, предназначите награду не немногим достойным, как положено, а тому, кто сумеет ее выхлопотать? (233) Кто так будет судить, тот выйдет из судилища, сам себя ослабив, а пустослова усиливши. В городе, где народная власть, простой человек царствует, благодаря закону и праву голоса; если же он передаст их другому, то сам подорвет свою силу. Кроме того, судейская его присяга всегда при нем и не дает ему покоя, ибо именно ее он нарушил; услуга же, оказываемая подсудимому, остается тому неизвестна, потому что голосование — тайное.
(234) Все же мне кажется, афиняне, что по вашему неразумию у нас случаются в государственных делах как удачи, так и бедствия. Что при нынешних обстоятельствах вы, многочисленные, предаете всю силу народной власти меньшинству — этого я никак не могу одобрить; но что у нас еще не народились во множестве дерзкие и злонравные краснобаи — в этом нам очень повезло. Ведь когда-то наш народ и впрямь произвел такую породу, которая потом без труда свалила народную власть: народ слушал да слушал лесть, а потом и оказался в руках не у тех, кого боялся, а у тех, кому сам себя вверил, — (235) иные из них даже оказались в числе тех тридцати, которые без суда казнили полторы с лишним тысячи граждан, не сказав им даже, за что они гибнут, а потом не позволили родным их присутствовать на похоронах. Неужели же вы дадите волю этим господам, хозяйничающим в государстве? неужели не осадите зарвавшихся? неужели не припомните, что кто бы ни посягал на народную власть, начинал он с того, что осиливал судилища?
(236) Я бы с радостью, афиняне, у вас на глазах сверил с этим Ктесифонтом весь тот счет благодеяний, за которые Демосфену предлагается венок! Ежели ты скажешь, как сказал в начале постановления, что Демосфен отлично вырыл рвы вокруг городских стен, то я изумляюсь тебе: хоть бы ты отлично их вырыл, разве не важней, что ты — виновник того, что пришлось их рыть? Не за то должен требовать наград хороший государственный деятель, что обнес город стенами и поснимал для них плиты с народных могил, а за то, что от него государству вышла польза. (237) Если же ты посмеешь продолжать, как во второй части твоего постановления, будто Демосфен — достойный человек, словом и делом труждающийся на вящее благо афинского народа, то отбрось, прошу, похвальбу и пустословие, приступи к делу, докажи нам, что это так! Я уж и не говорю о мздоимстве его от евбейцев и от амфиссейцев; но когда ты и союз с фиванцами ставишь в заслугу Демосфену, то этим ты несведущих обманываешь, а знающих и понимающих оскорбляешь, — ведь причиною союза были обстоятельства фиванцев и слава вот этих афинян, ты же об этом умалчиваешь и тем самым отнимаешь честь у города, чтобы придать Демосфену.
(238) Всю меру такой похвальбы я попробую вам показать на отличном примере. Незадолго до похода Александра в Азию царь персидский прислал афинскому народу варварски высокомерное письмо, полное всяких грубостей, а в конце там было сказано: «золота я вам не дам, не просите: не получите». (239) А недавно тот же царь, теснимый новыми опасностями, сам по своей воле отправил афинскому народу триста талантов денег, но народ благоразумно их не принял. Причиною этого золотого дара были трудные обстоятельства, страх и нужда в союзниках. Вот точно то же самое побудило к союзу и фиванцев. Ты же, Демосфен, твердишь нам до изнеможения о фиванцах и злосчастном с ними союзе, — а нет чтобы сказать о тех семидесяти талантах, которые ты успел присвоить себе из царского золота! (240) Между тем разве не из-за нехватки пяти талантов не смогли фиванцы отобрать свою крепость465 у наемников? разве не из-за девяти талантов сорвалось дело, когда к нам выступили все аркадяне и предводители их были готовы помочь? Ты же богат, как хорег, а тратишься только на собственные удовольствия! Вот и получается: царское золото — при Демосфене, а все несчастия — при вас.
(241) Обратите внимание и на бесстыдство этих господ. Ежели Ктесифонт не постесняется вызвать говорить перед вами Демосфена, а тот выйдет и начнет сам себя расхваливать, то сносить его слова будет нам тяжелее, чем его дела. Нам досадно слышать, когда хвалят себя даже истинно доблестные мужи, чьи многие подвиги нам известны; кто же в силах вытерпеть, когда хвалит себя сущий позор для нашего города? (242) Нет, Ктесифонт, если есть в тебе здравый смысл, ты откажешься от такого бесстыдства и будешь защищать себя сам. Не станешь же ты уверять, будто неискусен в речах! Нелепо ведь, если совсем недавно ты позволил выбрать себя послом к Клеопатре,466 дочери Филиппа, с соболезнованием о смерти Александра, царя молосского, а теперь заявишь, что не умеешь говорить: что же, значит, утешать чужую жену в ее горе ты можешь, а защищать постановление, предложенное тобою самим за хорошие деньги, — никак?
(243) Или, может быть, этот человек, которого ты предлагаешь венчать венком, таков, что даже облагодетельствованный им народ ничего о нем не знает, пока ты не найдешь себе сорассказчика? Но спроси-ка судей, знают ли они Хабрия, Ификрата, Тимофея467 и за что им были даны награды и поставлены статуи, — и все тебе ответят: Хабрию за морскую победу при Наксосе, Ификрату за уничтожение целого спартанского полка, Тимофею за поход на Керкиру и всем остальным за такие же военные подвиги. (244) А Демосфену? За то, что он взяточник, за то, что он трус, за то, что он покинул строй. Неужели же вы воздадите ему эти почести? неужели оставите без отмщения и себя и тех, кто погиб за вас в бою? Вы представьте лишь, как ропщут эти павшие, увидав Демосфена с золотым венком! Не страшно ли, афиняне: камни, дерево, железо,468 бездушные и бессловесные предметы, если они упали и убили человека, мы выбрасываем за пределы страны; если кто наложит на себя руку, мы эту руку хороним отдельно от тела; (245) а Демосфена, который предложил этот последний поход и погубил все наше войско, вы собираетесь, афиняне, венчать? Право, павшим это — оскорбление, а уцелевшим — отчаяние, ибо они видят, что награда за доблесть есть смерть и забвение.
Самое же главное: от вас ждет ответа молодое поколение: по какому образцу строить ему жизнь? (246) Вы ведь знаете, что воспитывают молодых людей не столько палестры, и школы, и мусическое образование,469 сколько то, что слышат они от народа. Возглашается ли в театре, что за добродетель, доблесть и благонамеренность награждается венком такой-то человек, гнусный и бесстыдный, — юноша видит и развращается. Подвергается ли наказанию человек дурной и распутный, как, например, Ктесифонт, — остальные смотрят и поучаются. А вот кто-то подал голос против прекрасного и справедливого, а потом приходит домой и принимается воспитывать сына, — понятно, что тот его не слушает и бранится, что отцовы поучения — одна докука.
(247) Поэтому помните, что вы не только судьи, но люди, на которых все смотрят, и голосуйте так, чтобы оправдаться потом перед теми, кого здесь нет,470 но которые еще спросят вас, каково же было ваше решение. Вы ведь знаете, афиняне, что кого в городе славят, такова и о городе слава; так не стыдно ли, что о вас будут судить не по вашим предкам, а по этому трусу Демосфену? Как же избежать такого позора? (248) Прежде всего, остерегайтесь тех, кто легок на слова о добре и общей пользе, а душою этого не подтверждает. Ведь и «благонамеренность», и «народная воля» — слова общедоступные, и в речах за них первыми хватаются те, кто на деле от них куда как далек. (249) Так вот, ежели встретится вам краснобай, охочий до венков и до провозглашений своего имени пред всеми эллинами, то как в делах об имуществе закон требует представления поручителей, так и здесь потребуйте от него залогом слов достойную жизнь и целомудренный нрав. А кто не представит такого залога, тому не доверяйте своих похвал и лучше позаботьтесь о народной власти: ведь она уже уходит у вас из рук! (250) Не страшно ли, что на совет и народ никто уже не смотрит, что письма и посольства приходят в частные дома, и не от случайных людей, а от первых лиц в Азии и в Европе! Есть такие дела, за которые по закону полагается смерть, а у нас от них не отпираются, всенародно признаются, передают друг другу письма для прочтения, и одни еще требуют, чтобы все взирали на них как на столпы народовластия, а другие — чтобы им несли награды как спасителям отечества. (251) А народ, от всего случившегося павши духом, разом то ли одряхлел, то ли выжил из ума и уже держится только за имя народовластия, а дела предоставляет кому попало. Вот вы и расходитесь с народных собраний словно не с совета, а с складчинного пира, где вам достаются лишь остатки.
(252) А что я не попусту это говорю, вот тому доказательство. Над нашим городом разразилось несчастье (мне больно это повторять) — и вот один простой человек, попытавшийся было уехать на Самос, в тот же день был приговорен на Ареопаге к смертной казни как изменник отечеству; а другой простой человек, от страха струсивший и уехавший на Родос,471 был обвинен чрезвычайным обвинением, и случись против него одним лишь голосом больше, не миновать бы ему изгнания. (253) А что происходит теперь? Этот пустослов, виновник всех наших бед, покинувший битвенный строй, бежавший из нашего города, вдруг требуем себе венка и всенародного о том оглашения! И вы не прогоните от себя эту общую пагубу всех эллинов? и вы не бросите его на казнь, как разбойника, рыскающего по морю государственных дел на корабле своих слов? (254) И не забывайте, в какое время вы призваны голосовать: через несколько дней наступят Пифийские празднества, соберется всеэллинский собор; государство наше из-за Демосфенова хозяйничанья и без того нынче не в чести; так вот, если вы дадите ему венок, то прослывете пособниками нарушителей общего спокойствия, если же откажете, то избавите народ от таких попреков.
(255) Помните же, что вы решаете судьбу не чужого, а собственного города; честолюбцев не вскармливайте, а рассуживайте; награды присуждайте тем, кто лучше и достойнее; полагайтесь не на слух, а и на глаза свои. Осмотритесь, например, кто из вас встанет в помощь Демосфену? может быть, его товарищи юных лет по охоте или по палестре? да нет, видит Зевс, не на кабанов он тогда охотился и не тело закалял, а упражнялся в кознях против тех, кто побогаче.472 (256) Посмотрите, как он будет похваляться, что своим посольством он вырвал Византий из рук Филиппа, что поднял на него Акарнанию, что речами своими потряс Фивы: он ведь думает, будто вы уже до такой дошли простоты, что и этому поверите, словно вы себе взрастили в нем не пошлого сутягу, а саму богиню Убеждения. (257) А когда под конец речи он призовет к себе на помощь сообщников по взяткам, то вы представьте, что против нахальства этих господ вот на этом камне, где я сейчас стою и говорю к вам, вам явились благодетели вашего отечества. Вот Солон, прекраснейшими законами нам устроивший народную власть, любомудр и славный стихотворец, с подобающей пристойностью просит вас нипочем не ставить Демосфеновых слов выше ваших присяг и законов. (258) Вот Аристид, распределитель податей между эллинами, после смерти которого сам народ выдал замуж его дочерей: как он ропщет, что справедливость попрана в грязь, как он вопрошает, не стыдно ли вам, что отцы ваши изгнали из города и всех подвластных земель и чуть не казнили Артмия Зелейского,473 хоть и гостеприимца афинского народа, потому что он пришел в наш город, везя в Элладу золото мидийского царя, (259) а вы после этого намерены венчать золотым венком Демосфена, который хоть и не привез мидийское золото, но принял его мздой и держит посейчас! А Фемистокл, а павшие при Марафоне и Платеях, а самые гробницы ваших предков неужели не застонут, если дастся венок тому, кто сам говорит, что он вместе с варварами был против эллинов?
(260) Пусть же будут свидетелями земля, солнце, добродетель, разум и людская просвещенность, дающая нам различать прекрасное и постыдное: вот я высказался, чтобы вам это было в помощь. Если я обличил несправедливость хорошо и достойно — значит, я сказал, как хотел; если недостаточно — значит, сказал, как мог. Вы же, приняв к сведению все сказанное и не сказанное, теперь сами произнесите приговор, справедливый и полезный для государства.
ДЕМОСФЕН ЗА КТЕСИФОНТА О ВЕНКЕ
474
(1) Во первых словах, мужи афинские, молю я всех богов и богинь, да будет ваша ко мне благосклонность в этом прении не меньшею, чем неизменная моя благонамеренность к государству и ко всем вам; а во вторых словах молю я наипаче ради вас, ради благочестия вашего и славы, да внушат вам боги не внимать советам обвинителя о том, как надобно вам меня слушать — воистину сие возмутительно! (2) но следовать законам и присяге; а в присяге рядом с прочими справедливыми уставами записано, чтобы в слушании дела не оказывать предпочтения ни одной стороне. А это значит, что должны вы не только безо всякой предвзятости оказывать сторонам равную благосклонность, но еще и должны позволять каждому говорить в таком порядке, в каком ему желательнее и удобнее.
(3) Что до меня, господа афиняне, то в этом прении многие у меня невыгоды перед Эсхином, а из них две великие. Во-первых, судимся мы с ним не о равном, ибо не равный будет урон,475 если я лишусь нынешней вашей благосклонности или если он не выиграет дела. Я-то — нет, не хочу начинать речь свою с неуместных слов!476 — но вот он обвиняет меня корысти ради. Да притом такова уж природа человеческая, что брань и ругань людям слушать сладко, а если кто сам себя примется хвалить, так это им досадно, (4) и вот ему досталось именно услаждать, а мне остается то, что всем, как я сказал, не по нраву. Если я, избегая вашего неудовольствия, не стану говорить о своих делах, покажется, будто я не могу опровергнуть обвинения и назвать заслуги, за которые желаю себе награды, — ну а если все-таки возьмусь я говорить о своих делах и государственных предприятиях, то непременно придется часто поминать и себя самого. Итак, я постараюсь говорить о себе поменьше, но если буду вынужден к тому обстоятельствами, тогда по справедливости пусть винят за это обвинителя, ибо именно он затеял такое вот разбирательство.
(5) Наверно все вы, господа афиняне, согласитесь, что в деле этом мы с Ктесифонтом заодно и от меня тут требуется ничуть не меньшее усердие, ибо всякое лишение для человека печально и тягостно, а особенно если виною тому зложелатель, но горше всего лишиться вашей благосклонности и приязни, добиться которых есть превеликая удача. (6) А поскольку об этом-то и ведется прение, я настоятельно прошу вас всех и каждого по отдельности: выслушайте мой ответ обвинителю вполне беспристрастно, точно так, как велят законы, установленные еще Солоном, который в преданности своей народу и ради вашего блага от начала положил, что законам для могущества их мало быть записанными, а надобно еще и обязать судей присягою. (7) Решил он так, конечно же, не из недоверия к вам, а потому, что, по всей очевидности, у обвинителя больше силы, ибо говорит он первый, и подсудимому никак не оправдаться от обвинений его и наветов, если каждый из вас, судей, не соблюдет обета своего богам — не станет благосклонно внимать справедливым возражениям, не выслушает с равным вниманием обе стороны и таким образом не вникнет во все обстоятельства дела.
(8) Похоже, что сегодня мне предстоит отчитаться во всей своей частной жизни и во всех своих государственных предприятиях, а потому хочу я снова призвать богов и снова пред лицом вашим молю их, да будет ваша ко мне благосклонность в этом деле не меньшею, чем неизменная моя благонамеренность к государству, и еще молю богов, да помогут они вам вынести в этом деле такой приговор, чтобы был он на пользу общей вашей славе и благочестию.
(9) Если бы Эсхин обвинял меня тут только по статьям своей же жалобы, тогда бы и я теперь в оправдание себя говорил только о самом законопредложении.477 Однако же больше половины речи он потратил на посторонние рассуждения и столько взвел на меня всяческой напраслины, что я полагаю непременным и справедливым своим делом сначала кратко возразить на эту его клевету, чтобы никто из вас, господа афиняне, не поддался этим сторонним разговорам и не был заранее предубежден, слушая честный мой ответ по существу обвинения.
(10) Вот и касательно личных моих обстоятельств уж сколько набрехал он тут на меня дурного, а глядите, как просто и прямо я отвечаю. Если знаете вы меня таким, каким изобразил обвинитель — право, я же не на чужбине жил и живу — но среди вас! — тогда и рта мне открыть не давайте, и как бы отлично ни исполнял я государственные должности, а вы хоть сейчас поднимайтесь с мест и выносите против меня приговор! Но если вы знаете и помните, что я сам и род мой куда как честнее его и его рода и что я — никому не в обиду будь сказано — ничуть не хуже любого скромного гражданина, то не верьте и прочим его наветам, ибо самоочевидно, что как эту клевету он измыслил, точно так же измыслил и все остальное; а мне теперь явите ту же благосклонность, какую неизменно выказывали во многих прежних тяжбах.
(11) Уж до чего ты, Эсхин, в злонравии своем хитер, но тут попал впросак, решивши, что соглашусь я смолчать о должностных и частных моих делах и стану разбираться во вздорной твоей брани! Нет, не будет такого — не настолько я ополоумел! О государственных своих предприятиях, которые ты облыжно оклеветал, я расскажу подробно, а после — если только судьям угодно будет слушать — припомню тебе эту твою наглую болтовню.
(12) Итак, обвинений много, и даже обвинений в таких деяниях, за которые по закону положены строгие и наистрожайшие кары. Поэтому, хотя причиною нынешнего прения явились враждебная поперечность, да еще и дерзость, и обида, и злоречие, и прочее тому подобное, однако если бы все обвинения и наветы, высказанные обвинителем, оказались и правдивы, то все-таки по заслугам покарать виновного город не может — то есть не может покарать сразу, ибо (13) всякому дано неотъемлемое право обратиться к народу и высказаться. Нельзя, чтобы зависть и злоба отняли это право — клянусь богами, господа афиняне, это было бы нечестно и несправедливо и вопреки гражданскому нашему устроению! Уж если обвинитель замечал, что я совершаю государственные преступления, да еще столь тяжкие — а именно о таких говорил он сейчас пространно и выспренно, словно с подмостков, — уж если он сам видел такое, то пусть бы сразу и требовал наказать меня по закону за эти преступления; если он видел, что содеянное мною заслуживает чрезвычайного обвинения, то пусть бы сразу и доложил вам обо всем и так призвал бы меня на ваш суд, а если он видел, что я предлагаю совету противозаконные постановления, то пусть бы сразу и объявлял их противозаконными. Право, если он может из-за меня преследовать Ктесифонта, то никак невозможно, чтобы нельзя ему было изобличить и привлечь к суду меня самого! (14) Притом, если замечал он, что я совершал преступления против вас — те, о которых говорил он сейчас столь лживо и многословно, или иные какие, — так ведь на все есть закон, на все есть наказание, затевай тяжбу, обвиняй, а у суда есть средства взыскать и наказать по всей строгости. Все это он мог сделать, и если бы взаправду сделал все, что мог, то нынешнее обвинение согласовалось бы с прежними его предприятиями. (15) Но это не так! Свернув с прямого и честного пути, уклонившись от немедленных изобличений, он лишь теперь — по прошествии столь долгого времени478 — собрал в кучу все обвинения, наветы и ругательства и принялся тут скоморошествовать. Да к тому же, хотя обвиняет он меня, но к ответу привлекает Ктесифонта; и хотя главным основанием для возбуждения дела явилась ненависть ко мне, однако же против меня он так и не выступил, но открыто хлопочет лишь о том, как бы обесчестить совсем другого человека. (16) Помимо всего прочего, что можно сказать в защиту Ктесифонта, сам я, о мужи афинские, полагаю необходимым оговорить нижеследующее: в нашей с Эсхином вражде по чести пристало нам самим друг с другом разбираться, а не избегать прямого спора и не стараться вместо этого повредить никакому третьему лицу, ибо ничего нет несправедливее подобной несправедливости.
(17) Уже из сказанного видно, что и все прочие его обвинения окажутся столь же бесчестными и лживыми, однако же я намерен разобрать их все по отдельности, а особенно клевету о мирном договоре и посольстве — тут он свалил на меня то, что сам же и сделал вместе с Филократом. Поэтому, господа афиняне, необходимо и, пожалуй, своевременно, припомнить, как обстояли дела в те годы, — тогда, имея в виду прежнее положение вещей, вы вполне уясните себе и нынешнее.
(18) Итак, едва началась Фокидская война — и началась не из-за меня, ибо я в то время в государственных делах не участвовал, — то первое наше намерение было таково, чтобы фокидяне, хотя вина их была для вас очевидна, остались целы, а вот фиванцам вы желали иного, заранее радуясь любому их несчастью, ибо справедливо и верно гневались вы на них за то, что после удачи своей при Левктрах479 забыли они всякую меру. Да притом и повсюду в Пелопоннесе начался разброд: у тех, кто ненавидел лакедемонян, недоставало силы их одолеть, а у тех, кто прежде с помощью лакедемонян заполучил власть над городами, недоставало силы удерживаться у власти, и потому между всеми — и теми и этими — настали распри и раздоры, которым не было никакого разрешения. (19) Видя такое — а такого не скрыть! — Филипп еще пуще стравливал противников и сеял смуту, расточая деньги на предателей, которых везде хватало: вот так-то, благодаря чужим ошибкам и глупостям, сумел он загодя набрать силы и взрасти на всеобщей слабости. А поскольку фиванцы, некогда гордые, но ныне несчастные,480 устали от нескончаемой войны и всем было ясно, что придется им просить вас о помощи, то он, желая воспрепятствовать этому или иному союзу вашему с фиванцами, предложил вам мир, а им помощь. (20) Что же споспешествовало ему в этом? Как же вышло, что вы едва ли не добровольно позволили себя обмануть? Называть ли причиною трусость всех прочих эллинов или их безрассудство, или то и другое сразу? Вы без отдыха бились в ту пору в великой войне,481 и бились, как стало ясно, ради общего блага, а остальные эллины не помогали вам ни деньгами, ни людьми, вообще ничем. За это вы справедливо и верно на них осердились и с охотою вняли зову Филиппа — именно по этой причине и был тогда заключен мир, а вовсе не из-за меня, как клевещет теперь обвинитель, ибо происходящее ныне произошло от тогдашней подлости и продажности моих противников, в чем может убедиться всякий, кто без предвзятости вникнет в дело.
(21) Обо всем этом я говорю столь пространно и подробно единственно истины ради, ибо если и можно усмотреть в описанных событиях чье-то преступление, то, уж конечно, преступление это не мое: первым помянул и заговорил о мире актер Аристодем, а вторым был тот, кто поддержал его, представил вопрос к обсуждению и вместе с Аристодемом был подкуплен — и это был Филократ Гагнунтский, который с тобою в дружбе, Эсхин; с тобою, а не со мною, хотя бы ты тут лопнул от своего вранья! Заодно с Филократом были — почему, об этом я пока умолчу — Евбул и Кефисофонт, а я тут был совершенно ни при чем. (22) Но хотя все это точно так и было и хотя по правде иначе и быть не могло, однако же Эсхин до того бесстыден, что дерзает объявлять, будто именно из-за меня оказался заключен мир и будто я еще и помешал согражданам прежде обсудить это предприятие на всеэллинском съезде. Ну а ты — уж и не знаю, как тебя именовать! — ну а ты-то при всем этом присутствовал, ты видел, как я не позволял согражданам ни устроить съезд, ни обрести союзников, и ты столько сейчас об этом наговорил — но почему же ты не излил своего негодования тогда? Почему ты вовремя не явился, чтобы толково и подробно рассказать о том, в чем лишь ныне обвиняешь меня? (23) Уж если я и вправду продался Филиппу и сделался помехой эллинскому единению, то непременно надобно было тебе не молчать, но кричать и свидетельствовать и объяснять вот им, как обстоят дела! Однако ты ничего подобного не сделал, и никто не слыхал от тебя ни слова, ибо и никакого посольства ни я каким эллинам никто не посылал — все эллины давным-давно успели сказать, что думали по сему поводу, а ты и вовсе ничего разумного сказать не сумел. (24) Мало того, своею клеветой он тут позорит еще и государство, ибо если бы вы подстрекали эллинов к войне, а сами в это время посылали бы к Филиппу послов для заключения мира, то такое дело было бы достойно Еврибата,482 а граждане и честные люди так не поступают. Однако же такого не было и не бывало! Да и зачем бы вам при тогдашних обстоятельствах созывать эллинов? Ради мира? Но повсюду и без того наступил мир! Ради войны? Но вы-то сговаривались о мире! Из всего сказанного ясно, что вовсе не я затеял этот мирный договор и вовсе не я в нем виноват; да и в прочей клевете, которую возводит на меня обвинитель, не обнаруживается ни слова правды.
(25) Итак, город наш заключил мир — ну а теперь поглядите, чем в ту пору предпочитал заниматься я, а чем вот он, и, право же, из этого вам станет ясно, который из нас тогда споспешествовал Филиппу, а который старался ради вас и радел о благе государства. Итак, я, быв в то время членом совета, предложил поскорее отправить послов в те края, где предположительно обретался Филипп, чтобы на месте принять от него присягу. Предложение мое было письменным, и все-таки вот они последовать ему не пожелали. (26) Что же это значило, господа афиняне? Сейчас объясню. Филиппу было выгодно сколь возможно долго медлить с присягою, а вам, напротив, выгодно было поспешить. Почему? А вот почему. Еще не успев присягнуть, вы с того самого дня, когда явилась у вас надежда заключить мир, совершенно перестали заботиться о военных делах, а Филипп, напротив, все время только ими и был занят, понимая — да так взаправду и вышло! — что сколько успеет захватить у города прежде присяги, столько ему и достанется в вечное владение, ибо по такому поводу никто мира нарушать не станет. (27) А я, господа афиняне, все это предвидел и в рассуждении сказанного предложил постановление, чтобы плыть к Филиппу, где бы он ни обретался, и как можно скорее принимать от него присягу. Надобно было успеть с присягой, пока союзные нам фракияне еще держали местности, которые сейчас без толку поминал обвинитель — я разумею Серрий, Миртен и Эргиску — и пока Филипп еще не овладел этими важными крепостями и не сделался таким образом хозяином всей Фракии, не запасся там великою казною483 и великим войском и после — уже без труда — не прибрал к рукам и всего остального. (28) Так вот, об этом постановлении обвинитель ничего не говорит и не оглашает его, а корит меня тем, что я, заседая в совете, стоял за то, что пришедших послов надобно допустить. Но что же мне оставалось? Уж не предложить ли не пускать к вам послов, которые явились договариваться с вами же? Или приказать театральному откупщику,484 чтобы он не давал им даровых мест на представлении? Но если бы их даже и не пригласили, то они так и сяк могли посмотреть все за два обола! Уж не должен ли я был сберечь для города такую малость, а великое продать — как сделали.вот они? Нет, ни за что! Итак, письмоводитель, бери и читай постановление, о котором обвинитель умолчал, хотя знает его наизусть.
[(29) Постановление Демосфена.
Дано при архонте Мнесифиле в последний день гекатомбеона в председательство Пандионовой филы по объявлению Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова. Поелику Филипп, приславши посольство ради мира, заключил с обоюдного согласия помянутый мир, Совет и народ Афинский постановили нижеследующее: для утверждения мирного договора, принятого в предыдущем Народном собрании, немедленно избрать открытым голосованием пятерых послов из числа всех афинских граждан и оным послам, едва будут избраны, тотчас же отправиться туда, где предполагают они найти Филиппа, и там со всею возможною скоростью принять от него присягу и самим присягнуть ему в согласии с договором, заключенным между ним и афинским народом, а равно и между союзниками обеих договаривающихся сторон. Послами избраны Евбул Анафлистийский, Эсхин Кофокидский, Кефисофонт Рамнунтийский, Демократ Флиейский, Клеон Кофокидский.]
(30) Я предложил тогда это постановление, стараясь не ради Филиппа, но единственно ради блага государства, однако эти почтенные послы оказались не слишком расторопны и целых три месяца485 просидели в Македонии, пока не воротился из Фракии Филипп, уже прибравший все, что желал. А можно было за десять дней — а то и за три или четыре! — добраться до Геллеспонта и спасти крепости, приняв присягу прежде, чем он их захватил, ибо в присутствии наших послов он бы их не тронул — иначе мы не приняли бы от него присяги, мир не был бы заключен, и тогда он остался бы без договора и без крепостей, то есть не получил бы вообще ничего.
(31) Итак, в деле с посольством Филипп впервые обманул, а эти вот преступники впервые ему продались, — и я снова подтверждаю, что и тогда и теперь не переставал спорить и препираться с ними по этому поводу. Но глядите, какую подлость учинили они вскоре — подлость похуже первой! (32) Когда Филипп присягою скрепил мир, прежде захватив Фракию благодаря этим вот людям, не послушавшимся моего постановления, он снова подкупил их, чтобы помешать нам покинуть Македонию, пока он не будет вполне готов к походу на фокидян, то есть чтобы мы не успели оповестить вас о его военных затеях и намерениях. И чтобы вы не выступили первыми и не повели триеры кружным путем к Фермопилам, заперев проход, как уже делали прежде,486 — а ему было желательно, чтобы о наших новостях вы узнали не ранее, чем он займет Фермопилы, и потому ничего уже не могли бы предпринять. (33) И все-таки Филипп очень боялся: он боялся, что даже при стольких его преимуществах вы проголосуете за помощь гибнущим фокидянам, и тогда он снова перестанет быть хозяином положения. Потому-то он и купил вот этого паскуду — на сей раз не оптом, заодно с прочими послами, а штучно, его одного — и велел ему так оповещать вас и держать перед вами такие речи, что от этих-то речей и вышла всем погибель.487
(34) Я вправе просить вас, господа афиняне, чтобы вы до самого конца прений помнили: если бы Эсхин в своей речи не отступил от сути обвинения, то и я ни слова бы не сказал не по делу; однако же он говорил, постоянно уклоняясь в брань и клевету, а потому и мне надобно хотя бы кратко ответить на все его наветы. (35) Каковы же были эти его речи, от которых вышла всем погибель? А вот каковы. Он твердил, что хотя Филипп и прошел уже внутрь страны через Фермопилы, но тревожиться-де не надо, ибо все-де будет по-вашему, только бы вы сидели тихо, а уже дня через три-четыре вы узнаете, что Филипп — истинный друг тем самым людям, на которых идет войной, а прежним-де своим друзьям он, напротив, вскорости будет враг. И еще он говорил — да притом с превеликою выспренностью! — что не словами-де крепнет дружественность, но общею пользою, а польза-де хоть Филиппу, хоть фокидянам, хоть вам сейчас в одном — избавиться от жестокого фиванского утеснения. (36) Кое-кто слушал эти речи с удовольствием, ибо много накопилось тогда злобы против фиванцев, но каковы же были последствия? Очень скоро оказалось, что фокидяне разбиты и города их лежат во прахе, а чуть позже и вам — из-за того, что послушались и сидели тихо, — пришлось вывозить свое имущество из деревень.488 Итак, ему досталось золото, вам — ненависть, прежде обращавшаяся на фиванцев и фессалийцев, а Филиппу — успех от содеянного. (37) Чтобы показать, что точно так и обстояли дела, огласи, письмоводитель, постановление Каллисфена и послание Филиппа — из того в другого вам все станет ясно. Читай.
[Постановление. Дано при архонте Мнесифиле в чрезвычайном Народном собрании, созванном по предложению совета полководцами и очередными председателями, 21 мемактериона,489 по объявлению Каллисфена Фалерского, сына Этеоника: «Никто из афинян ни под каким видом да не ночует вне стен, но лишь в городе или в Пирее, кроме тех, кому назначено охранять крепости, а эти должны постоянно пребывать, где каждому велено, отнюдь не отлучаясь ни днем, ни ночью. (38) Нарушители настоящего постановления, ежели не будет у них удовлетворительных извинений, да понесут кару наравне с изменниками. Извинения об отлучках будут рассматриваться начальником пеших латников, а также хранителем казны490 и письмоводителем совета. Надлежит без промедлений вывезти имущество, оставшееся вне стен: то, которое находится не далее 120 стадиев, вывозится в город или в Пирей; то, которое далее 120 стадиев, в Элевсин, Филу, Афидну, Рамнунт и Суний». Дано по объявлению Каллисфена Фалерского.]
Разве на такое вы надеялись, когда заключали мир? Разве такое сулил вам этот вот продажный лихоимец? (39) А теперь читай письмо, присланное Филиппом после всего, что случилось.
[Послание Филиппа. Филипп, царь македонян, Совету и народу Афинскому: радуйтесь! Как вам известно, мы прошли через Фермопилы и заняли страну фокидян, и в тех городах, которые добровольно нам предались, стоят наши сторожевые посты и отряды, а которые города не покорились, те мы взяли силою и разрушили и горожан продали в рабство. Прослышав, что вы собираетесь к ним на помощь, пишу к вам, чтобы вы не беспокоились более по сему поводу. По чести сдается мне, что вы забыли меру: сначала заключили мир, а ныне готовитесь воевать, да притом из-за фокидян, о коих в договоре нашем нет ни слова. Посему, ежели не станете вы соблюдать соглашение, то не будет вам оттого иной выгоды, кроме первенства в клятвопреступлении.]
(40) Слышите, как прямо и просто изъясняет он в этом послании, как относится к вам, к своим же союзникам? «Я все сделал, как сделал, хотя афиняне несогласны и недовольны, так что ежели вы, фиванцы и фессалийцы, умеете соображать, то лучше вам афинян почитать врагами, а доверять только мне». Пусть не точно такими словами он все это выразил, но хотел-то выразить именно это! Таким-то способом он до того заморочил фиванцев и фессалийцев, что, когда уходил он от них, они уже совершенно утратили способность что-то понимать и предвидеть, а потому и позволили ему распоряжаться всем по своему усмотрению — вот где причина бедствий, постигнувших ныне эти злосчастные народы. (41) А кто помогал и способствовал Филиппу снискать такое доверие? Кто обманывал вас тут лживыми известиями? Это был он, вот он, проливающий ныне слезы над горестями фиванцев и разглагольствующий о плачевной их участи, хотя именно он повинен и в этих бедах, и в бедах фокидян, и в прочих бедах, которые довелось претерпеть всем эллинам! Право же, Эсхин, всякому ясно, что ты причитаешь о свершившемся и жалеешь фиванцев потому, что у тебя в Беотии имение491 и ты хозяйствуешь на их земле, а я, напротив, радуюсь, хотя меня-то разоритель этих самых фиванцев чуть ли не сразу требовал выдать головой. (42) Однако я уклонился к предмету, о котором уместнее будет сказать позже, а потому сейчас вернусь к прежнему и еще раз объясню, как вышло, что подлость этих вот людей оказалась причиною нынешнего положения дел.
Итак, что же сталось после того, как Филипп обманул вас с помощью продажных послов, от которых не услыхали вы ни одного правдивого слова, и после того, как злосчастные фокидяне также были обмануты и города их пали? (43) А сталось то, что эти фессалийские подонки и фиванские тупицы почли Филиппа первым своим другом, благодетелем и спасителем — он сделался для них всем, а если кто хотел сказать иное, они к таким речам оставались глухи. Что до вас, то вы, отчасти уже сознавая свершившееся, были недовольны, однако блюли мир — да и что еще вам оставалось? Равно и прочие эллины, вместе с вами обмороченные и разуверившиеся в своих надеждах, рады были хранить мир, ибо издавна отовсюду грозили им войны. (44) Так вот, уже тогда, пока Филипп там и сям побивал то иллирийцев и трибаллов,492 а то и кое-кого из эллинов, сбирая под свою власть многие и великие силы, и пока ездили к нему, пользуясь миром, гости из городов, а приехавши, тут же ему и продавались — и этот тоже! — так вот уже в ту пору Филипп воевал против всех, с кем и задумал воевать, а если они того не замечали, так это другой разговор, и я тут ни при чем. (45) Право, уж я-то без передышки твердил и изъяснял именно это и вам, и всем, к кому ездил послом, однако не было в городах здравомыслия: кто занимался государственными и прочими делами, те успели разлакомиться на взятках и продались, а что до простых граждан и прочих обывателей, так эти то ли не думали о будущем, то ли надеялись хоть денек да прожить без забот и печалей — да и все вообще испытывали точно такие чувства, воображая, будто беда грянет на кого угодно, только не на них, а уж у них-то водворится желанное благополучие, пусть и за счет чужих несчастий.
(46) По-моему, в эту самую пору и случилось так, что почти повсюду граждане из-за своей неумеренной и неуместной беспечности совершенно лишились свободы, а их предводители, прежде думавшие, будто торгуют всеми, но не собою, поняли, что себя продали еще в самом почине торга. Теперь-то не величают их друзьями и гостями, как в былое время, когда наживались они на взятках! Теперь-то они зовутся и подхалимами, и клятвопреступниками, и еще по-всякому — слушают, что заслужили! (47) И вправду, господа афиняне, неужто кто-нибудь станет тратиться ради предателя? Неужто кто-нибудь, купивши то, что покупал, станет советоваться с продавшим, как обращаться с покупкой? Будь так, предатель был бы счастливейшим из людей, но это не так. Да и с чего бы? Ничего подобного, и даже совсем наоборот! Сделавшись наконец хозяином положения, властолюбец становится хозяином еще и над продажными своими помощниками и тогда — именно тогда! — начинает питать к ним ненависть, презрение и подозрение, ибо подлость их заранее ему известна. (48) Времена, о которых я говорю, давно миновали, однако же людям здравомыслящим всегда полезно вспомнить о подобных случаях, так что глядите сами. Вот Ласфен — звался Филипповым другом, пока не продал ему Олинфа. Вот Тимолай — тоже ходил в друзьях, пока не погубил Фивы. Точно так же было с Евдиком и Симом Ларисейским,493 пока не продали они Филиппу Фессалию. Теперь-то они бродят по всему свету, и отовсюду их гонят и повсюду позорят — чего только не пришлось им натерпеться! А каково было с Аристратом в Сикионе и с Периллом в Мегарах? Изгнание и позор! (49) Из этого всякому яснее ясного, что верный сын отечества и враг предателей доставляет вам, Эсхин, — вам, продажным изменникам, — возможность наживаться на взятках и что благодаря вот этим гражданам и всем тем, кто противится вашим затеям, вы живы, здоровы и при доходе, а если бы остались сами по себе, то давно бы пропали.
(50) Многое еще мог бы я порассказать о тогдашних делах, однако полагаю, что и сказанного более чем достаточно. А говорить об этом пришлось из-за него, потому что он окатил меня тут своими лживыми и гнусными помоями — вот и надобно было отмыться перед вами, ибо вы моложе и тех времен не застали. Наверно, иным из вас, еще прежде знавшим о его продажности, рассказ мой надоел, (51) но он-то называет свою торговлю дружбой и гостеприимством, так что даже и в сегодняшней своей речи помянул «человека, попрекавшего меня гостеприимством Александра».494 Это я-то тебя попрекал Александровым гостеприимством? Да где же ты это гостеприимство добыл и чем заслужил? Никак не мог я назвать тебя ни гостем Филиппа, ни другом Александра — не настолько я ополоумел! — разве что станем мы именовать жнецов и прочих подобных поденщиков друзьями и гостями тех, кто платит им за поденщину. (52) Однако это не так, да и с чего бы? Совсем наоборот: прежде я говорил, что ты продался Филиппу, теперь говорю, что ты продался Александру, и это же самое говорят все, а если не веришь, так спроси. Нет, лучше я сам за тебя спрошу. Как по-вашему, господа афиняне, кем приходится Александр Эсхину — наемным слугою или гостем? Ну как, слышишь, что они отвечают?
(53) А теперь пора мне оправдаться во взводимом на меня обвинении и отчитаться в своих делах, чтобы Эсхин, хотя он и так это знает, все же услыхал, почему я утверждаю, что и взаправду заслужил не только предложенную в постановлении награду, но еще и куда большие почести. Возьми-ка, письмоводитель, жалобу и читай.
(54) [Жалоба. Дано при архонте Херонде 6 элафеболиона по представлению Эсхина Кофокидского, сына Атрометова, каковой Эсхин доносит архонту на Ктесифонта Анафлистийского, сына Леосфенова, что тот представил противозаконное постановление, будто надобно увенчать Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова, золотым венком и объявить в театре в Великие Дионисии, когда играются новые трагедии, что венчает-де народ Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова, золотым венком за добродетель его и верность, кои неизменно являет он всем эллинам и народу Афинскому, а еще за доблесть и за все честное и благородное, что делает он и говорит ради народа, а еще за то, что готов он служить народу как может лучше. (55) Представленное постановление от слова до слова лживо и противозаконно, ибо, во-первых, закон не дозволяет отступать от истины в государственных записях, во-вторых, закон не дозволяет венчать тех, кто на подотчетной должности, а Демосфен заведует строительством стен и театральною казною, и наконец, в-третьих, закон не дозволяет объявлять об увенчании в театре, да еще в Великие Дионисии, когда играются новые трагедии, но надлежит, если венчает совет, объявлять о том в заседании совета, а если венчает народ, объявлять о том в Народном собрании. Затребована пеня в пятьдесят талантов. Понятые: Кефисофонт Рамнунтский, сын Кефисофонтов, и Клеон Кофокидский, сын Клеонов.]
(56) Вы видите, господа афиняне, на какие главы постановления нападает обвинитель, а что до меня, то я намерен как раз на основании этих самых глав показать вам со всею очевидностью, сколь честно оправдываюсь. Отвечать я стану в таком же порядке, в каком он обвиняет, и скажу обо всем по очереди, ничего не пропуская, разве что по нечаянности. (57) Итак, если в представлении сказано обо всем честном и благородном, что делаю я и говорю ради народа, и о том, что готов я служить народу как могу лучше и что надобно меня за это почтить, то я не сомневаюсь, что заслужил такое постановление своими государственными предприятиями. С этих предприятий я и начну свой рассказ, а вы уж сами глядите, правду или ложь объявил обо мне Ктесифонт. (58) То же и с увенчанием и оглашением в театре: если Ктесифонт не добавил к этому «когда отчитается», то, стало быть, как я полагаю, опять-таки имел в виду мои государственные предприятия, за которые я заслужил или не заслужил упомянутого венка и оглашения — и тут, по-моему, надобно указать законы, дозволившие ему предложить такое постановление, какое он и предложил. Вот в этом порядке, господа афиняне, намерен я честно и просто отвечать обвинению, а теперь уже без отлагательств обращаюсь к рассказу о своих делах, (59) и пусть никто не подумает, будто я уклоняюсь от прямого ответа, если речь пойдет еще и о делах всей Эллады. Право же, если обвинитель возражает против той главы постановления, в которой говорится, что я честен и благороден в речах и делах, и если он утверждает, что все это вовсе не так, то он сам таким своим обвинением естественно вынуждает меня рассказать обо всех моих государственных предприятиях. Да притом изо всех, какие есть, государственных дел я избрал для себя именно общеэллинские, а значит, имею полное право на них ссылаться.
(60) Итак, не стану говорить о том, сколько успел отхватить себе Филипп прежде, чем я вступил на государственное поприще и получил слово на сходках, ибо это, как я понимаю, не вменяется мне в вину, однако напомню и расскажу, сколько раз — уже при мне — удавалось Филиппа осадить. Впрочем, кое о чем я хочу предуведомить заранее. У Филиппа, господа афиняне, с самого начала было великое преимущество, (61) ибо в Элладе в ту лору — да не где-то в одном месте, а повсюду — взошел такой урожай предателей, взяточников и прочих святотатцев, что подобного изобилия никому не припомнить, сколько ни вспоминай. Вот с этими-то союзниками и помощниками он ввергнул эллинов, издавна не ладивших и враждовавших друг с другом, в еще злейшие несчастья: иных обманул, иных одурачил подачками, иных прельстил всяческими посулами, и этим способом совершенно разобщил всех, хотя на деле для всех было самым лучшим лишь одно — не давать ему такой силы. Тем не менее (62) вся Эллада пребывала в совершенном неведении, не помышляя об уже народившейся и растущей беде. Глядите сами, господа афиняне, какой выбор был в ту пору перед нашим городом. Что должны мы были делать? Как поступать? Тут отвечать надобно мне, потому что именно я взялся тогда за эти дела. (63) Неужто, по-твоему, Эсхин, следовало нам тогда, забывши гордость и честь, презрев заветы и уставы предков, смешаться в единую ораву с фессалийцами и долопами,495 чтобы вместе с ними помогать Филиппу утвердиться над всеми эллинами? А если не так, ибо о таком и подумать страшно, то не следовало ли нам равнодушно взирать, как все идет к такому концу, заранее вполне сознавая, что — если только никто не воспротивится Филиппу — конец этот неизбежен? (64) И теперь я снова хочу с пристрастием спросить того, кто больше всех бранит сделанное в ту пору: ну, а он-то чего желал? К которой стороне должен был, по его понятиям, примкнуть наш город? К тем, кто прямо повинен в беде и позоре эллинов, то есть к фессалийцам и их союзникам? Или к тем, кто равнодушно глядел на происходящее, стараясь лишь о собственном благополучии, то есть к аркадянам, мессенянам и аргосцам? (65) Однако же почти все — а вернее сказать, что все! — названные народы кончили еще хуже нашего. Действительно, если бы Филипп всякий раз, одержав победу, немедленно удалялся и потом сидел в покое, никак и ничем не ущемляя ни своих союзников, ни прочих эллинов, тогда можно было бы хоть с некоторым основанием попрекать и бранить его противников, — но ведь выходило не так! Всех он бесчестил, всех порабощал и у кого мог отнимал главенство, а у иных даже и государственное их устроение — так неужто не было единственно благородным то решение, которое и приняли вы, вняв моему совету?
(66) Но вернусь к сказанному ранее. Что ясе, по-твоему, — Эсхин, следовало делать нашему городу, глядя, как Филипп готовится стать господином и тираном над всеми эллинами? Что должен был говорить и предлагать я, член государственного совета, да не какого-нибудь, а именно афинского — и это притом, что я всегда, вплоть до того самого дня, когда наконец взошел на этот вот помост, отлично знал, что отечество наше неизменно стремится к первенству, к чести, к славе и что ради чести и общего блага потратило оно денег и людей столько, сколько иные из прочих эллинов и на себя-то не потратили? (67) Да притом я видел, что у этого самого Филиппа, у соперника нашего, пока боролся он за власть и главенство, уже и глаз выбит, и ключица поломана, и нога вывихнута — а он готов лишиться всех членов, какие пожелает отнять у него случай, лишь бы уцелевшие огрызки пребывали в чести и славе! (68) Вряд ли кто-нибудь посмел бы согласиться, что вот этот уроженец Пеллы, захолустного в те времена местечка, наделен столь величавым духом, что мечтает стать господином над эллинами и от намерения своего не отказывается, а вот вы, афиняне, которым все, что вы каждый день видите и слышите, напоминает о доблести предков, вдруг пали до столь подлой трусости, что охотно и добровольно отдаете свободу свою Филиппу. (69) Да никто не посмел бы даже вымолвить подобное! А если так, то неизбежно оставалось только одно — по справедливости противиться всем несправедливостям, которые творил он против вас, и именно это вы делали с самого начала всеми уместными и подходящими способами. В ту пору уже и я, приобщившись к государственным делам, давал вам советы устно и письменно — да, давал, это я подтверждаю. Но как еще должен был я поступать, спрашиваю я тебя? Отвлечемся сейчас от всего, не станем поминать Амфиполь, Пидну, Потидею и Галоннес, (70) а тем более Серрий, Дориск, разорение Пепарефа496 и весь прочий ущерб, нанесенный нашему городу — пусть считается, что этого я не знаю. Впрочем, ты-то твердил, будто как раз я своими разговорами об этом перессорил сограждан, хотя на самом деле особые постановления были изданы по представлениям Евбула, Аристофонта и Диопифа, а вовсе не по моим — но уж тут ты просто болтаешь что в голову взбредет.
(71) Ладно, не стану говорить теперь об этом, скажу о Филиппе. Если он старался завладеть Евбеей, чтобы укрепиться там и напасть на Аттику, если он стремился прибрать к рукам Мегары, захватить Орей, сокрушить Порфм, и если он уже успел поставить Филистида тираном в Орее, а Клитарха в Эретрии, и если он угнетал Геллеспонт, осаждал Византий, иные эллинские города разорял, в иные возвращал изгнанников, — итак, совершая все это, неужто не преступал он клятву, не расторгал договора, не нарушал мира? Неужто нет? И неужто никому из эллинов не следовало наконец подняться и воспротивиться ему? Неужто опять нет? (72) Если не следовало, а вме сто этого нужно было, чтобы Эллада со всею несомненностью оказалась, как говорится, мисийскою добычей497 — и это при живых и здравых афинянах! — тогда, конечно, я попусту суетился, речами этими увлеченный. Если так, то пусть все свершившееся зовется моим преступлением и вменяется мне в вину! Но если все-таки нужно было подняться и воспротивиться Филиппу, то кому же это пристало, как не Афинскому народу? Вот об этом-то я и старался, будучи на государственном поприще, и потому-то, видя в Филиппе всеобщего поработителя, воспротивился ему, предупреждая и убеждая не уступать. И все-таки, Эсхин, мир оказался нарушен не нами, но Филиппом, когда захватил он наши суда. (73) Неси сюда, письмоводитель, эти самые постановления и письмо Филиппа и читай их по порядку, потому что тогда станет ясно, кто и в чем виноват.
[Особое постановление. Дано при архонте Неокле в месяце боэдромионе в чрезвычайном Народном собрании, созванном полководцами, по представлению Евбула Копрейского, сына Мнесифеева. Поелику полководцы донесли на сходке, что флотоводца Леодаманта с двадцатью судами, посланными за хлебом в Геллеспонт, Аминта, Филиппов военачальник, полонил и угнал в Македонию и там держит под стражей, то надлежит поручить очередным председателям и полководцам, чтобы они совместно озаботились устроить Заседание совета и избрать посольство к Филиппу. (74) Назначенные послы пусть отправятся к Филиппу, дабы сговориться об освобождении флотоводца, судов и воинов. Если Аминта совершил дело свое по неведению, то надлежит послам объявить, что афинский народ обиды на него не держит; а если полонил он флотоводца за нарушение установленных правил, то надлежит объявить, что нарушение будет рассмотрено и нарушитель за свой проступок будет наказан; а если ни того, ни другого не было, но дело совершилось по собственному усмотрению пославшего или посланного, то пусть о том будет сказано, дабы народ, разобравшись в обстоятельствах, решил, как надобно действовать далее.]
(75) Итак, это постановление представил вовсе не я, но Евбул, а следующее представил Аристофонт, а следующее Гегесипп, а следующее опять Аристофонт, затем Филократ, затем Ктесифонт и еще разные, но я тут ни при чем. Читай дальше.
[Особое постановление. Дано при архонте Неокле в двадцать девятый день боэдромиона по указу совета. Полководцы и очередные председатели доносят и предлагают обсуждению особое постановление Народного собрания, а именно, что народ велит избрать послов к Филиппу для переговоров о возвращении судов и поручите оным послам исполнять свою должность, руководствуясь особыми постановлениями, принятыми в собрании. Послами избраны: Кефисофонт Анафлистийский, сын Клеонов, Демокрит Анагирасийский, сын Демофонтов, Поликрит Кофокидский, сын Апемантов. Постановлено в очередное председательство Гиппофонтийской филы по представлению первоприсутствующего Аристофонта Коллитского.]
(76) Гляди, Эсхин, я предъявляю эти постановления — вот так же и ты предъяви-ка то постановление, из-за которого ты именуешь меня виновником войны. Однако предъявлять тебе нечего, а было бы, так ты бы сейчас только об этом и твердил! Впрочем, даже Филипп попрекает войной вовсе не меня, а других. Читай, письмоводитель, послание самого Филиппа.
[Послание Филиппа. (77) Царь македонян Филипп Совету и народу Афинскому — радуйтесь! Явившиеся ко мне от вас послами Кефисофонт, Демокрит и Поликрит говорили со мною об освобождении судов, над которыми начальствовал Леодамант. Вообще-то лично мне сдается, что вы впадаете в превеликую глупость, воображая, будто я не понял, что эти суда лишь для видимости были посланы отвезти хлеб из Геллеспонта на Лемнос, а на самом деле шли на помощь к осажденным мною селимбриянам,498 о которых в заключенном между нами мирном договоре не сказано ни слова. (78) Такое поручение было дано флотоводцу, конечно, не решением народа, но произволом кое-кого из архонтов и еще других лиц, которые уже не занимают теперь государственных должностей, однако всячески стараются, чтобы народ афинский, прервав нынешнюю нашу дружбу, снова затеял войну. Добиться этого для них гораздо важнее, чем помочь селимбриянам, и они надеются таковым способом стяжать себе честь и корысть, да только, по-моему, от подобного оборота дела не будет пользы ни вам, ни мне. Вот почему ваши суда, ныне содержащиеся у нас, я отпускаю, а что до дальнейшего, то если вы согласитесь не поощрять своих заводил в их преступных умыслах, тогда и я постараюсь соблюсти мир. Желаю удачи!]
(79) Нигде тут не пишет он ни слова о Демосфене и ни в чем меня не винит. Почему же, попрекая прочих, о моих делах он даже не поминает? Да потому, что если бы помянул он обо мне, то пришлось бы ему вспомнить и о собственных своих преступлениях, о которых я отнюдь не забывал и которым всячески противился. Сначала я представил постановление о посольстве в Пелопоннес — это когда он впервые попробовал туда пролезть; затем о посольстве на Евбею — это когда он стал прибирать к рукам Евбею; затем уже не о посольстве, но о военном походе в Орей и в Эретрию — это когда он посадил в этих городах своих тиранов.499 (80) А уж затем все вообще в посольства и всю военную помощь назначал и отправлял я, и так был спасен Византий, да и остальные союзники. Этими делами стяжали вы блистательные награды: хвалу, и славу, и почести, и венки, и благодарность облагодетельствованных вами народов! Если обиженные слушались ваших советов, то бывали спасены, а кому случалось советами этими пренебречь, тем частенько потом приходилось вспоминать, о чем вы их заранее предупреждали, и убедиться не только в вашей дружественности, но и в том, сколь вы разумны и прозорливы, потому что все предсказанное сбывалось в точности. (81) Всякому ясно, что Филистид не пожалел бы любых денег, лишь бы владеть Ореем, да и Клитарх не поскупился бы ради Эретрии, да и Филипп дорого бы заплатил, чтобы укрепиться в этих городах против вас, и чтобы прочие его затеи оставались в тайне, и чтобы никто и нигде не выволакивал на свет преступные его деяния, — все это известно всем, а уж тебе, Эсхин, лучше всех! (82) У кого в ту пору стояли постоем приезжавшие от Клитарха и Филистида послы? У тебя они стояли, ибо ты был их законным гостеприимцем, так что в друзьях у тебя были именно те люди, которых как врагов изгнали из нашего города за их коварные и злонамеренные умыслы, хотя из их затей так ничего и не вышло. Ты тут меня поносишь и бранишься, что о полученном-де я молчу, а о потраченном кричу — но ты-то не таков! Ты берешь и кричишь и будешь кричать без передышки, если только вот они сегодня не лишат тебя гражданской чести500 и тем не замкнут тебе рот!
(83) Итак, в ту пору вы почтили меня венком за перечисленные мои дела, постановив это по представлению Аристоника в точно таких же словах, в каких составлено нынешнее постановление Ктесифонта. О том увенчании было объявлено в театре, а значит, нынешнее объявление будет уже вторичным, однако в первый раз Эсхин, хотя все это было при нем, никак не возражал и не писал жалоб на Аристоника. Возьми и прочитай тогдашнее постановление.
(84) [Особое постановление.501 Дано при архонте Херонде, сыне Гегемоновом, в 24-й день гамелиона, в очередное председательство Леонтийской филы, по представлению Аристоника Фреаррийского. Поелику Демосфен Пеанийский, сын Демосфенов, оказал многие и великие услуги Афинскому народу и помогал многим союзникам, как прежде, так и теперь, гласно заступаясь за них в особых постановлениях и освободив иные из Евбейских городов, и поелику он неизменно являет Афинскому народу свою благонамеренность в словах и делах, радея в меру сил о благе афинян и прочих эллинов, Совет и народ Афинский постановили: почтить Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова, увенчав его золотым венком, и объявить об увенчании в театре во время Дионисий, когда играются новые трагедии. Объявление об увенчании поручить очередным председателям и устроителю состязаний. Дано по представлению Аристоника Фреаррийского.]
(85) Неужто хоть кто-нибудь из вас слыхал, чтобы из-за этого постановления государству пришлось стыдиться или терпеть брань и насмешки, которые предсказывает вам обвинитель в случае, если меня теперь увенчают снова? Ясно, что недавно совершенные и всем еще памятные дела если сделаны хорошо, то достойны награждения, а если плохо — наказания, но тогда ясно, что я в тот раз заслужил именно награду, а не взыскании и попреки.
(86) Стало быть, вплоть до того времени, когда случились обсуждаемые события, я, по общему мнению, приносил городу только пользу: мои устные и письменные советы оказывались для вас убедительны, предлагавшиеся мною постановления принимались, да еще за них и городу и мне и другим доставались венки, так что вы, почитая все это для себя благом, на радостях сообща приносили богам праздничные жертвы. (87) Затем, когда вы прогнали Филиппа с Евбеи вашим оружием, но также и моими — да, моими, хоть бы кое-кто тут и лопнул от злости! — постановлениями и с моим государственным участием, то принялся он искать, где бы еще укрепиться против нашего города. Итак, видя, что привозного хлеба502 мы расходуем гораздо больше, чем все прочие, решил он сделаться хозяином хлебного пути, а для того явился во Фракию и потребовал от союзных ему византийцев, чтобы они воевали против нас вместе с ним. Те воевать не хотели и отговаривались, что такого условия в договоре не было: говорили они чистую правду, однако он перекрыл дороги, пригнал стенобитные машины и осадил Византий. (88) Что следовало вам делать в подобных обстоятельствах, этого я даже спрашивать не стану — тут все ясно и так. Но кто помог тогда византийцам и вызволил их из осады? И кто помешал Геллеспонту отложиться к неприятелю? Да, господа афиняне, все это сделали вы! Однако когда я говорю о вас, то разумею все государство; а кто направлял государство? Кто говорил, писал, действовал и прямо-таки всего себя не пожалел ради этого дела? Я! (89) Насколько полезно оказалось это предприятие для всех, вы можете судить уже не по моим словам, но по событиям, очевидцами и участниками которых стали. Едва началась та война, как принесла она вам не только громкую славу, но еще и достаток — жить стало сытнее и дешевле, чем возможно при нынешнем мире, который эти вот наши благодетели так берегут, что готовы обездолить собственное отечество. Они надеются на какое-то грядущее процветание, но наверняка ошибутся — пусть же достанется им то, о чем в лучших своих мечтах молитесь вы богам, и пусть не сумеют они отплатить вам тем, что уже успели избрать для самих себя. Читай же, письмоводитель, постановления византийцев и перинфийцев о венках, которыми венчали они наш город за дела его.
(90) [Постановление византийцев. При святом местоблюстительстве503 Боспориха Дамагет по указу старейшин возвестил на вече нижеследующее. Поелику народ Афинский исстари являл дружество свое византиянам, а равно и союзным сородичам их перинфянам, доставляя им премногие и превеликие выгоды, и поелику при нынешних обстоятельствах, когда Филипп-македонец пошел на нас, на страну и город, сожигая нивы и вырубая деревья, дабы вовсе сгубить византиян и перинфян, то народ Афинский прислал нам сто и двадцать кораблей с хлебом, и с лучниками, и с латниками и тем избавил нас от великих бедствий и охранил исконное наше устроение и отеческие законы и могилы, то (91) народы Византийский и Перинфийский постановили: да будет даровано от нас афинянам брачное право, и гражданское право, и право землевладения и домовладения, и первоприсутствие на ристаниях, и прямой доступ к старейшинам и к вечу, а наипаче по праздникам; и ежели какие из афинян пожелают поселиться в нашем городе, то совершенно освободить их от всех повинностей; и еще водрузить в Боспорее три изваяния, каждое в шестнадцать локтей высотою, кои да представят венчание Афинского народа народами Византийским и Перинфийским; и еще послать святые ладьи504 на всеэллинские соборы, а именно на Истмийские, и Немейские, и Олимпийские, и Пифийские игры, дабы там объявить о том, что увенчали мы народ Афинский, — да будет ведома всем эллинам доблесть афинян и благодарность византиян и перинфян.]
(92) Теперь читай о венке от херсонесцев.
[Постановление херсонесцев. Граждане херсонесские, обитающие в Сеете, и в Элеунте, и в Мадите, и на Лисьем острове, венчают Совет и народ Афинский золотым венком в шестьдесят талантов505 и благодарно водружают алтарь народу Афинскому, ибо явил он гражданам херсонесским величайшую милость, избавив их от Филиппа и воротив им отечество, и законы, и свободу, и святилища, а потому во веки вечные не иссякнет благодарность граждан херсонесских, и все, что могут, готовы они сделать ради афинян. Дано в общем заседании Совета.]
(93) Итак, с помощью моей государственной дальновидности мы тогда не только спасли Херсонес и Византий, не только помешали Геллеспонту отложиться к Филиппу и не только стяжали славу отечеству, но еще и доказали всему человечеству собственную честность и Филиппову подлость. Действительно, все видели, как он осаждал византийцев, которые ему же были союзниками, — неужто возможно совершить мерзость гнуснее этой? (94) А вы, напротив, хотя могли и имели право припомнить, сколько плохого сделали вам византийцы в прежние времена, однако же не только не отплатили злом за зло и не стали усугублять их беды, но еще и явились к ним спасителями, тем приобретя всеобщую приязнь и уважение. И снова скажу: все знают, что вам и раньше случалось награждать венками многих государственных людей, но чтобы стараниями одного человека, то есть благодаря советам его и речам, целому народу доставались венки — другого такого человека никто назвать не может, таков лишь я!
(95) Теперь скажу об обвинениях, которые Эсхин возводит на евбейцев и византийцев, с пристрастием припоминая, сколько неприятностей успели они вам причинить, и объясню, почему обвинения эти достойны наемного доносчика. Причина тут не только в их лживости — об этом-то вы наверняка знали с самого начала! — а еще и в том, что если бы даже говорил он чистую правду, то все равно единственный правильный способ вести дела был именно мой способ. В доказательство хочу рассказать вам — разумеется, вкратце — об одном или двух удачных государственных предприятиях уже ваших времен, ибо и отдельным гражданам, и всему обществу граждан всегда следует, затевая дела, учесть в расчетах своих прошлые удачи, (96) Итак, в ту пору, когда спартанцы владели землею и морем, со всех сторон окружив Аттику подначальными им крепостями и сторожевыми отрядами, — стояли они и на Евбее, и в Танагре, и повсюду в Беотии, и в Мегарах, и на Эгине, и на Кеосе, и на других островах, а у нас еще не было тогда ни кораблей, ни стен, — то все-таки афиняне пошли походом к Галиарту, а несколько дней спустя снова пошли, на сей раз к Коринфу, хотя уж тогда-то много чего можно было припомнить и коринфянам и фиванцам из того, что понатворили они в Декелейскую войну;506 но нет, ничего афиняне им припоминать не стали. (97) Заметь, Эсхин, в обоих случаях старались они отнюдь не ради своих благодетелей и вполне сознавали опасность предприятия, однако же при всем при том не бросали просителей в беде, но ради чести и славы соглашались подвергнуть себя великим тяготам — и такое решение было верным и наилучшим! Жизнь человеческая непременно кончается смертью, и никто от нее не убережется, хоть бы и весь век прятался в своем углу, так что добрым гражданам подобает неизменно стремиться к прекрасным подвигам и надеяться на хорошее, снося с благородною стойкостью все, что ниспошлет им бог. (98) Таковы были ваши предки, таковы и те из вас, кто постарше и помогал спартанцам. Уж спартанцы-то не были нам ни друзьями, ни благодетелями, но, напротив, нанесли нашему городу множество тяжких обид — и все-таки, когда фиванцы после победы при Левктрах вознамерились совсем уничтожить Спарту, то вы им воспрепятствовали, не убоявшись тогдашней их силы и славы и не торгуясь о прошлом с теми, ради кого шли на опасное дело. (99) Вот так вы показали всем эллинам, что даже если кто перед вами и виноват, вы гневаетесь лишь до тех пор, пока жизни и свободе этих самых людей не станет грозить опасность, а уж тут вы не поминаете былого и не считаетесь обидами. Отношения ваши к спартанцам — не единственный тому пример. Когда фиванцы стали зариться на Евбею, вы опять не остались равнодушны и тем более не начали припоминать, сколько несправедливостей претерпели от Фемисона и Феодора из-за Оропа, но явились на помощь также и к евбейцам — именно тогда впервые над нашими боевыми кораблями начальствовали добровольцы,507 в том числе я. (100) Впрочем, не о них теперь речь. Спасши остров, вы поступили благородно, однако еще благороднее поступили потом, когда, уже сделавшись господами городов и людей, по справедливости вернули все прежним своим обидчикам и решали все дела, об обидах этих отнюдь не поминая. Я мог бы привести великое множество таких примеров, но не буду; я не буду говорить ни о прошлых, ни о нынешних — уже вашего времени! — морских битвах, сухопутных набегах и военных походах, которые наш город предпринимал единственно ради жизни и свободы эллинов. (101) Итак, памятуя о столь многих и великих делах отечества, всегда готового сразиться ради чужого блага, что же должен был я советовать и говорить гражданам, когда речь зашла некоторым образом об их собственной пользе? Что им следовало делать? Свидетель Зевс! Неужто следовало им считаться обидами с теми, кто желал лишь выжить? Неужто следовало им искать повода остаться в стороне? Да, всякий мог бы по праву убить меня на месте, если бы я вознамерился хоть единым словом уязвить благородство отечественных наших заветов! Впрочем, я уверен, что убивать меня вы бы все-таки не стали, потому что если бы вам этого хотелось, то никакой помехи для такого дела не было, не так ли? Ведь всегда под рукой вот эти заводилы, готовые требовать для меня смертного приговора!
(102) Однако хочу вернуться к рассказу о моих государственных предприятиях, а вы снова сами судите, что именно было тогда для города наипервейшим благом. Итак, я видел, господа афиняне, что кораблестроение у нас в упадке: богачи увиливают от повинностей, отделываясь мелочами, а между тем люди среднего или вовсе малого достатка вконец разоряются, и оттого город упускает многие благоприятные для себя возможности, — поэтому я провел закон, посредством которого принудил богачей честно исполнять свои обязанности, бедняков освободил от несправедливых утеснений, а больше всего пользы принес городу, добившись, чтобы суда снаряжались к положенному сроку.
(103) За это я был притянут в суд, явился к вам, и вы меня оправдали, а обвинитель и камешков-то не собрал сколько нужно. А как по-вашему, сколько давали мне старшины податных отделений508 и их товарищи и сотоварищи, лишь бы я вовсе не предлагал этого закона, но уж если он пройдет, то хотя бы не настаивал на этом после присяги? Столько они мне давали, господа афиняне, что и сказать страшно! (104) С их стороны это было вполне естественно, потому что по прежним законам они несли повинность, объединяясь в общества по шестнадцать человек, и так сами тратили мало или ничего, но все тяготы взваливали на неимущих, а по моему заколу каждый взнос назначался в соответствии с имением — вот и вышло, что тот, кто прежде вместе с еще пятнадцатью другими пайщиками строил один корабль, теперь в одиночку должен был строить два. Они-то уже привыкли называть себя не судостроителями, а просто пайщиками! Конечно, ради того, чтобы так и осталось и чтобы не пришлось им честно исполнять свои обязанности, они были готовы дать какую угодно взятку. (105) Прочитай-ка, письмоводитель, сначала особое постановление о привлечении меня к суду, а после читай, какой расчет полагался в прежнем законе и какой в моем.
[Особое постановление. Дано при архонте Поликле в 16-й день месяца боэдромиона в очередное председательство Гиппофонтийской филы. Демосфен Пеанийский, сын Демосфенов, предложил новый закон о судостроении вместо прежнего, по которому судостроители объединялись на паях. Принято Советом и народом при открытом голосовании. Вслед за этим Патрокл Флиейский обвинил Демосфена в противозаконии и, поелику не собрал положенной доли судейских камешков, уплатил пеню в пятьсот драхм.]
(106) Теперь неси тот пресловутый список.
[Список. Судостроителей призывать для каждого боевого корабля по шестнадцать человек из окружных податных обществ. Возраст от двадцати пяти до сорока лет. Расходы по исполнению повинности пусть несут в равных долях.]
Теперь для сравнения прочитай список, составленный по моему закону.
[Список. Судостроителей избирать для каждого боевого корабля таких, у кого имение ценится в десять талантов, а у кого имение оценено дороже, тот пусть несет расходы вплоть до оплаты трех боевых судов и одного вспомогательного. Соответственно рассчитав повинность граждан, у которых имение оценено меньше, чем в десять талантов, следует объединять их в общества, совместное имение которых составит десять талантов.]
(107) Как по-вашему, неужто мало я помог беднякам и неужто мало сулили мне богачи, лишь бы не исполнять законных своих обязанностей? Стало быть, я могу гордиться не только тем, что не поддался посулам, не только тем, что оправдался в суде, но еще и тем, что провел полезный закон и доказал полезность его на деле. Действительно, в течение всей войны корабли снаряжались в поход по моему закону, однако никто из судостроителей ни разу не подавал вам прошений с жалобами на обиды, никто из судостроителей не укрывался в Мунихии509 и не сидел в тюрьме по приказу заведующего снаряжением, ни один из наших боевых кораблей не пропал, брошенный на чужбине, и ни один не остался тут как негодный для похода. (108) Между тем при прежних законах все это случалось, и случалось потому, что повинность возлагалась на бедняков, которым такое бремя было не по силам. А вот я перенес судовую повинность с неимущих граждан на зажиточных — и тут же все пошло как положено. Впрочем, я заслуживаю похвалы еще и за то, что всегда стоял за такие предприятия, от которых государству нашему доставались сразу и честь, и слава, и сила, — никогда не совершал я ничего унизительного и постыдного для города, (109) Из дальнейшего будет ясно, что в делах городских и общеэллинских я держался одних и тех же правил: ни в городских делах я не предпочитал приязнь богачей правам большинства граждан, ни в делах эллинских не променивал блага Эллады на Филипповы подарки и гостеприимство.
(110) Теперь, как я понимаю, мне осталось сказать об оглашении в театре и об отчете, потому что честность моих дел, моя неизменная благонамеренность и готовность стараться ради вас, как умею, — все это, по-моему, ясно из уже изложенного. Правда, я не стал пока говорить о самых главных своих государственных предприятиях в рассуждении того, что, во-первых, я должен без отлагательств ответить на обвинение в беззаконии, а во-вторых, если я ничего больше и не скажу о своих делах, то все равно каждый из вас довольно о них осведомлен.
(111) Итак, сначала о нарушении законов. Обвинитель в своей речи вертел и крутил этими законами во все стороны, однако — клянусь богами! — мне кажется, что вы так и не уразумели его рассуждений, да и я сам почти ничего не сумел понять. Скажу, однако же, прямо и попросту, как по справедливости обстоит дело.
Я не только не отрицаю своей подотчетности, хотя он тут и взводит на меня эту клевету, но всю свою жизнь признавал и признаю, что подотчетен вам во всех государственных и прочих должностных делах. (112) Но когда речь идет о моих собственных деньгах, которые я по своей же воле отдал народу, — тут я не признаю себя подотчетным ни на единый день! Слышишь, Эсхин! Да и никто в таком деле не подотчетен, будь то хотя бы и кто-нибудь из девяти архонтов!510 Неужто бывает закон, столь несправедливый и жестокий, чтобы человека, отдавшего свое и сделавшего человеколюбивое и щедрое дело, не только никак не поблагодарить, но еще и предать доносчикам, чтобы они надзирали за его отчетом о собственных его дарах? Нет и не бывало такого закона! Если обвинитель на него ссылается, то пусть предъявит, а я тогда соглашусь и словом не возражу. (113) Но такого закона не существует, господа афиняне, хотя этот продажный лжец и твердит, будто я отдал свои деньги в то время, когда заведовал театральной казною, и будто Ктесифонт поэтому расхваливает меня прежде отчета. Однако пойми, наемный клеветник, что Ктесифонт хвалит меня не за исполнение подотчетной должности, а за неподотчетную щедрость! Ты скажешь, что я заведовал также строительством стен. Заведовал, но потому-то и заслужил похвалу, что тратил собственные деньги и не ставил их в счет казне. Да, подотчетного положено проверять, и для того назначаются особые проверщики, но дарителя по справедливости положено благодарить и хвалить — именно потому подсудимый и представил меня к награде. (114) Представление его не только законно, но и подкреплено вашими обычаями, что я с легкостью докажу во многих примерах. Вот Навсикл — в бытность свою полководцем не раз награждался венками за расходование на общие нужды собственных средств. То же с Диотимом и с Харидемом — оба увенчаны за подаренные ими щиты. Неоптолем — вот он сидит! — заведовал многими работами, тратил на них свои деньги и за это награжден. Право же, выйдет сущая нелепость, если никаким должностным лицам по чину не будет дозволено тратить на общее дело собственные средства или если дарителей, вместо того чтобы поблагодарить, заставят отчитываться в расходах! (115) А в доказательство, что я говорю о невымышленных событиях, возьми и прочитай, что было постановлено о помянутых мною награждениях. Читай.511
[Особое постановление. Дано при архонте Демонике Флиейском в 26-й день боэдромиона по указу Совета и народа, каковой указ представлен Каллием Фреаррийским. Совет и народ постановили увенчать Навсикла, начальника латников, за то, что когда афинские латники числом две тысячи пребывали на Имбре ради помощи афинским поселенцам, живущим на этом острове, и когда Филон, избранный заведовать казною, по причине зимней бури не мог отплыть на Имбр и уплатить латникам жалованье, то Навсикл уплатил жалованье из собственных средств и не востребовал их затем у народа. Об увенчании объявить в Дионисии, когда играются новые трагедии.]
(116) Еще одно особое постановление: [Представлено Каллием Фреаррийским по решению очередных председателей и по указу Совета. Поелику Харидем, начальник латников, и Диотим, начальник конницы, будучи посланы на Саламин и после того, как доспехи некоторого числа воинов, павших в бою у реки, были сняты врагами, на собственные средства снарядили новобранцев восемьюстами щитами, Совет и народ постановили увенчать Харидема и Диотима золотыми венками и объявить о том в Великие Панафинеи во время ристаний, а также в Дионисии, когда играются новые трагедии. Об оглашении должны позаботиться законоблюстители, очередные председатели и устроители состязаний.]
(117) Все эти награжденные, Эсхин, были обязаны отчетом об исполнении должности, однако не отчитывались в том, за что их венчали — почему же я должен отчитываться? Очевидно, что тут права у меня такие же, как и у прочих: если я подарил, то за это меня награждают, но в подарках своих я не подотчетен, а если я занимал должность, то и отчитываюсь в исполнении должности, но опять же не в подарках. Ладно, свидетель Зевс! предположим даже, что я совершил должностное преступление! Почему же ты, быв тому свидетелем, не уличил меня, когда я сдавал дела проверщикам?512
(118) Впрочем, он и сам свидетельствует перед вами о том, что венчали меня за неподотчетные дела. Возьми-ка, письмоводитель, и прочитай целиком это постановление обо мне — тогда по тем главам представления, о которых он ничего не сказал, станет ясно, что обвиняет он меня точно как наемный доносчик. Читай.
[Особое постановление. Дано при архонте Евфикле в 22-й день месяца пианепсиона в очередное председательство Ойнейской филы по представлению Ктесифонта Анафлистийского, сына Леосфенова. Поелику Демосфен Пеанийский, сын Демосфенов, заведуя исправлением стен, истратил сверх отпущенных денег три таланта из собственных средств, каковые подарил народу, и поелику он, заведуя театральною казною, добавил к ней от себя ради зрителей из всех фил сто мин на жертвоприношения, Совет и народ Афинский постановили: похвалить Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова, за доблесть его и добродетель, кои неизменно являет он народу Афинскому, и увенчать его золотым венком, а объявить об увенчании в театре во время Дионисий, когда играются новые трагедии. Оглашение поручить устроителю состязаний.]
(119) Вот каковы были мои подарки, хотя ты о них даже не помянул в своих обвинениях, а вместо того жалуешься тут на те награды, которые присудил мне совет как раз за эти дары. Стало быть, по-твоему, взять, что дают, вполне законно, а поблагодарить — это уже повод для обвинения в противозаконности! Остается лишь вопросить богов: есть ли на свете сущий негодяй, святотатец и завистник? А если есть, то не ты ли?
(120) Теперь касательно оглашения в театре. Уж и не стану говорить, что таких оглашений было без счета и что о бессчетном множестве людей да и обо мне самом уже не раз вот так объявляли, но — ради богов! — неужто ты, Эсхин, настолько туп и глуп, чтобы не уметь догадаться, что венчаемому венок всегда в радость, где бы о том ни объявляли, и что оглашение в театре устраивается ради венчающих? Действительно, услыхав такое, всякий постарается услужить отечеству, да и сама благодарность еще достохвальнее заслуг венчаемого, так что не зря у нас имеется соответственный закон! Ну-ка, письмоводитель, возьми и прочитай этот закон.
[Закон. Если кого венчает округ, то объявлять о венчании только в том округе, к коему принадлежит венчаемый. Исключение составляют те, кого венчают Совет и народ Афинский, а о таковых дозволяется объявлять в театре во время Дионисий…]
(121) Слыхал, Эсхин? В законе ясно сказано: «Кроме тех, кого венчают по постановлению Совета и народа, а этим положено оглашение». Зачем же ты, горемыка, сочиняешь облыжные доносы? Зачем измышляешь, чего не бывало? Почему не лечишься чемерицею?513 Неужто не стыдно тебе тащить человека в суд не за преступление, но единственно из зависти, да притом еще вывертывать наизнанку и дергать по клочкам законы, которые по чести следовало оглашать полностью хотя бы перед теми, кто присягнул судить в согласии с этими законами? (122) Мало того что ты так поступаешь, но ты еще твердишь, каков должен быть истинный друг народа, — будто ты сговорился о его портрете и теперь принимаешь работу, а работа исполнена не по заказу. Или, по-твоему, друг народа узнается по речам, а не по делам и государственным предприятиям? Ты тут орешь всякие слова, какие надо и не надо, словно бродячий лицедей,514 — тебе и твоим сородичам такое позволительно, но мне не пристало. Впрочем, господа афиняне, скажу и об этом. (123) По-моему, обвинения отличны от ругательств тем, что обвинитель говорит о наказуемых по закону преступлениях, а ругатель бранится соответственно собственному своему нраву — потому-то врагам случается взводить друг на друга какую угодно клевету. Однако я полагаю, что предки наши воздвигли эти судилища отнюдь не для того, чтобы мы собирали вас сюда слушать, как мы непотребно бранимся из-за частных наших дел, но для того, чтобы уличали мы здесь тех, кто провинится перед городом, — (124) а вот Эсхин, хотя и знает все это не хуже меня, предпочел не обвинять, но скоморошничать. Если так, то неправильно будет, если он уйдет отсюда, не получив и на этот предмет достойной отповеди, — и он сейчас ее получит, но прежде я хочу задать ему вопрос. Скажи, Эсхин, чьим врагом надобно тебя почитать, врагом государства или только моим? У тебя выходит, что только моим. Но тогда почему же обо всех моих делах, за которые — будь они преступны — меня можно было покарать по закону и ради общей пользы, ты никогда и слова не сказал? Сколько я ни отчитывался, ни обвинял, ни судился, — ты молчал. (125) Теперь, напротив, никаким Законам управы на меня нет; время прошло, сроки истекли,515 по всем делам многократно вынесены приговоры, никто никогда не уличил меня в государственном преступлении, а городу за всякое мое дело ради общего блага почти непременно доставалась слава — и вот тут-то ты встал на дыбы. Уж не прикидываешься ли ты только моим врагом, а на деле враждебен вот им!
(126) Итак, хотя всем уже очевиден справедливый и благочестивый приговор, однако, по обычаю, мне надобно ответить на всю ту ложь и клевету, которую он обо мне наговорил. Я-то ругани не люблю, а потому скажу лишь самое необходимое, чтобы объяснить, кто таков обвинитель, и какого он рода, и почему с такой легкостью начинает ругаться и цепляться к словам, хотя сам успел употребить выражения, каких скромный человек и вымолвить не осмелится, (127) Когда бы обвинителем был Эак, или Радаманф, или Минос,516 а не этот пустозвон, этот рыночный пройдоха, этот пропащий сутяга, то такой обвинитель, конечно, не только не стал бы браниться, но и не стал бы тут разглагольствовать, завывая, словно с подмостков: «О Земля! О Солнце! О Доблесть!» — и прочее в этом роде, а равно не стал бы взывать к «совести и просвещенности, кои помогают различить прекрасное и постыдное», — вы сами слыхали, как он давеча разливался в таких вот речах! (128) Да откуда же, мерзавец, ты и тебе подобные могут знать о доблести? Да откуда бы тебе уметь различать, что прекрасно и что нет? Откуда взялись у тебя такие полномочия? И по какому праву смеешь ты даже поминать о просвещенности? Никакой из людей истинно просвещенных нипочем бы о себе такого не сказал, да еще и покраснел бы, услышав, что другие его так именуют, — а вот невежам вроде тебя только и остается изводить слушателей разговорами о просвещенности, на которую вы по невежеству своему притязаете, хотя даже видимости воспитания у вас нет!
(129) Я отлично знаю, что надобно сказать о тебе и твоих родичах, хотя затрудняюсь, с чего начать. Начать ли с того, что отец твой Тромет был в рабстве у Елпия, державшего начальную школу при Тесеевом храме, и что ходил он в тяжелых кандалах, да еще и в ошейнике? Или с того, что мать твоя среди бела дня торговала собою в притоне близ Каламитова капища517 и что ее попечением вырос ты хорошенький-прехорошенький и вознесся до третьеразрядного лицедея? Нет, это все знают, даже и говорить не стоит. Или рассказать, как корабельный флейтист518 Формион, раб Диона Феррарийского, помог твоей матушке подняться с ее благородной подстилки? Нет, клянусь Зевсом и всеми богами, как бы не показалось, что для подобающего рассказа о тебе выбираю я слова, мне самому отнюдь не подобающие. (130) Итак, обо всех этих обстоятельствах я умолчу, а начну прямо с рассказа о его собственной жизни. Человек он не простой, но произошел из наипроклятущего рода и, наконец, долгое время спустя — да куда там, прямо-таки вчера! — вдруг явился афинским гражданином и государственным мужем, добавив слог к имени отца своего и сделав его из Тромета Атрометом, а мать с превеликою пышностью назвавши Главкофеей, хотя все знают, что прозвание ей было Эмпуса519 — наверно, за то, что она все делала и все позволяла, а иначе с чего бы?
(131) Однако ты по самой природе своей столь низок и подл, что, сделавшись с помощью этих вот людей из раба свободным и из голодранца богатым, отнюдь не питаешь к ним благодарности, но, напротив, сам себя запродавши, все делаешь во вред согражданам. Умолчу о тех случаях, когда возможно спорить, насколько злонамеренны были его речи, а напомню лишь о тех, когда со всею очевидностью обнаруживалось, что старается он ради наших врагов.
(132) Кто не знает Антифонта — Антифонта, которого отлучили от гражданства?520 Этот Антифонт пообещал Филиппу сжечь наши верфи, явился сюда исполнить обещанное и укрылся в Пирее, а когда я его там изловил и доставил в Народное собрание, то этот вот клеветник принялся орать и вопить, что я-де жестоко оскорбляю народонравство, ибо нагло позорю бедствующих граждан и ломлюсь к ним в дома, не имея на то особого постановления, — и так он добился, что Антифонта отпустили. (133) Если бы все это дело не стало известно совету Ареопага, который, понимая, что ваша неосведомленность обращается вам же во вред, отыскал преступника, схватил и опять доставил его к вам, — если бы не это, тогда Антифонт ускользнул бы из ваших рук и — благодаря вот этому краснобаю! — избегнул бы законной кары, а так вы приговорили его к пытке и смертной казни, да и этому его заступнику, по правде, полагалось то же. (134) Именно по этой причине совет Ареопага, отлично знавший все обстоятельства дела, воспротивился, когда вы открытым голосованием избрали его представлять вас в тяжбе о Делосском святилище,521 — а вышло это опять-таки из-за вашей неосведомленности, уже столько навредившей вам в общих делах, — итак, когда вы обратились к совету, поручая утвердить или отвести избранного, то совет сразу же дал ему отвод как предателю и говорить за вас в суде назначил Гиперида. Камешки для суда своего совет взял со святого алтаря,522 и ни единого камешка не оказалось брошено за этого негодяя! (135) А в доказательство истинности моих слов пусть будут призваны свидетели из членов совета.
[Свидетельства. Со стороны Демосфена за всех членов совета Ареопага выступают свидетелями Каллий Сунийский, Зенон Флиейский, Клеон Фалерский и Демоник Марафонский, каковые свидетели объявляют: «Когда народ открытым голосованием избрал Эсхина, дабы Эсхин представлял народ на соборе амфиктионов по случаю тяжбы о Делосском святилище, то мы, собравшись и рассудив дело, почли Гиперида более достойным представителем города и послали Гиперида».]
(136) Вот так совет Ареопага не допустил его представлять город и препоручил должность другому, тем выказав свое мнение о его предательстве и злонамеренности. Это одно предприятие нашего молодчика — и очень похожее на то, в чем он меня же винит, не так ли? Однако пора нам припомнить еще одно его дело. Когда Филипп прислал сюда523 византийца Пифона, а вместе с ним еще и послов от всех своих союзников, чтобы срамить наш город и доказывать, какие мы клятвопреступники, то именно я не отступил тогда перед изобильным потоком Пифоновых дерзостей, но возразил и ответил, не предав государственной нашей правоты и столь очевидно изобличив преступность Филиппа, что собственные его союзники открыто со мною согласились, — и только этот вот негодяй ему помогал, свидетельствуя, а вернее сказать, лжесвидетельствуя против своего же отечества.
(137) Но и этого оказалось мало; и вот некоторое время спустя он снова попался, когда пришел домой к Фрасону, навестить соглядатая Анаксина, а уж кто встречается и сговаривается со вражеским соглядатаем с глазу на глаз, тот и сам не иначе как сущий соглядатай и враг отечества. В доказательство истинности моих слов пусть будут призваны свидетелями очевидцы.
[Свидетельство. Теледем, сын Клеонов, и Гиперид, сын Каллесхров, и Никомах, сын Диофантов, свидетельствуют за Демосфена и клятвенно подтверждают, что достаточно знают о том, как Эсхин Кофокидский, сын Атрометов, приходил ночью в дом Фрасона и беседовал там с Анаксином, каковой Анаксин по суду объявлен Филипповым лазутчиком. Настоящее свидетельство дано при архонте Никии в 3-й день гекатомбеона.]
(138) Я мог бы еще многое порассказать об этом деле, но не стану, и вот почему. Сколько бы ни приводил я тут примеров того, как он тогда у всех на глазах поддерживал наших врагов и оскорблял меня, все такие случаи ни в памяти у вас не застревают, ни даже не будят в вас заслуженного гнева. У вас появилась дурная привычка предоставлять всякому желающему любые возможности коварно и облыжно порочить людей, радеющих о вашем же благе, — вот так вы готовы пренебречь общею пользою, лишь бы только услаждала ваш слух прелесть площадной перебранки! Потому-то получать постоянное жалованье за службу врагам теперь куда как легче и безопаснее, чем выступать в строю ваших защитников на государственном поприще.
(139) Конечно, если он еще прежде явной войны помогал Филиппу, то это чудовищно. О Земля, о боги, неужто не так? Ведь он старался во вред отечеству! Но если вам угодно простить ему это, простите ему. Однако, когда ваши суда были захвачены — уже явно! — и когда был разорен Херсонес, а Филипп собирался в поход на Аттику, и когда из положения дел со всею несомненностью было ясно, что войны не миновать, — в ту пору постарался ли ради вас хоть как-то этот клеветник, этот жалкий виршеплет?524 Ничего Эсхин не сделал, так что не может предъявить теперь ни единого, даже и невеликого, постановления, представленного им тогда ради блага государства. А если он возражает, то пусть предъявит — я уступлю ему время! Но нет, сказать ему нечего, да притом по необходимости выбирал он одно из двух: если видел он дурное в моих тогдашних предприятиях, то следовало ему их обжаловать, а если ревновал он о пользе наших врагов, то и вправду незачем ему было мешаться со своими улучшениями.
(140) Впрочем, если не предлагал он постановлений, значит ли это, будто он молчал, когда было возможно хоть как-то напакостить? Нет, он говорил, он перекричал всех! Пожалуй, другие дела его город еще мог стерпеть или оставить без внимания, но под конец он совершил, господа афиняне, такое, что самого себя обогнал, — именно об этом своем деле он особенно много разглагольствовал, когда твердил тут об указах касательно Амфиссейских локров. Конечно, он всячески извращал истину, но истины не скроешь — да и как ее скрыть? Сколько бы ты тут ни рассуждал, а того, что натворил ты тогда, утаить невозможно.
(141) Я призываю здесь перед вами, господа афиняне, всех богов и всех богинь, владеющих аттическою землею, и призываю Аполлона Пифийского, исстари родного нашему городу,525 — да сделают по молитве моей! Если я теперь говорю вам правду и если уже тогда сказал я правду народу сразу, едва увидел, какое дело затевает этот вот мерзавец, — а распознал я затею его сразу! — если так, да ниспошлют мне боги счастье и спасение, а если я по злобе или зависти взвожу на него облыжный навет, да отлучат меня боги от всякого блага!
(142) Почему же я твержу это со столь необычным волнением и упорством? А потому, что хотя могу я все достоверно доказать имеющимися у меня записями из государственного хранилища и хотя я отлично знаю, что и сами вы помните, как было дело, однако же боюсь, как бы не представились вам совершенные им злодейства меньшими, чем были. Случилось-то все это еще в самом начале, когда лживыми своими донесениями526 сгубил он бедных фокидян, а случилось то, (143) что Амфиссейскую войну, из-за которой Филипп занял Элатею, оказался избран главой совета амфиктионов и стал ворочать по-своему всеми эллинами, — эту войну подстроил он, и именно он один повинен в воспоследовавших великих бедствиях! Я-то сразу выступил против и прямо-таки вопил перед народом: «Ты ввергаешь Аттику в войну, Эсхин! Из-за тебя на нас пойдут амфиктионы!» — но в собрании хватало твоих приспешников, которые не пустили меня говорить, а прочие только удивлялись и думали, будто я из личной вражды взвожу на тебя пустопорожние наветы. (144) Итак, господа афиняне, если тогда вам помешали, то хоть теперь послушайте, каково происхождение тех событий, и зачем они были подстроены, и каким образом осуществились. Право, вы увидите, что затея была отменная, и это очень поможет вам разобраться во всей череде дальнейших дел, а кстати уразуметь, насколько хитер был Филипп.
(145) Война ваша с Филиппом никак не кончалась, и он не мог прекратить ее иначе, чем натравив на наш город фиванцев и фессалийцев; хотя полководцы ваши воевали плохо и не было им удачи, однако же и ему приходилось терпеть от самой войны и еще от разбоя. Никаких товаров, какие производились у него в стране, невозможно было оттуда вывезти, а к нему невозможно было доставить ничего необходимого, (146) да притом одолеть вас на море у него недоставало силы, а в Аттику тоже нельзя ему было вторгнуться, если фессалийцы не помогут, а фиванцы не дадут прохода. Вот и получалось, что хотя он побеждал в бою всех посланных вами полководцев, — а каких, об этом умолчу! — потерпел урон от самой природы местности и от исконного стечения обстоятельств. (147) Было ясно, что если он примется уговаривать фиванцев или фессалийцев вместе идти на вас войной ради собственной его к вам вражды, то от таких уговоров толку не будет, а вот если он будет избран их предводителем ради общей их безопасности, то тут уж легче ему надеяться иных убедить, а иных заморочить. Что же он затеял? Затеял ловко! Глядите сами: он решил вовлечь в войну амфиктионов и устроить смуту на Пилейском соборе, предполагая, что в этом случае его сразу попросят помочь. (148) При этом он понимал, что если зачинщиком смуты явится какой-нибудь из присланных от него или от его союзников святоблюститель, то затея покажется подозрительной, и фиванцы, фессалийцы, да и все другие насторожатся, а если зачинщиком явится афинянин, то есть представитель враждебного государства, тогда хитрость останется незамеченной. Так оно и вышло. Что же сделал Филипп? Он нанял вот этого предателя, (149) чего никто, конечно, не ожидал, а потому никто и не остерегся, как водится у вас в подобных делах, и этого негодяя предложили в товарищи святоблюстителю — трое или четверо за него проголосовали, и так он оказался избран. Приняв от города эту почетную должность, он отправился на собор амфиктионов,527 где все прочие дела совершенно презрел и забросил, а старался лишь о том, ради чего был нанят. Он насочинял умильных слов, начал со сказок о Киррейской земле и как объявили ее — заповедной, говорил, рассуждал и наконец убедил святоблюстителей — а они к таким речам непривычны и дальновидностью не отличены, — (150) итак, он убедил их обойти и проверить землю, которую амфиссейцы возделывали и объявляли своей, а между тем он уличал их, что земля-де эта заповедная. Никаких обвинений локры на нас не взводили, и все, что он теперь твердит, — сущая неправда, а почему — о том судите сами. Ясно, что локры никак не могли затеять тяжбу с нашим городом, прежде не вчинив иска, но кто призывал нас к ответу? и какие власти были уведомлены об этом вызове? Ты покажи и назови хоть одного, кто бы об этом знал! Нет, не можешь, потому что для тебя эта ложь — только пустой предлог! (151) Итак, когда амфиктионы во главе вот с ним обходили упомянутую землю, накинулись на них локры с копьями и едва всех не перебили, а иных святоблюстителей еще и уволокли с собой, и тут уж сразу пошла на амфиссейцев жалоба и затеялась с ними война. Сперва над собственным войском амфиктионов начальствовал Коттиф, однако вскоре, когда иные отряды вовсе к нему не явились, а иные, явившись, бездействовали, то нашлись у фессалийцев и у прочих заранее приготовленные для такого случая негодяи, которые стали вести к тому, чтобы на следующем соборе назначить верховным начальником Филиппа. (152) Благовидных объяснений у них хватало: они говорили, что если не избрать именно его, то придется вкладывать собственные средства, кормить наемников, а кто не уплатит, с тех взыскивать, — да что толку все пересказывать? Вот так Филипп был избран в начальники. После этого он без промедления собрал войско и явился якобы ради Киррейской земли, а уж тут только помахал ручкой киррейцам и локрам да и занял Элатею. (153) Если бы фиванцы, увидав такое, не переменили сразу же своих намерений и не взяли нашу сторону, то этот поход горною лавиною обрушился бы на наш город, однако фиванцы тогда — хоть на первых порах — сдержали этот напор, а вышло так, господа афиняне, более всего от благосклонности к нам некоего бога, а еще — если такое посильно одному человеку — и от моих стараний. Подай мне, письмоводитель, указы и записи о сроках, когда что случилось, — пусть вам будет ведомо, какую смуту затеял этот негодяй, никак за это не наказанный. (154) Читай указы. [Указ амфиктионов. Дано в жречество Клинагора на весеннем соборе по постановлению советников, заседателей и всего собрания амфиктионов. Поелику амфиссейцы вторгаются на заповедную землю, сеют там хлеб и пасут стада, то надлежит советникам и заседателям явиться туда, водрузить на границах оной земли межевые камни и объявить амфиссейцам, да не вторгаются впредь в указанные пределы.] (155) [Другой указ. Дано в жречество Клинагора на весеннем соборе по представлению советников, заседателей и всего собрания амфиктионов. Поелику жители Амфиссы, поделив между собою заповедную землю, устроили на ней пашни и пастбища, а когда было это им воспрещено, взялись за оружие и воспротивились всеэллинскому собору, применив силу вплоть до пролития крови, то избранному полководцем амфиктионов Коттифу-аркадянину надлежит отправиться послом к Филиппу-македонцу и просить его, да поможет он Аполлону и амфиктионам, дабы неповадно было нечестивым амфиссейцам оскорблять бога, по каковой причине эллины, заседающие в соборе амфиктионов, избирают Филиппа полномочным полководцем.]
А теперь читай, когда все это случилось, потому что именно тогда этот негодяй был в совете заседателем. Читай. [Указание времени. При архонте Мнесифиде в шестнадцатый день месяца анфестериона.]
(156) А теперь давай сюда письмо, которое Филипп послал своим союзникам в Пелопоннесе, когда фиванцы отказались ему подчиняться, — из этого письма вы уясните себе со всею очевидностью, что он скрывал свои истинные намерения, то есть скрывал, что снаряжается против Эллады, и против фиванцев, и против вас, а вместо этого прикидывался, будто по поручению амфиктионов старается ради общей пользы. А помог ему со всеми этими поводами и отговорками вот он. Читай.
(157) [Послание Филиппа. Царь македонян Филипп союзным правителям и советникам и всем прочим союзникам — радуйтесь! Поелику так называемые озольские локры, обитающие в Амфиссе, вторгаются в священные пределы Аполлона Дельфийского и с оружием в руках разбойно грабят заповедную землю, я намерен вместе с вами идти на помощь к богу, дабы оборонять от посягновений всякую святыню, какую ни чтят люди. Потому вооружайтесь и идите ко мне навстречу в Фокиду, взявши с собою припасов на сорок дней, а выступать вам надобно в наступающем месяце, который у нас зовется лой, у афинян боэдромион, а у коринфян панем. А кто не пойдет ко мне со всем, какое есть, ополчением, тех мы накажем, как было договорено. Желаю удачи.]
(158) Видите, он обходит молчанием собственные свои намерения, а ссылается на амфиктионов! Кто же приготовил ему такую возможность? Кто подарил ему такие отговорки? Кто более всех повинен в приключившихся бедствиях? Неужто не он, который теперь перед вами? Впрочем, господа афиняне, не стоит вам распускать слухи, будто по вине одного человека столько довелось Элладе претерпеть. Тут вина не одного негодяя, но многих, а негодяев — клянусь Землей и богами! — хватало повсюду, (159) и этот — лишь один из них. Но если позволено мне безо всяких опасений говорить правду, то сам я не усомнюсь назвать его главным виновником гибели всего, что потом погибло — людей, и стран, и городов, — ибо кто бросил семя, от того и пошел урожай. Я только удивляюсь, почему вы, едва увидев его, сразу же от него не отвернулись, — разве что некая густая мгла застит от вас истину!
(160) Однако если уж заговорил я о преступлениях его против отечества, то пора мне обратиться к собственным моим делам, которые я предпринимал, чтобы помешать ему. По многим причинам следует вам выслушать меня, господа афиняне, но более всего потому, что стыдно будет, если мне, столь тяжко ради вас потрудившемуся, вы и слова сказать не позволите об этих моих трудах. (161) Итак, я видел, что фиванцы, да и вы тоже, заморочены наемными приспешниками Филиппа, которых довольно и там и тут, а потому не замечаете, сколь опасно для обоих городов усиление Филиппа и сколь осторожными надо вам быть, а вместо того враждуете друг с другом и постоянно готовы к новым стычкам. Я старался этому воспрепятствовать, не только по собственному своему разумению полагая мир полезным для обеих сторон, но и (162) отлично зная, что многие годы такой дружбы желали сначала Аристофонт, затем Евбул и что хотя о прочих предметах им часто случалось спорить, зато уж тут они были всегда вполне согласны. Да и ты, угодливый лис, пресмыкался перед ними,528 пока они были живы, а теперь, сам того не сознавая, порочишь их мертвых! Право, если ты теперь попрекаешь меня фиванцами, то винишь не столько меня, сколько этих усопших, ибо именно они еще прежде меня стояли за такой союз. (163) Но вернусь к рассказу. Итак, когда он устроил Амфиссейскую войну, а приспешники его ему в помощь разожгли вражду к фиванцам, тут-то Филипп на нас и пошел, и случилось наконец то, ради чего они затеяли всю эту свару между городами, так что не спохватись мы чуть раньше, то и приготовиться не успели бы — вот до чего едва не довели вас эти негодяи! А каковы были у вас в ту пору отношения с Филиппом и фиванцами, вы можете узнать, послушав соответствующие постановления и ответы Филиппа. Ну-ка, письмоводитель, бери их и читай. [Особое постановление. (164) Дано при архонте Геропифе в 25-й день месяца елафеболиона в очередное председательство Ерехфеевой филы по представлению Совета и полководцев. Поелику Филипп иные из соседних городов занимает, иные разоряет и со всей очевидностью готовится идти походом на Аттику, отнюдь не считаясь с нашими договорами, намереваясь нарушить присягу и мир и преступая взаимные наши заверения, то надлежит Совету и народу отправить к нему послов, каковые послы пусть прежде всего требуют от него не нарушать договоров и хранить согласие с нами, а если откажет, то пусть просят для города отсрочки на обсуждение дела и заключают перемирие до месяца фаргелиона. Из членов Совета послами избраны Сим Анагирасийский, Евфидем Филасийский и Булагор из Алопеки.]
[Другое постановление. (165) Дано при архонте Гиеропифе в последний день месяца мунихиона по представлению верховного военачальника. Поелику Филипп восстанавливает против нас фиванцев и готов вместе со всем своим войском вторгнуться в пограничные с Аттикой области, тем самым нарушая прежние с нами соглашения, то Совету и народу следует отправить к нему глашатая и послов, каковые пусть попросят и уговорят его заключить перемирие, дабы дать народу рассудить дело, а пока решено против Филиппа никому не помогать, если только будет он умерен в своих условиях. Из членов Совета послами избраны Неарх, сын Сосиномов, и Поликрат, сын Епифронов; глашатаем избран из числа всех граждан Евном Анафлистийский.]
(166) Теперь читай ответы. [Ответ Филиппа афинянам.
Царь Македонский Филипп Совету и народу Афинскому — радуйтесь! Я отлично знаю, каково было с самого начала ваше к нам расположение и с каким усердием старались вы переманить на свою сторону фессалийцев и фиванцев с беотийцами. Однако они рассудили лучше и не хотят подчиняться вам в своих решениях, но сообразуются с собственною пользою, меж тем как вы, вопреки здравому смыслу, шлете ко мне послов и глашатая, напоминаете о договорах и просите перемирия, хотя не претерпели от нас ни малейшего ущерба. Что до меня, то я все-таки выслушал ваших послов и, в снисхождение к их просьбе, готов заключить перемирие, но только если вы прогоните от себя неправых советчиков и лишите их гражданской чести, как они того заслужили. Будьте здоровы.]
[Ответ Филиппа фиванцам. (167) Царь Македонский Филипп Совету и народу Фиванскому — радуйтесь! Я получил от вас послание, посредством которого вы желаете восстановить между нами согласие и мир. Конечно, мне известно, что афиняне стараются завлечь вас всеми средствами, лишь бы вы согласились на их предложения. Хотя прежде я порицал вас за готовность верить их обещаниям и споспешествовать их замыслам, но теперь вижу, что быть в мире с нами для вас желательнее, чем слушаться чужих мнений, и это меня радует. За многое могу я вас похвалить, но более всего за то, что в таковых обстоятельствах предпочли вы для себя безопасность и остались к нам благонамеренны. Все это, как я надеюсь, принесет вам немалую выгоду, если только и в дальнейшем вы пребудете в таком же расположении. Будьте здоровы.]
(168) Вот так, с помощью своих приспешников Филипп перессорил города и, ободренный упомянутыми постановлениями529 и перепиской, явился со своим войском и занял Элатею в уверенности, что между нами и фиванцами никакое единодушие невозможно. Все вы, конечно, знаете, какой переполох поднялся тогда у нас в городе, однако же немного послушайте об этом снова — я скажу лишь самое необходимое. (169) В тот день уже смеркалось, когда явился к очередным председателям гонец и доложил о захвате Элатеи, а было это как раз когда они обедали. Тут иные сразу повскакали с мест и принялись гнать рыночных торговцев из их лавок, чтобы набрать досок для костра, а иные кинулись за полководцами и уже призывали трубача, — по всему городу началась суматоха. Назавтра чуть свет председатели устроили заседание совета, а вы отправились на вечевую площадь, так что прежде, чем совет успел обсудить дело и вынести предварительное решение, народ уже собрался на холме. (170) После туда же явились советники и очередные председатели доложили о новостях, представив вам прибывшего гонца. Гонец сказал свое, а затем глашатай спросил: «Кто хочет говорить?» — и никто не отозвался. Глашатай спрашивал снова и снова, но никто так и не поднялся на помост, хотя были там и полководцы, и витии, а взывало к ним о совете к спасению само отечество гласом народным, ибо голос глашатая, звучащий в согласии с законами, по праву почитается голосом всего отечества! (171) Если бы надобно было взойти на помост тем, кто желает спасения городу, то вы все — да и все прочие афиняне! — встали бы и пошли к лестнице, ибо я уверен, что все вы желали городу спасения. Если бы для этого годились лишь богатейшие — что ж, их было тут три сотни. Если бы нужны были такие, кто сразу и богат, и городу предан, то и тогда нашлись бы граждане, давшие затем так много на общее дело, ибо для таких пожертвований требовались и благонамеренность и богатство. (172) Однако по обстоятельствам того дня нужен был, видимо, гражданин не только богатый и благонамеренный — этого было мало! — а еще и наблюдавший события с самого начала и потому умеющий верно распознать цели и намерения Филиппа, ибо, не зная этого и не помня прошлых дел, нельзя было понять, как следует поступить, и ничего путного невозможно было вам посоветовать. (173) Именно поэтому подходящим к такому случаю человеком оказался я, и вот я выступил и обратился к вам с речью. Теперь выслушайте меня с особым вниманием по двум причинам: во-первых, чтобы убедиться, что из всех тогдашних советчиков и государственных людей я единственный в страшный миг не покинул своего места в гражданском строю, но устно и письменно помогал вам, как было должно в тех жестоких обстоятельствах; а во-вторых, если вы согласитесь потратить это малое время, то потом вам будет гораздо легче разобраться в дальнейшем моем рассказе о наших государственных делах. (174) Итак, я сказал тогда вот что: «Кто думает, будто фиванцы помогают Филиппу, тот, по-моему, поднимает излишний переполох, не вникнув в действительное положение дел, — я вполне уверен, что будь это взаправду так, то к нам бы теперь пришла весть не о том, что Филипп в Элатее, но о том, что он стоит у нас на границе. Конечно, он явился в Фивы, чтобы обеспечить себе преимущество, — это для меня очевидно. Зачем же? (175) А вот послушайте. Тех фиванцев, которых возможно было обмануть или прельстить деньгами, он уже перетащил на свою сторону, но те, которые с самого начала ему противились, продолжают противиться и теперь, и ему никак не удается их переманить. Чего же он хочет и ради чего занял Элатею? А хочет он показать силу свою изблизи и, приступив к Фивам с оружием, друзей своих поддержать и взбодрить, а противников напугать, чтобы они со страху сами приняли нежелательные для себя условия, а иначе их к тому принудят. (176) Поэтому, если при настоящем положении дел мы предпочтем вспоминать, как и чем не угождали нам фиванцы, и будем подозревать их, ибо они-де враги и из вражьего стана, то, во-первых, мы сотворим точно по молитве Филипповой, а во-вторых, я опасаюсь, как бы иные из нынешних его противников не переметнулись к нему и в единодушном своем филиппстве не двинулись вместе с ним на Аттику. Если вы послушаемтесь меня и, не придираясь к словам, обдумаете мое предложение, тогда вы наверняка признаете мою правоту и отвратите грозящую нашему городу опасность. (177) Что же я предлагаю? Прежде всего оставить одолевающие вас страхи, переменить привычные мнения и побеспокоиться лучше о фиванцах, ибо опасность к ним ближе и на них первых грянет беда. Затем я предлагаю гражданам призывного возраста530 вместе с конницей идти в Злевсин, чтобы все нидели, что вы и сами готовы к бою, — так вы поможете своим сторонникам в Фивах быть на равных в их спорах за правое дело, ибо они будут знать, что не только у продавшихся Филиппу изменников имеется в помощь элатейское войско, но что точно так же и у борцов за свободу есть помощники — вы — и что в случае нападения вы готовы вступиться. (178) Наконец, я предлагаю избрать открытым голосованием десятерых послов и уполномочить их вместе с полководцами определить сроки, когда отбывать посольству и когда выступать ополчению. Теперь о том, как надлежит послам вести себя в Фивах — и к этому моему мнению вы будьте особенно внимательны. Требовать у фиванцев нельзя ничего, ибо нынешний случай для того не годится, но надобно, если попросят, обещать им помощь, потому что обстоятельства их самые бедственные, а мы куда как лучше можем о себе позаботиться. Если они поверят нам и примут наше предложение, то мы достигнем желаемой цели и совершим подвиг, достойный отечественных наших обычаев, а если не удастся нам преуспеть, то пусть они потом пеняют самим себе за таковое упущение — нас-то никто тогда не уличит ни в подлости, ни в трусости». (179) Так я сказал и, еще кое-что добавив, спустился с помоста. Все были речью моею довольны и никто даже словом не возражал не только когда я говорил, но и потом, когда я подал письменное предложение, и потом, когда я отправился послом, и не только отправился послом, но и склонил на нашу сторону фиванцев — все я прошел, себя не жалея, от самого начала и до самого конца среди всех опасностей, обступивших тогда наш город, и все ради вас. Подай-ка, письмоводитель, принятое тогда постановление.
(180) Но скажи, Эсхин, какими угодно тебе представить себя и меня в тот самый день? Хочешь, представь меня этаким Батталом,531 над которым ты уже не раз издевался и насмехался, а себя представь героем, да не первым попавшимся, но из тех, кого играют в театре — этаким Кресфонтом, или Креонтом, или даже Эномаем, с которым ты некогда провалился на коллитских подмостках?532 Ну что ж! В ту пору я, пеанийский Баттал, оказался достойнее своего отечества, чем ты, кофокидский Эномай, ибо от тебя не было никакого толку, а я делал все, что положено доброму гражданину. Читай постановление.
[Особое постановление. (181) Дано при архонте Навсикле в очередное председательство Зантийской филы в 16-й день месяца скирофориона по представлению Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова. Филипп Македонец в последнее время явно нарушает мирные соглашения, заключенные между ним и народом Афинским, пренебрегая присягою и общепринятыми у эллинов понятиями о правозаконности: он занимает города, отнюдь ему не подчиненные, да притом иные из завоеванных им городов подвластны афинянам, хотя ничем его народ Афинский не обидел, а теперь жестокость его и насилие сделались злее прежнего, ибо (182) в иных эллинских городах он держит свои сторожевые отряды и вмешивается в государственное устроение, иные разрушает и жителей обращает в рабство, а в иные вместо эллинов поселяет варваров, допуская их попирать святыни и могилы. Все это вполне согласно с отечественными его обычаями, хотя он и злоупотребляет нынешнею своею удачей, позабывши, как сам, против всяких ожиданий, возвеличился из низости и ничтожества. (183) Покуда он брал города хотя и подвластные афинянам, однако варварские, народ Афинский оставлял без особого внимания таковые против себя преступления, но теперь, видя, как он оскорбляет и разоряет эллинские государства, народ почитает для себя позорным и недостойным славы предков равнодушно взирать на порабощение эллинов, (184) а потому Совету и народу Афинскому надлежит постановить нижеследующее. Помолившись и принеся жертвы богам и героям, блюдущим город и страну афинян, и одушевившись доблестью предков, предпочитавших свободу эллинов обороне собственного своего отечества, спустить на море двести, кораблей, чтобы во главе с флотоводцем плыть к Фермопилам, а полководец и начальник конницы пусть тем временем ведут пехоту и конницу в Элевсин. Далее, надлежит отрядить посольства ко всем эллинам и в первую очередь к фиванцам, ибо к их стране Филипп теперь ближе всего, (185) и пусть послы призовут фиванцев отнюдь не бояться Филиппа, но оборонять от него как собственную свою свободу, так и свободу всех эллинов, а еще пусть изъяснят им, что хотя и случались прежде между нашими городами раздоры, но афинский народ зла не помнит и готов помочь и людьми, и деньгами, и оружием дальнего боя, и оружием ближнего боя, ибо народ Афинский сознает, что спорить друг с другом о главенстве пристало природным эллинам, но вручить главенство инородцу и подчиниться ему будет недостойно исконной эллинской доблести и славы. (186) И еще пусть скажут, что афинский народ не почитает фиванский народ чуждым ни по родству, ни по племени и помнит о благодеяниях, которые его предки оказали предкам фиванцев. Воистину, когда Геракловы чада были лишены жителями Пелопоннеса наследственной своей державы, то мы взялись за оружие и воротили отечество отпрыскам Геракловым, победив их недругов в бою, а после приняли мы к себе изгнанного Эдипа со спутниками, и еще множество других человеколюбивых и славных подвигов совершили мы ради фиванцев, (187) а потому и ныне афинский народ не предаст блага фиванцев и прочих эллинов. И пусть заключат с фиванцами договор и военный союз и брачное соглашение и пусть принесут присягу и примут присягу. Послами избраны: Демосфен Пеанийский, сын Демосфенов, Гиперид Сфеттийский, сын Клеандров, Мнесифид Фреаррийский, сын Антифанов, Демократ Флиейский, сын Софилов, Каллесхр Кофокидский, сын Диотимов.].
(188) Вот так начали у нас устанавливаться союзные отношения с Фивами — вместо прежних вражды, ненависти и взаимного недоверия, рознивших оба города по вине все тех же негодяев. Это постановление отвело тогда нависшую над городом беду так, словно тучу развеяло — а долгом всякого честного гражданина было в ту пору предложить, если знает, что-нибудь получше, но теперь-то попрекать поздно. (189) Главное различие между советчиком и доносчиком, и без того во всем несходных, такое, что советчик предупреждает своим мнением события и отвечает за тех, кого убедил, перед случаем и перед случайностями и перед всяким, кто спросит, а доносчик, напротив, в нужное время промолчит, зато если что-нибудь не заладится, изрыгает свою клевету. (190) Однако хотя я уже не раз говорил, что человек, радеющий о благе государства, должен был честно высказаться именно тогда, но я соглашусь даже с такой крайностью, что если вот теперь найдется кто-нибудь, кто сумеет предложить нечто лучшее или докажет, что вообще возможно было избрать решение, отличное от моего, то я признаю себя преступником. Да, я подтверждаю: если хотя бы теперь кто-нибудь заметит, что в ту пору полезнее было иное средство, то и я тогда обязан был знать о такой возможности! Но если других возможностей нет и не бывало и если никто вплоть до сего дня не может их назвать, то что же было делать советчику при тогдашних обстоятельствах? Разве не должен он был избрать лучшую из наличных возможностей? (191) Вот это самое я и сделал, Эсхин, и сделал тогда, когда глашатай спрашивал: «Кто хочет говорить?», а не «Кто хочет попрекать прошлым?» или «Кто хочет поручиться за будущее?». Ты-то в ответ отсиживался и отмалчивался, а я поднимался и обращался к народу — но если тогда ты ничего не высказал, так хотя бы теперь выскажись! Объясни, как следовало мне поступать: чего я недоучел, и чего недоглядел, и какого союзника должен был присоветовать согражданам, и на какое дело торопить?
(192) Конечно, прошлое для всех и всегда уже отжило, и никто нигде не подает советов задним числом, однако будущему непременно надобен неотступный советчик. Так же и в ту пору кое-что явно лишь предстояло, а кое-что уже наличествовало — с этих оснований ты и суди о государственных моих намерениях, но избегай попусту хаять свершившееся, ибо исход всякому делу назначается волею божества, а о честности советчика свидетельствуют самые намерения его. (193) Итак, не вини меня за то, что Филипп вышел победителем в бою, — такой конец не от меня, но от бога, — а вот, если сумел я учесть не все, что по силам учесть разуму человеческому, и если не все, что исполнял, исполнял честно, старательно и прямо-таки надрываясь в трудах, и если затевал я дела ненужные, нехорошие и недостойные нашего города, — если так, то скажи об этом и уж после обвиняй! (194) Ну, а если перун или смерч оказались сильнее не только нас, но всех вообще эллинов — что ж тут поделаешь? Это точно, как если бы корабельщик все сделал для безопасности корабля и снарядил его всеми спасательными снастями, а потом попал в бурю, от которой повредилось или вовсе пропало все судовое снаряжение — и тут его вдруг призвали бы к ответу как виновника кораблекрушения. Он бы и ответил, что не он был кормчим — как и я не был полководцем! — и что не он властвует над случаем, но, напротив, случай правит миром. (195) Подумай и рассуди сам: если суждено нам было поражение даже при союзе с фиванцами, то чего можно было ожидать, останься мы и без этих союзников? И тем паче если бы они примкнули к Филиппу, который только об этом и твердил? Нынешнее сражение533 случилось за три дневных перехода от Аттики, а под какую беду подвело наш город и как напугало! Чего же можно было ожидать, когда бы такая беда случилась здесь, в нашей стране? Тебе ли не знать, как много значит для спасения города отсрочка — пусть на день, пусть на два, пусть на три, но все-таки возможно остановиться, собраться с силами, передохнуть, а иначе — но нет, не стоит говорить о том, чего так и не довелось изведать нашему городу не только по милости некоего божества, но и благодаря охранительному союзу, который ты теперь так бранишь.
(196) Все это я говорю для вас, господа судьи, и для собравшихся тут слушателей, а этому паскуде хватит короткого и ясного ответа: если тебе, Эсхин, единственному из всех, было открыто грядущее, то ты должен был возвестить его своевременно, когда у граждан именно об этом шел совет; ну, а если ты тоже ничего не знал заранее, то наравне с прочими ответствен за свое неведение, — почему же тебе обвинять меня, а не мне тебя? (197) Право, я оказался настолько же лучшим гражданином, чем ты — даже и в упоминавшихся обстоятельствах, не говоря о прочих, — насколько более был готов не жалеть себя ради общего блага: я не боялся и не прикидывал, что для меня самого опаснее, а ты не только не предлагал ничего лучшего — иначе и вышло бы по-твоему, — но и вообще не, приносил делу никакой пользы, а вместо того, как оказалось, затевал пакости, на которые способен лишь самый последний мерзавец и предатель отечества. Да и теперь, в то самое время, когда злейшие наши враги Аристрат и Аристолей на Наксосе и на Фасосе534 тащат людей в суд за дружбу с афинянами, здесь, в Афинах, Эсхин обвиняет Демосфена! (198) По чести говоря, не обвинять, а сгинуть пристало тому, кто вознамерился стяжать себе славу бедствиями эллинов, ибо не бывает предан благу отечества человек, извлекающий для себя пользу из вражеской пользы, а явное тому доказательство — вся твоя жизнь, и все твои труды, и все, что сделал ты для города, и даже все, чего не сделал. Совершается нечто, признаваемое вами полезным, — Эсхин безмолвствует. Дело не ладится и успеха ему нет — Эсхин тут как тут. Вот точно так, стоит занемочь, сразу заноют все прежние ушибы и болячки!
(199) Впрочем, раз уж он так много твердит о случившемся, я хочу сказать нечто необычное, а вы ради Зевса и богов не удивляйтесь преувеличению, но выслушайте слова мои благосклонно. Итак, даже если бы всем открылось грядущее и все бы знали судьбу свою наперед, и если бы ты кричал об этом и вопил, и прорицал, и предупреждал — хотя на деле ты и рта не раскрыл! — итак, даже и тогда нам нельзя было отступаться от начатого, если только не позабыть вконец о славе, и о предках, и о грядущих веках. (200) Теперь ясно, что нас постигла неудача, однако таков удел человеческий, ибо все в божьей воле, но тогда-то город наш еще желал первенствовать среди эллинов и если бы отступился от этого ради Филиппа, то навлек бы на себя общее обвинение в предательстве. Право, если бы город наш, даже не запылясь, бросил дело, ради которого предки наши готовы были ко всем опасностям, неужто хоть кто-нибудь не оплевал бы тебя? Да, тебя, ибо ни город, ни я того не заслужили! (201) А какими глазами, скажи ради Зевса, глядели бы мы тут на заезжих людей, если бы дела обстояли по-нынешнему и Филипп был бы назначен верховным хозяином всех народов, а вся борьба с ним прошла бы чужими силами без нашего участия — и это при том, что никогда прежде город наш не предпочитал бесславного покоя тяготам благородных трудов? (202) Неужто хоть кто-нибудь, будь то эллин или варвар, не знает, что все — и фиванцы,535 и прежде могущественные лакедемоняне, и персидский царь — с превеликою охотою и удовольствием позволили бы городу нашему сохранить его владения и добавить к ним что угодно, лишь бы подчинились мы их воле и уступили им главенство над эллинами? (203) Но нет, не таков у афинян отеческий обычай: такое им не присуще, такое им нестерпимо, и никогда еще во все времена никто не мог склонить граждан афинский примкнуть к неправой силе и рабствовать в безопасности, но всегда и во все века готовы были они встретить любые опасности в борьбе за первенство, честь и славу! (204) Обычай этот доныне столь для вас драгоценен и столь согласен с вашими нравами, что и среди предков своих вы более всего чтите тех, которые ему прилежали. Да и как иначе? Возможно ли не восторгаться доблестью тех самых мужей, которые согласились покинуть родную страну и родной город и уйти на кораблях, лишь бы не подчиняться чужой воле? Тех самых мужей, которые Фемистокла, звавшего их на корабли, избрали полководцем, а Мирсила, звавшего подчиниться, побили камнями — и не одного его, но еще и жены ваши побили его жену? (205) Воистину не только не надобно было тогдашним афинянам ни советчиков, ни полководцев, которые стяжали бы им счастливое рабство, но и жить-то они не хотели, когда становилась свобода несовместна с жизнью, ибо всякий из них полагал, что рожден не только ради отца с матерью, а еще и ради отечества. В чем же тут различие? А в том, что если кто почитает себя рожденным лишь для родителей, тот ожидает смерти, предначертанной естеством, а кто почитает себя рожденным также и для отечества, тот готов умереть, лишь бы не видеть его порабощенным, и пуще смерти боится позора и бесчестья, которые непременно постигают порабощенных граждан.
(206) Конечно, если бы я пытался утверждать, будто именно я заставил вас удостоиться предков разумением, то всякий по праву мог бы меня за это осудить. Я лишь объясняю, что намерения у меня с вами одинаковые и что и прежде меня город наш стремился к тому же, хотя в исполнении всего, что исполнялось, я неизменно соучаствовал и в том признаюсь. (207) А вот он, обвиняя меня огулом за все сделанное и внушая вам ненависть ко мне, как к виновнику грозящих городу опасностей и бедствий, старается не только отнять у меня нынешнюю мою награду, но и лишить вас славы на вечные времена. Право же, если вы не согласитесь признать в государственных моих предприятиях ничего хорошего и объявите подсудимого виновным, то этим докажете, что претерпели все свершившееся не по прихоти случая, а по собственной вашей ошибке, — (208) но нет! Нет, не ошиблись вы, граждане афинские, пойдя на опасное дело ради общей свободы и спасения, — да будут свидетелями тому предки ваши, не устрашившиеся при Марафоне, державшие строй при Платеях, бившиеся на кораблях при Саламине и Артемисии и во многие иных битвах испытанные! Прах этих доблестных мужей покоится на городском нашем кладбище, и всех их удостоил город равно почетного погребения, — да, Эсхин, всех, а не только тех, кто преуспел и победил, и это справедливо, ибо все они делали свое дело честно, а удачи каждому досталось столько, сколько назначено от бога. (209) И после этого ты, мерзкий сутяга, желая лишить меня уважения и приязни сограждан, еще посмел твердить тут о битвах, и о трофеях, и о былых подвигах! Да какое они имеют касательство к нынешнему нашему прению? И от кого, по-твоему, жалкий скоморох, должен был призанять ума я, когда поднимался на помост, чтобы дать городу совет, как достигнуть первенства? Уж не у того ли, чьи речи недостойны этого собрания? (210) Нет, за такое меня бы, по чести, следовало убить! Так же и вам, господа афиняне, не подобает выносить приговоры по делам частным и по делам общественным на одинаковых основаниях, но пристало разбирать повседневные тяжбы, руководствуясь частными законами и житейскими примерами, дела же государственного значения надобно судить, сообразуясь с заслугами предков, — и если вправду хотите вы быть достойны этих заслуг, то пусть, когда приходите вы судить дело государственной важности, будут при каждом из вас не только посох и расчетная бирка,536 но еще и государственное разумение.
(211) Однако, увлеченный подвигами ваших предков, я не успел сказать о некоторых постановлениях и предприятиях, а потому вернусь к предмету, от коего отклонился.
Итак, явившись в Фивы, мы обнаружили, что послы от Филиппа и от фессалийцев и от прочих его союзников уже там и что его друзья осмелели, а наши напуганы. Это я говорю теперь не ради собственной пользы, и в доказательство пусть будет оглашено письмо, которое мы, послы, отправили домой сразу по прибытии. (212) Этот доносчик до того доклеветался, что, если дела ладятся, твердит, будто не я тому причиною, но единственно случай,537 а если выходит по-другому, то тут уж виноват именно я с моей неудачливостью. Послушать его, так получается, что я, столько говоривший и советовавший, не имею никакого касательства к делам, предпринятым в согласии с этими речами и советами, но зато уж во всех неудачных походах и битвах виноват я, и только я! Ну, возможно ли клеветать подлее и гнуснее? Читай письмо. [Читается письмо послов.]
(213) Затем, когда фиванцы созвали Народное собрание, то сначала они дали слово нашим противникам, ибо числились с ними в союзе, а те, обращаясь к народу, всячески превозносили Филиппа и всячески обвиняли вас, да еще припоминали все, что вы когда-нибудь сделали наперекор фиванцам. Главное их требование было такое, чтобы фиванцы отблагодарили Филиппа за все содеянное для них добро, а вам бы отомстили за обиды, давши проход идущему на Аттику войску или присоединившись к вторжению, — это уж как больше нравится. Еще они доказывали сколько умели, что если фиванцы согласятся с ними, то повалят из Аттики в Беотию стада скотов и рабов и прочие богатства, а если с нами, то вся земля беотийская будет разорена войною. И еще много другого они говорили, но все о том же и для того же. (214) Как же мы им возражали? Я бы ничего на свете не пожалел, лишь бы рассказать вам об этом в подробностях, однако не решаюсь, ибо все уже в прошлом, так что вам эти события могут показаться допотопными, а пересказ речей — излишней докукою. Послушайте, однако, в чем мы сумели убедить фиванцев и что они нам ответили. Письмоводитель, читай! [Читается ответ фиванцев.]
(215) Вот после этого-то фиванцы и обратились к вам, призывая вас к себе. Вы двинулись в поход и явились к ним на помощь — тут я могу опустить подробности, — а потом они приняли вас настолько по-родственному, что собственную свою пехоту и конницу оставили в поле, а наших воинов пригласили в город и в собственные дома, где дети, и жены, и все самое сокровенное. В тот день стяжали вы от фиванцев три прекраснейшие награды: одну за храбрость, другую за честность, а третью за скромность, ибо когда предпочли они биться не против вас, но вместе с вами, то этим выразили, что почитают вас храбрее и честнее Филиппа, а когда препоручили они вам то, что все люди более всего берегут — детей своих и жен, — то этим изъявили свое доверие к вашей скромности. (216) А вскоре стало очевидно, что понятие у них о вас, господа афиняне, самое правильное. Когда ваше войско вступило в город, то держались вы так скромно, что никому из жителей жаловаться на вас — хотя бы попусту — не пришлось. Да и после, дважды сражавшись рядом с фиванцами в первых схватках — один раз у реки и другой раз в зимнюю непогоду, — вы явили себя воинами не просто безупречными, но достойными восхищения за ваш строй, и выучку, и отвагу. Вот почему все вас восхваляли, а сами вы благодарили богов жертвами и праздниками. (217) Тут-то я был бы очень рад спросить Эсхина: что же делал он все это время, пока город полнился радостью и славословиями и рвением к делу? Может быть, он тоже приносил жертвы и радовался вместе со всеми? Или наоборот — сидел дома в слезах и скорби, досадуя на общее счастье? Если он праздновал тогда вместе со всеми, то не гнусно ли — хуже того, не кощунственно ли — поступает теперь, требуя от вас, присягнувших на алтаре, чтобы вы не объявляли честными и благородными те самые дела, которые он же сам пред лицом богов признавал честными и благородными? А если не праздновал он тогда вместе с народом и скорбел, глядя на общую радость, то неужто не заслужил он за это многих смертей? Огласи-ка, письмоводитель, вот эти постановления. [Читаются постановления о жертвоприношениях.] (218) Итак, мы приносили в ту пору благодарственные жертвы, а фиванцы сознавали, что обязаны своим спасением нам. Дела обернулись так, что вам не только не пришлось зазывать себе помощников по указке этих вот предателей, но еще и сами вы сумели помочь другим, а все потому, что послушались меня. Какие слова расточал в ту пору Филипп и в каком он был смятении от происшедшего, вы можете понять из его посланий в Пелопоннес — пусть письмоводитель их огласит, чтобы вы знали, чего удалось мне достигнуть моей непреклонностью, моими разъездами, моими непрестанными трудами и, наконец, теми многочисленными постановлениями, над которыми давеча так издевался этот негодяй. (219) Что ж, господа афиняне, много у вас бывало и до меня славных и превосходных советчиков — и великий Каллистрат, и Аристофонт, и Кефал, и Фрасибул, и еще без счета других, — однако никто из них не отдавал себя без остатка никакому государственному предприятию, так что, например, кто назначал посольство, тот сам с ним не ехал, а кто ехал послом, тот назначений не предлагал, ибо каждый оставлял за собой возможность передохнуть да кстати и ускользнуть от ответа в случае неудачи. (220) «Ну, и что же? — спросит меня кто-нибудь. — Неужто ты настолько сильнее и смелее прочих, чтобы все делать самому?» Нет, этого я не говорю, однако я был уверен, что городу грозит великая беда, уже не оставляющая места для помыслов о личной безопасности, а потому, как я полагал, надобно было исполнять свой долг безо всяких для себя поблажек. (221) Что же до меня самого, то я опять же был уверен — а если и заблуждался, то искренне, — итак, я был уверен, что ни постановления никто лучше меня не сочинит, ни дела лучше не сделает, ни посольской должности не исполнит усерднее и честнее. Потому-то я и брал на себя все назначения. Прочитай-ка письма Филиппа. [Читаются письма.] (222) Слышишь, Эсхин? Вот куда загнал я Филиппа, вот каким голосом он заговорил — а ведь до того произнес столько дерзких речей против нашего города! За такие дела сограждане по справедливости наградили меня венком, и ты был тут, но не возражал, а Дионд, обжаловавший постановление, не собрал положенной доли судейских камешков. Прочитай-ка, письмоводитель, эти подтвержденные судом постановления, которые вот он даже не обжаловал. [Читаются постановления.]
(223) Эти постановления, господа афиняне, слог в слог и слово в слово тождественны прежним Аристониковым538 постановлениям и нынешнему Ктесифонтову, однако же Эсхин тогда ни сам не обжаловал их по суду, ни чужих обжалований не поддержал, — а между тем уж если обвиняет он меня справедливо, то куда как правильнее было бы еще тогда обвинить Демомела и Гиперида, представивших прежние постановления, а не преследовать теперь Ктесифонта. (224) Теперь-то подсудимый может сослаться и на упомянутых лиц, и на судебные приговоры, и на то, что этот самый обвинитель тогда никого не обвинял, хотя постановления были точно такие же, как нынешнее, и на то, что законы не дозволяют затевать обвинение по делу, о котором уже вынесен приговор, и еще на многое может он сослаться теперь. А вот тогда дело разбиралось бы само по себе, без оглядки на прошлые примеры и решения. (225) Впрочем, тогда, насколько я знаю, еще нельзя было сделать по-нынешнему — надергать из древних времен и давних постановлений такого, о чем в ту пору никто ни предвидеть, ни даже помыслить не мог, что вот сегодня об этом пойдет речь! Нельзя было тогда ни клеветать, ни врать о сроках, что после чего было, ни подменять действительные события собственными лживыми домыслами, да еще и представляться, будто говоришь толково! (226) Да, в ту пору такое было невозможно, ибо тогда все речи имели бы подлинное обоснование, будучи подтверждены недавними событиями, памятными для каждого из вас настолько, что хоть руками пощупай. Потому-то он и уклонился тогда от разбирательства, а вместо этого пришел к вам теперь, полагая — иного объяснения я не вижу, — что вы тут поставлены судьями не над государственными делами, но над состязаниями в витийстве и что судить вы будете не о государственном благе, но о словесах.
(227) Мало того, он еще и мудрствует и объявляет, что надобно-де вам пренебречь добрым мнением о нас, с которым вы пришли сюда из дому, а вот-де точно как при проверке отчета, когда вы подозреваете задолженность, однако если все счетные камешки сходятся и остатка нет, то приходится вам с отчетом согласиться, — вот точно так и теперь надобно-де вам судить по окончательному итогу. Глядите же, сколь порочной по самой сути своей непременно становится всякая бесчестная затея! (228) Право же, он сам изъясняет этим своим премудрым примером, что о нас уже сложились определенные мнения — именно, что я говорю ради отечества, а он ради Филиппа, ибо зачем же иначе он старается вас переубедить, как не затем, что таковы ваши привычные мнения о нем и обо мне? (229) Впрочем, я с легкостью докажу вам, сколь бесчестно с его стороны требовать от вас перемены мнений, и не стану для того выкладывать никаких камешков, ибо подобные дела по камешкам не расчислить, а напомню вам вкратце о каждом предприятии, вы же слушайте меня сразу как свидетели и как проверщики.
Да, теми самыми государственными предприятиями, которые он тут бранит, я достигнул того, что фиванцы, вопреки всем ожиданиям, не пошли на нас вместе с Филиппом, но вместе с нами пошли на него и преградили ему путь, (230) а потому решающее сражение случилось не в Аттике, но в стране беотийцев и в семистах стадиях от нашего города. Еще я сделал так, что евбейские разбойники прекратили свои набеги и все время войны у Аттики было мирное море; а еще я сделал так, что не только Филиппу не удалось овладеть Византием и заодно всем Геллеспонтом, но византийцы воевали против него и в союзе с нами. (231) Неужто расчеты в таких делах похожи на пересчет камешков?539 Или надобно, по-твоему, вовсе закрыть счет, чтобы не думать о его достопамятности для будущих веков? Не стану добавлять к сказанному, что Филиппову жестокость, являемую им всегда при всяком новом завоевании, довелось испытать другим, а вот плоды притворного его человеколюбия, которым прикрывал он свои посягательства, по счастью, достались вам. Но умолчу об этом.
(232) Зато не побоюсь сказать, что если кто хочет честно проверить народного советчика, а не сочинять на него лживые доносы, тот не станет винить его в таких делах, о которых ты давеча разглагольствовал, не станет измышлять пустых сравнений и уж тем более не станет передразнивать его выговор и повадку. Ну конечно — неужто еще непонятно? — эллинские дела приняли бы совершенно иной оборот, если бы вот это слово я произнес не так, а этак и если бы протянул руку не сюда, а вон туда! (233) Нет, честный человек понял бы по действительному порядку событий, какие силы и средства были у нашего города, когда я только вступал на государственное поприще, и какие силы и средства приобрел для города я, когда взялся за дело, и каковы были в ту пору обстоятельства наших противников. А уж после, если бы оказалось, что я убавил городу силы, он стал бы меня за это винить, но если бы оказалось, что силы наши я приумножил, то не стал бы взводить на меня лживую клевету. Если ты уклоняешься от такого разбирательства, я разберусь сам, а вы проверяйте, честно ли я говорю.
(234) Итак, что до военной силы нашего государства, ее составляли жители островов, и то не всех, но лишь самых захудалых, ибо ни Хиос, ни Родос, ни Керкира в союзе с нами не состояли. Союзных взносов нам причиталось лишь сорок пять талантов,540 да и эти деньги были собраны вперед, а латников и всадников, кроме как из собственного ополчения, не было совсем. Однако страшнее всего для нас и выгоднее всего для врагов было то, что эти вот негодяи не столько привлекали к нам всех ближайших соседей, сколько отталкивали, возбудив вражду против нас в Мегарах, в Фивах и на Евбее. (235) В таких обстоятельствах пребывал наш город к началу событий, и этого никто оспорить не может. Теперь глядите, каковы были дела у соперника нашего Филиппа. Прежде всего, он самодержавно правил своими подначальными, а это для войны самое главное. Кроме того, его люди всегда были в полной боевой готовности. Ну, а кроме того, денег у него было предостаточно, и поступал он так, как сам решит, не объявляя о делах своих заранее в особых постановлениях, не обсуждая их на виду у всего света, не таскаясь в суды по облыжным доносам, не отвечая на обвинения в беззаконии и никому ни в чем не отчитываясь, — во всех своих делах был он сам себе повелитель и хозяин и самый главный начальник. (236) Ну, а я? Я противостоял ему один на один, и справедливости ради об этом тоже надобно теперь сказать, но чем я мог распоряжаться по собственному усмотрению? Ничем и никем! Даже самая возможность говорить перед народом не была моим преимущественным правом, но делилась вами поровну между мною и его наемными слугами, так что когда случалось им меня переспорить — а случалось часто и по многим поводам! — то вы уходили домой, проголосовав за предложения своих же врагов. (237) Однако при стольких моих слабостях я сделал вашими союзниками и евбейдев, и ахейцев, и коринфян, и фиванцев, и мегарян, и жителей Левкады и Керкиры, от которых мы завербовали в общей сложности пятнадцать тысяч пеших наемников и две тысячи конных, и это не считая гражданского ополчения. Тоже и денег я собрал столько, сколько можно было собрать. (238) А если ты, Эсхин, твердишь тут теперь о справедливом дележе и о равенстве обязанностей в отношениях с фиванцами, византийцами и евбейцами, то ты не знаешь даже и того, что и в былое время541 из трехсот боевых кораблей союзного эллинского флота двести выставил наш город и что афиняне тогда не почитали это для себя унижением, не таскали по судам тех, кто это посоветовал, и не выказывали чрезмерных сожалений — это было бы совсем стыдно! — но благодарили богов, что в бедственную для всех эллинов пору могут сделать для общего спасения вдвое больше остальных. (239) Да к тому же ты попусту заискиваешь перед судом, стараясь оклеветать меня. Зачем ты теперь говоришь, как надобно было поступать? Ты был тогда тут — почему же ты не обжаловал принятых в твоем присутствии решений? Решений, которые соответствовали тогдашним обстоятельствам, ибо решали мы не так, как хотели, а так, как позволяло положение вещей, потому что наготове был перекупщик, который сразу принял бы к себе всех, кого мы прогнали, да еще и приплатил бы им!
(240) Но если теперь меня винят даже за исполненное, то, как по-вашему, что стали бы делать и говорить эти вот мерзавцы, когда бы в ту пору из-за такой моей придирчивости упомянутые города отложились от нас и примкнули к Филиппу, и он разом прибрал бы к рукам и Евбею, и Фивы, и Византий? (241) Неужто не принялись бы они твердить, что эти города стали жертвою предательства, что они жаждали союза с нами, а мы их отвергли, что из-за византийцев Филипп утвердился над Геллеспонтом и так завладел подвозом питающего эллинов хлеба, что из-за фиванцев на Аттику обрушились тяготы пограничной войны, что из-за разбойничьих набегов с Евбеи прекратилось мореплавание? Неужто не твердили бы они всего этого, а кстати и многого другого? (242) Подлая тварь, да, господа афиняне, подлая тварь — вот что такое всякий доносчик, и всегда-то эта тварь все разбранит и оклевещет! А этот лисий ублюдок — и вовсе ничтожество, отроду не творившее ничего толкового и ничего пристойного, сущая театральная мартышка, деревенский Эномай,542 лживый пустозвон! Что пользы отечеству от этих твоих витийственных вывертов? (243) Зачем ты разглагольствуешь тут перед нами о минувших делах? Право же, это точно как если бы врач, посещая страждущих от недуга, ничего бы им не советовал и не указывал никаких лечебных средств, а потом, после смерти какого-нибудь больного явившись на тризну, принялся бы прямо на могиле объяснять, что если бы усопший вел себя так-то и так-то, он бы остался жив. Сумасшедший дурень, что теперь толку в твоих разговорах?
(244) Скажу и о поражении, которым ты, мерзавец, тут хвастаешься, хотя подобало бы плакать, и которое, как вы сами увидите, наш город потерпел вовсе не по моей вине. Итак, примите во внимание, что сколько раз ни бывал я назначен вашим послом, никогда и ниоткуда не уходил, побежденный послами Филиппа: ни из Фессалии, ни из Амбракии, ни из Иллирии, ни от фракийских царей, ни из Византия, ни даже из самых Фив, — никогда и ниоткуда. Однако заметьте, что Филипп покорял оружием именно те государства, где послы его были побеждены в словесной схватке.543 (245) Так зачем же ты спрашиваешь за это с меня? Неужто тебе не стыдно, издеваясь над моей слабосильностью, требовать от меня, чтобы я в одиночку и одними речами одолел Филиппово войско? Ведь я был господином только над собственными словами, но не над душою и счастьем каждого воина, да и вообще никаким военачальником я не был, а ты в скудоумном своем невежестве требуешь с меня отчета еще и за эту должность! (246) Вот за те дела, по которым подотчетен советчик, вы с меня спрашивайте — тут я не стану отказываться от ответа. Каковы же обязанности советчика? А таковы, чтобы с самого начала замечать и распознавать, как складываются обстоятельства, и предупреждать об этом других. Это я исполнил. Еще советчик обязан стараться, чтобы поменьше было промедления, замешательства, недомыслия и соперничества, ибо в такие заблуждения непременно впадают все государства, где правят граждане, а вместо этого обязан он внушать соотечественникам согласие и дружбу и рвение к правому делу. Это я тоже исполнил так, что никому не найти ни малейшего упущения. (247) У кого бы вы ни спросили, какими средствами Филипп достигнул почти всех своих успехов, всякий в ответ назовет военную силу, взятки и подкуп должностных лиц. Но у меня-то войска не было ни своего, ни подначального, так что ни за какие военные дела я никакой ответственности не несу, а что касается взяток, то тут я Филиппа одолел, ибо точно как подкупающий побеждает подкупаемого, едва тот примет деньги, так же и тот, кто не прельстился деньгами, неподкупностью своею побеждает подкупающего. Стало быть, в том, что зависело от меня, наш город побежден не был.
(248) Эти сведения я представил, чтобы оправдать предложенное подсудимым постановление обо мне, — и подобных свидетельств его правоты наберется еще множество, — а теперь сообщу те свидетельства, которые представили вы сами. Итак, сразу после битвы544 сограждане, знавшие и видевшие все, что я делал, и оказавшиеся вдруг в такой беде и в такой опасности, когда немудрено было и ошибиться касательно меня, итак, сограждане тогда открытым голосованием утверждали предложенные мною меры для спасения города и все, что устраивалось ради обороны — когда размещали сторожевые отряды, когда рыли рвы, когда собирали деньги на стены, — все делалось по моим постановлениям, да к тому же, избирая заведующего хлебной поставкой, народ опять же открыто предпочел меня всем остальным. (249) Вот после этого-то мои зложелатели и объединили силы, и тут уж посыпались против меня жалобы, иски, особые доклады и прочее в таком же роде, но сначала не от них самих, а от подставных лиц, за которыми надеялись укрыться заводилы. Вы помните, конечно, как в первое время не бывало дня, чтобы меня не вызывали в суд. Против меня были испытаны все средства — глупость Сосикла, коварство Филократа,545 юродство Дионда и Меланта и еще многое, однако всякий раз мне удавалось спастись, потому что мне помогали, во-первых, боги, а во-вторых, вы и прочие афиняне, и это было справедливо, ибо согласовалось с истиною и с долгом присяжных, коим по присяге положено судить честно. Стало быть, когда на меня подавались особые доклады, и обвинители не получали от вас даже и обязательной доли камешков, то этими своими судейскими камешками вы признавали дела мои отличными и благородными, а когда бывал я вами оправдан в судах об обжаловании, то тем самым признавалось, что все мои устные и письменные предложения правозаконны, а когда вы принимали мои отчеты, то тем самым не только утверждали отчет, но и признавали мою честность и неподкупность. Если все это было так, то какими же еще словами по справедливости подобало Ктесифонту говорить о моих делах? Неужто не теми самыми, которые он уже слышал от народа и от присяжных судей? Неужто не теми, истинность которых была для всех заранее очевидна?
(251) «Да, — говорит обвинитель, — но вот Кефал546 превосходен тем, что никогда не бывал под судом». Конечно, превосходен и еще — клянусь Зевсом! — весьма удачлив. Но разве от этого справедливо порочить человека, пусть и часто бывавшего под судом, однако же ни разу не уличенного в преступлении? Впрочем, господа афиняне, тут для меня очень кстати похвала Кефалу, ибо на меня-то обвинитель никогда не жаловался и никак не преследовал меня по суду — выходит, ты сам признаешь меня не худшим гражданином, чем Кефал! (252) Откуда ни погляди, отовсюду видно твое невежество и коварство, но более всего из разглагольствований о счастье и злосчастье. Что до меня, то я почитаю сущим безумием, когда один человек попрекает другого его судьбою. Право, если даже тот, кто верит, что все у него идет отменно, и потому воображает, будто поймал удачу, все-таки не может знать, продлится ли удача его хотя бы до вечера, то стоит ли вообще говорить о ней и стоит ли корить ею других? Однако он твердит об этом предмете с такою же самонадеянностью, как и обо всем остальном, а если так, господа афиняне, то глядите и думайте сами, насколько сообразнее с истиной и человечностью рассуждаю о судьбе я. (253) Я знаю, что городу нашему суждена благая доля и что возвестил вам это Зевс в Додонском своем прорицалище, но я знаю, что всем людям, которым досталось жить в наше время, судьба выпала тяжкая и горькая — и правда, неужто хоть кто-нибудь из эллинов или варваров не претерпевает ныне множества бедствий? (254) Это так, и я почитаю благою судьбой нашего города уже то, что мы предпочли прекраснейшее, а живем куда как лучше тех эллинов, которые возомнили, будто станут благополучны, если нам изменят. Ну, а то, что нам не повезло и не все вышло как нам хотелось, я понимаю так, что городу нашему досталась причитавшаяся нам доля общего злосчастья. (255) О собственной же моей судьбе, да и о судьбе каждого из нас я думаю так, что дело это частное и говорить о нем положено соответственно. Таково мое мнение о судьбе, и мне — уверен, что и вам тоже, — оно кажется правильным и справедливым. А вот он объявляет, будто моя личная судьба важнее общей судьбы целого города, — это моя-то ничтожная и несчастная судьба важнее судьбы благой и великой! Возможно ли такое?
(256) Впрочем, раз уж ты, Эсхин, непременно хочешь поговорить о моей судьбе, то сравнивай ее со своею, и если моя окажется лучше, то перестань ее хаять. Итак, гляди с самого начала, но только — ради Зевса! — пусть никто не попрекнет меня злоречивостью. Право же, я не нахожу большого ума в людях, которые бранят бедность или хвастаются тем, что воспитаны в достатке, однако из-за облыжных обвинений этого клеветника поневоле обращаюсь именно к таким речам, хотя и постараюсь соблюсти приличия, сообразные с нынешними обстоятельствами.
(257) Так вот, Эсхин, у меня хватало достатка, чтобы измлада ходить к хорошим учителям и иметь все, что положено иметь тому, кого нужда не заставляет опускаться до позорных занятий, а затем, возмужав, я по-прежнему во всем соблюдал пристойность: нес хороустроительную повинность и судостроительную повинность, исправно платил подати и никому не уступал в делах чести, будь то дела частные или общие, но старался о пользе города и о пользе друзей. Наконец, когда я решил вступить на государственное поприще, то и тут вел все дела таким образом, что часто получал в награду венки от сограждан и от многих других эллинов, и даже вы, мои враги, не смели в ту пору говорить, будто не прекрасен избранный мною путь. (258) Вот такова моя судьба и такова моя жизнь — я мог бы еще многое о ней порассказать, однако остерегусь, как бы не досадить кому-нибудь хвастовством. Ну, а ты, хвастун, оплевывающий всех кругом, погляди теперь на свою судьбу и сравни ее с моею. Судьба твоя была такая, что рос ты в превеликой нужде и сидел вместе с отцом при школе, а там и чернила готовил, и скамейки отмывал, и подметал за дядьками — одним словом, содержался не как свободнорожденный отрок, но как дворовый раб. (259) Возмужав, ты был на побегушках у матери547 и, пока она исправляла таинства, служил чтецом, а по ночам состоял при шкурах и кубках, и мыл посвящаемых, и обмазывал их грязью и отрубями, и напоминал сказать после очищения «бежал зла, нашел благо», да еще похвалялся, что никто-де не умеет завывать звончее. Этому последнему я вполне верю, и вы тоже не думайте, что если он теперь так орет, то не умеет еще и визжать лучше всех! (260) Ну, а днем водил он по улицам эти распрекрасные сонмища, и подопечные его были в укропных и тополевых венках, а сам он, зажав в кулаках толстошеие полозов, потрясал ими над головой, то вопя свои «эвоэ-сабоэ», то пускаясь в пляс под всякие «гиэс-аттес-аттес-гиэс». У старых бабок он звался и запевалой, и вожатым, и плющеносцем, и кошниценосцем, и прочими подобными именами, а в уплату за эти свои должности получал то сладкое печенье, то калач, то пирог, — неужто не счастливец? Воистину всякий был бы счастлив такою удачей! (261) Наконец тебя внесли в окружной список. Как и когда это вышло, лучше не говорить, но в список ты попал и избрал себе благороднейшее занятие — пристроился писарем и был на посылках у чиновников поплоше, да только тебя прогнали даже и оттуда за те самые дела, в которых ты теперь обвиняешь других. Однако дальнейшей своей жизнью ты не посрамил — клянусь Зевсом, отнюдь не посрамил! — этих первых подвигов. (262) Ты нанялся к многослезным Симилу и Сократу, именовавшим себя трагическими актерами, и получал у них третьи роли, да еще и батрачил, собирая чужие смоквы, чужой виноград и чужие маслины. От поденщины прибыли выходило больше, чем от театральных схваток, в коих сражались вы до последнего вздоха, ибо война ваша со зрителями была хоть и необъявленной, но непримиримой, — вполне понятно, что тебе, столько раз в этой войне раненному, трусом кажется всякий, кто не познал подобных опасностей. (263) Но не стану более говорить о том, чему причиною могла быть бедность, и обращусь к собственным твоим порокам. Когда ты решился все-таки вступить на государственное поприще, то, пока отечество было благополучно, предпочитал жить по-заячьи, в страхе, и в трепете, и в вечном ожидании, что будешь бит за преступления, о которых и сам отлично знаешь, но едва сограждане твои оказались в беде, ты сразу приободрился — уж это всем видно. (264) Тысячи граждан погибли, а этот бодр и весел — так чего же по справедливости заслужил он от тех, кто остался в живых? И еще многое мог бы я порассказать о нем, однако воздержусь, ибо не нахожу возможным пристойно поведать вам обо всех его мерзостях и гнусностях, о которых у меня имеются свидетельства, так что говорю только о том, о чем мне самому говорить не стыдно.
(265) Итак, Эсхин, попробуй-ка теперь без злобы и пристрастия сравнить твою жизнь с моею, а потом спроси любого присутствующего, которую из двух этих судеб избрал бы он для себя. Ты служил при школе — я учился в школе, ты посвящал в таинства — я приобщался таинству, ты записывал за другими — я заседал и решал, ты играл третьи роли — я смотрел представление, ты проваливался — я освистывал, ты помогал врагам — я трудился ради отечества. (266) О прочем умолчу, но вот сегодня утверждается постановление о венке для меня, однако и тут все согласны, что нет за мною никаких преступлений, а тебя общее мнение искони числит среди наемных доносчиков, так что беспокоиться ты можешь лишь о том, позволят ли тебе клеветать и дальше или придется с этим покончить, если вдруг не соберешь ты пятой части камешков.548 Благая у тебя судьба, неужто не видишь? И после такой-то жизни ты еще бранишь мою!
(267) А теперь, письмоводитель, неси сюда свидетельские показания об исполненных мною общественных повинностях, я их оглашу. Ты тоже подай голос, почитай стихи, которые коверкал — ну, вроде этих:
Иду от мертвых нор и черных врат… —или вроде этих:
Я горевестник поневоле, верь… —или еще:
Тебе, злодею, зло…549 —да, злейшее зло пусть достанется тебе от богов и пусть вслед за богами отвергнут тебя вот они, ибо ты дрянной гражданин и дрянной скоморох. Читай свидетельство. [Читаются свидетельские показания.] (268) Вот каков я в городских делах, что же до частных дел, то если еще не всем вам известно, как я учтив и дружелюбен и всегда готов помочь в нужде, тогда мне остается молчать, ибо нет смысла рассказывать и доказывать, кого я выкупал из вражеского плена550 и чьим дочерям давал приданое — ни о чем подобном тогда и говорить не стоит. (269) Почему же я держусь такого мнения? А потому, что, по-моему, облагодетельствованный должен помнить о благодеянии весь свой век, но благодетель пусть забывает об услуге своей сразу — только так и возможно, если первый соблюдает приличия, а второй не унижается до мелочности. Напоминать и разглагольствовать о своей благотворительности — все равно что пускаться в попреки. Потому-то я не удостою его ответом и говорить об этих своих делах не буду, но удовлетворюсь мнением, которое у вас на сей счет уже сложилось.
(270) Однако я хочу, оставив в стороне частные дела, сказать вам еще кое-что о делах государственных. Если во всем подсолнечном мире ты, Эсхин, отыщешь хотя бы одного человека — будь то Эллин или варвар, — не страдавшего прежде от самодержавства Филиппа и не страждущего ныне от самодержавства Александра, тогда пусть будет по-твоему, а я соглашусь, что всему виною мое счастье или злосчастье, это уж как тебе угодно называть. (271) Но если даже там, где меня не видывали и не слыхивали, столь многим людям довелось претерпеть столь многие бедствия — и не отдельным людям, а целым городам и народам! — если так, то неужто не честнее и вернее полагать, что всему виною сделалось общее несчастье чуть ли не всего человечества и некое неудачное и горькое стечение обстоятельств? (272) Между тем ты с этим отнюдь не считаешься и винишь меня за мои советы вот им, хотя отлично знаешь, что таким образом — во всяком случае, в большой мере — огулом бранишь всех, а пуще всех самого себя. Если бы я принимал решения самовластно, то остальные могли бы сваливать вину на меня, (273) но вы-то всегда присутствовали на Народных собраниях, а именно там по городскому нашему уставу разбираются дела государственной важности, и с решением этих дел были тогда вполне согласны все, и ты первый. Впрочем, ты-то уступал мне уважение, и почести, и благие надежды, и все прочее, что доставалось мне за тогдашние мои дела, отнюдь не из личной приязни, но, конечно же, только потому, что ничего не умел возразить и вынужден был отступать перед истиной, если все это было так, то неужто теперь не совершаешь ты преступной подлости, попрекая меня за предприятия, взамен которых ты в свое время не предложил ничего лучшего? (274) Насколько мне известно, у всех, людей для подобных случаев имеются твердые и определенные правила: тому, кто совершил умышленное преступление, — гнев и отмщение, тому, кто ошибся по нечаянности, — сочувствие и прощение, ну, а тому, кто не совершил ни преступления, ни даже ошибки, но отдал себя делу, которое все почитали правым, и вместе со всеми потерпел неудачу, по справедливости достаются не брань и попреки, а общее сострадание. (275) Правила эти очевидны не только из законов, но уже из естественного порядка вещей, в коем подтверждаются всеми неписаными уставами и человеческими обычаями. Вот и выходит, что Эсхин обогнал всех людей лживостью и жестокостью — ведь он хотя и помнит об общих наших неудачах, то даже их ставит мне в вину.
(276) Мало того, в притворной своей искренности и благонамеренности он еще и посоветовал вам давеча с особой настойчивостью, чтобы вы меня остерегались и чтобы следили, как бы я вас не перехитрил и не заморочил, ибо я-де ловкач, и обманщик, и краснобай — как только он меня тут не обзывал! Можно подумать, будто достаточно успеть обозвать другого именами, которые подходят тебе самому, как сразу противник твой точно таким и станет, а тогда уж слушателям нипочем не разобраться, каков ты сам. Однако я уверен, что вы все отлично его знаете и уже поняли, насколько более присущи ему поименованные им же свойства. (277) Я уверен также и в том, что искусные мои речи — но довольно! Скажу одно: ясно, что слушатели по своей воле наделяют силою говорящего, и потому правою бывает признана та сторона, которой вы выказываете больше внимания и благорасположения. Так вот, если я хотя бы немного смыслю в речах, то все вы можете видеть, что я всегда пользовался этим своим искусством ради общего блага и ради вас, а ради собственной выгоды и во вред вам — никогда, он же, напротив, не только старается ради ваших врагов, но еще и нападает на всякого, кто чем-нибудь ему досадил или не угодил. Право же, искусство его бесчестное и городу от него пользы нет! (278) Честному и благородному гражданину не положено ради собственной корысти внушать судьям, явившимся сюда во исполнение гражданского долга, гнев, ненависть и прочие подлые чувства — не положено ему идти к вам с такими намерениями, а еще лучше ж вовсе не питать таких намерений, но уж если это неизбежно, та надобно хота бы соблюдать пристойность и скромность. А все же бывает и так, что приходится говорить и действовать с пылкою решимостью? Да, бывает, ибо когда опасность грозит самому существованию государства и когда народ вступает в схватку с врагом, то без честного и отважного гражданина обойтись нельзя. (279) Но стараться наказать меня, хотя за мною не числится никакого государственного — замечу, что частного тоже — преступления, и стараться об этом не ради города и даже не ради собственной выгоды, а явиться сюда и подстроить каверзное обвинение лишь для того, чтобы отнять у меня венок и похвалу, — вот это уже означает личную вражду к зависть и низость, но честности тут и близко нет! Ну, а уклониться от прямого суда со мною и вместо этого обвинять вот его — просто сущая подлость! (280) Остается предполагать, что ты, Эсхин, выбрал этот суд не для того, чтобы добиться кары преступнику, но лишь желая похвастаться, как красно ты говоришь и какой зычный у тебя голос. Ты уж поверь: говорящего уважают не за витийство и даже не за глотку, но за согласие с мнением народным и за то, что ненавидит он и любит вместе с отечеством. (281) Воистину, кто душою таков, тот и в речах неизменно будет благонамерен, а если кто угождает людям, от которых город ждет себе беды, тот уже не заодно с народом, а стало быть, и мнение его о безопасности несогласно с общим мнением. Гляди — вот я, и я выбрал: что им хорошо, то и мне хорошо? Верно говорю: никогда и ни в каком деле не искал я выгоды для себя одного. (282) А ты? Ты не таков, отнюдь не таков! Ты сразу после битвы отправился послом к Филиппу,551 главному виновнику тогдашних бедствий нашего отечества, а ведь до того ты всегда отказывался от посольской должности — уж это всем известно. Так кто же обманывает сограждан? Разве не тот, кто говорит одно, а думает другое? И кому по справедливости назначены проклятия глашатая? Разве не такому вот лжецу? Да и может ли тот, кто обращается к народу, совершить преступление гнуснее этого — говорить одно, а думать другое? Однако же ты, как стало теперь очевидно, такое преступление совершил! (283) Неужто после всего, что было, ты еще смеешь тут разглагольствовать, глядя в глаза судьям? Неужто ты воображаешь, будто им неведомо, каков ты есть? Или, по-твоему, все тут крепко едят и до того обеспамятели, что позабыли, какие слова говорил ты им во время войны, когда клялся и божился, будто нет у тебя с Филиппом ничего общего и будто я взвожу на тебя это облыжное обвинение единственно по личной злобе? (284) Однако, едва пришли известия о битве, ты сам же сразу и безо всякого смущения во всем признался, да еще объявил, что связан-де с Филиппом дружбою и гостеприимством — так ты именовал свою наемную службу. Чтобы Эсхин, рожденный бубенщицей Главкофеей, доводился другом, гостеприимцем или хотя бы знакомцем Филиппу Македонскому — возможно ли найти для подобного дива пристойное и честное объяснение? Я такого объяснения не вижу, а вижу, что ты нанят, и нанят нарочно — вредить всякому полезному делу. И все-таки, хотя предательство твое и раньше было очевидно и несомненно, а потом в уже упомянутых обстоятельствах ты сам себя уличил, ты теперь попрекаешь и укоряешь меня тем, в чем вернее было бы винить всех остальных.
(285) Множество прекрасных и великих дел затеял и исполнил наш город благодаря мне, и дела эти не забыты, Эсхин. Вот тебе доказательства. Когда народ после всего случившегося решал открытым голосованием, кто скажет надгробное слово павшим, то ни ты не собрал голосов, хотя выговор у тебя звучный, ни Демад, хотя он только что заключил мир, ни Гегемон и никто другой из вашей братии, а назначили меня. Уж сколько бесстыжих грубостей наговорили на меня вы с Пифоклом552 — свидетелями Зевс и боги! — уж сколько взводили на меня обвинений, точно таких, как нынешняя твоя клевета, а все-таки я прошел большинством голосов, (286) и ты отлично понимаешь почему, однако я еще раз тебе об этом скажу. Люди знали вас и знали меня: про меня они знали, что я во всех делах являл усердие и благонамеренность, а про вас знали, что вы изменники. Сами вы в благополучную пору отрицали это, но когда город наш попал в беду, в измене своей признались. Вот тут-то, когда среди общего несчастья вы заговорили начистоту, все наконец поняли, что вы издавна были врагами отечества, а теперь даже и скрываться перестали. (287) Поэтому и было решено, что говорить над павшими согражданами и хвалить их доблесть никак невозможно тому, кто делил крышу и стол с неприятелем, и что почетная эта должность не для того, кто воротился домой, весело отпраздновав гибель эллинов вместе со своеручными их убийцами, и что оплакивать такое горе подобает не притворными причитаниями, но от души — и такую скорбь люди замечали у себя и у меня, но не у вас, (288) а потому избран был я, а не вы. Не только весь народ рассудил так, но еще и отцы и братья павших, которым народ поручил позаботиться о погребении: помимо прочего, им нужно было устроить тризну, и — это уж как водится — устроить ее в доме ближайшего для павших человека, то есть у меня. Да и правду сказать, хотя у каждого убитого были близкие родственники, но у каждого свои, а для всех сразу я был ближе, ибо кто наипаче старался об их спасении и преуспеянии, тот и принимает на себя горчайшую долю общей скорби о постигшем их несчастье.
(289) Прочитай-ка ему надпись, которую город высек в память погибших, чтобы ты, Эсхин, уже из самой этой надписи мог понять, какой ты невежда, клеветник и мерзавец. Читай.
Здесь почиют мужи, мечи подъявшие к брани, Дабы в чужой стороне вражью гордыню смирить. Ярость и доблесть явив на поле битвенном, жизни Не сберегли, низойдя в дольний Аидов удел, Лишь бы Элладе не знать позора гнусной неволи, Лишь бы эллин не гнул шею под рабский ярем. Так, после многих трудов, покорствуя промыслу божью, Канула смертная персть в лоно родимой земли. Боги хранят от невзгод и боги даруют удачу, Но неизбежной судьбы людям бежать не дано.553(290) Слышишь, Эсхин, как тут сказано: «Боги хранят от невзгод и боги даруют удачу», — то есть нет у советника силы даровать победу в бою, такая сила только у богов! Зачем же ты, мерзавец, клянешь меня за поражение? Пусть проклятия твои падут на голову тебе и твоим споспешникам!
(291) Впрочем, господа афиняне, хотя и взводил он на меня множество облыжных обвинений, но больше всего меня удивляли не они, а то, как он говорил о тогдашних наших бедах — совсем не так, как положено благонамеренному и честному гражданину. Он не изъявлял ни горя, ни сердечной скорби, но так шумно тут веселился и так драл глотку, что лишь по собственному своему мнению обвинял меня, а на деле сам позорился, показывая, что не разделяет общей печали о случившемся. (292) Уж если кто твердит, будто заботится о порядке и законности — а он теперь твердит именно это! — тот должен, если ничего другого не умеет, хотя бы разделять с народом радость и горе, отнюдь не примыкая к вражескому строю в государственных своих устремлениях. Но ты-то был с врагами и теперь сам изъясняешь это со всей откровенностью, утверждая, будто я повинен во всех несчастьях и будто из-за меня город потерпел пораженке, хотя в действительности вы начали помогать эллинам вовсе не по моим уговорам и советам. (293) Право, если бы вы решили почитать моею заслугою, что воспротивились порабощению эллинов, то даровали бы мне награду превыше всех дарованных прежде наград, однако сам я ни за что не сказал бы такого, ибо этим обидел бы вас, да и вы ни за что не согласились бы со мною, да и он — будь он честен! — не стал бы из ненависти ко мне унижать своей клеветой величие ваших подвигов.
(294) Впрочем, что толку попрекать его этим, когда он успел оклеветать меня еще гнуснее? Есть ли такое, чего не скажет тот, кто обвиняет меня в приверженности — о Земля! о боги! — в приверженности Филиппу? Клянусь Гераклом и всеми богами, если уж разобраться по правде и безо всякой лжи и злобы сказать наконец, кто же были на самом деле те люди, на которых то справедливости следовало возложить вину за происшедшее, то вы увидите, что повсюду эти люди во всем уподоблялись ему, а не мне. (295) Еще в ту пору, когда Филипп был слаб и не слишком влиятелен, а мы со своей стороны часто предупреждали, и убеждали, и объясняли, как надобно действовать, то именно они рада своей жалкой корысти презрели общую пользу, да притом каждый старался обманывать и растлевать собственных сограждан, пока не обратил их в рабов: таковы были у фессалийцев Даох, Киней и Фрасидей, у аркадян — Керкид, Гиероним и Евкампид, у аргосцев — Миртид, Теледам и Мнасей, у элидян — Евксифей, Клеотим и Аристехм, у мессенян — сыновья святотатца Филиада Неон и Фраеилох, у сикионцев — Аристрат и Эпихар, у коринфян — Динарх и Демарат, у мегарян — Птеодор, Геликс и Перилл, у фиванцев — Тимолай, Феогитон и Анемет, у евбейцев — Гиппарх, Клитарх и Сосистрат. (296) Начни я перечислять имена всех предателей, так и дня не хватит? Все они, господа афиняне, стараются у себя дома о том же, о чем вот эти стараются у вас, и все они — мерзавцы, подхалимы, погибель рода человеческого, ибо каждый из них изувечил свое отечество, пропил свободу с Филиппом, а теперь пропивает с Александром, измеряет счастье обжорством и похотью, попирает вольность и независимость, кои в прежние времена были для эллинов пределом и образцом блага.
(297) Однако же, господа афиняне, в этом позорном и постыдном сговоре, в этой подлости, а лучше сказать — если говорить без обиняков — в этой распродаже эллинской свободы город наш перед всеми людьми благодаря моим государственным предприятиям остался неповинен, а я остался неповинен перед вами. И ты ещё спрашиваешь меня, за какие такие подвиги заслужил я награду? Ну, так я тебе отвечу: за то, что, ша все эллинские государственные люди — начиная с тебя! — продавались сначала Филиппу, а потом Александру, я ни в каких обстоятельствах не поддавался ни ласковым речам, ни щедрым посулам, ни надеждам, ни страху и ничему другому, никогда не соблазняясь изменить благу отечества и делу, которое почитал правым; а когда подавал я советы согражданам, то ни разу не уподобился вам и никакая взятка мнения моего не перевесила, но осталась речь моя прямой, честной и неподкупной; а когда возглавил я величайшее государственное дело своего времени, то и на этом поприще всегда действовал честно и здравомысленно, — (299) вот за это я и заслужил награду. Что же до осмеянного тут тобою устройства стен и рвов, то, по-моему, и за это я заслужил благодарность и похвалу, да почему бы и нет? Но, конечно же, это было не главным из моих государственных дел, и я сам вовсе не почитаю его величайшим, ибо не камнями и кирпичами оборонил я наш город. Уж если тебе угодно знать, что сделал я для обороны, то гляди: вот оружие, и города, и крепости, и гавани, и корабли, и кони, и воины, готовые сражаться за нас! (300) Столько сделал я для обороны Аттики, сколько посильно человеческому разумению, и укрепил всю страну, а не только поставил стены вокруг города и Пирея.554 Нет, не одолел меня Филипп ни расчетами, ни приготовлениями, но вышло так, что сама судьба одолела бойцов и союзных полководцев. Есть ли тому доказательства? Да, есть, ясные и неопровержимые.
Вот поглядите. (301) Что требовалось тогда от благонамеренного гражданина, усердно старающегося о благе отечества со всею возможною предусмотрительностью и добросовестностью? Разве не следовало загородить Аттику с моря Евбеей, с суши — Беотией, со стороны Пелопоннеса — пограничными его областями? Разве не следовало озаботиться подвозом хлеба, чтобы вплоть до Пирея хлебный путь проходил только через дружественные страны? Разве не следовало одни из подчиненных нам городов спасти, послав им военную помощь и объявив о тем в особых постановлениях, как было с Проконнесом, и Херсонесом, и Тенедом, а другие привлечь к себе и сделать союзниками, как было с Византием, и Абидом, и Евбеей? Разве не следовало переманить на свою сторону могущественнейших вражеских союзников, добавив отечеству силы, которой ему недоставало? Всего этого я и достигнул своими постановлениями и другими государственными предприятиями, (303) а стало быть, господа афиняне, если разобраться в делах моих беспристрастно, то сразу обнаружится, что все было сделано верно и честно и что ни единой благоприятной возможности я не упустил, но каждую заметил и использовал, да и вообще успел все, что доступно силе и разумению одного человека. Ну, а если противление некоего демона, или злосчастье, или никчемность военачальников, или подлость изменников, предавших ваши города, или все это сразу было помехою делу, пока не сгубило его совершенно, то чем тут виноват Демосфен? (304) Найдись в ту пору в каждом из эллинских городов человек, подобный мне и занимающий такое же место, как я у вас, или, по крайности, если бы только в Фессалии и в Аркадии нашлось хотя бы по одному человеку, согласному с моими мнениями, то ни по какую сторону Фермопил эллины не оказались бы в нынешнем своем положении, но (305) остались бы свободны и независимы и благоденствовали бы без страха и тревог каждый в своем отечестве, почитая себя обязанными за таковое счастье вам и прочим афинянам, — а сделал бы все это я. Да притом знайте, что я во избежание чьей-нибудь зависти весьма приуменьшаю в своем рассказе величие содеянного, — в доказательство моих слов возьми-ка, письмоводитель, перечень подкреплений, добытых по моим постановлениям, и прочитай его погромче. [Читается перечень подкреплений.] (306) Вот, Эсхин, как подобало действовать честному и благородному гражданину, и если бы все исполнялось должным образом, то мы, безо всяких сомнений, достигли бы небывалого величия, да притом еще и послужили бы правому делу, но если уж вышло по-другому, то все-таки при нас осталась добрая слава, ибо никто не станет попрекать нас нашими намерениями, но можно лишь сетовать на судьбу, назначившую событиям такой исход. (307) Однако же — клянусь Зевсом! — честный гражданин ни за что не изменит благу отечества, чтобы, продавшись врагам, служить чужой выгоде в ущерб родному своему городу, и не станет он взводить клевету на человека, с неотступным постоянством устно и письменно утверждающего честь родного города, и не станет таить и лелеять обиду, если кто не угодит ему в каком-нибудь частном деле, но и не станет отмалчиваться вопреки закону и общей пользе, как это частенько делаешь ты. (308) Конечно, молчание бывает согласно и с законом, и с общею пользой — вот так, то есть безо всякого коварства молчите вы, а вы составляете большинство. Однако он-то отмалчивается не так, совсем не так! — Когда ему это бывает удобно — а такое бывает часто, — он отстраняется от государственных дел и выжидает, пока вам не надоест многословный советчик, или пока судьба не окажется к вам неблагосклонна, или пока не случится еще какая-нибудь неприятность — а у людей чего не случается? — и вот тогда-то он вдруг объявляется со своими речами, точно как ветер, вырвавшись из бездейственного покоя, и уж тут надрывает глотку, витийствует, плетет словеса, кричит все подряд безо всякой передышки, а толку от этого не выходит, и нет никому от речей его никакого проку, но каждому гражданину по отдельности они приносят горе, а всем вместе — общий позор. (309) Конечно, Эсхин, будь это твое многоупражненное витийство непритворным и предназначенным на благо отечества, от него произошли бы прекрасные й славные и для всех прибыльные плоды — союзы между городами, прибавление достатка, устроение торговли, полезное законодательство, разоблачение и одоление врагов. (310) Всеми этими делами и в прежние времена испытывали граждан, а недавнее наше прошлое предоставляло честным и благородным людям множество возможностей отличиться, но ты-то тогда со всею откровенностью не стремился ни к первому, ни ко второму, ни к третьему, ни к четвертому, ни к пятому, ни к шестому месту и вообще ни к какому месту — ни на каком месте не хотел ты служить величию отечества. (311) Да и правда, каких союзников приобрел город твоими стараниями? Кому помог? У кого снискал уважение и приязнь? Отправлялось ли куда-нибудь хоть единое посольство? Оказана ли была кому-нибудь хоть единая услуга, добавившая городу нашему доброй славы? Устроилось ли благодаря тебе хоть что-нибудь тут у нас, или вообще у эллинов, или в чужих странах? Где твои боевые корабли? Где верфи? Где конница? Где заново отстроенные стены? Принес ли ты хоть какую-нибудь пользу? Помогал ли ты богатым или бедным из собственных или казенных средств? Ты вообще ничего не делал! (312) Ты мне ответишь, что и без того-де выказывал благонамеренность и усердие, а я тебя снова спрошу: где и когда? Нет, подлец из подлецов, ты даже тогда, когда все, хоть раз говорившие с помоста, давали деньги на спасение города555 и когда Аристоник отдал последнее, скопленное им для восстановления в правах, — так вот, даже тогда ты увильнул и ничего не дал, и вовсе не по бедности. Какая же бедность? Ты как раз унаследовал состояние свойственника твоего Филона, а это больше пяти талантов, да еще два таланта тебе собрали в подарок старосты податных обществ за то, что ты мешал провести закон о судостроителях. (313) Впрочем, об этом я не стану распространяться, не то — слово за слово — отвлекусь от нынешнего своего предмета. Итак, из сказанного ясно, что денег ты не дал отнюдь не по бедности, но из осторожности — опасаясь не угодить тем, ради кого затевал ты все свои дела. Так когда же ты ведешь себя молодцом и являешься во всем блеске? А вот когда надо навредить согражданам, тогда у тебя и голос самый зычный, и память самая крепкая, и притворства хоть отбавляй, ну точно трагический Феокрин!556
(314) Еще ты тут поминал доблестных мужей старого времени — и это выходило у тебя отменно. Однако же, господа афиняне, вряд ли справедливо злоупотреблять вашим почтением к памяти усопших, чтобы судить обо мне, вашем современнике, в сравнении с ними. (315) Всякому известно, что живым непременно, хотя бы исподтишка, завидуют — иногда больше, иногда меньше, — а к усопшим не питают ненависти даже их былые враги. Так ведется от природы, но тогда возможно ли судить обо мне тут и теперь на основании подобных примеров? Никак невозможно! Нет, Эсхин, твои примеры неуместны и недобросовестны, а лучше сравни-ка ты меня с самим собой или с любым из твоих товарищей, но только с живым. (316) Да еще поразмысли, что же будет лучше и полезнее для города: возносить былые подвиги — пусть великие, пусть несказанно великие — на такую высоту, чтобы нынешние дела остались в забвении и пренебрежении, или все-таки позволить всякому, кто делает дело свое усердно и честно, стяжать от сограждан почет и приязнь? (317) Впрочем, раз уж надобно мне говорить обо всем этом, то скажу, что государственные мои дела и предприятия явно сходствуют с подвигами древле прославленных мужей, да и намерения у меня с ними были одинаковые, а вот ты столь же очевидно похож на платных доносчиков тех давних времен. Яснее ясного, что уже и тогда находились люди, которые ради унижения своих соперников восхваляли подвиги минувших дней, то есть пользовались для брани и клеветы именно твоими приемами, Эсхин. (318) И ты еще говоришь, будто я-де совсем не похож на великих пращуров! Уж не ты ли на них похож? Или твой братец?557 Или кто другой из нынешних говорунов? Вот я решительно утверждаю, что на них не похож вообще никто, однако ты, любезный, — уж не стану называть тебя иначе, — ты в своих рассуждениях сравнивай живых с живыми и современников с современниками, о ком бы ни шла речь, хотя бы даже о стихотворцах, или об актерах, или об атлетах. (319) Разве Филаммон, который, конечно же, был слабее Главка558 Каристийского и других древних силачей, ушел из Олимпии без венка? Нет, он был объявлен победителем и получил венок, потому что бился лучше всех своих действительных соперников! Так и ты сравнивай меня с нынешними государственными людьми, сравнивай с самим собой и с кем тебе угодно из живых — вот тут я и слова поперек не скажу.
(320) Однако пока у города оставалась возможность избирать наилучшее и пока для всех было равно доступно состязаться в преданности отечеству, то самыми убедительными оказывались мои речи, и все устраивалось при помощи моих постановлений, и моих законов, и моих посольств, а из твоей братии никого и видно не было — ну разве что изредка, когда вам становилось невтерпеж кому-нибудь напакостить. Но едва случилось то самое, чему лучше бы не случаться, и выбирать пришлось уже не советников, но холуев на посылки, которые всегда готовы за деньги услужать врагам отечества и с охотою пресмыкаются перед теми, перед кем велено пресмыкаться, вот тогда-то ты и все твои товарищи сразу оказались при деле и стали богаты табунами,559 а я оказался слаб. Да, слаб, с этим я согласен, но зато куда как более предан согражданам!
(321) Две обязанности, господа афиняне, есть у гражданина, по самому естеству своему добропорядочного — я именую себя так, чтобы уж вовсе никому не было завидно, — и первая обязанность в том, чтобы в пору благоденствия оберегать у сограждан рвение к подвигам и к первенству, а вторая в том, чтобы всегда и при всех обстоятельствах оставаться им верным, ибо верность врождена, а власть и сила приходят извне. Однако вы можете убедиться, что как раз верен-то я вам оставался и остаюсь всегда и во всем. (322) Глядите сами. Чего только со мною не бывало: меня требовали выдать головой, меня стращали возмездием амфиктионов, мне угрожали, меня пытались подкупить, на меня натравливали этих вот гнусных тварей, — но несмотря ни на что преданность моя вам пребывала неизменной. А почему? А потому, что, едва вступив на государственное поприще, сразу избрал я для себя прямой и честный путь — блюсти и неустанно приумножать силу и славу и преуспеяние отечества. Такова моя служба. (323) Да, я не только не слоняюсь по площади, сияя от радости за чужие удачи и кидаясь с поздравлениями и рукопожатиями к тем, кто авось да оповестит обо мне кого следует, но я к тому же не щетинюсь от страха и не потупляю долу скорбных очей, слыша хорошие для города нашего новости,560 — да, я не похож на этих вот мерзавцев. Это они позорят наш город — можно подумать, будто тем самым они не позорят себя! — это они глядят на сторону, восхваляя злосчастье эллинов и счастье чужаков. Это они уговаривают всех сохранить нынешний порядок на веки вечные. (324) Но нет, не бывать такому! Я взываю ко всем богам вместе и к каждому особо: не дозволяйте подобного! Лучше внушите этим нечестивцам здравый смысл и честное разумение, если же окажутся они неисправимы, то сделайте так, чтобы сгинули они без следа в безднах земных и в безднах морских, а нам, оставшимся, даруйте наискорейшее избавление от подступившей беды и мирную жизнь.
ВТОРАЯ СОФИСТИКА ДИОН ХРИСОСТОМ ОЛИМПИЙСКАЯ РЕЧЬ, ИЛИ ОБ ИЗНАЧАЛЬНОМ СОЗНАВАНИИ БОЖЕСТВА
561
(1) Граждане, неужто со мною перед всем, как говорится, честным народом приключилась та нелепость, та небывальщина, что и с совою? Это ведь к ней, какой мы ее знаем — не мудрей других птиц и не краше их с виду — едва ей вздумается подать голос, и голос-то унылый и неблагозвучный, — слетаются всякие птицы, а завидев ее, тотчас садятся подле, кружат над нею, по-моему, выказывая презрение к ее безобразию и хилости, но люди твердят, будто птицы совой восхищаются.
(2) Да разве не павлину дивятся они в действительности?! Он так красив, так ярок, особенно когда гордо выступает, показывая красоту оперенья, когда хвалится перед своей самкой, развернувши хвост и осенив себя широким кругом, словно великолепным амфитеатром или небосводом, испещренным звездами, как на картине. Вся его окраска вызывает восхищенье: почти золотая переходит в сизую, а на концах перьев по очертаньям и по другим приметам — будто бы очи или какие-то кольца. (3) Если мало тебе этого, приметь еще и легкость оперенья: как оно воздушно, как без усилья несет его птица, несмотря на длину! А среди всего этого он сам, совершенно спокойный и невозмутимый, позволяет любоваться собою и, словно на параде, слегка поворачивается из стороны в сторону. И когда ему захочется нас поразить, он встряхивает хвостом и издает странный звук, впрочем довольно приятный: будто легкий ветер всколыхнул чащу.
Но на павлина во всей его красе не хотят смотреть птицы, и, слушая на заре соловьиное пение, нимало они им не взволнованы, не восхищает их даже мусический дар лебедя,562 когда, достигнув прекрасной старости, он поет свою последнюю песнь и, забывая в упоенье о тяготах жизни, благословляет ее, чтобы тотчас низвергнуться в смерть, верно беспечальную для него, — даже и тогда птицы не толпятся, зачарованные его кликами, на береге какой-нибудь речки, у широкого озера, на чистом песке у пруда или где-нибудь на крошечном зеленом островке посреди реки…
(5) Но если и вы, в чьем распоряженье столько удовольствий зрения и слуха — и риторы искусные, и сочинители сладчайшие в стихах и в прозе, и бесчисленные софисты, цветистые, словно павлин, и гордые славой и учениками, будто перьями, — если и вы приходите ко мне и хотите слушать меня, хотя я ничего не знаю и не говорю, будто знаю, то разве не прав я, уподобляя ваше ко мне пристрастие тому, что у птиц бывает к сове, причем, должно быть, не без некоей божественной воли? (6) Имея ее в виду, говорят, что сова любезна Афине, прекраснейшему и к тому же мудрейшему из божеств, — недаром у афинян сова даже удостоилась резца Фидия: он не счел ее недостойной стоять рядом с богиней, и народ это одобрил, между тем как Перикла и себя самого, по преданью, он изобразил на щите лишь тайком.563
Я, однако, не склонен видеть во всем этом счастье совы и ее успех, если только ей не дана на самом деле какая-то особая разумность. (7) Потому-то, я думаю, и говорится в Эзоповой басне, как мудрая сова, когда начал расти первый дуб, принялась советовать птицам не дать ему вырасти и погубить любым способом: от него, дескать, родится западня, из которой не вырваться и в которую им предстоит попадаться — птичий клей.564 И в другой раз, когда стали сеять лен, она наказывала выклевать это семя, ибо не к добру оно вырастет. (8) И в третий раз, увидав человека с луком, она предсказала: «Этот человек настигнет вас с помощью ваших собственных крыльев, ибо, ступая по земле, он пошлет вам вслед свои оперенные стрелы». Не поверили птицы ее речам, решили, что она безмозглая, и объявили помешанной. А после, испытавши все сами, принялись восхищаться ею и почитать подлинно самой мудрой. Вот — почему стоит ей показаться, как они теснятся к ней, словно ко владычице всех премудростей, но она ничего им уже не советует и только скорбит.
(9) Что ж, может быть, и вам случалось узнать какое-нибудь истинное изречение или полезный совет, который в древности философия дала эллинам, но они его тогда не поняли и оставили в небреженье, зато ныне припоминают и приходят ко мне, привлеченные моим видом565 и воздавая почести Философии, так же, как птицы — сове, а значит, тем самым и истине, пусть даже она безгласна. Что до меня, то ни прежде не высказал я ничего достойного внимания, ни теперь не знаю больше вашего, (10) а между тем есть другие мудрые и несказанно блаженные люди, и я, если захотите, могу открыть вам, кто они такие, каждого назвав по имени. Клянусь Зевсом, только от этого, пожалуй, и бывает толк: знать, кто мудр, да кто искусен, да кто учен. Если вы пожелаете примкнуть к ним, оставив все — родителей, отечество, святилища богов и могилы предков, и следовать за ними, куда бы они ни вели, и оставаться при них, где бы они ни обосновались — в Вавилоне ли Нина и Семирамиды, в Бактрах ли, в Сузах ли, или Палиботре,566 или в ином каком прославленном и пышном граде, — тогда, давая им деньги и всячески выражая покорность, (11) вы сделаетесь счастливей самого счастья. Если вы не хотите этого для себя, ссылаясь на скромные способности или бедность, на старость или слабое здоровье, то вы все же не станете из зависти лишать сих величайших благ своих сыновей; совсем напротив, если они того желают, вы будете их поощрять, а если нет — убеждать и понуждать всеми средствами, чтобы, получив достойное образование и сделавшись мудрецами, они стали впоследствии знамениты между всеми эллинами и варварами, выдаваясь к тому же добродетелью, славой, богатством и едва ли не всеми видами могущества. Ведь как приходится слышать, не только богатству сопутствует почет и добродетель, но и богатство непременно следует за добродетелью.567
(12) Вот что я заявляю вам сразу же перед этим богом568 и вот какой даю вам совет, движимый расположеньем к вам и любовью. Само собой разумеется, что, если бы позволяли силы и возраст, мне прежде всего следовало бы склонять и призывать к этому самого себя; но после перенесенных несчастий я принуждён, если уж представится возможность, лишь у древних отыскать крохи их мудрости, как бы уж заброшенной и зачерствелой, тоскуя при этом по лучшим учителям и к тому же полным жизни.569
Признаюсь вам, чем еще я напоминаю сову — пусть вы даже готовы поднять мои речи на смех.570 (13) Как сове самой нет проку от слетающихся к ней птиц, но зато для птицелова она самое выгодное приобретение — ему ведь не надо ни подбрасывать приманку, ни подражать птичьему пению, но довольно показать сову, чтобы заполучить великое множество птиц, — так и мне нет корысти в приверженности толп народа. В самом деле, я не беру учеников, сознавая, что мне нечему было бы их учить, ибо я сам ничего не знаю,571 а лгать и морочить обещаньями — нет, я не настолько отважен. Но, пристав к софисту, я бы сослужил ему немалую службу, собравши огромную толпу, а затем предоставив ему возможность распорядиться добычей по его собственному усмотрению. Однако, уж и не знаю отчего, ни один софист не берет меня с собою и даже видеть меня не желает.
(14) Теперь я могу надеяться, что вы верите моим словам о моей неискушенности и неосведомленности — и это, разумеется, благодаря вашей собственной осведомленности и умудренности! И не только мне, но, кажется, вы поверили бы и Сократу, когда он перед всеми защищался тем же доводом: я, мол, ничего не знаю; но зато Гиппия, Пола572 и Горгия, каждый из которых больше всех восхищался й дивился себе сам, вы сочли бы мудрыми и блаженными. (15) Тем не менее вы собрались такою толпой из готовности слушать человека, который — предупреждаю вас! — собой не хорош, не силен, преклонных лет, не имеет учеников и не притязает даже на владение искусствами и науками, ни в великом, ни в малом: ни наукой прорицателя, ни искусством софиста, или хотя бы ритора, или льстеца, или хитроумного сочинителя, — и который не имеет ничего, достойного похвалы и преклонения, но всего лишь носит длинные волосы.
«Но что находите вы для себя и приятным и лучшим», (16) то мне и надо исполнить и постараться сделать все возможное. И все же вам не услышать речей, подобных речам иного нынешнего искусника, нет! все куда хуже и проще, в чем вы, собственно, сейчас и убеждаетесь. В общем, вы должны позволить мне следовать за любой пришедшей мне в голову мыслью и не досадовать, когда окажется, что я заблудился в собственных словах — так же как не печалит вас все остальное время, проведенное мною в скитаниях, — напротив, вам пристало иметь ко мне снисхожденье как к чудаку и болтуну.
А ведь и теперь случилось так, что я только что проделал долгий путь от Истра через земли гетов и мисийцев, как их называет Гомер,573 пользуясь нынешним прозванием племени. (17) Явился я к ним не как купец с товаром и не как иной войсковой поставщик с обозом или скотом, не прибыл я с посольством к военным союзникам, ни для торжественных поздравлений в окруженье свиты, беззвучно вторящей моим молитвам. Нет, я
без щита, без шелома и даже без дротика вышел,574(18) и вместе с тем и без всякого иного оружия. Так что меня изумляло, как это они выносили такое зрелище. Я ведь не опытный всадник, не меткий стрелок, не рубака в панцире и даже не кто-нибудь из легковооруженных без доспехов, не метатель дротиков или пращи, я не способен ни свалить лес, ни вырыть ров, ни накосить травы с вражеского луга под самым носом у неприятеля, не способен даже раскинуть шатер или возвести частокол, что умеют даже обозные, идущие за войском в качестве прислуги, — (19) так вот, во всем этом беспомощный, я оказался среди народа отнюдь не праздного и не имеющего досуга, чтобы слушать речи, совсем напротив! Люди они рослые и горячие, словно скакуны перед канатом,575 которые от нетерпенья в раже и пыле роют копытом землю. Там, хочешь не хочешь, повсюду видишь то мечи, то панцири, то копья и все кругом заполнено пиками, оружием, людьми в доспехах. (20) И вот я очутился один среди этих полчищ, беспечен и неловок, как не в меру мирный зритель военных действий: и телом слаб, и годами стар, и притом не поневоле являющийся в лагерь со златым жезлом и священным венком божества вызволять свою дочь, а желая сам увидеть воинов — одних, спорящих за власть и могущество, и других,576 сражающихся за свободу и отечество. На вскоре, не убегая от опасности — да не подумает так никто! — а вспомнив о старом обете, я повернул сюда, к вам, полагая божественное выше и важнее человеческих дел, сколь бы значительны они ни были.577
(21) Что же для вас приятней и уместней, чтобы я рассказал о тех краях? О великой реке?578 О природе страны? или о том, какой там воздух, и какие живут люди, и, наверное, сколько там народов, и каково их вооружение? Или лучше взяться за историю подревнее и подлиннее о вот этом боге, перед которым мы сейчас находился? (22) Ведь это он и для людей и для богов царь, владыка, господин и отец, а сверх того кравчий войны и мира, что признавали искушенные и мудрые поэты древности — если, конечно, нам удастся воспеть его естество и его могущество в речи краткой, но уже за то достойной вниманья, что она посвящена столь важному предмету.
(23) Последовать ли мне в своем зачине за Гесиодом, мужем добродетельным и Музам любезным, и благоразумно, как он, не самому от собственного лица дерзнуть на задуманное, а призвать Муз, дабы сами они поведали о своем отце? Ведь что ни говори, такая песня более подобает богиням, нежели перечисление вождей,579 шедших против Илиона, их самих и спутников их на кораблях — скамья за скамьею, и притом один другого безвестнее. Есть ли поэт мудрее и выше того, кто призвал помочь своему творению вот так:
(24) Вас, пиерийские Музы, дающие песнями славу, Я призываю, — воспойте родителя вашего Зевса! Слава ль кого посетит, неизвестность ли, честь иль бесчестье — Все происходит по воле великого Зевса-владыки. Силу бессильному дать и в ничтожество сильного ввергнуть, Счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг возвеличить, Выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить Очень легко громовержцу Крониду, живущему в вышних.580(25) Взвесивши это, скажите теперь вы, дети Элиды,581 прилична ли такая речь и песнь для нашего собранья, ибо это вы хозяева и распорядители нынешнего торжества, вы — старшины и стражи всего, что здесь творится и говорится! Или, может быть, придя сюда, следует быть лишь зрителем, правда, не только всевозможных и, разумеется, прекраснейших и самых прославленных зрелищ, но и того, главным образом, как почитают здесь бога? и быть созерцателем поистине блаженного изваяния, которое предки ваши, не скупясь на затраты и достигши вершин искусства, создали и посвятили в храм? Образ этот прекрасней всех на свете и богам самый любезный: Фидий, как говорят, позаимствовал его из Гомерова творенья, из того места, где от малого мановения бровей божества всколебался великий Олимп; (26) вот как описал это в стихах сам Гомер, удивительно живо и наглядно:
Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями: Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный.582А может быть, именно это нам и надо обсудить поподробней: стихи о Зевсе и посвящения ему, и главное, нет ли здесь чего-то такого, что лепит и чеканит человеческое представление о божестве, будто нынче мы тут на беседе у философа?583
(27) Представление о естестве богов вообще и особенно о естестве предводителя Вселенной584 изначально и одно из главных, и понятие о нем дано всему человеческому роду, равно эллинам и варварам, — иными словами, будучи с необходимостью прирождено всякому разумному существу, возникнув естественно, без подсказки смертного учителя и без дурмана мистагога,585 оно охватило и сродство бога с людьми, и те многочисленные свидетельства истины, которые не позволили самым первым и самым древним людям упустить их и оставить без внимания. (28) Дело в том, что эти люди не были расселены сами по себе вдалеке от бога или вне его, — напротив, живя в самой его сердцевине,586 пожалуй, даже сросшись с ним, и так и сяк лепясь к нему, они не могли долго оставаться беспонятными, и прежде всего потому, что восприняли от него пониманье и разум; и наконец, со всех сторон их освещали божественные и громадные светочи неба и звезд, да еще солнца и луны, и всевозможные виды являлись им днем и ночью, и без помехи они созерцали великолепные зрелища и слушали многообразные голоса: ветров и леса, реки моря, ручных и диких зверей; а сами они, издавая нежные чистые звуки и восхищаясь гордым и осмысленным звучаньем человечьего голоса, приискали такие знаки ко всему, что затрагивало их чувства, чтобы все помысленное можно было назвать и обозначить без труда, получая тем самым и память и понятие о множестве предметов. (29) Как же могли они остаться в неведении и не иметь понятия о том, кто посеял их и взрастил, кто охраняет их и питает, если отовсюду в них вливалась божественная природа: через зрение и слух и вообще через все ощущенья? Обретаясь на земле и видя свет, идущий с неба, в изобилье имели они пропитанье, ибо божество, их прародитель, заготовив всего впрок, даровал людям достаток. (30) У первых землеродных людей первая пища была земляною, — ведь в ту пору грязь была еще нежной и жирной, и люди слизывали ее с земли, бывшей им матерью, подобно тому как ныне растения тянут из нее влагу; а вторая пища,587 у людей, пошедших уже дальше, состояла из диких плодов и нежной травы со сладкой росою и
свежими соками нимф;588Ораторы Греции и, наконец, окруженные воздухом и вдыхая влажный туман, они питались его током, проникающим внутрь, подобно младенцам, сосущим млеко, и не иссякало оно никогда, ибо кормящая грудь всегда рядом. (31) Пожалуй, правильней назвать это первой пищей равно и для первых людей, и для тех, что пришли за ними. В самом деле, едва выйдет из чрева младенец, еще несмышленый и беспомощный, его принимает земля, подлинная его родительница, а воздух, войдя в него и заставив встрепенуться, тотчас освежает его питьем нежней млека и нудит издать звонкий крик. Разумно, наверное, именовать этот вздох первым глотком молока, который природа дает новорожденному.
(32) И вот, чувствуя все это и все замечая, не могли люди не восхищаться божеством и не любить его; а еще они видели, что ради нашего благополучия весна в свой срок сменяет зиму и осень — лето, не допуская никакой чрезмерности; и, наконец, видели они, что от богов им дано превосходство над прочими тварями — способность рассуждать и размышлять о богах. (33) Вот какое сравнение здесь уместно: если бы кто-то, чтобы посвятить в таинство эллина ли, или варвара, ввел его в некое тайное святилище сверхъестественной красоты и величия, ил тот увидел бы множество тайных видений и услышал бы множество таинственных голосов, и тьма вокруг чередовалась бы с сиянием света, и тысячи других впечатлений сменяли друг друга, а потом, как обычно при «возведенье на трон», совершатели таинств усаживали бы посвященных в центре и вели вокруг них хоровод,589 то возможно ли, чтобы душа посвящаемого осталась безразлична к этому и в ней не родилась бы догадка о том, что все происходящее кем-то мудро задумано и устроено — пусть даже он из самых далеких, неведомых варваров и пусть у него нет ни проводника, ни толковника, а только его душа человеческая? (34) Может быть, это немыслимо, чтобы человеческий род весь сообща принимал посвящение в самый полный чин воистину совершенного таинства, причем не в тесном здании,590 выстроенном афинянами для кучки людей, но вот в этом мирозданье — многоцветной и хитроумной храмине, где несчетные чудеса сменяют одно другое и где не люди, подобные самим посвященным, но бессмертные боги днем и ночью, при свете солнца и в сиянии звезд, посвящают смертных в таинства, точь-в-точь ведут вокруг них свой вечный хоровод, — может быть, невероятно, чтобы ничто из этого не затронуло ни чувства, ни мысли591 человека? И это несмотря на то, что корифей хоровода592 печется о Вселенной и направляет все огромное небо и все мирозданье, словно мудрый кормчий, правящий кораблем, прекрасно оснащенным и ни в чем не имеющим недостатка! (35) Впрочем, нечего удивляться, что так происходит с людьми; куда удивительней, что даже неразумным и бессловесным тварям все это оказывается настолько внятно, что они все сие сознают, и чтут бога, и жаждут жить по его закону; и еще непостижимей, что растения, у которых ни о чем нет никакого понятия, ни души, ни голоса, растения, в которых действует какое-то простое естество, — даже они добровольно и с радостью приносят те плоды, какие им должно приносить: такова мощь и явь мысли и могущества вот этого бога. (36) Но не смешной ли старческий вздор — уверять в нашей речи, будто звери и деревья ближе к пониманию бога, нежели мы, люди, к неведению и невежеству? Есть же люди премудрее всей мудрости,593 которые сами говорят, что заткнули себе уши воском, как итакийские мореплаватели,594 чтобы не услышать пения Сирен; но, по-моему, и уши они заткнули даже не воском, а чем-то вроде свинца, мягким, но непроницаемым для человеческого голоса, и глаза потом закрыли непроглядным мраком и темным облаком — точь-в-точь таким, какое у Гомера не дает распознать застигнутого врасплох бога, — и с тех пор они презирают все божественное, а единственным для себя кумиром, гнусным и нелепым, воздвигли что-то вроде избалованности: здесь и распущенность, и леность, и необузданная наглость, которую они называют Усладою — вот уж подлинно женское божество! — ей они и поклоняются с особым рвением, и почитают ее, погромыхивая какими-то кимвалами и играя на флейте595 под покровом ночи; и были бы еще простительны такие развлеченья, (37) когда бы их изыски распространялись только на пение и они не лишали бы нас богов, отправляя их в изгнание вон из родных городов, вон из державы, вон из всего мирозданья, в какие-то немыслимые страны, словно тех несчастных, которых сослали на необитаемые острова;596 и когда бы не твердили они при этом, будто вся Вселенная, в которой нет ни смысла, ни разума, ни хозяина, ни правителя, ни кравчего, ни стража, — вся она бесцельно блуждает и вертится, и ни теперь о ней никто не печется, ни прежде никто не создал, никто не сделал даже того, что делают дети, когда рукою дают обручам толчок и потом пускают их свободно катиться.
(38) Моя речь сама собою уклонилась здесь в сторону, свернув с дороги: нелегко бывает сдержать и направить ум и речь философа, к чему бы они ни обратились, так как все, что приходит на ум, всегда кажется полезным и необходимым для слушателей, а речь философа приготовлена, по словам одного человека, «не для воды и судебной надобы»,597 а гораздо свободней и безоглядней. А впрочем, нам не трудно вернуться обратно, точно так же, как в плаванье, если немного сбились с пути, это не составит труда для опытных кормчих.
(39) Итак, изначальным своего рода источником представлений и догадок, касающихся божества, мы назвали врожденное всем людям понятие, возникшее из самих вещей и из самой истины; оно построено не на обмане и не на случайности, напротив, оно могуче, оно живет вечно во все времена и у всех народов и, единожды возникнув, уже не исчезает, словно это общее достояние рода разумных существ. А вторым источником мы называем понятие благоприобретенное и внушаемое человеческим душам через рассказы, предания и обычаи, одни из которых неизвестно кто создал и никто не записывал, другие записаны и принадлежат весьма знаменитым людям. (40) Часть этих благоприобретенных представлений можно, пожалуй, назвать добровольными и рожденными внушением, а другие — принудительными и рожденными предписанием. Представления о боге, заключенные в творениях поэтов, я отношу к добровольным и внушаемым, а те, какими мы обязаны законодателям, — к принудительным и предписываемым. Однако ни тому, ни другому не упрочиться, если бы за ним не стояло то изначальное понятие: именно благодаря ему у людей при их желании и известной прозорливости возникали предписания и внушения, причем одни поэты и законодатели изъясняли вещи верно и в согласии с истиной и изначальным ее сознаванием, а другие — кое в чем заблуждались.
(41) Что древнее, поэзия или законодательство, по крайней мере у нас, эллинов, — боюсь, в сегодняшней моей речи я не смогу обосновать подробно. Но не правдоподобно ли, что избегание кар и убеждение — древнее, чем прибегание к карам и предписания? (42) И кажется, до сего дня отношение людей к изначальному и бессмертному родителю, которого мы, наследники Эллады, зовем «отчим Зевесом»,598 и отношение к смертным человечьим родителям развиваются рука об руку. Действительно, добрые чувства и почтительность к родителям и без обучения даются людям от природы и ради благодеяний, оказанных родителями; в самом деле, дитя в меру своих сил с самого рожденья (43) платит ответной любовью и лаской тому, кто его породил, кто питает его и любит, а вторая и третья ступень признательности и почтительности завещаны нам поэтами и законодателями: первые внушают не лишать нашей любви старшего, единокровного и виновника к тому же самого нашего существования, а последние действуют принуждением и угрозой наказанья для непослушных, не проясняя и не показывая при этом, что такое родитель и что за благодеяния они приказывают не оставить неоплаченными. Я, конечно, знаю, что для большинства обстоятельность обременительна в любом деле, а для тех, кому важно только множество слушателей, она столь же несносна и в речах, так что они приступают к подробному разбору самого очевидного и самого доступного без всяких предисловий, без определений своего предмета да и вообще начиная речь без всякого начала, прямо с места, подошв, так сказать, не отерши. Но если от грязных ног, идущих по глине и кучам мусора, вред невелик, то от невежественного языка немалый урон бывает слушателям. И все-таки я надеюсь, что образованные люди, о которых тоже следует помнить, потрудятся вместе с нами и пойдут за нами, покуда мы не выедем, словно из-за поворота, на ристалище и с обочины на прямой путь нашей речи.
(44) Стало быть, мы пока установили, что представления людей о божестве проистекают из трех источников: они врождены, восприняты от поэтов, закреплены законами. А четвёртым источником мы назовем ваяние и художественное ремесло, поскольку оно создает статуи и картины, изображающие богов: то есть я говорю о живописцах, ваятелях, резчиках по камню и дереву — одним словом, обо всех тех, кто счел себя достойным с помощью своего искусства изображать природу божества, — либо набросками, обманывающими зрение,599 либо смешиванием красок и нанесением очертаний, что, пожалуй, дает наиболее точный образ, либо ваянием из камня и вытачиванием из дерева, причем ваятель мало-помалу удаляет все лишнее, пока не останется тот образ, который явился ему; а иные расплавляют в огне медь и другие ценные металлы и потом чеканят их, или заливают в формы, либо лепят из воска, наиболее легко поддающегося обработке и допускающего позднейшие исправления.
(45) Такими художниками были и Фидий, и Алкамен,600 и Поликлет, а также Аглаофонт, Полигнот и Зевксис, а раньше всех их — Дедал.601 Этим людям было недостаточно показать свое искусство и свой ум путем изображения всяких обычных предметов, — нет, они показывали нам богов в многоразличных образах и положениях, причем их «хорегами», так сказать, были городские общины, дававшие им поручения как от имени частных граждан, так и от имени народа; а они вложили в людские умы много самых разных домыслов о божестве, не расходясь при этом слишком резко с поэтами и законодателями, — во-первых, чтобы не показаться нарушителями законов и не подвергнуться грозившей за это каре, а во-вторых, потому, что они и сами видели, что поэты опередили их и что образы, созданные поэтами, более древние, чем те, которые создают они. (46) Им вовсе не хотелось, чтобы народ счел их не заслуживающими доверия и осудил за введение каких-то новшеств; поэтому по большей части они следовали преданиям и создавали свои произведения в согласии с ними, но вносили и кое-что от себя, становясь при этом в известной степени и сотрудниками и соперниками поэтов: ведь поэты передавали созданные ими образы через слух, а художники более простым способом — через зрение — раскрывали божественную природу своим многочисленным и менее искушенным зрителям. Но все эти впечатления черпали свою силу из некоего первоисточника — стремления почтить и умилостивить божество.
(47) Далее, помимо этого простейшего и древнейшего сознавания богов, врожденного всем людям и возрастающего вместе с разумом, мы должны присоединить к трем указанным разрядам истолкователей и учителей — к поэтам, законодателям и художникам — еще и четвертый: его представители отнюдь не легкомысленны и не считают себя невеждами в делах божественных: я говорю о философах, исследующих природу бессмертных и рассуждающих о ней, может быть, наиболее правдиво и совершенно.
(48) Законодателя мы сейчас к ответу привлекать не станем; он ведь сам человек суровый и привык привлекать к ответу других людей; давайте же и его пощадим, и наше время сбережем. А вот из прочих разрядов мы выберем самых лучших и поглядим, содействовали они и словом и делом благочестию или причинили ему вред, сходятся ли они в своих мнениях между собою или расходятся и кто из них ближе вcex подошел к истине, оставаясь в согласии с тем первоначальным и бесхитростным знанием о божестве. И вот что мы видим: все они единодушно и единогласно как бы идут по одному следу и твердо придерживаются его; одни видят его ясно, другие — в тумане; а вот тому, кто поистине философ, как бы не пришлось искать подмоги, если его станут сравнивать с творцами статуй и стихов, особенно здесь, в праздничной толпе, которая является их благосклонным судьей.
(49) Предположим, например, что кто-нибудь первым призвал бы на суд перед всеми эллинами Фидия, этого мудрого боговдохновенного творца столь прекрасного и величавого творения, и назначил бы судьями людей, радеющих о славе божества; нет, пусть лучше соберется суд из всех пелопоннесцев, беотийцев, ионян и прочих эллинов, расселившихся повсюду по Европе и Азии, и пусть этот суд потребует от него отчета не в деньгах, не в расходах на создание статуи, не в том, во сколько талантов обошлось золото, слоновая кость, кипарисовое и лимонное дерево — наиболее прочный, не поддающийся порче материал для внутренней отделки, не в том, сколько было истрачено на прокормление и оплату как простых рабочих (а их было немало, и работали они долго), так и более искусных мастеров, и, наконец, не в том, сколько получил сам Фидий, которому платили наивысшую плату сообразно с его мастерством; обо всем этом могли бы требовать от него ответа разве что жители Элиды, так бескорыстно и великодушно принявшие на себя все эти расходы.
(50) Мы же вообразим себе, что Фидий предстал перед судом по совсем иному делу, и вот кто-нибудь обращается к нему, говоря: «О ты, лучший и искуснейший из всех мастеров! Какой дивный и милый сердцу образ, какую безмерную усладу для очей всех эллинов и варваров, постоянно во множестве приходящих сюда, создал ты — этого никто опровергать не станет! (51) Поистине этот образ мог бы поразить даже неразумных животных, если бы они могли только взглянуть на него: быки, которых приводят к этому жертвеннику, охотно подчинялись бы жрецам, желая угодить божеству, а орлы, кони и львы угасили бы дикие порывы гнева и замерли в спокойствии, восхищенные этим зрелищем. А из людей даже тот, чья душа подавлена горем, кто претерпел в своей жизни много несчастий и страданий, кому даже сладкий сон не приносит утешения, даже и тот, думается мне, стоя перед этой статуей, забудет все ужасы и тяготы, выпадающие на долю человеческую. (52) Вот какой образ открыл ты и создал; поистине он —
Гореусладный, миротворящий, сердцу забвенье Бедствий дающий…602Таким сиянием, таким очарованием облекло его твое искусство.
Даже сам Гефест603 не нашел бы, наверное, никаких недостатков в твоем творении, если бы увидел, сколько радости и наслаждения оно доставляет человеческому взору. Однако создал ли ты изображение, подобающее природе божества, и достойный ее облик, взявши радующие глаз материалы и показав нам воочию образ человека сверхъестественной красоты и величия, но все же только человека, и правильно ли ты изобразил все то, чем его окружил, — вот это мы теперь и рассмотрим. И если ты перед всеми здесь присутствующими сумеешь доказать и убедить их, что ты нашел изображение и облик, соответствующие и подобающие первому и наивысшему божеству, то ты можешь получить еще более высокую и щедрую награду, нежели уже получил от элейцев.
(53) Ты видишь, — это иск не шуточный и дело для нас рискованное. Ведь прежде мы, ничего ясно не зная, создавали себе самые различные образы и каждый в меру своих сил и дарований воображал себе то или иное божество по чьему-нибудь подобию, как бывает в сновидении; и если даже мы порой слагали воедино мелкие и незначительные образы, созданные прежними художниками, то не слишком верили им и не закрепляли их в уме. Ты же силой своего искусства победил всех и объединил сперва всю Элладу, а потом и другие народы вокруг своего видения, — столь божественным и блистательным представил ты его, что всякому, кто его раз увидел, уже нелегко будет вообразить его себе по-иному.
(54) Однако уж не думаешь ли ты, что Ифит604 и Ликург, да и древние элидяне, учредивши подобающие Зевсу игры и жертвоприношения, лишь из-за нехватки денег не сумели найти ни одной статуи, соответствующей его имени и величию? Или, может быть, они воздержались от этого, боясь, что с помощью смертного искусства они никогда не смогут создать подобающий образ наивысшего совершеннейшего существа?»
(55) На это Фидий, человек речистый и уроженец речистого города,605 да к тому же близкий друг Перикла, ответил бы, вероятно, вот что:
«Мужи эллины! Это — величайший по значению суд из всех, когда-либо бывших. Ведь не о власти, не об управлении каким-либо одним городом, не о числе кораблей и пехотных воинов, не о правильном или неправильном ведении дел должен я теперь держать ответ, нет — о всемогущем божестве и об этом его изображении: создано ли оно пристойным и подобающим образом, достигло ли оно той степени человеческого искусства в изображении божества, какая человеку вообще доступна, или же оно недостойно его и ему не подобно.
(56) Вспомните, однако: я у вас не первый истолкователь и наставник истины. Ведь я родился не в те давние времена, когда Эллада только начиналась и не имела еще ясных и сложившихся учений обо всем этом, а когда она уже стала старше и укрепилась в своих убеждениях и воззрениях на божество. О тех древнейших произведениях ваятелей, резчиков и живописцев, которые всем сходны с моими, кроме разве что изящества исполнения, я говорить не стану. (57) Но ваши представления я застал уже сложившимися издавна и непоколебимыми, и приходить с ними в столкновение было невозможно; застал я и мастеров, изображавших божественные предметы, живших до нас и считавших себя более мудрыми, чем мы, — это были поэты: они имеют возможность с помощью поэзии внушить людям любое понятие, тогда как наши художественные творения могут воздействовать только внешним своим образом.
(58) Божественные явления — я говорю о солнце, луне, небесном своде и звездах — сами по себе, конечно, изумительны, но воспроизвести их внешний вид — дело несложное и не требует большого мастерства, например, если кто захочет начертить вид луны в ее изменениях или диск солнца; в действительности все эти явления полны чувством и мыслью, но в их изображениях ничего этого воочию не видно; может быть, именно поэтому они в древности и не пользовались у эллинов особым почитанием. (59) В самом деле: смысл и разумение сами по себе недоступны для воображения ни ваятелю, ни живописцу, и никто не может ни узреть их, ни изучить; но в чем возникает смысл и разумение, мы уже знаем не по догадке, а с достоверностью: это — человеческое тело, и к нему мы прибегаем, уподобляя его как хранилище разумения и смысла божеству и стремясь за неимением образца наглядно показать неизобразимое и незримое через зримое и поддающееся изображению, воздействуя на ум с помощью символов; при этом мы поступаем лучше, чем некоторые варвары, которые, говорят, из низменных и нелепых побуждений изображают божество в животном виде. Но тот человек, который превзошел всех своим пониманием красоты, торжественности и величия, — он-то и был величайшим мастером, создававшим образы божества.606
(60) Было бы ничуть не лучше, если бы людям не показали воочию статуи или изображения богов и если бы — как, быть может, кто-нибудь полагает — нам следовало обращать взор только к небесным явлениям. Конечно, всякий разумный человек почитает их и верит,607 что они суть блаженные боги, зримые издалека; однако из-за первоначального знания божества всеми людьми овладевает мощное стремление чтить божество и поклоняться ему как чему-то близкому, приближаться и прикасаться к нему с верою, приносить ему жертвы, украшать его венками. (61) Подобно тому как маленькие дети, разлученные с отцом или матерью, тяжко тоскуя и стремясь к ним, часто в своих сновидениях к ним, отсутствующим, протягивают руки, — так и люди обращаются к богам, любя их за их благодеяния, и стремятся любым способом подойти к ним ближе и вступить с ними в общение. Поэтому-то многие варварские племена, бедные и не владеющие искусствами, считают богами горы, стволы деревьев и нетесаные камни — предметы, ни в чем и ничем не соответствующие образу божества.
(62) Если же, по-вашему, вина моя в том, что я придал божеству человеческий образ, то прежде вы должны винить в этом Гомера и гневаться на него; ведь он не только изобразил божий облик чрезвычайно похожим на это мое произведение, описав его кудри и даже его подбородок в самом начале своей поэмы, где Фетида просит Зевса608 почтить ее сына; а потом он даже говорит о собраниях, о совещаниях, о спорах богов, о пути их с Иды на небо и на Олимп, об их усыплении, пирах и любовных свиданиях, правда, украшая это пышными словами, но придавая всему черты близкого сходства с жизнью смертных людей. Он даже осмеливается в самых главных чертах уподоблять Агамемнона божеству, сказавши:
Зевсу, метателю грома, главой и очами подобен.609(63) Что же до моего творения, то даже безумец, видя красоту и величие, свойственное божеству, не скажет, что оно подобно хоть какому-то смертному. Поэтому, если вы не признаете меня художником более искусным и более умудренным, чем Гомер, — а ведь вы считаете его «богоравным» по мудрости, — то я согласен понести любую кару, какую вы пожелаете. Однако теперь я хочу сказать, на что способно это мое искусство.
(64) Дело в том, что поэзия безмерно изобильна, во всех отношениях богата и повинуется своим собственным законам; владея средствами языка и изобилием слов, она может собственными словами раскрывать все стремления души, и что бы ни пришлось ей изображать — образ, поступок, чувство, размер, она никогда не окажется беспомощной, ибо голос «вестника»610 может совершенно ясно возвестить обо всем этом.
Гибок язык человека; речей для него изобильно Всяких; поле для слов и сюда и туда беспредельно.611(65) Поистине, род человеческий готов лишиться чего угодно, но не голоса и речи; в этом одном уже неизмеримое его богатство. В самом деле, из всего, что доступно восприятию, человек не оставил ничего невыраженным и необозначенным, но на все постигнутое он накладывает сейчас же ясную печать имени; часто он имеет даже много названий для одного и того же предмета, и когда кто-либо произнесет хотя бы одно из них, у него возникает представление, которое лишь немного бледнее действительности. Величайшей мощью и силой обладает человек в изображении всех явлений с помощью слова.612 (66) Поэтому искусство поэтов совершенно самобытно и несокрушимо — таково творчество Гомера, который настолько свободно пользовался речью, что не избрал какой-либо единственный способ выражения, а смешал воедино все греческие наречия,613 до того времени разрозненные, — дорийское, и ионийское, и даже аттическое — и сочетал их воедино много лучше, нежели красильщик тканей — свои краски. И он сделал это не только с современными ему наречиями, но и с языками прежних поколений: если от них сохранилось какое-либо выражение, он извлекал его на поверхность, как некую древнюю монету из клада, позабытого владельцем, — и все это из любви к словам! (67) Он пользовался даже многими словами варварских языков, не избегая ни одного, если оно казалось ему сладким или метким. Он применял метафоры не только из смежных или близких друг к другу областей, но и из весьма удаленных одна от другой, чтобы пленить слушателя и, очаровав, потрясти его неожиданностью; при этом и слова он располагал не обычным образом,614 одни растягивал, другие сокращал, третьи еще как-нибудь изменял. (68) Наконец, он показал себя не только творцом стихов, но и творцом слов,615 ибо для всего находил свои слова: то давал новые имена предметам, то переиначивал известные, как бы накладывая чекан на чекан, ради пущей выразительности и ясности; он не упускал ни одного звучания, но, подражая, воспроизводил голоса потоков, лесов и ветров, пламени и пучины, звон меди и грохот камней и все звуки, порождаемые живыми существами и их орудиями, — рев зверей, щебет птиц, песни флейты и свирели; он первый нашел слова616 для изображения грохота, жужжанья, стука, треска, удара, он назвал реки «многошумными», стрелы «звенящими», волны «стонущими» и ветры «буйствующими» и создал еще много подобных устрашающих, своеобразных и изумительных слов, повергающих ум в волнение и смятение. (69) У него не было недостатка ни в каких словах, ни в ужасающих, ни в услаждающих, ни в ласковых, ни в суровых, ни в тех, которые являют в себе тысячи различий и по звучанию и по смыслу; с помощью этого словотворчества он умел производить на души именно то впечатление, которое хотел.
Напротив, наше искусство, накрепко связанное с работой руки и требующее владения ремеслом, ни в какой мере не пользуется такой свободой: прежде всего нам необходим материал, прочный и устойчивый, однако не слишком трудно поддающийся обработке, а такой материал нелегко добыть; к тому же нам нужно иметь немало помощников. (70) Кроме того, ваятель непременно должен создать себе для каждой статуи один определенный облик, сохраняющийся неизменным и притом схватывающий и воплощающий всю сущность и всю мощь божества. Напротив, поэты могут без труда описать в своих творениях многие его виды и разные его проявления, изображая божество то в движении, то в покое, где как покажется уместнее, и приписывая ему деяния и речи; да и труда и времени им, я думаю, приходится затрачивать меньше: ведь поэт, движимый единой мыслью и единым порывом души, успевает создать великое множество стихов, подобно тому, как струя воды стремительно вырывается из родника — раньше, чем воображаемый и мыслимый им образ покинет его и исчезнет; а занятие нашим искусством затруднительно и медлительно, и работа наша подвигается едва-едва и шаг за шагом, как видно потому, что ей надо одолевать неуступчивый и упорный материал. (71) Но трудней всего вот что: ваятель должен сохранять в своей душе все время один и тот же образ, пока он не закончит свое произведение, нередко — в течение многих лет. Известное изречение гласит, правда, что «глаза надежней, чем уши»;617 пожалуй, это и верно, но они более недоверчивы, и, чтобы их убедить, надо приложить гораздо больше усилий, ибо глаз воспринимает с полной точностью то, что он видит, а слух легко взволновать и обмануть, очаровав его образами, украшенными стихотворным размером и звучанием.
(72) Наше искусство должно считаться с условиями веса и объема, а поэты могут увеличивать и то и другое по своему усмотрению. Поэтому Гомеру не стоило никакого труда описать Эриду, сказав, что она
В небо уходит главой, а стопами касается дола.А мне волей-неволей пришлось заполнять только то пространство, которое представили мне элидяне и афиняне.
(73) Ты, Гомер, мудрейший из поэтов, превзошедший всех прочих мощью своего поэтического дарования, конечно, согласишься с тем, что ты первым, раньше всех других поэтов, показал эллинам воочию много прекрасных образов всех богов, а особенно величайшего среди них; одни из них кротки, другие страшны и грозны. (74) А образ, созданный мной, дышит миром и всесветлым спокойствием, он — хранитель Эллады, единодушной и не терзаемой междоусобиями. С помощью моего искусства и по совету мудрого и доблестного града элидян я воздвиг его образ, милосердный, величественный и беспечальный, образ подателя дыхания, жизни и всех благ, отца, спасителя и хранителя всех людей, насколько возможно смертному вообразить и воспроизвести божественную и непостижимую сущность.
(75) Взгляните теперь и судите, соответствует ли этот образ всем тем именам, которыми принято называть божество. Ведь один только Зевс из всех богов носит имена «Отца» и «Царя», «Градохранителя», «Покровителя дружбы и сотоварищества», а кроме того, «Заступника умоляющих», «Гостеприимца» и «Подателя изобилий»; множество у него и других имен, и все они говорят о его доброте.618 (76) «Царем» его называют за власть и силу, «Отцом», я полагаю, — за его заботу и милость, «Градохранителем» — за попечение о законах и общем благе, «Единородцем» — в знак родства богов и людей, «Покровителем дружбы и сотоварищества» — потому, что он сводит людей друг с другом и хочет, чтобы они были друзьями, а не врагами и противниками; «Заступником умоляющих» — потому, что он милостив к мольбам взывающих; «Прибежищным» — потому, что он — прибежище в бедствиях; «Гостеприимцем» — чтобы мы заботились о пришельцах и никого из людей не считали себе чужим; «Подателем изобилия» — так как по его воле зреют плоды и растет достаток и сила. (77) И разве — насколько было возможно показать все это без помощи слова, — разве наше искусство не изобразило Зевса подобающим образом? Его власть и царственная сила воплощены в огромных и мощных размерах его статуи; его отеческая забота — в его спокойном и приветливом облике; мысли «Градохранителя» и «Законодателя» отражены в его глубоком и вдумчивом взоре; символом родственной близости между богами и людьми является то, что он имеет облик человека; а что он «Покровитель дружбы», «Заступник умоляющих», «Гостеприимец» и «Прибежищник», да и все прочие его свойства можно понять по его ласковому, спокойному и доброжелательному выражению лица; а о том, что он «Податель изобилия», свидетельствует его величественная простота, разлитая во всем его образе; видя его, всякий поймет, что он — щедрый и милостивый податель всего доброго.
(78) Вот все это я и изобразил, насколько было возможно это сделать, не называя всех его свойств словами. А вот бога, мечущего молнии, посылающего на многопогибельную войну ливни, град и снежные бури, возводящего на небо яркую радугу — знамение войны, бросающего вниз искрометную звезду — зловещую примету для мореходов и воинов; бога, возбуждающего грозную распрю между эллинами и варварами и вдыхающего в измученных и отчаявшихся воинов неугасимую страсть к битвам и сражениям; бога, взвешивающего судьбы людей, полубогов и целых войск и принимающего решение по самовольному отклонению весов, — этого бога было невозможно изобразить средствами моего искусства; да, пожалуй, я бы не захотел сделать это, даже если бы мог.619
(79) Разве было бы возможно создать из металлов, имеющихся здесь в земле, беззвучное изображение грома или подобие зарницы и молнии, лишенное блеска? На что оно было бы похоже? Как содрогнулась земля и всколебался Олимп при легком мановении бровей Зевса, как темная туча увенчала его главу, Гомеру было нетрудно описать, и ему была предоставлена в этом полная свобода, а наше искусство в таком случае совершенно бессильно: оно требует точной проверки с помощью зрения. (80) Однако если кто-нибудь скажет, что используемый нами материал недостоин величия божества, то это мнение верное и правильное; но ни те, кто доставил материал, ни художник, выбравший и одобривший его, не заслуживают порицания, ибо нет более красивого и блистательного материала, доступного человеку и поддающегося резцу ваятеля. (81) Разве возможно обработать воздух, огонь и неистощимые водные источники с помощью орудий, доступных смертному? Им поддается только то, что лежит в основе этих стихий. Если же говорить не о золоте и камне — веществах общеизвестных и не имеющих особой ценности, — а об основной, могучей и плотной сущности мира, то даже не всякий бог может разлагать ее на составные части и, по-разному сочетая их друг с другом, создавать различные виды живых существ и растений; это доступно только одному божеству,620 к которому в таких прекрасных словах обращается один «из поэтов поэт»:
Владыка Додоны, всемогущий отец, великий художник.(82) Поистине именно он один — первый и совершеннейший художник, и не элидская городская община приходит ему на помощь в его деле, а в его распоряжении находится все вещество, которое содержит в себе Вселенная. От Фидия же и Поликнета нельзя требовать больше того, что они сделали; даже и совершенное ими величественней и великолепнее всего прочего, что было создано нашим искусством.
(83) Ведь Гомер даже Гефеста изобразил показывающим свое мастерство именно на таких материалах; описывая, как бог трудился над созданием щита, Гомер не сумел найти никакого нового вещества, а сказал вот что:
Сам он в огонь разгоревшийся медь некрушимую ввергнул, Олово бросил, сребро, драгоценное злато…Из людей я не уступлю никому своего места и не соглашусь, что когда-либо был мастер более искусный, чем я; но с Зевсом, построившим все мироздание, никого из смертных сравнивать нельзя».
(84) Если бы Фидий в свою защиту произнес такую речь, то, я думаю, эллины с полным правом присудили бы ему венок. Все уже позабыли, должно быть, о чем я тут толковал, хотя — я уверен — и философам и толпе было что послушать: о сооруженье изваяний — как должно их сооружать, и о поэтах — лучше их пониманье божественного или хуже, а еще об изначальном понятии божества — каким оно было и как зародилось в людях. Немало, мне кажется, сказано и о могуществе Зевса, и о его именованиях. А коль скоро ко всему этому прибавилось восхваление изваянья и тех, кто его соорудил, так и того лучше!
(85) И в самом деле, бог будто взирает на нас с такою приязнью и заботой, что мне даже кажется, он вот-вот молвит: «Все это вы, элидяне, со всею Элладой справляете столь прекрасно и как подобает, затем, что жертвы приносите от добра своего великолепные, и к тому же устрояете идущие из древности и над всеми славнейшие состязанья в крепости, в силе и в быстроте, а еще потому, что сохраняете переданное вам обычаи празднеств и таинств, но, заботясь об этом, я замечаю,
Старец, что сам о себе ты заботишься плохо; угрюма Старость твоя, ты нечист, ты одет неопрятно…»621ТРОЯНСКАЯ РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ТОГО, ЧТО ИЛИОН ВЗЯТ НЕ БЫЛ
622
(1) Всех людей учить трудно, а морочить легко — я, по крайней мере, едва ли не убежден в этом. Знания люди усваивают через пень колоду, если вообще хоть малую толику из того немногого, что им известно, они знают благодаря учению; и в то же время их с величайшею легкостью обманывает множество невежд, и люди морочат не только друг друга, но еще и самих себя. Конечно, для неразумных истина горька и тягостна, а ложь сладка и вкрадчива. (2) По-моему, люди напоминают скорбных глазами, которые при свете дня чувствуют резь, а в темноте нет, и поскольку темнота не причиняет им страданий, они ее любят. Как иначе могли бы вымыслы то и дело одерживать верх над истиной, не будь их победы завоеваны удовольствием?
И пусть, как я сказал, учиться трудно, но еще трудней переучиваться, и особенно если ложь слушали многие годы и обманывались не только сами, но и отцы, и деды, и, почитай, все прежние поколенья. (3) Увы, такое убеждение нелегко отнять у людей, сколько ни изобличай его ошибочность! Это, должно быть, похоже на то, как со временем трудно бывает раскрыть глаза на истину людям, воспитавшим подмененного младенца, но скажи им кто-то о подмене в самом начале, они не признали бы ребенка своим. И такова сила этой убежденности, что многие предпочитают дурных детей признавать своими и соглашаться, что именно таковы их собственные дети, коль скоро они уверовали в это прежде, нежели признать своими хороших детей, о которых, однако, им стало известно лишь со временем.
(4) Так что меня не удивило бы, если бы вы, мужи Илиона, были готовы больше доверия выказать Гомеру, хотя его ложь о вас чудовищна, нежели мне с моей правдой, и если вы были бы готовы признать того божественным мужем и мудрецом и с самого младенчества обучать своих детей его стихам, хотя вашему городу в них достаются только поношения, да еще и клеветнические, а мой рассказ о том, как все было на самом деле, не стали бы слушать, просто потому что я родился спустя годы и годы после Гомера. (5) И хотя люди в большинстве своем уверяют, что время во всем лучший судия,623 тем не менее все новое, что слышат они спустя годы, считают все-таки недостоверным как раз из-за того, что минуло долгое время. Право же, если б перед аргивянами я осмелился спорить с Гомером и показывать, что его творение перевирает самое важное, то было бы, пожалуй, в порядке вещей, если б они рассердились на меня и выгнали вон, коль скоро им стало бы ясно, что я умаляю и ниспровергаю их славу, созданную стародавним обманом. Но вы-то вправе испытывать ко мне благодарность и внимать мне с радостью: ведь это о ваших предках я радею.
(6) Я объявляю вам заране, что эта речь моя непременно будет произнесена и перед другими и многие ее услышат; при этом одни не смогут ее понять, другие будут делать вид, что ни во что ее не ставят, хотя на самом деле не смогут пропустить ее мимо ушей, третьи возьмутся ее опровергать — и особенно рьяно, конечно, незадачливые софисты. Я отлично знаю, что и вам она будет не по сердцу. Беда в том, что почти у всех людей душа так глубоко извращена жаждой славы, что им желанней слышать, как на всех углах кричат об их ужасных несчастьях, нежели остаться безвестным, но зато благополучным. (7) Даже сами аргивяне наверняка не захотели бы, чтобы случившееся с Фиестом, Атреем и Пелопидами624 оказалось на самом деле иным, — напротив, они бы очень рассердились, возьмись кто-нибудь опровергать сказания трагических поэтов, утверждая, что ни Фиест не совращал Атреевой жены, ни Атрей не убивал братниных детей и, разрезав их на куски, не угощал ими Фиеста, ни Орест не был убийцей собственной матери. Расскажи им кто-нибудь все это, они бы вознегодовали, чувствуя себя оскорбленными. (8) То же самое, по моему убеждению, почувствовали бы и фиванцы, объяви кто-нибудь, что все бедствия, случившиеся в их городе, выдуманы: мол, Эдип и отца не убивал, и с матерью не сходился, и себя не ослеплял, а сыновья его, дескать, не умертвили друг друга под стенами города, и, наконец, объявившаяся там Сфинга не поедала детей фиванцев; нет, они были бы даже рады услышать противоположное: что Сфинга впрямь была послана к ним разгневанной Герой, и что Лаий был убит сыном, а Эдип после всего содеянного и выстраданного слепой скитался по земле, (9) и что еще прежде этого сыновей другого их царя, основателя Фив Амфиона, за то, что были они самыми прекрасными из людей, поразили стрелами Аполлон и Артемида.625 Они готовы слушать, как распевают об этом под звуки флейт у них в театре и дают за это награды тому, кто расскажет или сыграет это трогательней всех, а осмелься кто сказать, что ничего такого не было, его гонят прочь. (10) Вот до чего дошло большинство людей в своем безумии, вот насколько они в плену ослепления! Люди ведь страстно жаждут, чтобы как можно больше было о них разговоров, а каких именно — это им все равно. Вообще-то по своей трусости люди не хотят, чтобы на них обрушилось нечто ужасное, потому что страшатся и смерти и страданий, но они необычайно дорожат рассказами о том, что им пришлось пережить.
(11) Ну а я не в угоду вам, но и не в пику Гомеру и не из зависти к его славе попытаюсь обнаружить все, что, по моему мнению, ложно в его рассказе о событиях, имевших здесь место, при этом находя опроверженья не в чем ином, как в самом Гомеровом творении, и вступаясь за истину, особенно за Афину (дабы нельзя было вообразить, будто, вопреки справедливости, она погубила свой собственный город626 или что ее воля противилась воле ее собственного отца), и не в меньшей мере вступаясь за Геру и Афродиту. (12) В самом деле, ведь немыслимо, чтобы супруге самого Зевса было бы недостаточно его приговора ее внешности, если не угодила она еще и какому-то пастуху на Иде627; и невероятно, что она спорила за первенство в красоте с Афродитой, хотя заявляет, что она старейшая из Кроновых чад, как и сам Гомер передает это в словах:
И богиня старейшая, дщерь хитроумного Крона…628(13) И то еще странно, что она была так озлоблена против Париса, хотя сама доверила ему быть судьей; а ведь даже в человеческих делах кто прибегает к третейскому суду, не мнит посредника своим врагом, если тот решает не в его пользу. Равно непостижимо и то, что Афродита сделала такой зазорный, бесчестный и чреватый несчастьями дар, нисколько не беря в расчет ни Елены, бывшей ей сестрою,629 ни Александра, присудившего ей первенство, но, напротив, устроила такой брак, из-за которого суждено было погибнуть и самому Александру, и родителям его, и городу. (14) Кроме того, думаю, не стоит упускать из виду странную долю Елены: считаясь дочерью Зевса, она между эллинов и ославлена несправедливой молвою630 за бесстыдство, и прославлена собственной мощью как божество.631 И вот, хотя нынешняя моя речь посвящена столь важным предметам, иные из софистов объявят меня нечестивцем за то, что я спорю с Гомером, и подучат беспомощных юнцов,632 до которых, впрочем, мне не больше дела, чем до кривляющихся мартышек, клеветать на меня.
(15) Итак, прежде всего они уверяют, что Гомер, гонимый бедностью, ходил нищим по Элладе, а такой человек, мол, не способен обманывать в угоду подающим милостыню или говорить такое, что могло бы доставить им удовольствие. Но они сами признают, что нынешние попрошайки не говорят ни слова правды и никто не признает такого свидетелем ни в каком деле, а его похвалы не примет за искренние: (16) ведь хорошо известно, что нищие принуждены всякое говорить, чтоб подольститься. И еще рассказывают, что часть Гомеровых песен восходит к Гомеру-нищему, а часть к Гомеру-безумцу, причем считается, что люди, жившие в те времена, признавали его безумным, когда он говорил правду, а не тогда, когда он лгал. За все это я тем не менее не порицаю Гомера: мудрый человек очень просто может показаться и нищим и сумасшедшим. И хочу только сказать, что, согласно их собственному представлению о Гомере и ему подобных, в его рассказах, похоже, нет ничего достоверного. (17) И при этом они далеки от мысли, что ложь не в природе Гомера или что он от всего такого воздерживается; во всяком случае, Одиссей, которого он особенно превозносил, то и дело прибегает у него к обману, а Автолик,633 по его словам, даже клятву нарушил, причем Гермес сам ему это позволил. А что о богах Гомер не говорит ни слова правды, соглашаются, кстати сказать, все, включая самых пылких его поклонников; они даже пытаются оправдать его тем, что он-де не прямо выражал, что думал, а говорил загадками и образами.634 (18) Что же тогда мешает ему говорить так и о людях? Подумайте, если человек не говорит открыто правды о богах, но, напротив того, делает так, что, столкнувшись с его сочинением, люди скорей всего составят себе ложное о них представление, причем он не извлекает из этого ровно никакой выгоды, то почему бы ему не посметь именно о людях высказать какую угодно ложь? А о том, что он представил богов страдающими от боли, стонущими, получающими ранения и едва ли не умирающими, да еще закованными в узы и взятыми на поруки, я уж не говорю: об этом и так уже много говорено. Право, я не хочу бранить Гомера, я хочу только явить вам истину, как она есть, а потому буду говорить и о том, что кажется мне доводом в его пользу. (19) Но что он меньше всех боялся приврать и не считал это позором, я утверждаю смело. Прав он был или нет, обсуждать это я сейчас не берусь.
Опустив все несуразности, сочиненные им о богах и совершенно к ним не подходящие, укажу лишь на то, что он решается передавать беседы богов, которые, по его словам, они вели между собою, причем не только разговоры в собрании богов, когда все боги оказывались рядом, но и те, какие иные из богов вели наедине друг с другом, — (20) как, скажем, Зевс с Герой, разгневанный на нее за то, что она его перехитрила и добилась поражения троянцев;635 а перед тем — Гера с Афродитой, уговаривая ее околдовать отца и дать ей любовное средство — узорчатый пояс, а уж она-то, несомненно, хотела сохранить это в тайне. В самом деле, даже у людей о подобных вещах едва ли знает посторонний, хотя мужу и жене случается ссориться и браниться. Впрочем, в подобном же случае Одиссей у него ставит все на место, чтобы не выглядеть завравшимся в рассказе о том, какие речи боги вели о нем между собою. Так, он говорит, что слыхал все от Калипсо, а она узнала это еще от кого-то; но о себе Гомер ничего такого не сообщает: дескать, узнал от такого-то бога. (21) Вот как свысока он смотрит на людей и вот как мало заботит его, не подумают ли, что он все лжет, — ведь, надо полагать, он все-таки не рассчитывал убедить хоть кого-нибудь в своей осведомленности насчет бесед между богами. Повествует он и о встрече Зевса и Геры на Иде, и о словах, какие Зевс произнес перед объятиями, так, словно он сам это видел и слышал, и ему, похоже, ничуть не помешал тот облак, коим Зевс окутал себя, чтобы скрыться от посторонних глаз.
(22) И ко всему этому он как бы добавил последнюю черту: чтобы мы не гадали, как он понимает богов, он, обращаясь к нам, рассуждает так, словно владеет их языком, и говорит, что у них не тот же язык,636 что у нас, и что всем вещам они дают иные имена. Он показывает это на примере одной птицы, которая, по его словам, у богов зовется халкидой, а у людей килиндой, и на примере одного места у Трои, которое люди называют Батиеей, а боги — Мириновой Могилой. (23) И, сказав о реке, что у богов она зовется не Скамандр, а Ксанф, уже и сам он в своих стихах назовет ее так, показывая тем самым, что ему позволено не только смешивать между собою разные эллинские наречия637 и говорить то по-эолийски, то по-дорийски, то по-ионийски, но и болтать по-зевски. Все это сказано здесь, как я уже говорил, не ради осуждения, но чтобы показать, что из людей Гомер был самым отчаянным вралем и, когда лгал, проявлял не меньше спокойствия и важности, чем когда говорил правду. (24) С такой точки зрения ни один из приведенных мною примеров уже не кажется ни странным, ни неправдоподобным, — это попросту пустые человеческие выдумки о божественных и великих делах.
Действительно, взявшись поведать о войне между ахеянами и троянами, Гомер начал не с самого начала,638 но откуда попало, как поступают почти все лгуны: они сворачивают рассказ и выворачивают, ничего не желая сказать по порядку, потому что так легче запутать, а иначе они были бы изобличены самим порядком вещей. (25) То же можно наблюдать и в судах, и в других местах, где лгут не без искусства. Напротив, когда хотят показать, как все происходило на самом деле, излагают так: сначала — что было сначала, а потом — что было потом, и все остальное точно так по порядку. Это, стало быть, одна причина, по которой Гомер неестественно начал свое сочинение; другая же причина — в том, что он замыслил как можно больше затемнить именно начало и конец Троянской войны и создать о том и другом извращенное представление. (26) Потому-то он и не решился подать начало и конец прямо и позволил себе ничего не сказать ни о том, ни о другом, а если где и коснулся этого, то слегка и мимоходом, так что ясно, что он себя обрывает: в самом деле, все это приводит его в замешательство и он не может говорить свободно. У лгунов так обычно и бывает: одни события они расписывают и останавливаются на них подробно, а другие — те, что хотят сохранить в самой глубокой тайне, напоказ не выставляют, и не толкуют о них при внимательных слушателях, и на их настоящее место не помещают, но задвигают туда, где их можно получше спрятать; это делается и по той причине, что я назвал, и еще потому, что обман вызывает неловкость и заставляет помедлить перед тем, как приступить к нему, и особенно когда он касается самых важных событий. (27) Вот почему лгуны понижают голос, когда переходят к этим вещам: одни запинаются и говорят невнятно, другие делают вид, будто говорят не то, что знают сами, а то, что услыхали от других. А всякий, кто говорит правду, делает это без колебаний и без уверток. Короче говоря, в рассказе о похищении Елены и о взятии города Гомер был очень далек от искренности. Впрочем, будучи, как я сказал, безудержным вралем, он кое-где все-таки вилял и выдыхался, хорошо зная, что говорит обратное по сравнению с имевшим место и извращает тут самое главное.
(28) Откуда же, в самом деле, он должен был начать повествование, как не от самого того бесчестного и наглого поступка, из-за которого началась война? Ведь тогда все были бы единодушно возмущены и сочувствовали бы одержанной наконец победе и никто бы не жалел троянцев за все их страдания. Так он, конечно, лучше сумел бы привлечь к себе благосклонность и признательность слушателей. (29) Если же он хотел поведать о великих и грозных событиях, о всевозможных страданьях и злоключеньях и вообще о том, о чем каждому особенно хочется послушать, что же тогда величественней и ужасней рассказа о взятии Трои? Когда еще было погублено больше народу и когда еще с таким отчаянием прибегали люди к алтарям богов, защищая жен своих и детей, когда еще царских жен и дочерей уводили на чужбину, на позор и рабство, отрывая их от мужей, от отцов или от братьев, а иных и от самих кумиров, и притом перед ними возлюбленные мужья их лежали в лужах крови, а они не могли ни обнять их, ни закрыть им очи, и беспомощных (30) младенцев у них на глазах жестоко швыряли оземь; когда еще оскверняли святилища богов, грабили горы добра, когда еще весь город до основания бывал уничтожен огнем, когда были ужаснее крики людей, грохот меди и пламени, в котором одни погибали, другие нападали?! Гомер вывел Приама, рассказывающего все это как предстоящее в скором времени,639 хотя он мог бы и сам описать все то же самое как действительные события, причем так, как это ему нравится и со всеми ужасами, какие обычны у него в других случаях, потрясая слушателя и раздувая самые ничтожные мелочи.
(31) А если он хотел воспеть именно гибель славных мужей, что же он обошел смерть Ахиллеса и Мемнона, Антилоха и Аякса и, наконец, самого Александра? Отчего не описал поход амазонок и ту битву Амазонки и Ахилла,640 которая, по преданию, была так прекрасна и необычайна? (32) И в то же время он сложил рассказ о битве реки с Ахиллесом641 только для того, конечно, чтобы поразить слушателей, да еще изобразил поединок Гефеста и Скамандра и то, как боги обращают друг друга, в бегство, одолевают друг друга и ранят, явно одержимый желаньем при нехватке предметов рассказать что-нибудь великолепное и захватывающее, тогда как еще очень много, причем важнейших, событий он оставил без внимания. (33) В таком случае либо придется признать Гомера столь скудоумным и скверно судящим в подобных вещах, что он предпочитает предметы сравнительно ничтожные и пустые и оставляет другим самые значительные и самые важные, либо согласиться, что он не умеет, как я и сказал, твердо стоять на лжи и проявлять свой дар сочинителя в том, истину о чем он хотел бы сохранить в тайне.
(34) Так ведь и в «Одиссее» о событиях на Итаке и о гибели женихов Гомер повествует сам, но рассказать от своего лица главнейшие из небылиц — о Скилле и Киклопе, и о зелье Кирки, и, наконец, о схождении Одиссея в Аид — он не отваживается, но вкладывает это в уста Одиссея,642 поведавшего обо всем Алкиною и его домочадцам; и там же он ввел Демодока, который уместил историю с конем и взятие Трои в несколько стихов своей песни. (35) Похоже, он не придал этому значения, коль скоро этого вообще не было, но в ходе сочинительства, видя, что люди с легкостью всему верят, он, смеясь над ними и одновременно угождая эллинам и Атридам, смешал события и все вывернул наизнанку. В начале «Илиады» он говорит:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля).643(36) Здесь он возвещает, что будет говорить только о гневе Ахилла, о злоключениях и погибели ахеян, о том, как пришлось им испытать много тяжких страданий, как пали многие и остались непогребенными, и кажется, что это самое главное в происшедшем и достойно быть предметом сочинения; и еще он утверждает, что при этом свершалася воля Зевса (а на деле так оно и было); но дальнейший перелом событий и смерть Гектора, которая должна была понравиться его слушателям, как и то, что со временем пал Илион, — все это не было у него задумано; он, должно быть, вовсе не имел намерения перевернуть все с ног на голову. (37) Добавим еще, что, желая назвать причину всех зол, он вообще забывает об Александре и Елене и разглагольствует о Хрисе и его дочери.644
Я, в свою очередь, расскажу обо всем то, что узнал в Онуфисе от одного египетского жреца весьма почтенных лет, который и по другим поводам нередко высмеивал эллинов за то, что они почти ни о чем не знают истины, и особенно охотно показывал это на примере их убеждения, будто Троя была взята Агамемноном и Елена, супруга Менелая, влюбилась в Александра, и, обманутые одним-единственным человеком, эллины столь пылко в это уверовали, что любой из них готов дать на том клятву.
(38) Он поведал, что у египтян вся древняя история записана частью в храмах, частью на неких стелах, причем кое-что, после того как стелы были разрушены, хранится в памяти лишь горстки людей, и ко многому из записанного некогда на стелах новые поколения по невежеству своему и верхоглядству утратили доверие; среди самых последних надписей есть и надпись, посвященная Троянской войне, ибо Менелай приходил к египтянам и рассказал все, как было.
(39) Когда я попросил рассказать об этом и мне, жрец поначалу отказывался, говоря, что эллины хвастливы и, будучи неучами, считают себя самым ученым народом, между тем как для отдельного человека и для целого племени нет недуга опасней, чем тот, что неуч возомнит себя обладателем величайшей мудрости, ибо таким людям уже никогда не избавиться от невежества. (40) «Выдумки так забавляют вас, — сказал он, — что вы даже утверждаете, будто другой поэт, сочинивший вслед за Гомером все эти сказки о Елене — его, насколько мне известно, звали Стесихор, — за свой навет был ослеплен самой Еленой и снова прозрел, пересочинив все наоборот. И, рассказывая это, вы тем не менее уверяете, что творения Гомера правдивы! (41) Вдобавок, если Стесихор во второй своей песни говорит, что Елена вообще никуда не уплывала, то еще кое-кто утверждает,645 будто, похищенная Александром, она прибыла сюда, к нам в Египет; и хотя здесь столько спорного и столько неясного, несмотря на все это, эллины даже в этом случае не в состоянии заподозрить обман». (42) По его словам, это объясняется страстью эллинов к наслаждениям: что им занимательно расскажут, то они и считают истиной, и дают поэтам полную свободу выдумывать что угодно, и даже уверяют, что это их право; и в то же время эллины верят всему, что говорят поэты, а иногда даже приводят их слова как довод в споре. У египтян же не дозволено выражать в стихах что бы то ни было, и у них вообще нет поэзии, ибо они хорошо знают, что удовольствие пользуется ею для околдовывания слушателей; и как жаждущим пить не надобно вина, но довольно глотка воды, так жаждущим истины нет надобности в метрах, но вполне достаточно услышать все без прикрас. (43) Поэзия же соблазняет слушать вымыслы, так же как вино склоняет пить и без жажды.
Итак, я попытаюсь передать то, что узнал от жреца, прибавляя от себя, почему рассказанное им показалось мне правдой.
По словам жреца,646 был в Спарте некий Тиндарей, мудрый человек и великий царь, у него и Леды было две дочери, которым дали те самые имена, какие и мы знаем, — Клитемнестра и Елена, и два сына-близнеца, прекрасные великаны, далеко превосходившие прочих эллинов. (44) О красоте Елены шла молва, и многие приходили свататься за нее, когда она была еще малым ребенком, а Тесей, царь Афин, ее похитил. Братья Елены тотчас пришли в Тесееву землю, разрушили город и привезли сестру назад. Они отпустили на свободу всех женщин, захваченных в этом походе, но мать Тесея — ему в отместку — привели домой как пленницу; они ведь могли сразиться хоть со всей Элладой и легко покорили бы всех, если бы пожелали.
(45) Тут я заметил, что у нас тоже это рассказывают, и к тому же я сам видел в Олимпии в глубине храма Геры памятник этого похищения на деревянном ларце,647 посвященном в храм Кипселом: Диоскуры держат Елену, которая, наступив Эфре на голову, таскает ее за волосы, а рядом начертана надпись старинными буквами.
(46) «После этого, — продолжал жрец, — Агамемнон в страхе перед Тиндаридами — он ведь хорошо знал, что правил аргивянами, будучи чужаком и пришлым,648 — захотел склонить их на свою сторону через брак и потому женился на Клитемнестре; Елену же он сватал за брата, но все эллины заявили, что не позволят этого, и каждый утверждал, что свататься за Елену больше подобает по роду ему, а не Менелаю, происходившему из рода Пелопа. Даже из других стран собралось множество женихов, привлеченных молвою о красоте невесты и могуществом ее братьев и отца».
(47) И это тоже показалось мне правдоподобным, потому что и к дочери Клисфена, сикионского тирана, по преданию, сватался приезжий из Италии, и еще Гипподамию, дочь Эномая, взял в жены явившийся из Азии Пелоп, а Тесей женился на какой-то амазонке с берегов Фермодонта,649 (48) и, по словам жреца, Ио тоже явилась в Египет как просватанная невеста,650 а вовсе не превращенная в корову и гонимая укусами овода.
«У наиболее славных семейств, — продолжал он, — было в обычае заключать между собою браки, невзирая на расстояния, и Александр тоже пришел свататься, полагаясь на могущество своего отца, правившего чуть ли не всей Азией, уповая и на то, что Троя не слишком далекая страна, и особенно на то, что Пелопиды уже владели в Элладе наследственной властью и сношения с Элладой делались все более частыми. (49) Он явился свататься, окруженный богатством и роскошью, блистая редкой красотой, и повел разговор с Тиндареем и Елениными братьями, толкуя о державе Приама, о множестве богатств и о всем другом, чем он распоряжался, и о том еще, что он престолонаследник, а Менелай — простой человек, так как царская власть в Аргосе назначена не ему, а сыновьям Агамемнона; не умолчал и о том, что он любезен богам и что сама Афродита пообещала ему самый лучший брак на свете, он же отличил его, Тиндарея, дочь, хотя в Азии мог бы взять себе в жены кого угодно — хоть египетскую царевну, хоть индийскую. (50) Ведь и сам он — царь всех прочих народов, от Трои до Эфиопии, да и в Эфиопии царствует Мемнон, его двоюродный брат, сын Приамова брата Тифона. И еще много заманчивого говорил он и подносил Леде и другим домочадцам столько даров, сколько не смогли бы подарить все эллины вместе взятые. И еще говорил он, что и сам одного с Еленою рода, ибо Приам — потомок Зевса, а говорят, будто и Тиндариды и сестра их — тоже от Зевса; Агамемнону же и Менелаю не пристало корить его происхождением, ибо и сами они — фригийцы с горы Сипил,651 и куда почетней породниться с царями Азии, нежели с выходцами оттуда. Так ведь и Лаомедонт выдал свою дочь Гесиону за Теламона,652 который пришел в Трою свататься, взявши с собою Геракла, бывшего другом и гостеприимцем Лаомедонта.
(51) И вот Тиндарей посовещался обо всем этом со своими сыновьями, и подумали они по здравом размышленье, что не худо вступить в союз с царями Азии. Ведь в доме Пелопидов как жена Агамемнона уже была их Клитемнестра; а кроме того, породнившись с Приамом, они получат влияние на тамошние дела и никто уже не будет препятствовать их владычеству над всей Азией и Европой.
Этому противился Агамемнон, но не мог противостоять правоте их доводов. (52) Тиндарей ведь говорил, что ему, Агамемнону, довольно быть царским зятем, и наставлял в то же время, что равное положение брата отнюдь не к его выгоде, потому что в этом случае брат скорее станет злоумышлять против него: недаром Фиест недолюбливал Атрея! Особенно убедительны были его слова о том, что другие женихи из Эллады, такие как Диомед, Антилох и Ахилл, не снесут подобной обиды и пойдут на него войною и он тем самым подвергает себя опасности сделаться врагом самых сильных людей Эллады. (53) По всему по этому лучше не заронить искры войны и распри среди эллинов. Агамемнону это было досадно, но он не мог помешать Тиндарею, ибо тот был хозяином собственной дочери, да и сыновья его внушали страх. Так что Елену Александр получил по праву, с согласия ее родителей и братьев, и возвратился с нею домой, полный торжества и ликованья; и Приам, и Гектор, и все остальные радовались этому браку и встречали Елену жертвоприношениями и благословениями.
(54) Посмотрим теперь, — сказал жрец, — сколь нелеп рассказ противоположный этому! Разве, по-твоему, это возможно: во-первых, влюбиться в какую-то женщину, которую никогда не видел, во-вторых, уговорить ее покинуть мужа и родину и всех своих близких, — причем когда она, видимо, уже стала матерью маленькой дочки, — и последовать за чужеземцем? Из-за этой несообразности и сочинили сказку об Афродите, которая ошеломляет еще больше, чем все предыдущее. (55) И пусть даже Александр загорелся желаньем похитить Елену; но как же его отец, далеко не безумец, а, напротив, человек, известный своей разумностью, позволил ему это? и что же мать? На что похоже, чтобы Гектор только после пенял ему и срамил его за это похищение, как то передает Гомер, ибо Гектор у него говорит следующее:
Видом лишь храбрый несчастный Парис, женолюбец, прельститель! Лучше бы ты не родился или безбрачен погибнул… Были б не в помощь тебе ни кифара, ни дар Афродиты, Пышные кудри и прелесть, когда бы ты с прахом смесился…653(56) а поначалу простил бы ему это деяние? Как же так ни Гелен, бывший прорицателем, ни боговдохновениая Кассандра, ни даже Антенор с его достославной умудренностью не предостерегли от этого, а только потом негодовали и бранили за уже свершившееся, хотя могли бы не допустить Елену к очагу? Но чтобы ты узнал всю неимоверность этой глупости и увидел, как обман восстает на обман, послушай вот что. Говорят, будто несколькими годами ранее Геракл разрушил город, имея к тому ничтожный повод: он был разгневан за то, что Лаомедонт, пообещав подарить ему коней, обманул». (57) Тут я вспомнил стихи, в которых это описано:
Он, приплывши сюда, чтоб взыскать с Лаомедона коней, Только с шестью кораблями, с дружиною ратною малой, Град Илион разгромил и пустынными стогны оставил!654«Конечно, и эти слова тоже не правдивы, — сказал жрец. — Как же мог город, взятый врагом и разоренный, за короткий срок достичь такого процветания, чтобы стать величайшим из городов Азии? И как мог Геракл, прибыв с шестью кораблями, взять город, хотя до того он долго был неприступен, а ахейцы с их тысячью и двумястами кораблями не могли его взять? и зачем это Геракл передал престол Приаму, убив перед этим его отца как заклятого врага своего, а не поставил править страною кого-нибудь другого? (58) Если же все было так, как они говорят, то почему трояне и Приам не дрожали от ненависти к эллинам, зная, что в прошлом за весьма небольшую провинность жителей города поубивали и прогнали с родных мест, и хотя многие еще помнили, как город был захвачен, ни один из них ни о чем не задумался и не помешал Александру?
Каким же образом, пришед в Элладу, Александр сблизился с Еленой, и говорил с ней, и наконец склонил ее бежать с ним, не заботясь ни о родителях, ни об отечестве, ни о муже, ни о дочери, ни о своем добром имени среди эллинов и даже не страшась своих еще здравствующих братьев, которые прежде отняли ее у Тесея и не спустили тогда похищенья? (59) Если Менелай был тут, то как от него укрылось, что происходит? Если же муж был в отъезде, то как допустить, что замужняя женщина заводит разговоры с чужеземцем и никто кругом не подозревает о сговоре или, заметив, не подает виду? И как это Эфра, мать Тесея, будучи пленной рабыней, отправилась вместе с Еленой? Разве не довольно того, что дочь Питфея была прислужницей в Спарте, но ей еще нужно было по своей воле ехать за госпожою в Трою? (60) Александр же так дерзко и с такой легкостью сделал все дело, что ему показалось не довольно увезти жену, и он прихватил еще и сокровища — и что же? Никто не поспешил за ним на корабле ни из людей Менелая, ни из окруженья Тиндарея, ни даже Еленины братья, и это несмотря на то, что у лаконян были корабли? Да что там! беглецам ведь надо было сначала пешком идти от Спарты до берега моря, — а ведь о похищенье, надо думать, уже летела молва. При таком положении дел Елена могла уйти с Александром только в одном случае: если она была выдана замуж по воле ее родичей. (61) Только так можно объяснить, что и Эфра отправилась с Еленой, и сокровища были взяты с собою. Право, ничто здесь не напоминает о похищении, все скорее указывает на брак! И когда Александр, женившись, как я сказал, на Елене, удалился вместе с нею, то Менелай, досадуя на неудачу своего сватовства, стал винить брата и говорить, что брат его предал; (62) но это мало заботило Агамемнона, опасался он Александра, угадывая в нем соперника, который рано или поздно вмешается в дела Эллады, к коим стал теперь прикосновен благодаря браку; вот почему он созвал всех остальных женихов Елены и объявил, что все они оскорблены, а честь Эллады попрана и что они лишились лучшей из женщин, выданной замуж в варварскую страну, как будто среди них нет никого, достойного быть ей мужем. (63) При этом он все-таки извинял Тиндарея и просил быть к нему, снисходительным, потому что Тиндарея-де обольстили подарками; зато Александра и Приама он выставлял виновниками всего происшедшего и призывал всем вместе пойти войной на Трою, — ведь если они объединятся, Троя наверняка падет. А когда это случится, они захватят богатую добычу и получат господство над прекраснейшей страной, ибо это самый богатый город на свете, а жители его развращены роскошью; и еще он говорил о том, что в Азии у него много сородичей, ведущих свой род от Пелопа, и из ненависти к Приаму они будут ему подмогою.
(64) Слушая все это, одни горячились и на самом деле считали случившееся бесчестьем для Эллады, другие же надеялись обогатиться в походе: ведь о великих городах и несметных сокровищах Азии гремела слава. И вот получалось, что если бы Менелай обошел их в сватовстве к Елене, это бы их ничуть не опечалило, скорее напротив, они были бы готовы порадоваться за него, но тут — все горели ненавистью к Александру и каждый полагал, что именно у него украли невесту. Так начался этот поход, и Агамемнон отправил послов требовать Елену назад под тем предлогом, что ей как эллинке подобает стать женою одного из эллинов.
(65) Услыхав это, возмутились трояне, и Приам, и особенно Гектор, потому что Александр получил Елену по закону от ее отца и при ее согласии быть ему супругой, а эллины дерзали говорить столь наглые речи; и ответили, что, по их разумению, эллины ищут повода к войне и что сами они, хотя и сильнее, войны не начинают, но защищаются от нападения. Вот почему так долго держались трояне в осажденном городе, терпя множество невзгод, — пусть и не так много, как по Гомеру, но все же земли их опустошались и немало людей погибало — потому что знали: ахейцы поступают вопреки справедливости и Александр не совершил ничего предосудительного. (66) А иначе кто бы стерпел такое? разве стерпели бы братья или отец, чтобы жители города погибали и вся Троя подвергалась опасности разрушенья Парисова воровства ради? да еще если можно было, выдав Елену, спастись самим? Но они и после, как известно, когда Александр уже умер, держали ее у себя и отдали в жены Деифобу, словно присутствие Елены в городе — великое благо и словно они боялись, как бы она их не покинула. (67) И все-таки пусть прежде ее удерживала в Трое страсть к Александру, но почему она хотела оставаться там еще, если, конечно, не влюбилась, как говорят, и в Деифоба? Троян-то наверняка можно было убедить отдать Елену, потому что они и сами были к этому готовы. А если она боялась ахейцев, надо было только сговориться сперва об условиях мира: в самом деле, и для ахейцев прекращенье войны было бы желанным, потому что очень многие и притом лучшие их воины к этому времени уже погибли. Итак, рассказ о похищении неправда и трояне не подали повода к войне; вот почему они были уверены, что одолеют врагов: ведь, защищаясь от обидчиков, люди держатся до последнего.
(68) Знай же, что все совершилось именно так, как я тебе рассказываю. Право же, куда правдоподобней, что Тиндарей по своей воле стал свойственником царей Азии; Менелай, когда рухнули надежды его сватовства, затаил злобу; Агамемнон побоялся, как бы Приамиды не подчинили себе Элладу, — ведь он помнил, что и Пелоп, его собственный предок родом из той же страны, благодаря свойству с Эномаем захватил Пелопоннес; а остальные вожди приняли участие в походе, потому что каждый из них мстил за то, что не ему досталась невеста, — это все куда правдоподобней, чем то, что Александр влюбился в женщину, которой не знал, а отец позволил ему отправиться в путь для такого сомнительного предприятия, и это, как говорят, вскоре после захвата Трои эллинами и гибели Приамова отца Лаомедонта; (69) правдоподобней, чем то, что и позже, в осажденном городе, терпя столько мучений, они не хотели выдать ее ни при жизни Александра, ни после его смерти, хотя не имели уже никакой надежды на спасение; правдоподобней, чем то, что Елена влюбилась в чужеземца, с которым ей прежде едва ли пришлось хоть словом перемолвиться, что она на позор себе покинула отечество, родных и мужа, чтобы явиться к людям, ее ненавидящим; и наконец, это правдоподобней, чем то, что никто не помешал всему этому свершиться, и не остановил беглянку по дороге к морю (а шла она пешком), и не догнал ее корабль; чем то, что престарелая Тесеева мать, конечно ненавидевшая Елену, последовала за нею, (70) и что впоследствии, после смерти Александра, в которого Елена якобы была влюблена, она стала женой Деифоба — надо думать, и ему Афродита ее обещала, — и что ни она не хотела уйти к своему мужу, ни троянцы не выдали ее против ее воли, покуда город не был захвачен. Все это, разумеется, невероятно и невозможно.
К сказанному добавлю еще вот что. Согласно Гомеру, в походе приняли участие все остальные эллины, хотя случившееся мало их затрагивало, и только Кастор и Полидевк, которым, собственно, и было нанесено оскорбление, не пошли вместе с ними. (71) Чтобы скрыть этот просчет, Гомер изобразил, как Елена удивляется этому, а потом сам оправдал их отсутствие тем, что к этому времени их уже не было в живых.655 Но отсюда все-таки следует, что они были живы по крайней мере тогда, когда Елену похитили. А потом они, выходит, десять лет дожидались, пока Агамемнон терял время и собирал войско, вместо того чтобы немедля отправиться вдогонку за сестрою и либо сразу же захватить беглецов на море, либо начать войну своими силами? (72) А ведь против Тесея они пошли войной без промедленья, хотя это был эллин, и лучший среди эллинов, и к тому же властитель многих, товарищ Гераклу и Перифою, имевший союзниками фессалийцев и беотийцев. Но против Александра они, стало быть, не пошли, а сидели и ждали, пока Атриды десять лет собирались с силами. А может быть, следовало ожидать, что и сам Тиндарей отправится в поход и годы ему не помешают: (73) во всяком случае, он был не старше Нестора или Феникса, а этим старцам едва ли пристало негодовать больше, чем сам отец. Но ни он, ни его сыновья не пошли вместе с другими, и не по их воле затеяли этот поход. Оно и понятно: они добровольно выдали Елену замуж, предпочтя Александра другим женихам ради величия его державы и собственной его мужественности: ведь по духу он не уступал никому. Потому-то ни они сами и никто из лакедемонян не пошли воевать Трою, ибо ложь и то, что Менелай правил в Лакедемоне и был царем Спарты еще при жизни Тиндарея: (74) право, было бы странно, если бы Нестор ни до похода, ни после возвращения из-под Илиона не уступил по старости царскую власть даже своим сыновьям, а Тиндарей предоставил ее Менелаю. Здесь, по-видимому, тоже неразрешимое противоречие.
Но вот ахейцы прибыли под Трою. Им прежде всего не дали высадиться на берег, а Протесилай и еще немало воинов были убиты при попытке сойти с корабля, так что ахейцам пришлось заключить перемирие, подобрать мертвых и отплыть к Херсонесу; там они и погребли Протесилая. Потом они стали плавать вдоль побережья и, сходя с кораблей, проникать в глубь страны, разоряя то одно, то другое селение. (75) Александр вместе с Гектором собрали всех жителей округи за городскими стенами, а малые крепостцы на побережье оставили их судьбе, так как помочь всем они были не в силах. Эллины снова вошли в гавань, ночью незаметно высадились на берег и в страхе перед Гектором и троянцами окружили свои корабли стеною, вырыли ров и, похоже, сами готовились выдержать осаду. (76) Некоторые, в остальном соглашаясь с Гомером, утверждают, что стену он не называет завершенной,656 потому что он изображает, как потом Аполлон и Посейдон направили на нее реки и разрушили ее; а в этом случае самое вероятное то, что затоплены были основания стены. Еще и теперь реки в этом месте заболочены, а речные наносы заходят далеко в море.
(77) В дальнейшем эллины то врагу причиняли вред, то сами терпели урон, но сражений в боевом порядке было немного, ибо эллины не решались приближаться к городу, зная, сколь многочисленны и храбры его обитатели. Коварные убийства и грабежи — вот чем занимались эллины; так погиб и Троил, еще мальчик, и Местор, и многие другие. Ахилл ведь был куда как искусен в устройстве засад и ночных набегов! (78) Выскочив из засады, он даже Энея застал врасплох и едва не убил его на Иде и многих других подстерег в чистом поле, а из крепостиц разорял те, что плохо охранялись; ахейцам ведь так и не удалось установить свое господство над округою, за исключением той, где было их стойбище. Вот тому и доказательства: при ином положении дел Троил никогда бы не стал заниматься упражненьями вне стен, да еще далеко от города, и ахейцам, господствуй они в Троаде, не пришлось бы — а это все подтверждают — пахать землю на Херсонесе657 и ездить за вином на Лемнос.
(79) Туго пришлось ахеянам в этой войне, и ничего не вышло из их надежд, но вышло как раз обратное: если к троянам притекало все больше и больше союзников, то ахейских воинов начали терзать голод и болезни, и между вождями возникла распря, что бывает обычно как раз у тех, кто терпит неудачи, а не у тех, кто одерживает победы. (80) Даже Гомер, не умея скрыть всей правды, подтверждает это: среди прочего он рассказывает, как Агамемнон созывает собрание эллинов вроде бы для того, чтобы увести войско домой (потому, разумеется, что воины были ожесточены и хотели вернуться), и как толпа ринулась к кораблям, причем Нестор и Одиссей едва смогли удержать народ ссылками на какое-то предсказание658 и завереньями, что осталось потерпеть еще совсем немного. (81) А о том, кто дал такое пророчество, сам Агамемнон в предыдущих стихах говорил как о человеке, чьи предсказания ни разу не исполнились.
Итак, до сих пор при изложенье событий едва ли кажется, будто Гомер насмехается над людьми, напротив, он в известном смысле держится истины, за исключением того, разумеется, что связано с похищением Елены, но не сам он повествует об этом как о событии, имевшем место, а выводит Гектора, пеняющего Александру, Елену, делящуюся горем с Приамом, и самого Александра,659 предающегося воспоминаниям при свидании с Еленой, иными словами, подавая в таком виде то, что должно передавать совершенно ясно и с особенным тщанием. Еще одно исключение — рассказ о поединке: (82) не имея смелости сказать, будто Менелай убил Александра, он награждает Атрида пустопорожней честью и смехотворной победой, сообщая, что меч его преломился. И пусть даже Менелай не мог воспользоваться мечом Александра, хотя превосходил того силой настолько, что живого во всем вооруженье волок к ахейцам; но разве не должен был он задушить Александра ременной подвязью шлема?660 (83) Вымышлено и единоборство Аянта и Гектора,661 а разрешение его просто глупо: Аянт тут вторично одерживает верх, но до конца дело не доводится, и противники, словно друзья, обмениваются подарками.
Однако сразу же после этого Гомер рассказывает правду о поражении и бегстве ахейцев, о блистательных подвигах Гектора и о множестве павших, что он и обещал описать, но делает это как бы против воли и относит все это к чести Ахилла. (84) Вместе с тем он все-таки называет Трою любезной богам, а Зевс у него прямо говорит, что из всех городов на свете он больше всех возлюбил Илион и Приама и его народ. А потом, как говорится, с поворотом черепка,662 он настолько к ним переменился, что городу, взысканному перед всеми его любовью, дал погибнуть самым жалким образом по вине одного-единственного человека, — если, конечно, он вообще был виновен! И, не умея скрыть деяния Гектора,663 который одерживал одну победу за другой, преследовал врагов до самых кораблей и наводил ужас на всех лучших воинов, Гомер то сравнивает его с Аресом, то говорит, что сила его подобна полыхающему пламени и нет вообще никого, кто бы мог против него выстоять, когда и Аполлон с ним рядом, и Зевс с вышины подает знаменье вихрем и громом. (85) С одной стороны, Гомер, конечно, не хочет высказать это столь ясно, но поскольку так было в действительности, он, начавши говорить, уже не может пойти на попятный664 и ведет рассказ и о той тягостной ночи, и об унынии в лагере, о смятении и воплях Агамемнона, а затем и о ночном собрании, где совещались, как избежать гибели, и о мольбах к Ахиллу, не согласится ли он хоть чем-то им помочь.
(86) На другой день Гомер вознаграждает каким-то бесполезным удальством Агамемнона, а также Диомеда, Одиссея и Еврипила и об Аянте сообщает, что тот рьяно дрался; но тут трояне взяли верх, и Гектор гонит врагов до ахейских укреплений и кораблей. Здесь мы ясно видим, что Гомер говорит правду и то, что действительно было, увлекаемый самими обстоятельствами дела; когда же он превозносит ахейцев, он в полном замешательстве, и для всех очевидно, что он лжет: так, Аянт у него дважды одолевал Гектора — один раз в единоборстве, а другой метнувши камень — и все напрасно; и Диомед одолел Энея, но тоже ничего не сделал, только коней (87) захватил, а этого нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Не зная, чем бы угодить ахейцам, он говорит, будто Диомед ранил Ареса и Афродиту, — из этого ясно видно, что как он ни благоволит к ахейцам, но, при всей готовности восхищаться ими, не имеет возможности сказать хоть слово правды и в замешательстве доходит до вещей самых немыслимых и нечестивых. Так обычно и случается со всеми, кто спорит против истины.
(88) Однако в связи с Гектором он не испытывает подобных затруднений, изыскивая, что бы такое сказать великое и удивительное, — и это потому, как мне кажется, что повествует о действительных событиях. Он рассказывает, как все в беспорядке спасаются бегством, и называет имена лучших воинов, говоря, что не устоял ни Идоменей, ни Агамемнон, ни оба Аянта, и только Нестор, да и то поневоле, остался на месте и едва не попал в плен, а Диомед пришел ему на помощь и, похрабрившись немного, потом сразу повернул колесницу и бежал, потому, дескать, что перуны преградили ему путь; (89) как, наконец, троянцы перешли ров и осадили вал вокруг кораблей, а Гектор разбил ворота; как ахейцы уже забрались на корабли и вся битва шла между шатров; как Аянт, ведший бой сверху, с кораблей, в конце концов был выбит оттуда Гектором и отступил и как некоторые из кораблей занялись пламенем. (90) В самом деле, тут ведь нет ни Энея, похищаемого Афродитой, ни Ареса, раненного человеком, и ничего другого столь же невероятного, но только истинные события и вполне правдоподобные. После этого поражения рать, павши духом настолько, что уже не впрок ни ров, ни прикрытия, и не в силах сохранить даже самые корабли, не могла больше ни возобновить сражения, ни со временем оправиться. (91) И какая же сила столько могучая и кто сей муж столь непобедимый и наделенный божественной мощью, что, явившись, он мог один спасти уже погибших? Да разве число мирмидонян могло что-нибудь значить в сравнении со всем воинством? И что такое мощь Ахиллеса? В конце концов он не впервые шел тогда на битву, он и раньше в течение многих лет участвовал в стычках и при этом ни Гектора не убил, ни другого подвига не содеял, если, конечно, не считать того, что он поймал Троила, по годам еще ребенка.
(92) В этом месте повествования Гомер оставил уже всякую заботу об истине и дошел до полного бесстыдства: насмехаясь над людьми, он просто-напросто перевернул все вверх ногами и поменял события на противоположные, потому что уже заметил, с какой неслыханной легкостью люди верят всем его выдумкам, даже о богах, так как других поэтов и сочинителей, которые бы рассказывали об этом правду, не было, и он первый взялся писать о таких предметах; более того, к тому времени, когда он все это сочинил, сменилось уже много поколений, и те, кто знал эту историю, исчезли с лица земли, и дети их тоже, но еще была жива неясная и недостоверная молва, что вполне естественно для событий столь давних, а Гомер вдобавок старался рассказывать свои стихи толпе и простонародью и приукрашивал деяния эллинов, чтобы даже образованные люди не стали его изобличать. (93) Вот так и получилось, что он набрался смелости сочинить обратное тому, что было на самом деле.
Так, когда при захвате кораблей троянцами Ахилл пришел своим на подмогу в основном по необходимости и ради собственного спасения, среди троянцев началось бегство, от кораблей им пришлось отступить, а огонь потух, так как нападение Ахилла было внезапным; и не только остальные трояне отступили, но и Гектор из тесноты вокруг стойбища отступил за ров, по словам самого Гомера, без спешки и не прячась. (94) Когда же вновь завязалось сражение, славно бился Ахилл со своею дружиной, многих троян погубил и соратников их, среди прочих сразил Сарпедона, почтенного Зевсова сына и царя ликийцев; а при переправе через реку случилось великое избиение отступающих, однако бежали они не беспорядочно, но то и дело останавливались, чтобы встретить противника лицом к лицу. (95) Гектор же, умевший выбирать для боя удобное время, наблюдал за ходом сраженья и, покуда Ахиллес был в полной своей мощи и бился со свежими силами, с ним не сталкивался и только подбадривал других. Но потом он увидел, что тот уже утомился и что прежний напор заметно пошел на убыль, так как в пылу сраженья Ахиллес не рассчитал сил; понял, что он изнурен широко разлившейся рекою, которую без конца переходил, что ранен Астеропеем, сыном Пеона, да еще и Эней вышел против него, и после долгой битвы, когда пожелал, ушел невредимым, и Агенора он не поймал,665 бросившись за ним в погоню, — а ведь тут у него были особые преимущества, так как он считался самым быстроногим! (96) И тогда Гектору, доке в военном искусстве, стало ясно, что все это делало Ахилла легкой добычею; вот почему он без страха вышел на него в чистом поле. И поначалу, словно обращаясь в бегство, он отступил, испытывая противника, а желая тем временем его измотать, то останавливался, то снова пускался наутек. Заметив, что Ахилл бежит все медленней и начал отставать, Гектор тогда сам поворотился и бросился на противника, когда тот уже не в силах был держать в руках оружие; в схватке он убил Ахилла и завладел его доспехом, как то и сказано у Гомера; погнался и за конями Ахилла, но не поймал, хотя и они были захвачены. (97) А тело Ахилла Аянты едва смогли выручить и принести к кораблям, и то потому только, что трояне уже успокоились, видя, что победа за ними, и наседали уже не так сильно. Гектор же, облачась в знаменитый доспех Ахиллесов, разил и преследовал врагов до самого берега моря, что подтверждает и Гомер. Лишь наступившая ночь помешала Гектору спалить все корабли.
Поскольку все было именно так, Гомер, будучи не в силах скрыть истину совершенно, говорит, что это Патрокл вместе с мирмидонянами вышел на бой, вооружась доспехом Ахилла, и что это он был сражен Гектором, и что при таких-то обстоятельствах Гектор завладел доспехом. (98) Как же, однако, мог Ахиллес при столь страшной опасности, грозившей войску, когда уже и корабли загорелись и его самого почти настигла беда, слыша, как хвалится Гектор, что нет ему достойного противоборца, что Зевс помогает ему и дает благие знаменья, как же он мог, если и верно хотел спасти ахеян, сам оставаться в шатре — он, величайший воитель — и послать много себя слабейшего? и при этом приказывал не только крепко ударить на троянцев и отразить их, но еще и не вступать в битву с Гектором? Ведь это не в Патрокловой власти, я думаю, выйдя однажды на бой, сразиться с кем пожелает. (99) Так невысоко ставя Патрокла и не будучи в нем уверен, разве стал бы Ахилл вручать ему свою власть, свой доспех и коней, делая все так, словно нарочно принял наихудшее решение, желая все погубить? Стал бы он потом молить Зевса вернуть Патрокла с поля битвы со всем оружием и дружиной, если он так безрассудно послал его против сильнейшего витязя, (100) чей вызов лучшим бойцам никто не пожелал услышать? Агамемнон даже прямо сказал, что Ахилл трусит666 и не хочет сойтись с Гектором в поединке. И вот, приняв такое решение, он, по Гомеру, лишился друга и еще многих воинов, едва не потерял коней и остался без оружия. Всего этого Ахилл ни за что бы не сделал, будь он в здравом уме, а если уж он повредился рассудком, то, верно, Феникс удержал бы его от такого шага.
Правда, Гомер говорит, что Ахилл, покуда не получил даров, не хотел тотчас идти на защиту ахеян от опасности, да и гнев его еще не утих. (101) Но что же мешало ему, выйдя на бой, затем снова гневаться сколько душе угодно? Видя эту несообразность, Гомер намекает на какое-то предсказание, принудившее Ахилла остаться на месте: оно предвещало ему неизбежную гибель, если он выйдет на бой, — и тем самым Гомер прямо обвиняет его в трусости! Впрочем, можно было, ссылаясь на это предсказание, отплыть домой после ссоры с Агамемноном. И Ахиллу привелось (не так ли?) услышать слова матери о Патрокле, который, по его словам, был ему дороже собственной жизни и после смерти которого он не хотел больше жить.667 (102) И что же? когда он увидел, что Патрокл не может поднять его копья, он все равно дал ему остальное свое оружие, разумеется, под стать тому копью, и не побоялся, что тот не снесет такого снаряжения. В бою, если верить Гомеру, так оно и вышло.
Но было бы слишком долгим делом изобличать все несообразности, ибо для внимательного слушателя обман и так очевиден; словом, любому ясно и не надо большого ума, чтоб догадаться: Патрокл — это двойник,668 которым Гомер, стараясь скрыть, что произошло с Ахиллом, подменил его самого.669
(103) Из опасения, что кто-нибудь станет разыскивать Патроклову могилу — ведь я полагаю, могилы других знатных мужей, павших под Троею, у всех на глазах! — Гомер предупредил такие поиски, сказавши, что у Патрокла не было отдельной могилы, но что он был похоронен вместе с Ахиллом.670 Даже Нестор, привезший на родину прах Антилоха, павшего за него, не просил похоронить их вместе, — так кто же посмел бы перемешать останки Ахилла с прахом Патрокла?
Итак, Гомеру особенно хотелось затемнить конец Ахилла, словно он и не погибал под Троей. (104) Видя же, что это невозможно, так как преданье было живо и люди могли показать могилу Ахиллеса, Гомер все-таки убрал его гибель от руки Гектора и говорит, что это Ахилл сразил Гектора, столь превосходнейшего меж всеми смертными, да еще и обезобразил его труп и проволок по земле до самых укреплений ахеян. Зная опять-таки, что существует чтимая жителями города могила Гектора, он говорит, будто труп его был выдан за выкуп по велению Зевса (105), а тем временем Афродита и Аполлон порадели о сохранении тела убитого. Не зная, что делать с Ахиллом, ибо ему следовало погибнуть от руки одного из троянцев, — Гомер ведь не собирался из зависти к славе сразившего изобразить и его, как Аянта, наложившим на себя руки, — он не придумал ничего лучше, чем сказать, что убил его Александр: тот Александр, которого он представил самым ничтожным и самым трусливым среди троянцев, тот Александр, которого Менелай едва не захватил живым, тот самый, кого вечно поносят, называя робким копейщиком, чье имя — бранное (106) у эллинов! И это только затем, чтобы отнять у Гектора его славу — ведь ясно, что именно Гектор убил Ахиллеса — хотя тем самым Гомер сделал Ахиллову смерть много хуже и много бесславней.
Наконец, Гомер выводит этого уже погибшего Ахилла и заставляет его сражаться. Поскольку оружия у него не было, а было оно у Гектора — тут ведь Гомер не заметил, как выболтал толику правды, — он уверяет, что Фетида с неба принесла оружье, сработанное Гефестом, и тогда, словно в шутовском представлении, Ахилл в одиночку обращает в бегство троянцев, а остальные ахеяне все позабыты, будто никого и не было. Дерзнув однажды пойти на обман, он стал путать уже все подряд: далее богов заставляет он биться друг с другом, словно бы признавая тем самым, что правдоподобие его ничуть не заботит. (107) Подвиги Ахиллеса он описывает совершенно беспомощно и недостоверно: то Ахилл борется с рекою, то грозит Аполлону и гонится за ним, из чего можно видеть, что Гомер оказался в почти безвыходном положении. Рассказывая о действительных событиях, он, право же, не столь неправдоподобен и не столь неловок. Так, когда трояне, обратившись в бегство, пытались укрыться в городе, Гектор у Гомера с великою отвагой стал перед стеною, поджидая Ахилла и не внемля мольбам ни отца, ни матери, а потом пустился бежать вокруг городских стен, хотя и мог войти внутрь, и Ахилл, которого Гомер всякий раз величает самым быстроногим из смертных, не мог его догнать. (108) А тем временем все ахейцы смотрят на это, словно явившись поглазеть на зрелище, и ничем не помогают Ахиллу, хотя Гектор причинил им столько страданий и они ненавидели его до такой степени, что даже мертвому наносили потом удары! Но тут из-за стены вышел Деифоб, — вернее, это Афина, приняв облик Деифоба, одурачила Гектора и выкрала у него копье, которым он сражался; и, не находя способа разделаться с Гектором, теряясь и путаясь в обмане, Гомер описывает битву поистине как во сне. Право же, все, что происходит в этой битве, больше всего напоминает нелепое сновидение.
(109) Дойдя до этого места, Гомер вконец изнемог, не зная, что делать со своим сочинительством, и пресытившись ложью; и вот он добавил еще какие-то погребальные игры,671 уже совсем смехотворные, а потом приход в шатер к Ахиллу царя Приама, никем из ахейцев не замеченного, и выкуп тела Гектора. Но о том, как Мемнон и амазонки пришли на помощь троянцам, — о столь дивных и столь значительных делах он сказать не решился. Не рассказал он и о смерти Ахилла, и о взятии Трои: (110) видимо, он все же не посмел заставить давно усопшего Ахиллеса гибнуть сызнова, разбитых и бежавших ахеян одерживать победы, а город, увенчанный славой, изобразить разоренным. И лишь те, которые пришли после, писали об этом уже не колеблясь, поскольку они сами были одурачены и обман успел упрочиться.
В действительности же дело было вот как. (111) После того как Гектор сразил Ахиллеса, пришедшего ахейцам на подмогу у кораблей, троянцы (как то бывало и прежде) расположились на ночлег поблизости от кораблей, чтобы устеречь ахейцев, ибо подозревали, что те скроются под покровом ночи. Гектор же удалился в город к родителям и супруге, радуясь свершенному им и оставив при войске Париса. (112) Сам Парис и дружина троянская уснули, что вполне понятно, так как были они утомлены, беды никакой не ждали и вообще все было благополучно. Как раз в это время Агамемнон с Нестором, Одиссеем и Диомедом сошлись на совет, а потом, храня молчание, стащили большую часть кораблей в море, поскольку понимали, что накануне они едва не погибли, а значит, и для бегства едва ли еще представится случай; к тому же уже сгорело довольно много кораблей, а не только корабль Протесилая. Сделавши это, ахейцы отплыли в Херсонес, оставив многих своих пленников и немало другого добра.
(113) С наступлением утра стало ясно, что произошло, и Гектор негодовал, досадовал и бранил Александра за то, что неприятель ушел у него из-под носа; а шатры троянцы сожгли и разграбили то, что осталось. Ахейцы же, посовещавшись в безопасном месте — ведь у людей Гектора не было наготове кораблей, чтобы плыть за ними вдогонку, — все порешили возвращаться, потому что великое множество и притом лучших мужей уже сложили головы под Троей. Оставалась, однако, опасность, что троянцы, построив корабли, сейчас же двинутся против Эллады. (114) Вот почему эллины вынуждены были остаться, пробавляясь, как и вначале, разбоем, с тем чтобы, когда Парису это надоест, как-нибудь замириться с ним и уйти по-хорошему. Как порешили, так и сделали, оставшись на противоположном от Трои берегу.
А тут к троянам из Эфиопии прибыл Мемнон, и с Понта им на помощь пришли амазонки и еще множество союзников, — они прослышали, что Приаму и Гектору сопутствует удача, а ахейцы почти все уничтожены, и вот одни стали приходить как друзья, другие — из страха перед могуществом троян, но все они, конечно, хотели помогать не побеждаемым и бедствующим, а победителям, одолевшим всех врагов. (115) Ахейцы послали к своим хоть за какой-то подмогой, потому что за пределами Эллады больше никто и ни в чем их не поддерживал. Но из дома прибыли только Неоптолем, сын Ахилла, еще совсем юноша, да Филоктет, отвергнутый прежде из-за его недуга, и еще подобного рода слабосильное и беспомощное подкрепление. Ахейцы с их приходом немного перевели дух, вновь отплыли к Трое и возвели укрепление значительно меньше прежнего и не на прежнем месте на взморье, но заняв место повыше. (116) Одни корабли подошли поближе к укреплениям, а другие затаились, бросив якорь вдали от берега. А поскольку двигала ахейцами не надежда на победу, но, как я сказал, нужда заключить соглашение, то военные действия они вели не уверенно, а как-то двойственно, подумывая больше об отплытии домой. Так что в основном они устраивали засады да пускались наутек. И однажды в довольно жарком сраженье, когда трояне рвались смести их оплот, Аянт был убит Гектором672 и Антилох пал от руки Мемнона, защищая своего родителя. (117) Но и сам Мемнон был ранен Антилохом и по дороге с поля боя скончался. В самом деле, ахейцам тут повезло, как никогда прежде: мало того что смертельно ранен был Мемнон, которого все так высоко ставили, — но и Амазонка, стремительно бросившаяся к кораблям и тщившаяся их поджечь, была сражена Неоптолемом,673 который, стоя на корабле, дрался корабельною пикой, да еще и Александр тут же гибнет от стрелы Филоктета. (118) Так что трояне тоже приуныли, думая, что им никак не избавиться от войны и не видать больше победы. Да и Приам после гибели Александра стал уже не тот: он был бесконечно удручен и страшился за Гектора. Но положение ахейцев после смерти Антилоха и Аянта было и того хуже.
Так и получилось, что ахейцы отправили послов просить о примирении с предложением, что они уйдут, как только будет заключен мир и даны клятвы в том, что ни сами они никогда больше не пойдут войной на Азию, ни троянцы — на Аргос. (119) Гектор противился этому, говоря, что трояне гораздо сильней неприятеля и возьмут укрепленья ахейцев силой; уж очень ожесточила его смерть Александра. Но поскольку отец упрашивал его, поминая свою старость и гибель сыновей, и многие другие тоже хотели прекратить войну, то и он согласился на замирение, — однако требовал, чтобы ахейцы возместили троянам военный ущерб и заплатили за обиду, — ибо это они пошли войною на людей, ни в чем перед ними не повинных, за многие годы разорили их страну и погубили немало достойных мужей, и среди них Александра, не сделавшего им ничего дурного, только за то, что те, кто имел на то право, сочли его лучшим из женихов, и он взял себе жену из Эллады. (120) Одиссей же, — а это он был послан для переговоров о мире, — возражал, упирая на то, что война шла с переменным успехом, да и за самое войну возлагал вину на троянцев: Александру, дескать, незачем было, когда в Азии столько женщин, приезжать оттуда свататься в Элладу и уходить, выставив на посмешище лучших из эллинов и торжествуя победу, благодаря своему богатству; по его словам, не просто в сватовстве тут было дело, но явно Александр замышлял благодаря браку вмешиваться в дела Эллады. Потому-то Одиссей призывал оставить дальнейшие притязания, раз уж и та и другая сторона понесла такие потери, а Атриды и трояне через Пелопа все-таки и свойственники и родственники друг другу. (121) Что до возмещения убытков, то тут он только смеялся: с эллинов, мол, взять нечего, и многие даже теперь добровольно состоят в войске из-за нищеты у себя на родине. (Это он говорил, чтобы отвратить троянцев от похода на Элладу.) Но если для того, чтобы все было как положено, нужно какое-то возмещение, то он знает, как это сделать. Ахеяне оставят прекраснейший огромный посвятительный дар Афине и напишут на нем: «Милости ради ахейцы Афине Илионейской». Это, конечно, принесет троянам великую честь, а для самих эллинов явится свидетельством их поражения. (122) И Елену он призывает споспешествовать заключению мира; а она охотно поддерживает его, потому что тяжко ей было слыть причиной столь многих несчастий троянцев.
И вот вражде положен конец, и между троянцами и ахейцами заключается договор. Гомер и это переиначил так, что вышел обман, хотя он знал, как было дело. Он сказал, что троянцы нарушили клятву.674 Однако Гектор, Агамемнон и другие вожди дали друг другу клятвы лишь в том, что ни эллины никогда не вторгнутся в Азию, покуда в ней правит род Приама, ни Приамиды не пойдут войной против Пелопоннеса, Беотии, Крита, Итаки, Фтии и Евбеи. Только эти земли они и выделили; (123) что же до остальных, то и трояне не хотели давать зарок, и Атридам не было до них дела. После того как дали о том клятвы и конь — громадное обетное сооружение — воздвигнут был ахейцами, трояне подвели его к городу, а поскольку в ворота он не проходил, снесли часть стены. Вот откуда смехотворный рассказ о взятии города конем. А войско ахеян, заключив договор на этих условиях, покинуло страну. Елену же Гектор дал в супруги Деифобу как лучшему из братьев после него самого. (124) Что же до отца его, то он окончил свои дни как счастливейший из смертных, если не считать выпавшей на его долю скорби о гибели стольких сыновей. И сам Гектор, процарствовав многие лета и подчинив себе почти всю Азию, скончался в глубокой старости и был похоронен перед городом.675 А власть свою он передал Скамандрию.
Хотя дело было именно так, я отлично знаю, что никто с этим не согласится, и все, за исключением людей глубокомысленных, будут твердить, что это ложь, причем не только эллины, но и вы сами. Конечно, нелегко справиться с наветом, особенно если в заблуждении пребывают долгие годы. (125) Но посмотрите, отбросив молву и предубежденья, сколь смехотворно обратное: целое войско спряталось в коне, но из троян ни один того не заметил и не заподозрил худого, и хотя у них была еще и необманная пророчица,676 они все равно сами ввели неприятелей в город. А до этого, когда все ахейцы отступали, довольно было одному-единственному мужу безоружным предстать перед врагами,677 чтобы от крика его несметные полчища обратились в бегство; и вслед за тем, не имея доспехов и получив их с неба, он смог одолеть тех, кто всего днем раньше торжествовали победу, и один преследовал всех. (126) Разве не смешно, что именно его, столько превосходившего прочих, сразил человек, по словам самих рассказчиков, духом ничтожнейший, или что когда один погиб, с другого сняли его доспехи и у него одного из всех вождей не оказалось могилы? А то, что один из лучших воинов, бившийся столько годов, и никем из врагов не убитый, в гневе сразил себя сам, и при этом молва повторяла, что из союзников он всех боле и важен и ровен?678 (127) А то, наконец, что сам поэт, взявшись поведать о Троянской войне, опустил самые прекрасные и великие события и не описал даже взятия города? Ведь вот что он сочинил и вот что рассказывают: Ахиллес, когда ахеяне уже были побеждены, да и не раз, и не только прочие дружины, но и его собственная, один оставался невредим и настолько переменил ход событий, что сам прикончил Гектора; но пал он от руки Александра, по словам троян, самого из них захудалого. По смерти же Патрокла был обнажен Ахилл, и он же лишился оружья, ну а Патрокл остался без могилы. (128) Но так как Аянтова-то могила существовала679 и все знали, что он скончался под Троей, то, несомненно, для того, чтобы не дать прославиться мужу, его сразившему, он тут убивает себя сам. А ахейцы, которые, спалив свои шатры, потихоньку бегут из Азии, ахейцы, у которых Гектор сжег пристань и захватил укрепления, ахейцы, принесшие посвятительный дар Афине с подобающей надписью, как обычай велит побежденным, — эти ахейцы тем не менее будто бы взяли Трою, а в деревянном коне смогла спрятаться целая рать! Трояне же, заподозрив неладное и порешив сжечь коня или разрубить его на куски и все-таки ничего этого не сделав, пируют себе и засыпают, хотя Кассандра все это им предрекала. (129) Разве не напоминает это, по правде сказать, сны и вымыслы несусветные? Это в «Снах», сочиненных Гором,680 люди видят такие картины: то им кажется, что они мертвы и с них снимают доспехи, то они вновь воскресают и бьются, как есть, обнаженные, а другой раз мнится, будто они кого-то преследуют и ведут беседу с богами или поражают себя насмерть, хотя не случилось ничего страшного, а иной раз, бывает, летают или гуляют по морю. Словом, и Гомерово сочинение правильно было бы назвать сонной грезой, причем путаной и неясной.
(130) В дополнение к сказанному стоит поразмыслить еще вот о чем. Все согласны, что ахейцы ушли от берегов Азии, когда уже наступила зима, и потому большая часть флота погибла возле Евбеи. Кроме того, плыли они не одним и тем же путем, но, из-за раздоров в войске и между Атридами, одни пристали к Агамемнону, другие — к Менелаю, а третьи отправились в дорогу сами по себе, о чем и Гомер упоминает в «Одиссее». А разве не понятно, что при успехе все единодушны и не прекословя подчиняются царю, да и Менелай не ссорится с братом, едва тот его облагодетельствовал? Нет, — все это признаки именно беды и поражения. (131) Добавим к этому, что войско, бегущее в страхе, покидает вражескую землю как можно скорее, не смея задерживаться, тогда как победители, имея при себе множество пленников и горы добра, напротив, поджидают самую для плавания благоприятную пору, ибо земля в их власти и они ни в чем не имеют недостатка, а вовсе не гибнут чуть ли не поголовно, и это после десяти-то лет ожидания!
И несчастья, постигшие вернувшихся домой, не в последнюю очередь свидетельствуют об их поражении и слабости. (132) В самом деле, едва ли было в обычае нападать на тех, кто пришел с победой, или на тех, кому сопутствует удача, — ими скорее восхищаются и побаиваются их, тогда как неудачников презирают и чужие, и кое-кто из своих. Очевидно, из-за поражения и жена презирала Агамемнона, и Эгисф напал на него и без труда одолел, и аргивяне приняли это как должное и поставили Эгисфа царем, — чему, конечно, не бывать, убей он Агамемнона в блеске его славы и могущества, после покорения Азии! (133) И Диомед, никому не уступавший в военной славе, был изгнан из родного дома, и Неоптолем изгнан эллинами или кем-то еще; вскоре все они были изгнаны из Пелопоннеса, и от этой пагубы пресекся род Пелопидов. Зато Гераклиды, до той поры слабые и презираемые, пришли туда вместе с дорийцами.681
(134) Одиссей же по собственной воле медлил, отчасти стыдясь возвращаться, отчасти предвидя, что ждет его дома. И потому молодежь с Кефаллении принялась сватать Пенелопу и расхищать царское добро. И ведь никто из друзей Одиссея не пришел на помощь, даже Нестор, живший так близко! Оно и понятно: ведь все, кто принял участие в походе, были теперь в унижении и убожестве. И напротив, будь они победители, они должны были бы всем внушать трепет и никто б на них не покусился.
(135) А Менелай вообще не вернулся в Пелопоннес, но остался в Египте.682 Помимо прочих свидетельств прихода Менелая в Египет, о том говорит хотя бы округ, названный его именем, — чего не могло бы быть, если бы он побывал здесь, просто сбившись с пути, и оставался недолго. Но он женился на царской дочери и поведал жрецам историю похода, ничего от них не утаивая. (136) Гомер почти наверное знает это и на это намекает, сказавши, что Менелай после смерти был отправлен богами в Елисейские поля,683 где нет ни снега, ни бурь, но круглый год ясная и теплая погода: в Египте-то как раз так оно и есть. Мне кажется, что некоторые из более поздних поэтов тоже о том догадались. Так, один из сочинителей трагедий684 говорит, что против Елены, едва она возвратилась, Орест замыслил худое, но что она исчезла одновременно с чудесным явлением ее братьев. Он никогда не сочинил бы такого, будь всем известно, что Елена потом поселилась в Элладе и была супругою Менелаю.
(137) Вот каким образом после войны дела эллинов дошли до самого жалкого убожества, у троян же все сделалось много лучше и великолепней. Так, Эней, посланный Гектором с кораблями и сильной дружиною, захватил Италию, благодатнейшую из стран Европы; а Гелен,685 проникнув в глубь Эллады, стал царем молоссов в Эпире рядом с Фессалией. Что же, однако, больше похоже на правду: что побежденные отправились в страну победителей и стали у них царями или, наоборот, что одержавшие победу пришли на землю побежденных? (138) И почему же тогда после взятия Трои Эней, Антенор,686 Гелен и те, что с ними бежали, не предпочли бежать куда угодно, но только не в Элладу и Европу, и почему их не привлекала ни одна страна в Азии, а, напротив, они поплыли как раз к тем, из-за кого сделались изгнанниками? Если же вы спросите, почему все они воцарились лишь в таких — пусть больших и отнюдь не безвестных — землях, когда могли покорить и всю Элладу, — то вспомните: их удерживали данные ими клятвы. Впрочем, Гелен присвоил Эпир — немалую часть Эллады, а Антенор захватил власть над генетами и над лучшими землями на Адриатике; Эней же воцарился над всей Италией и основал величайший город на свете.687 (139) Нет, невероятно, чтобы все это совершили беглецы, на которых дома обрушились несчастья, — ведь таким остается только желать, чтобы им хоть где-нибудь позволили поселиться. И особенно если прикинуть, с каким снаряженьем и с какою ратью могли они в бегстве пройти через гущу врагов, когда город был уничтожен огнем и все погибло, когда даже сильным и юным нелегко было спасти собственную жизнь, а не то что выселиться с детьми, женами, стариками и всем скарбом, и если вспомнить, что город был захвачен внезапно и вопреки ожиданию и они покидали его отнюдь не неспешно, как бывает обыкновенно, если заключен мирный договор. Нет, все, конечно, было так, как только и могло быть.
(140) Рассказывают, что после отплытия ахейцев, когда в городе оказалось собранным великое множество народа, да еще и союзники, и не все хотели уходить, Гектор, видя, что Эней не потерпит, чтобы его лишили доли власти688 — ведь Приам обещал ему таковую при условии, что он будет до конца участвовать в войне и прогонит ахейцев, — видя все это, он отправил Энея селиться на новое место, не скупясь на добро и послав с дорогою душою, столько народу, сколько тот пожелал. (141) Гектор внушил Энею, что он достоин царствовать и державу иметь ничуть не ниже его собственной, но что ему пристало покорить новую землю, — ведь вполне в его силах завладеть всею Европой, а коли выйдет так, то, может статься, потомки их будут править обоими материками, покуда род не угаснет. (142) Эней согласился на эти уговоры Гектора, то ли ему в угоду, то ли надеясь достигнуть большего; так и родилось это поселение — от силы и от благоразумья, а вскоре благодаря усердию людей, коим сопутствовала удача, сделалось могучей державой и осталось такою в грядущем. Антенор же, глядя на сборы Энея, и сам возжелал стать владыкой в Европе, — так возник еще один такой отряд. Говорят, что и Гелен, жалуясь на то, что он обойден по сравнению с Деифобом,689 упросил отца и с кораблями и дружиной отплыл в Элладу, словно его там ждали, и захватил все земли, не оговоренные в условиях мира. (143) И случилось так, что Диомед, бежавший из Аргоса, когда услыхал об Энеевом походе, явился к нему,690 — так как между ними были уже мир и дружба, — с просьбой о помощи и с рассказом о беде Агамемнона и о собственных своих несчастьях. Эней принял его вместе с несколькими кораблями и передал ему какую-то часть своих ратников, поскольку он уже подчинил себе всю страну. (144) Впоследствии же ахейцы, изгнанные дорянами, не зная в своем слабосилии, куда им податься, пришли в Азию к потомкам Приама и Гектора как к своим друзьям и союзникам и поселились на Лесбосе, пользуясь благосклонностью его обитателей, а также и в других не столь уж захолустных местах.
Кого по приверженности древней молве все это не убеждает, тот пусть знает, что просто он не умеет избавиться от заблуждения и отличить ложь от истины. (145) В самом деле, что за важность, если недалекие люди долгое время чему-то верили и если предки наши пересказывали ложные вымыслы? Ведь о стольких еще вещах люди и спорят и имеют противоположные мнения! Так, например, о Персидской войне одни утверждают, что морское сражение у Саламина произошло после битвы при Платеях,691 а другие — что дело при Платеях было последним в той войне, — а ведь писалось об этом по горячим следам! (146) Большинство людей, конечно, ничего не знает в точности, а только повторяет, что твердит молва, даже если они современники событий; что же до следующего и третьего поколений, то уж они и вовсе ни о чем не имеют понятия, и что им ни скажут, все охотно принимают на веру. Так, например, упоминают отряд скиритов в лакедемонском войске, — а его, по Фукидиду, никогда не существовало;692 или афиняне воздают высочайшие почести Гармодию и Аристогитону как освободителям государства и тираноубийцам. (147) Да что говорить о делах человеческих, когда люди убеждены и смеют говорить вслух, что Уран был оскоплен Кроном, а Крон — Зевсом!693 Так всегда: коль скоро что-то немыслимое было однажды усвоено, то уже становится немыслимо не верить этому.
Но я хочу защитить и Гомера в том, что принимать его вымыслы совсем не так дурно. Во-первых, они отнюдь не столь значительны, как выдумки, касающиеся богов; во-вторых, они были опорой тогдашним эллинам и не дали бы им прийти в смятение, если бы между ними и народами Азии, как то ожидалось, началась война. Можно простить человеку, который, будучи эллином, всеми силами помогал своим соотечественникам. (148) К такой уловке прибегают многие. Так, мне самому довелось слышать рассказ одного мидийца о том, что персы не приняли ни одного из условий эллинов, а Дарий якобы послал Датиса и Артаферна против Наксоса и Эретрии, и они, захватив эти города, воротились к царю. Лишь когда их корабли стояли на якоре у Евбеи, несколько судов, не более двадцати, отогнало к берегам Аттики, и тут между моряками и жителями тех мест вышло что-то вроде стычки.694 (149) А потом Ксеркс пошел войной на Элладу, одолел лакедемонян при Фермопилах, убил их царя Леонида и, захватив город Афины, сровнял его с землей, а жителей, не сумевших бежать, обратил в рабство; свершив это и обложив эллинов данью, он удалился в Азию. С одной стороны, совершенно ясно, что все это ложь, но с другой — очень возможно, что царь приказал распространить эту молву среди населения в глубине его страны, чтобы там не было возмущений. И если подобным образом поступал и Гомер, то он заслуживает снисхождения.
(150) «Тогда напрасны твои нападки на эллинов», — скажет, быть может, какой-нибудь невежда. Однако теперь больше уж нет того положения и нет опасений, как бы из Азии на Элладу не двинулся войною какой-нибудь народ: теперь ведь и Эллада и Азия равно под иною державой.695 А истина между тем дорогого стоит. И кроме того, знай я, что смогу убедить слушателей, я, наверное, и вовсе не стал бы говорить. Но я заявляю, что снял с эллинов упреки гораздо более горькие! (151) Нет ничего страшного в том, что некий город не смогли взять, ниже в том, что, отправившись в поход против страны, на которую не имели никаких прав, затем заключили мир и убрались восвояси, ни в том, наконец, что доблестный муж погиб, сражаясь с подобным себе, — этого в упрек не поставишь, напротив, кому суждено умереть, тому впрямь подобает встретить смерть так, как Ахиллес, когда он говорит у Гомера:
Что не убит я Гектором! Сын Илиона славнейший, Храброго он бы сразил и корыстью гордился бы, храбрый!696(152) Но чтобы лучший из эллинов пал от руки самого ничтожного из врагов — вот это поистине позор; и точно так для того, кто слыл здравомыслящим697 и благоразумнейшим меж эллинов, — стыд и позор сперва, желая убить царей, зарезать баранов с быками, а потом убить и себя, и все это ради доспеха! (153) Больше того: если Астианакта, сына доблестного мужа, — умертвили с такою свирепостью, сбросивши со стены, да еще по согласному приговору воинства и царей; если юную Поликсену зарезали на могиле, и подобные возлияния совершались в честь сына богини; если над Кассандрой, девою неприкосновенной святости, жрицею Аполлоновой, обнявшей кумир в святилище Афины, было совершено насилие, и сделал это не какой-нибудь низкий и ничтожный человечишко, но как раз один из лучших;698 (154) если Приама, царя всей Азии и дряхлого старца, изранили у алтаря Зевса, от коего род Приамов, и на нем и зарезали, и это тоже сделал не кто-нибудь из безвестных людей, но сын Ахиллеса, невзирая на то что отец его оказал Приаму гостеприимство и спас ему жизнь; и если Гекуба, стольких сынов злополучная матерь, в поруганье была отдана Одиссею и от бездны несчастий, словно на смех, стала собакою; и если эллинский царь священную Фебову деву, на которую никто не посягал из-за ревности бога, взял себе в жены и за это, видно, поделом заплатил смертью, — если все это так, то насколько же лучше для эллинов, чтобы этого не было вовсе, нежели взять Трою!
ЭЛИЙ АРИСТИД ВТОРАЯ СВЯЩЕННАЯ РЕЧЬ
699
(1) Вспомним же теперь, по мере сил, и о том, что было с нами раньше. Сначала нам совсем не хотелось этого описывать точно, так как все это, казалось, не сможет пережить нас, да и слабость тела не позволяла нам этим заниматься, а по прошествии некоторого времени вообще оказалось непосильным вспомнить и подробно пересказать отдельные частности: лучше было бы вовсе промолчать, чем испортить дело. И я немало обращал просьб и отговорок и к богу и к друзьям, постоянно понуждавшим меня рассказать обо всем и представить все это на общий лад.
(2) Но теперь, по прошествии стольких лет, как ты узнаешь далее, мы принуждены рассказать обо всем виденном по возможности беспристрастно. Однако я сообщу теперь ровно столько, сколько бог повелел мне описать сновидений; это было первым из повелении божества. И вот я осуществил описание моих сновидений, и так как я не мог собственной рукой записать их, то продиктовал. Я не прибавил в них ничего ни об отдельных частностях, ни о том, как сбывались иные сны: довольно и того, если я хоть немного удовлетворил бога, будучи столь слаб телом, как я уже сказал, да и не надеясь проникнуть умом в его дела. И в свидетели того призываю Адрастею!700
(3) Кроме того, начав описывать701 все не с самого начала, я, словно уязвленный этим, и остальное упустил из виду, — одно по собственной воле, другое же невольно, ибо искал я иных путей служения богу… Когда уже было мною сделано записей702 не менее тридцати тысяч, их, однако, нельзя было ни легко охватить взором, ни так приноровить, чтобы они подходили к определенному времени; а некоторые среди них оказались той порой даже расхищенными среди всевозможных бедствий и домашнего беспорядка. (4) Таким образом, у меня осталась, так сказать, только самая суть. Однако, так или иначе, эти сны пришли мне на память, ибо их привел и вдохновил бог. Призовем же бога для этого дела, как и для всякого другого. Ведь именно его нужно призывать в любом деле,703 если это и вправду некий бог.
(5) После того как я возвратился из Италии, много и всячески повредив своему телу из-за непрестанных лишений и бурь, с которыми я столкнулся в пути, следуя через Фракию и Македонию, да еще из дому отправился я больным, у врачей возникло большое сомнение, так как они не могли не только помочь мне, но даже понять, в чем заключается моя болезнь. (6) Самым тяжким и непреодолимым было то, что у меня стало прерываться дыхание, и после продолжительной работы я едва-едва и с трудом дышал, а приступы удушья случались постоянно; в горле холодели жилы, одежды мне нужно было больше, чем я мог надеть. Но кроме того, меня удручали и другие неисчислимые беды. (7) И показалось, что нужно воспользоваться теплыми источниками: может быть, мне станет лучше или хоть дышать будет легче? Но ведь уже была зима, а источники находились на некотором расстоянии от города.
Тогда-то и начал впервые Спаситель давать свои предсказания. Он повелел мне пройти босиком; и я шел во сне, как будто наяву, а проснувшись, громко прокричал: «Великий Асклепий, свершилась твоя воля!»; это, как мне казалось, я кричал, продвигаясь вперед. После этого я был призван и в добрый час отправился в путешествие из Смирны в Пергам.704
(8) А все, что затем произошло, разве может описать человек? Все же я должен попытаться, как обещал, без всякой подготовки рассказать кое-что из случившегося. Если же кто пожелает во всех подробностях узнать, что случилось с нами по воле бога, тому стоит поискать старые пергаменты и посмотреть, каковы были сами сновидения. Ведь он найдет там и средства всевозможные, и диалогов несколько, и речей в изобилии, и всевозможные чудесные предзнаменования, всевозможные предсказания, всевозможные изречения оракула о самых различных делах, — одни писанные прозой, другие же — мерной речью, и все это воздавало богу подобающую благодарность — большую, чем могло бы показаться.
(9) А теперь, раз уж мы вошли в святилище, отсюда и начнем речь о том, как в первую же ночь моему наставнику явился бог, принявший облик теперешнего консула Сальвия.705 Кто был Сальвий, мы тогда еще не знали, а он в то время как раз был ревностным приверженцем бога. И наставник рассказывал, что бог в этом облике говорил с ним о моих речах и что одобрил их, назвав их так: «Священные речи». (10) Вот как было дело. А затем он дал мне самому лекарства, из которых, сколько я помню, первым был сок бальзамового куста; это был подарок Телесфора Пергамского, и им надо было натереться во время омовения при переходе от теплой воды к холодной. Затем он дал мне очистительные средства,706 составленные из изюма и других вещей, потом видимо-невидимо всякого другого; все это я опущу, но непременно постараюсь не упустить из вида того, что и вправду достойно удивления. (11) Раз уж я начал, мне надо сказать о многом и разнообразном; однако всего память не сохранила, сохранила только благодарность.
Послал он меня в Хиос, сказав, что посылает ради очищения. Но отправились мы, вопреки его желанию, через Смирну и думали, что это происходит помимо божьей воли и что мы и вправду плывем по своему разумению; так мы оказались вдали от святилища. (12) Нужно ли мне рассказывать, как все были поражены в Смирне, увидев меня вопреки своим ожиданиям? Но когда мы были в Клазоменах, появилась необходимость тотчас же переправиться в Фокею. И вот, когда мы отплыли, правя вокруг островов к Дримуссе и Пелле, задул попутный ветер с востока; когда мы продвинулись дальше, ветер стал сильнее и, наконец, перешел в ураган. Тут нос корабля взлетел кверху, корма опустилась, и корабль едва не затонул; затем его стало захлестывать со всех сторон и, наконец, понесло обратно в море. Вспотевшие матросы, растерявшись, громко кричали, а с ними и все, кто был на корабле, — ведь с нами вместе плыли некоторые из близких, — я же мог только произнести; «О Асклепий!» Испытав множество различных опасностей, среди бесчисленных бед, обрушившихся на нас вблизи от нашей гавани, сокрушенные и уничтоженные, причинив немалый страх видевшим все это, мы насилу спаслись.
(13) Когда настала ночь, бог повелел мне совершить очищение, указав, из чего оно должно произойти, — я же и так оказался очищенным ничуть не хуже, чем чемерицей, как сказали сведущие в этом люди, — ведь всё во мне уже растрясла буря; и открылся он мне тогда, сказав, что кораблекрушение было мне назначено Судьбой, и почему случилось все это, и что теперь необходимо ради моей безопасности и по воле Судьбы взойти в гавани на корабль и таким образом обрести спасение, так как прежний корабль после случившегося перевернулся и затонул, а сам я, выбравшись из него, оказался на суше; свершилось неизбежное. Разумеется, мы радостно исполнили все это. (14) Всем показалось удивительным это хитроумное кораблекрушение, сопряженное со столь явной опасностью. Вот тут и поняли мы, что и на море сам бог был нашим спасителем. (15) А к этому благодеянию присоединилось и очищение.
После этого бог задержал нас в Фокее, являя этим некое чудесное знамение, не только к этому событию относящееся, но и ко многому, многому другому. И о ветрах, которые должны быть благоприятными, мы услышали заранее; так что, когда наш гостеприимец Руф узнал о сновидениях, — а был он, между прочим, знатнейшим из фокейцев и сам, конечно, не чужд Асклепию, — изумление его было велико. Изумился он, и услышав от нас вне дома о том, что он оставил там.707 (16) Кроме того, когда, по воле бога, мне понадобилось молоко, а его нигде не было, — ведь это было, помнится, в середине месяца дистра,708 — то его пришлось разыскивать; и вот тогда-то Руф, отправившись в какое-то свое поместье, нашел там овцу, родившую в ту же самую ночь, и, получив молоко, принес его нам. (17) Затем бог отменил плавание на Хиос, указав и возвестив иное, а я окончательно понял, каким неразумным и совершенно ненужным было это плавание. Есть местечко Геннаида, находящееся недалеко от Фокеи; и вот, проведя несколько дней в тех водах, мы опять возвратились в Смирну.
(18) Когда мы оказались в Смирне, бог явился мне, приняв вот какой облик: был он не только Асклепием, но и Аполлоном,709 которого в Пергаме называют «Кларосским» и «Прекраснодетным» и чей храм — первый среди трех храмов города. И в этом облике, остановившись близ моего ложа, он вытянул пальцы и, помедлив в раздумье некоторое время, сказал: «Ты десять лет при мне и три года — при Сераписе», — но в то же время эти три и десять по положению пальцев составляли как бы семнадцать, — и «ты видишь не сон мимолетный» — и сам я видел это. Далее он повелел мне спуститься к реке, протекающей через город, и совершить в ней очистительное омовение, а дорогу мне должен был указать не достигший еще возмужалости отрок; и бог показал мне мальчика.710 Но самым важным в чудесном явлении бога было то, что, вопреки всему, я мог это сделать и обо всем обстоятельно потом рассказать. (19) Ведь была середина зимы, жестокий Борей и ледяной холод, и камешки на берегу так слиплись от стужи, что казались одним сплошным кристаллом, и вода также была под стать столь холодному воздуху. (20) Когда было объявлено все, касающееся повеления бога, нас провожали друзья и близко знакомые нам врачи и другие люди, — одни тревожась за нас, другие же ради любопытного зрелища. Была тут и огромная пестрая толпа, потому что за городскими воротами состоялась раздача денег; все это было ясно видно людям с моста. Был тут врач Гераклеон, наш друг, который на следующий день признался мне, что он был убежден: если даже я и совершу омовение наилучшим образом, я все же получу судороги или другую подобную болезнь. (21) Мы оказались у реки, и тут никому не пришлось меня принуждать: исполнившись жаром от созерцания бога, сбросив одежды и пренебрегая растиранием, я бросился в бездонную глубь. Затем, как будто в купальне с мягкой и нагретой водой, я задерживаюсь в реке, выплывая и погружаясь то тут, то там. А когда я вышел, вся кожа моя блестела, а тело казалось легким; и у присутствовавших и у подходивших вырвался громкий возглас, самый славный из возгласов: «Велик Асклепий!» (22) Рассказать ли, что было потом? Весь остаток дня и часть ночи до отхода ко сну я сохранял вид, бывший у меня во время очистительного омовения; тело не делалось ни более сухим, ни более влажным, и теплота хоть и не прибавлялась, но и не уходила; и не такой была эта теплота, какая могла возникнуть от человеческого искусства, но какая-то иная, неизменная теплота, дающая равную силу всему телу и коже. (23) Подобным же образом все это затронуло и мое сознание. Ведь я испытал не какое-нибудь привычное всем удовольствие, и не по человеческому пониманию проникся я этим, но был исполнен какой-то необычайной радостью, которая вдруг заслонила все прочее, так что мне казалось, будто я вижу не то, что я видел на самом деле, — настолько всего себя я поручил богу.
(24) Но уж теперь, о владыка,711 необходимо показать и рассказать по порядку, что следует нам изложить и к чему обратиться, чтобы ты остался доволен рассказанным, и как продолжить дальше повествование наилучшим образом. Поскольку я уже говорил о реке, зиме и о том очистительном омовении, не рассказать ли мне и о других подобных явлениях, перечислив чудесные зимние омовений и вообще все самое невероятное? Или, прервав речь, сообщить о том, что было в промежутках между ними? Или, скорее, оставив без внимания все бывшее между омовениями, завершить все рассказом о том, как обстояло дело с изречением оракула о данных мне годах712 и о том, как оно сбылось. (25) Но ведь было и много всего другого, что ниспослал нам бог, непрестанно спасая нас от опасностей, становившихся на нашем пути, которые, как бы слившись воедино, не прекращались ни днем, ни ночью, нападая на нас каждый раз в новом обличье — одни ослабевая и отступая, другие же вновь нас терзая. И против любой опасности у бога были средства защиты, и всяческое утешение, и на словах и на деле; и, как я припоминаю, вот что было им тогда совершено. (26) Он возвестил, что на третий день мне суждено умереть, и это неизбежно, и вместе с тем явил предзнаменования о том, что должно произойти на следующий день, и какая будет погода, и где будет стоять возница; и другие явил знаки правдивости этого. (27) Мне же следовало поступить так: во-первых, взойдя на колесницу, направить свой путь к реке, которая протекает через город, и, проехав вдоль нее, уже по выходе из города, совершить священный обряд эпиботрии.713 Обряд этот таков. Мне нужно было выкопать ямы и совершить возле них священные обряды, которыми следует чтить богов. Затем, повернувшись и взяв мелкие монеты, перейти реку и бросить их; и многое другое, кроме этого, повелел он мне сделать. Потом, войдя в святилище, мне надо было принести подобающие жертвоприношения Асклепию и, посвятив ему священные сосуды, уделить всем своим спутникам священные доли. Надо было мне отсечь и какую-либо часть своего тела ради спасения всего тела. Но это было тяжко, и я отказался от этого, а вместо того снял перстень,714 который носил, и посвятил его Телесфору. Ведь поступить так все равно что уступить самый палец; а на оправе перстня нужно написать: «О, дитя Крона»; и будет спасение поступившему так. После этого можно представить, что мы чувствовали и какой гармонией нас вновь преисполнил бог. Ведь, как и вначале, мы одновременно со страхом ощущали благую надежду.
Здесь следует поведать о том, что содействовало такому состоянию, а также о том, как я выпил полынь, что случилось позже. (29) Так как каждому все это своей очевидностью внушает величайший трепет, мне следует здесь ясно рассказать, что именно я видел. Впрочем, подчиняясь совету многих, я вынужден, как я уже упоминал, рассказывать лишь основное и касаться лишь самого важного. (30) Один из двух прислужников храма715 звался Филадельф, и ему так же, как и мне, в ту ночь было сновидение, только оно чуть-чуть отличалось от моего. Филадельфу предстала, насколько я помню, в священном театре огромная толпа людей, облаченных в белые одежды и собравшихся воздать почести богу; среди них, как ему казалось, был и я, пришедший, чтобы обратиться к народу и восславить бога,716 который уже много раз в других случаях отвращал от меня несчастья, а совсем недавно повелел мне, найдя полынь, выпить ее, смешав с уксусом, дабы не испытывать отвращения. И еще, как я знаю, поминал он некую священную лестницу и на ней некие удивления достойные проявления силы бога. (31) Все это выпало увидеть Филадельфу, а мне самому выпало вот что.
Привиделось мне, что стою я у дверей храма, и сюда сошлось множество других людей, будто бы для очистительной жертвы, и были они одеты в белое и в остальном выглядели подобающим образом. И тут среди прочих возгласов я обратился к богу, назвав его «Дольщиком», так как он назначает людям их долю; и отозвалось во мне мое слово. И каким-то образом стала мне тут ясна и полынь, и многое другое, имеющее связь с очевидным присутствием бога. (32) Казалось, что я прикасаюсь к нему и ощущаю явление его самого, нахожусь между сном и бодрствованием, всеми силами хочу увидеть его и боюсь, как бы он не удалился, и, напрягши слух, слушаю — то во сне, то наяву. К этому надобно добавить, что волосы у меня встали дыбом, и выступили слезы радости, и я ощутил воспарение духа, — но кто из людей сможет выразить все это словами? Разве только кто-либо из посвященных может это осознать и объяснить.
(34) Так я увидел все это, а потом настало утро, и я позвал врача Феодота; а когда он пришел, я рассказал ему свои сновидения. Он же дивился необычайности случившегося, но не знал, что и сказать, опасаясь и зимнего времени, и крайней слабости моего тела: ведь я уже много месяцев не выходил из дома. (35) И вот нам стало ясно, что недурно было бы пригласить Асклепиева прислужника, у которого я в то время жил717 и с которым привык делиться многими из своих сновидений. Служитель явился, — и не успели мы даже слова сказать, как он сам обращается к нам. «Только что, — говорит он, — я пришел от своего товарища, который меня позвал, — он говорил о Филадельфе, — тот как раз видел этой ночью удивительный сон, имеющий отношение и к тебе». И тут рассказал он нам то, что привиделось во сне Филадельфу, и сам Филадельф, призванный нами, повторил этот рассказ. Когда же оба сновидения оказались согласными друг с другом, я тотчас воспользовался назначенным мне лекарством, выпив то, что никто не пил до меня, а равно и на следующий день я выпил лекарство, как то было указано богом. С какой легкостью оно пилось и как помогало, сможет ли кто описать?
(36) Об этом было мне много других вещаний и раньше, и потом, и все сбывалось с той же помощью бога.
(37) Так начнем же речь снова и скажем, как сбылись изречения оракула относительно данных мне лет. В то время бог во всем был нашим спасителем и изо дня в день оказывал нам свое покровительство. Более того, он и теперь наш спаситель, и кому известна даже самая малость из того, что случилось с нами, это знает. Когда же настало время, указанное в прорицании, произошло следующее.
(38) Как я сейчас восстанавливаю в памяти, в самый разгар лета я находился в предместье города, когда губительная болезнь охватила почти все соседние края. Сначала от нее тяжко страдали двое или трое, потом всё больше и больше, и, наконец, стали умирать все, и молодые и старые; в конце концов был настигнут болезнью и я. Пришедшие из города врачи оставили с нами для оказания помощи своих учеников, а иные подчас сами сидели возле нас вместо своих учеников. Болел даже рабочий скот, и если кто-нибудь выходил из дома, то он и лежал тут же у своих дверей, и даже по морю нельзя было путешествовать безопасно. Все было полно отчаяния и горя, стенаний, жалоб, да и в городе свирепствовали страшные болезни. (39) А я между тем противился недугу, заботясь о спасении других не меньше, чем о своем собственном. Но затем болезнь усилилась, и у меня сделалось страшное воспаление всей желчи, которое мучило меня, не прекращаясь ни днем, ни ночью; и пищу я, не мог принимать, и силы меня оставили. И врачи отступили, окончательно потеряв всякую надежду, и было объявлено, что я вот-вот должен умереть. Однако в этом случае уместны, пожалуй, слова Гомера: «…но дух оставался в нем твердым».718 Я так следил за самим собой, будто за кем-то другим, и чувствовал, как непрерывно слабеет тело, пока не подошел к последней черте.
(40) И теперь, находясь в таком состоянии, случайно повернувшись на своем ложе к стене, увидел я некий сон:719 это была развязка. Привиделось мне, что по окончании театрального зрелища я, сняв котурны, собирался обуть отцовские башмаки. Тем временем Спаситель Асклепий неожиданно поворачивает меня к наружной стороне ложа. (41) И тут вскоре появилась Афина,720 эгиду несущая, а красотой и величием и всем обликом Фидиевой Афине подобная. И распространялось от ее эгиды благоухание сладчайшее, и было оно подобно аромату воска; сама же она отличалась дивной красотой и ростом. И казалось мне, что остановилась она прямо против меня, откуда я мог ее лучше всего видеть. Я указывал на нее присутствовавшим (а были здесь двое друзей и воспитатель), крича, что вот Афина стоит передо мной и говорит со мной, и показывал на ее эгиду. Они же не знали, что и подумать, и боялись, не стал ли я бредить, пока все они не увидели, что у меня прибавляются силы, и не услышали слов, которые я услышал от богини. И все это я помню. (42) Она привела мне на память «Одиссею» и сказала, что это не сказка, о чем и свидетельствует ныне происходящее, а теперь надо быть стойким, и что сам я, разумеется, и Одиссей, и Телемах, и что она должна прийти мне на помощь, — и многое другое в том же роде я услышал. Вот так явилась мне богиня, и ободрила меня, и спасла немощного, уже вот-вот готового умереть.
(43) Тут-то вдруг мне пришло на ум воспользоваться клизмой из аттического меда, и произошло от нее очищение желчи. А затем к этому присоединились целебные средства, а затем, после длительного отказа от всякой еды, и пища, прежде всего печень (я думаю — гусиная) и свиные потроха. После этого меня отвезли в город на большой крытой повозке, и таким образом едва-едва и с большим трудом я восстановил свои силы. (44) Однако окончательно прекратилась горячка не прежде, чем скончался один из воспитанников, достойный наивысших похвал. Как я узнал позже, он умер как раз в тот день, когда меня отпустила болезнь. Итак, и прежде моя жизнь была даром богов, и возвращение к ней — их милостью, — и было это словно какое-то воздаяние, (45) Так обстояло дело с предсказаниями оракула об этих годах, о случившейся болезни и всех божественных явлениях, связанных с нею.
Уместно сказать, конечно, и об очистительных омовениях, которые бог повелел нам совершить, поскольку уже вначале, вместе с прорицанием оракула он повелел нам совершить очистительное омовение в реке. (46) Был у меня насморк, и во рту болело, и был он полон запекшейся кровью и жаром, и желудок был окончательно испорчен, и, кроме того, было еще многое, многое другое, и лежал я среди летнего зноя. Случилось это в Пергаме у служителя храм Асклепия. (47) Так вот, прежде всего он приказал пустить мне кровь из локтевого сгиба и взять ее, насколько я помню, сто двадцать литр.721 Было ясно, что не мало здесь потребуется кровопусканий, как оно и оказалось впоследствии. Ибо и преклонных лет служители, и все остальные прислужники бога были согласны в том, что до сих пор они не только не знали никого, кто вскрывал бы вены так часто, исключая лишь Исхирона, рассечения которого вызывали у всех восторг, но что в случае со мной врач далеко превзошел его, не считая других достойных удивления рассечений, среди которых было, конечно, и упомянутое. (48) То ли на другой, то ли на третий день он снова приказал пустить кровь из лобной жилы: он и одному из римских сенаторов, заседавших тогда, это приказал, сказав, что то же самое было предписано Аристиду. Сенатора звали Седат, — прекрасный человек, он сам рассказал мне все это. И вот в пору этих кровопусканий бог приказывает мне совершить очистительное омовение в Каике. Нужно было, сбросив одежду, пройти по дороге и затем омыться. Он предрек, что мне предстоит увидеть коня,722 купающегося в реке, и служителя храма Асклепия, стоящего на берегу. (49) Так он предсказал, и так именно и случилось. Уже подходя к реке, я вижу купающегося коня, а когда я совершал омовение, мне предстал служитель, и он смотрел на меня, стоя на берегу. Какую после этого я почувствовал легкость и бодрость, только богу легко постичь, человеку же ни умом объять, ни словами описать.
(50) Другое омовение также было предписано мне в Смирне с наступлением зимы; мне следовало пойти к теплым источникам, но омыться там не теплой водой, а протекающей мимо рекой. День же был сырой и холодный, и вода так спала, что позволяла перейти реку вброд; и это было первым чудом. А под вечер, когда произошла очистительное омовение, задул сильный Борей.
(51) Также и в Пергаме снова, когда настала зима и я исхудал настолько, что очень долгое время не мог выходить из дома, в котором лежал, бог приказал мне совершить очистительное омовение в реке, текущей через город, — а река в ту пору разлилась от сильных дождей, — и повелел, что надо совершить три омовения сразу. Когда об этом приказании стало известно, сошлись самые ревностные из друзей, намереваясь сопутствовать мне и беспокоясь за исход дела и вместе с тем решив, что на такое зрелище стоит посмотреть: ведь день был зимний. (52) И вот прежде всего, уже на пути к реке, хлынул дождь, и то было первым омовением. Потом мы поднялись вверх по Гиппонской дороге, намереваясь воспользоваться чистой водой, еще не достигшей города. Когда же мы подошли к берегу, никто из друзей не осмелился нас понуждать, хотя тут был сам служитель и некоторые из философов, люди во всех отношениях безупречные; все они тревожились и все не знали, что предпринять. Я же сбросил одежду и, призвав бога, бросился прямо в середину потока. (53) А поток ворочал камни, сносил деревья, бесновался, пенясь словно от ветра, и внизу ничего нельзя было рассмотреть; стоял сильный шум и грохот. Но камни, словно листья, огибали меня, и вода была так легка, как нечто самое легкое и прозрачное, и позволяла находиться в ней сколько угодно. Когда я вышел на берег, по всему моему телу стало разливаться тепло, и обильный пар поднимался кверху, и все тело раскраснелось; и мы пропели хвалебный гимн. Когда же мы возвращались назад, опять по воле Зевса полил дождь, и таким образом совершилось третье омовение.
(54) К слову сказать, в Элее другое омовение совершилось так. Бог отправил меня омыться в море, заранее предсказав, что я найду у входа в гавань корабль, прозванный «Асклепием», с которого мне надо броситься вниз, и услышу голоса матросов, и все прочее, чего я как следует и не помню и чем обычно сопровождается дневное отплытие. И вот когда мы оказались в Элее и пришли в гавань, то сразу же увидели корабль под названием «Асклепий», и тотчас закричали матросы, что сам бог взирает на происходящее. Но был сильный северный ветер, так что пришлось закрыть выход из гавани. (55) А когда настала ночь, бог снова приказывает таким же образом воспользоваться морем, выйдя же из воды, стать против ветра и так исцелить тело. И уже именно тогда все это было связано с другим, хорошо мне известным. Но если кто-нибудь примет близко к сердцу все случившееся с нами, то он скажет, что во всем этом наибольшего удивления достоин бог, ибо он во многих случаях постоянно проявляет свое могущество и пророческую силу.
(56) Если бы кто-нибудь мог представить себе, что со мною тогда было! Но бывшие с нами неотлучно хорошо знают, в каком состоянии я тогда был и как выглядел. Уже и слизь текла у меня из головы и днем и ночью, в груди клокотало, и дыхание, поднимаясь против истечения кверху, сжималось в горле, и горло воспалялось. Постоянно со страхом ожидал я своей смерти, так что даже не осмеливался позвать на помощь служителя, но полагал, что, пожалуй, бесполезно звать его: ведь зачем опережать события? (57) Ко всему прибавились всяческие боли в ушах и в зубах и стесненность во всех венах; и пищу я не мог ни принять, ни извергнуть. Если хотя бы немного пищи касалось глотки или нёба, то горло сжималось, и нельзя было даже вздохнуть. Кроме того, у меня была сильная боль в мозгу и всевозможные приступы, а по ночам я не мог лежать, но принужден был, поднявшись с ложа, стойко переносить боль, наклонясь вперед и склонив голову на колени. (58) От всех этих причин, как я полагаю, мне приходилось завертываться в шерстяную одежду и всякие покрывала, и я оказывался так тщательно укутанным со всех сторон, что день для меня превращался в ночь, а ночи, вместо дней, проходили без сна; «…о них же может ли все рассказать один из людей земнородных?»723 Ведь ни пяти, ни шести лет недостаточно будет для рассказа, но потребуется, пожалуй, времени не меньше, чем то, в течение которого это все произошло. (59) Если бы кто-нибудь все взвесил и увидел, среди скольких и каких бедствий мы были и с какой неизбежностью бог посылал нас к морю, к рекам и колодцам и велел нам противиться зиме, то тот человек сказал бы, что все это поистине превыше всяких чудес, и нагляднее постиг бы могущество бога и его прозорливость, и оценил бы честь, которой я был удостоен, не менее, чем опечалился бы из-за моей болезни.
(60) Но теперь, возможно, кто-нибудь уже приготовился услышать обо всем, что случилось. Что ж, пусть это будет гораздо длиннее, нежели рассказ перед Алкиноем, я все же попытаюсь поведать об этом без подготовки.
Я отправился в Рим724 в середине зимы, и как плохо я ни чувствовал себя от воды и от холода, я пренебрег этим, положившись во всем на упражнение тела и на свою счастливую судьбу. Когда я достиг Геллеспонта, у меня нестерпимо заболело ухо, и в остальном я тоже чувствовал себя плохо, но, ощутив некоторое облегчение, я отправился дальше. (61) После того были дожди и холода, лед и всевозможные ветры. Гебр,725 через который еще недавно можно было переплыть, теперь весь покрылся льдом; равнины, насколько хватало глаз, превратились в болота, не хватало постоялых дворов, с тростниковых крыш лилось больше воды, чем текло ее с небес от Зевса, и, наконец, при всем этом, ехать приходилось быстро, не считаясь с временем года и здоровьем, так что даже гонцы с военными донесениями меня не обгоняли.
Я же сам, если было необходимо, находил проводников, но это удавалось нелегко. Ведь варваров, стремившихся ускользнуть, надо было привлекать на свою сторону то уговорами, а то, и силой. (62) Болезнь же от всего этого усилилась. Кроме того, я оказался в крайне тяжелом положении из-за зубной боли, так что я постоянно протягивал к зубам пальцы, как бы собираясь их вытащить, а пищи не принимал никакой, разве только одно молоко. Тогда я впервые почувствовал в груди удушье, напали на меня сильные лихорадка и другие бесчисленные беды, и лежал я в Эдессе726 близ порогов.
Наконец, на сотый день после выезда из дома, я с трудом достиг Рима. Тут у меня вспухли внутренности и застыли жилы, лихорадочный озноб распространился по всему телу и дыхание стало затруднено. (63) Врачи принесли очистительные средства, и я, выпивая их в течение двух дней, пока средство не дошло до крови, очистил желудок. Лихорадка охватила меня, и все было безысходным, и не оставалось уже никакой надежды на спасение. Наконец, врачи, начав с груди, сделали рассечения по всему телу вплоть до мочевого пузыря; и когда были поставлены банки, дыхание почти совсем прекратилось, и приводящая в оцепенение боль пронизала меня насквозь, а перенести ее не было сил. Все было в кровавых пятнах, и я дошел до крайнего истощения, а кроме того, и в кишках я почувствовал какой-то холод и напряженность. Ко всему этому присоединилась сильная затрудненность дыхания. (64) И не знал я, что предпринять; ведь все это и пищу принимать мешало, и разговаривать, и страшно было задохнуться. К этому присоединялась и беспомощность всего тела. Лекарства же, как приготовленные летом, так и всякие другие, помощи не давали.
Стало ясно, что необходимо вернуться домой, если только на это хватит сил. И вот поскольку сухопутная дорога была для меня непреодолимой, — ведь тело мое не переносило сотрясения, — мы решили плыть морем. А из рабочего скота, который мы пригнали, часть погибла вследствие зимы, а то, что осталось, мы продали. И тут произошла настоящая Одиссея.727 (65) В Тирренском море сразу же началась буря, настал мрак, подул мокрый юго-западный ветер и поднялось необузданное волнение, так что кормчий бросил руль, а капитан корабля и матросы, заливаемые водой, оплакивали самих себя и свой корабль. Тут огромная волна хлынула через нос и корму в корабль, нас захлестывало и ветром и волнами, и длилось это день и ночь. (66) Было около полуночи, когда мы были отнесены к Пелориде, мысу Сицилии. Затем мы блуждали и неслись, плывя то вперед, то назад. Адриатическое же море мы прошли за две ночи и за день, в то время как волны кротко сопутствовали нам. А когда уже следовало достичь Кефаллении, вдруг снова поднялось сильное волнение и задул встречный ветер; и носились мы по волнам то вверх, то вниз, а все мое тело было крайне истощено и разбито. (67) А того, что произошло в Ахейском проливе под самое равноденствие, когда храбрые матросы отплыли из Патр, между тем как я не хотел этого и противился, — этого никто, пожалуй, не сумел бы изложить по порядку. Не сумел бы сказать, среди каких бед у нас истощалось тело, и грудь, и все прочее.
(68) То же самое случилось и в Эгейском море из-за невежества кормчего и матросов, когда они, вовсе не желая внять моим советам, дерзнули плыть при противном ветре. Снова четырнадцать дней и ночей среди зимы носились мы по всему морю, испытывая при этом немалый голод, и наконец нас насилу отнесло к Милету. И вот я уже не мог стоять на ногах, и уши мои перестали слышать, но ничто не удручало меня. Спустя короткое время, продвигаясь таким образом, мы, вопреки всем ожиданиям, достигли Смирны; ведь уже была зима. (69) И нёбо у меня было в самом тяжелом состоянии, и все остальное тело — также. И вот собрались врачи и наставники атлетов, но не могли они ни помочь мне, ни распознать коварство моей болезни. И сошлись они на том, что мне следует отправиться к теплым источникам, поскольку я уже не мог выносить городского воздуха. То, что случилось потом, я уже рассказал немного раньше.728
(70) Из всего случившегося, как я уже кратко и сбивчиво рассказал, возникла болезнь и охватила меня, все время усиливаясь. А по прошествии года и нескольких месяцев мы отправились отсиживаться в Пергаме.729
(71) Теперь же давайте возвратимся к тому, с чего мы начали, — к божественным очистительным омовениям, оставив без внимания скорби, болезни и всякие опасности. Когда я расположился между дверьми и оградой храма, чтобы увидеть какое-либо сновидение, бог изрек мне такой стих:
В зеленоватых лучах сверкали вечерние [звезды].Затем я натерся мазью под открытым небом во дворе святилища и омылся в священном колодце; и всякий, кто это видел, едва этому верил. (72) И в короткое время я изгнал бы всю болезнь, — ведь когда бог явил знамения и переменил мой образ жизни, я и сам хотел сделать так, как он требовал от меня. Но вот «…возобладало плохое сопутников мненье».730 Те, кто претендовали на мудрость и, казалось, уже обладали ею, чрезвычайно нелепо толковали сновидения, утверждая, будто бог определенно указывает на то, что мне следует оставить все как есть. И я, хотя и неохотно, полагая, что сам я знаю это лучше их, согласился с ними, чтобы не показалось, будто я считаюсь только со своим мнением. Попав же в беду, я хорошо понял, как верно я тогда рассуждал. (73) Но не будем говорить о ложных советах, — ведь и они, как подумалось мне, были не без участия бога. Один и тот же образ жизни и занятий несет спасение, силу, легкость, помогает деятельности, дает спокойствие и всякие блага и телу и душе, если это повелевает и определенно указывает на это бог; если же это делается по совету того, кто не считается с волей божества, то исход получается противоположный. Разве это не лучшее доказательство могущества бога? Ну а теперь мы расскажем и об остальном.
(74) Было весеннее равноденствие, когда люди обмазывают себя грязью в честь бога. Мне же он не разрешил лишних движений (если только этот запрет имел какое-либо значение), и я воздержался от этого. День же, насколько я помню, был очень теплым. Спустя несколько дней началась буря, Борей охватил все небо, беспрерывно собирались черные тучи, и снова вернулась зима. Тут-то и повелел мне бог намазаться грязью перед священным колодцем и затем омыться в нем. На меня тогда стоило посмотреть: и грязь, и воздух были такие холодные, что я бегом бросился к колодцу и, так как не было другого тепла, согрелся в его воде. И это прежде всего достойно удивления.
(75) А на следующую ночь бог снова велит мне намазаться грязью и таким образом трижды обежать вокруг храма. Но дул невероятно сильный Борей и стоял пронизывающий холод, так что нельзя было найти такой теплой одежды, чтобы она послужила достаточной защитой; холод вторгался всюду и пронизывал бока, словно дротик. (76) И вот некоторые из друзей, как будто желая меня ободрить, хоть в этом и не было необходимости, решили подвергнуться риску и подражать мне. А я, уже обмазавшись грязью и хорошо подготовившись к порывам Борея, обежал вокруг храма и, подбежав наконец к колодцу, омылся в нем. Из них же одни сразу повернули назад, другие, схваченные судорогой и поспешно доставленные в баню, отогрелись лишь после больших усилий. А мы после этого уже наслаждались весенним днем.
(77) В другой раз, зимой, когда все застыло и дул ледяной ветер, бог велит мне, взяв грязь и обмазавшись ею со всех сторон, сесть во дворе священного гимнасия и призвать Зевса, из богов величайшего и наилучшего. И это произошло при многих очевидцах.
(78) После этого ничего удивительного не было в том, что когда нас в течение сорока и даже более дней трепала лихорадка, когда даже некоторые гавани замерзли и весь морской берег от Элей до Пергама покрылся льдом, тогда он повелел мне надеть одну только полотняную рубашку, и не какую-нибудь, а именно эту, и, выйдя из постели, омыться в источнике за городом. (79) Найти же воду было трудным делом, так как все замерзло и сам источник сразу сделался холодным и вытекал словно поток льда. И если даже что-либо теплое и струилось оттуда, оно тут же замерзало. Но мы все-таки омылись в этом источнике, и полотно предохранило от холода. Все остальные замерзли гораздо больше; мне же более всего помогло пребывание вблизи храма.
(80) С этим было схоже и то, как мы ходили босиком зимой, и то, как мы лежали в разных местах святилища, и под открытым небом, и где придется, а чаще всего у порога храма, перед самым священным святильником божества; и плащ без рубашки я носил не знаю сколько дней. А сколько раз прежде бог велел мне воспользоваться реками, источниками или даже морем, — и до этого и впоследствии, то в Элее, то в Смирне, и в какое именно время года, — всего этого, пожалуй, и не расскажешь.
(81) Но когда недавно, как было сказано ранее, бог послал нас в Эфес, то в пути на третий день случился дождь, но на другой день он сам прекратился и вода тотчас спала. Так было не только в этот день, а и в следующий. Все это я предсказал моим спутникам; но они отнеслись к этому иначе и в своей несравненной заботе о нас полагали, что нам необходимо спешить вперед. Те же, кто направлялся навстречу нам в Пергам на всенародные игры, как только увидели нас, — бегом повернули к Эфесу. И все это было так. (82) А немного дней спустя, после того как я, перенесши дождь и напрягши последние силы, оказался в Эфесе, бог повелел мне совершить холодное омовение, и я омылся в гимнасии, который находится у Коресса. Очевидцы удивлялись омовению не меньше, чем этим словам; но и то и другое было от бога.
ЛИБАНИЙ НАДГРОБНОЕ СЛОВО ПО ЮЛИАНУ
731
(1) К нынешнему дню, почтенные слушатели, должны были исполниться все мои и ваши надежды: чтобы сокрушилась Персидская держава и чтобы не сатрапы, но римские наместники732 правили землею персов, и правили по нашим законам, и чтобы храмы наши украсились победною добычею, и чтобы воссел победитель на царском своем престоле, дабы приять хвалы за победу свою. Воистину, как я мыслю, таково было бы ему честное воздаяние, достойное многих всесожжений, кои воскурял он богам, — но нет! (2) Ныне зависть демонская одолела благие упования,733 и мертвым воротился от рубежей вавилонских тот, кому самой малости недостало для завершения подвига его. Сколько можно пролить о нем слез, столько и пролито, однако же кому под силу спорить со смертью? Что нам теперь осталось, то и ему всего милее: пусть не услыхать уже ему похвального слова делам своим, но хоть другие услышат слово мое, а потому скажу. (3) И еще вот почему скажу. Во-первых, отняв награду у того, кто столь ревностно искал славы, я был бы попросту несправедлив, а во-вторых, был бы я прямым подлецом, когда бы того, кого живого готов был чтить, не почтил бы и опочившего. Мало того, что лишь низкий льстец в глаза угождает, а об обошедшем не поминает, но живого-то ежели словом и не порадуешь, так иным способом ублажишь, а для мертвых можем мы сделать лишь одно: хвалить их и славить, дабы во всех временах звучала повесть о доблестных их деяниях.
(4) Вот и я, сколько ни затевал славословий734 достохвальному сему мужу, всякий раз находил речи свои ничтожными по делам его, однако же никогда — свидетели боги! — ничуть не досадовал, что доблесть царственного моего друга витийственности моей непосильна, как ни люблю его. Воистину, полагал я, не к общей ли выгоде граждан, ежели тот, кто восприял державу ради спасения многих, обгонит делами своими всякое слово? Даже битвенное его богатырство, на брегах океанских735 явленное, не сумел я восславить как надо, — так мне ли сегодня в единой речи успеть и о прежних его подвигах достодолжно поведать, да еще и о походе на персов? (5) Право, когда бы он, милостью дольних богов воскреснув мне на помощь, соделался бы незримым моим сотоварищем в сем тяжком труде, то и тогда речь моя не была бы вполне соразмерна с деяниями его: хоть и прибавилось бы ей лепоты, да все же не столько, сколько надобно. Так неужто уповать, что выйдет прок от усердия моего, ежели труд столь велик и огромен, а помощи нет? (6) Знай я заранее, что вы хотя и услаждаетесь словесами, однако же сознаете, сколь дела превосходнее речей, лучше всего было бы мне молчать. Но поелику вы и прежде в неизменном своем словолюбии речам моим рукоплескали, то, полагаю, и ныне по справедливости пристало мне не молчать, но сказать, как сумею, о государе моем и друге.
(7) Немало было у нас государей, разумением честных, да родом подлых: о державе позаботиться они умели, однако же родства своего стыдились, так что кому доводилось их славить, тому и была работа страдание это облегчить — а ныне нет хвалам моим даже малой препоны. (8) Вот род его: дед у него — государствовал, не стяжательством превосходный, зато великую от подданных стяжавший приязнь, отец у него — сын государев и брат государев, а по правде-то и держава была ему положена, но он о том молчал, сущего самодержца736 чтил и до конца жизни жил с ним в дружбе и согласии, (9) а женился на дочери вельможи737 именитого и многоумного, коего даже и побежденного недруг толико чтил, что ставил начальство его в пример вельможам своим. От такого-то союза и происшел благороднейший отпрыск, нареченный по деду, ибо уважил родитель почтенного своего тестя. (10) После, когда скончался Константин от недуга, едва ли не все родичи его, хоть старые, хоть малые, были истреблены мечом, однако же царственный отпрыск, равно как и единокровный его старший брат738 всеобщего избиения избегли: того выручила болезнь, мнившаяся в ту пору смертельной, а этого — младенчество, ибо был он лишь недавно отнят от груди. (11) Старший брат предпочитал витийству иные занятия, тем уповая поменее навлекать на себя подозрений, а младшего небесный его попечитель подвигнул возлюбить словесность. Итак, принялся отрок за науку в городе, после Рима величайшем,739 и хотя был внук государев, и племянник государев, и двоюродный брат государев, ходил он по учителям безо всякого чванства и спеси, не красуясь толпою челяди и не поднимая шума — только и были при нем что евнух, наилучший страж смиренномудрия, да еще дядька, ученостью отнюдь не обделенный. Одежда его была простая, перед товарищами он не важничал, сам затевал разговор, бедности не презирал, стоял, где всем положено стоять, вместе со всеми слушал, вместе со всеми уходил и ни в чем не искал преимущества, и когда бы глянул кто со стороны на всех разом, не зная, кто они и какого роду-племени, так нипочем бы не отыскал у него ни единой приметы сиятельной его знатности.
(12) Однако не во всем был он ровней товарищам, ибо куда как далеко упредил их и понятливостью, и смышленостью, и памятливостью, и неутомимостью в ученье — а я-то, видя такое, только печалился, что не мне дано засеять столь плодотворный разум! Воистину, достался юноша негодному учителю740 в награду за богохульство, и наставлял негодяй этот ученика своего в таком же духе, а тот поневоле внимал пустопорожнему витийству — и все потому, что жалкий учитель его воевал с алтарями. (13) Вот так отрок мужал, и со временем царственная его порода свидетельствовала о себе все чаще и приметнее, а это спать не давало Констанцию. Стало ему страшно, как бы столь великий град столь великого могущества, многолюдством и силою равный Риму, не прельстился бы доблестью юноши и как бы не вышло от того ему, Констанцию, беды. Итак, отсылает он юного родича своего в Никомедию:741 учиться там можно точно так же, а страху поменьше. В ту пору и я уже успел покинуть полную опасностей столицу и перебраться в это тихое место, однако юноша в ученье ко мне не пошел, хотя и не отвергал науки моей, но скупал и читал мои сочинения. (14) Почему же, радуясь сочинениям, избегал он сочинителя? А вот почему. Тот прежний пресловутый наставник обязал его клясться великими клятвами, что не примкнет он ко мне, и не станет зваться учеником моим, и даже в слушатели ко мне не запишется. (15) Потому-то он хоть и сердился на заклявшего, однако же клятвы не преступал, но, взыскуя речей моих, исхитрился сразу и зарок соблюсти, и речи мои заполучить — нашел перекупщика, который за большие деньги ежедневно доставлял ему записи моих уроков. Тут-то и явил он в полной мере природные свои дарования — сам ко мне не ходил, а выучился лучше тех, которые ни единого урока не пропустили, так что даже на ощупь собрал больше плодов, чем они на свету. Отсюда, как я мыслю, и в позднейших его сочинениях есть нечто родственное моему слогу, будто вышел он из моей школы.
(16) Итак, покуда усердствовал он в словесности, брату его досталось вторым чином соучаствовать во власти державной:742 Констанций ввязался разом в две войны, сначала с персами, а после с самозванцем, и без соправителя было ему не обойтись. Вот он и услал Галла из Италии стеречь восточные рубежи, возвысив его до отеческого звания, так что нарекся Галл братом государевым (17) и пошел с войском своим через Вифинию. Тут братья свиделись, но счастье старшего намерений младшего отнюдь не изменило, и не обленился он от того, что брат у него кесарь, а, напротив, пуще прежнего возлюбил словесность да и трудиться на сем поприще стал прилежнее прежнего. Он располагал так, что ежели суждено ему остаться частным человеком, то воздастся ему за царство мудростью и так обретет он святейшее, а ежели ожидает его скиптр, то мудростью снарядит он царство свое. (18) Потому-то и учился он днем и ночью, хоть при солнце, хоть при лучине, радея не о приросте имения своего — а разбогател бы без труда! — но лишь об украшении разума.
Как-то раз случилось ему встретиться со знатоками премудрости Платоновой,743 и так услыхал он о богах и о демонах, о сущих творцах мира и о блюстителях его, и что такое душа, и откуда она является, и куда удаляется, и отчего тонет, и отчего воспаряет, и что ее бременит, и что возносит, и что ей оковы, и что ей свобода, и как того избегнуть, а этого достигнуть. Таковым упоительным словом омылся744 от горькой коросты слух его, и тогда отринул он весь былой вздор, взамен восприяв душою красоту истины — словно поруганные и оскверненные кумиры богов водворились в священных своих чертогах. (19) От той встречи стал он иным, но гляделся прежним, ибо нельзя было ему явить себя — по такому случаю Эзоп, наверно, сочинил бы басню уже не об осле в львиной шкуре, но о льве в ослиной шкуре. Однако он-то знал, что хоть правда лучше, зато мнимость безопаснее. (20) А тем временем, привлеченные повсеместною о нем молвою, отовсюду спешили к нему по морю и посуху ревнители муз и тем паче прочих богов, дабы взглянуть на него, и узнать его, и самим сказать, и его послушать. Пришед, нелегко им было уйти, ибо не одними речами полоняла сия сирена, но чаровала еще и природного добротою своею. Сколь сильно умел он любить, столько и других тому научал, так что болью становилась разлука для столь прекрасно съединенной дружественности.
(21) Вот так постигал он мудрость и являл он мудрость, а знал и поэтов, и риторов, и преемства философские, сколько их ни есть, и греческий язык превосходно, да и другой недурно. По таковой причине, хотя государь равно пекся об обоих братьях, но все, у кого хватало разумения, только и молились, чтобы досталось державствовать младшему — да прекратится погибель вселенская и да будет у недужных заступник, коему ведомо целительное средство! (22) Воздержусь от вздорных славословий, будто порицал-де он подобные чаяния — нет, вернее будет сказать, что он и сам желал того же, но не потому, что влекли его роскошь, или власть, или багряница,745 а потому, что желал он своеручно воротить народу все, чего тот лишился, — все воротить, а уж тем паче исконное благочестие. (23) Воистину, безмерно печалился он сердцем, видя, что храмы заброшены, и чин священный прекращен, и алтари разрушены, и жертвы под запретом, и жрецы притесняемы, и богатства заповедные разграблены наглыми святотатцами. А если бы некий бог обещал ему, что все сие будет исправлено другими, он непременно постарался бы избегнуть царства, ибо ревновал он не о владычестве для себя, но лишь о счастье для граждан.
(24) Покуда в просвещенных душах возрастало желание, дабы исцелилась земля разумением его, соделался Галл жертвою клеветы. Хотя и нашел он письмо, свидетельствующее о подлом сговоре, так что успел покарать обидчиков своих — не ждать же, что оскорбленный почтит оскорбителей венками! — однако извет признан был достоверным, и умер Галл безгласен, ибо меч упредил оправдание его. (25) Тут же и младший его брат был доставлен и взят под стражу: глядели воины грозно, говорили грубо, так что и узилище было бы облегчением от жестокости их. Да притом не назначили ему определенно, где жить, а таскали с места на место и тем еще больше мучили — столько он претерпел, хотя и не было ему в укор даже и малой вины. Да и где же вина, когда до брата было более трехсот перегонов, и писал он ему нечасто, а в письмах тех только и было что обычные приветы? Потому-то и не винили его ни в чем, а помянутые мною утеснения не имели иного повода, кроме лишь того, что двух братьев породил один отец. (26) И снова остается лишь дивиться, что не польстил он убийце охальными речами об убитом, ниже и хвалебною речью по усопшему не озлил здравствующего самодержца, но оплакивал мертвого втихомолку, а живому не давал долгожданного повода для нового убийства. Воистину, столь честным и благородным было его упорное молчание, — а трудно удержать язык за зубами при таких-то утеснениях! — что стойкостью своею заградил он даже наиподлейшие уста. (27) Впрочем, и этого недоставало для спасения, и не унималась ярая лютость, но тут узрела Ино, дщерь Кадмова,746 моряка бедственного — я разумею супругу Констанция, ибо сжалилась она над юношей, а гневного супруга своего утишила и многими просьбами упросила, чтобы тот, кто столь великую любовь питает к Элладе и особливо к Афинам, зенице ока эллинского, был бы послан в возлюбленную свою землю. (28) Усомнимся ли теперь, что низошла душа его от богов? Вот дали ему выбрать, где жить, и не пожелал он ни садов, ни усадеб, ни дворцов, ни рощ прибрежных, ни роскоши от имений своих, коих было немало, но все в Ионии — а он презрел сие мнимое великолепие ради града Палладина, произведшего на свет Платона и Демосфена и прочую многоразличную премудрость. (29) Итак, отправился он в Афины, дабы преумножить свои познания и поучиться у тех, кто таковому преумножению способен помочь. Однако же когда, встретясь с учителями афинскими,747 был он ими испытан, то завел их в тупик, и не столько он им дивился, сколько они ему — вот так явился он в толпе прочих юнцов, а уж после покидал Афины, научив более, нежели научась. Потому-то и видно было, как окружали его гурьбой и молодые, и старые, и философы, и риторы — да что там! сами небожители взирали на него в благом уповании, что воротит он им прежнюю честь. (30) Не одними речами своими был он мил, но равно и стыдливостью своею — словечка не скажет, не зардевшись. Ласковостью своею дарил он всех, а доверием лишь наилучших, и особливо одного748 — то был наш земляк, среди всех человеков наичистейший, всякое злоречие добродетелью одолевший.
(31) Итак, вознамерился юноша всю жизнь прожить в Афинах и видел в том предел блаженства, однако же в эту самую пору потребовался державе второй государь, ибо крепости рейнские запустели, а посланные на сию границу полководцы притязали на удел, больший назначенного.749 Вот тут-то и был призван к царству любомудр, в Афинах о науке ревнующий и любомудрием своим не внушавший опасений злодею. Воистину, хотя убил тот злодей отца его и братьев его, кого давно, кого недавно, а все же надеялся, что не нарушит он присягу и в благородстве своем не станет мстить. (32) Таковой расчет оказался верен. Новопризванный кесарь пребывал в твердом убеждении, что вослед за почестями уготована ему погибель — слишком явно пророчила о том пролитая кровь! — но деваться ему было некуда, так что отправился он в путь, прежде слезно помолившись богине,750 да будет ему Градодержица обороною. Итак, был он повенчан на царство и без промедлений послан на дело, одному Гераклу посильное.
Послан он был к галатам,751 обитающим у края Океана, а дело было вот какое. (33) Констанций воевал с Магненцием,752 который государил самозвано, однако же законы блюл неукоснительно. Констанций, напротив, на все был готов, лишь бы одолеть соперника. Ради этого он и обратился к варварам с посланием, дозволяя им вторгнуться в римские пределы и пусть-де сколько смогут занять земли, столько и займут. (34) Прежний договор эти письма отменяли, так что варвары, пользуясь законным дозволением, хлынули через границу. Препятствия им не было никакого, ибо войско Магненция стояло в Италии. Цветущие страны в одночасье соделались добычею дикарей; деревни разорены, крепости сокрушены, имения разграблены, женщины и дети угнаны, а вослед им влекутся в рабство злосчастные пленники и свое же добро тащат на горбе, а кто не умеет склонить шею свою под ярмо и глядеть без стона, как насилуют жену его и дочь его, того режут на месте. Ограбив нас дочиста, принялись насильники за земледелие: на нашей земле работали они своеручно, а собственную их землю тем временем пахали пленники. (35) Кое-какие города, у которых стены покрепче, плена избегли, однако же земли и у них не осталось, разве что самая малость. Жители мерли с голоду, кормились чем придется, и наконец народу до того поубыло, что в городах хватало места сразу городам и полям, так что прямо в городе паши да сей — вот каково было безлюдье! Верно говорю: и волов запрягали, и с плугом шли, и зерно сеяли, а после, когда поспеет, жали и молотили — и все не выходя за ворота. Уж и неведомо, где хуже мучились, в плену или дома!
(36) Такой вот ценой купил Констанций себе победу, но недолго радовался он торжеству своему над поверженным врагом, ибо стало предательство его явным, и в Риме только что не вопили об изувеченной земле. Изгнать разорителей, подвергая опасности свою особу, государь никак не решался, а вместо того призвал полководцем вчерашнего книгочея, силком всучив ему меч. А всего удивительнее то, что молился он сразу и о победе, и о поражении его — о победе потому, что землю отвоевать охота, а о поражении потому, что очень уж завидно. (37) Вот и послал он его не столько врага одолевать, сколько самому погибать, и обнаружилось таковое упование сразу и со всею очевидностью. Войска у Констанция было столько, сколько прежде на трех кесарей доставало: помимо пеших латников еще и конница во множестве, да еще тяжелый конный полк, грознее коего, право же, не бывает. При таких-то силах отрядил он с кесарем лишь триста человек, выбрав кого похуже, ибо на месте-де можно найти воинов предостаточно — а те воины только и привыкли быть битыми да отсиживаться в осаде. (38) Однако же полководца ничто не смущало и ничто не пугало: впервые с мечом, впервые на войне, и надобно вести оробелое войско на врагов, кои отступать не приучены, а он носит доспехи свои столь легко, словно отроду щит ему привычнее книжки, и наступает столь храбро, словно под началом у него тьмы Аянтов! (39) Почему же был он таков? Тут первою причиною мудрость его, от коей и сознание, что голова сильнее рук, а другою причиною — вера в богов, что будут они ему союзниками, ибо помнил он, как благосклонностью Афины избегнул Геракл вод преисподних.753
(40) И верно, без промедления явили боги милость свою к нему со всею очевидностью. Выступил он из Италии среди зимы — в эту пору без крова и пропасть недолго, окоченевши от мороза или увязнувши в снегу, — а он всю дорогу шел при ясном солнышке, прежде врагов победивши холод, так что кругом него только и твердили о наступлении весны. (41) И еще было ему благое знамение, когда достиг он первого городка новообороняемой страны.754 Жители, протянувши от стенок к вершинам уличных столбов веревки, высоко на веревках этих подвесили сплетенные ветви — такими венками часто наряжают города, — а тут один сорвался и упал прямо на голову кесаря, да так, словно был ему по мерке, и все возопили в радости. Я так мыслю, что сей венок был явным знаменьем победителю, грядущему к победам своим.
(42) Когда бы Констанций дозволил ему без промедления приступить к делу и так применить сметливость свою, то и война без промедления приняла бы другой оборот, однако же он ни к чему, кроме одежи своей, не допускался,755 а всюду хозяйничали прежние полководцы, ибо так повелел государь, чтобы быть им во всем начальниками, а ему их слушаться. Памятуя об Одиссее и подвигах Одиссеевых, он терпел, а полководцы меж тем пребывали в сладостной спячке. Все это могло бы усилить неприятеля, не переменись обстоятельства, но переменою был самый приход кесаря. (43) В дело его не пускали, пускали лишь посещать племена — только это и было ему дозволено! — однако же великая сила обреталась в звании его и облике, и от этой силы горожане, отощавшие в долгой осаде, решались на вылазку и одолевали варваров, пашущих землю близ городских стен, — такое было, и было не однажды, а раз случилось и такое, что немногие старики, по ветхости своей уже и безоружные, отбили ночной приступ и победили многих молодцов. Вот как это было. Варвары приволокли лестницы и приставили их к воротам, по обыкновению не охраняемым — почти все города были взяты именно этим путем, — а старики приметили неприятеля, похватали вместо оружия что попало и на дряхлых своих ногах поспешили к воротам, возглашая имя кесарево. Иных варваров они убили своеручно, иные сами убились, посыпавшись со стены вниз, и стяжали старики победу, словно древле воины Миронидовы.756 (44) А в другом месте, напротив, юноши, к битвам еще не привыкшие, устроили вылазку и напали на варваров: варвары в смятении побежали, а наши молодцы рубили их подряд — хоть и не видели они кесаря, но от одной лишь близости его осмелели. В иных городах жители, уже готовые уйти на чужбину, изгоняли из душ своих страх и оставались, (45) а когда в другой раз уже варвары из лесной засады напали на войсковой обоз, то дело обернулось так, что дерзнувшие грабить сами были перебиты. Кто убивал врага, тот нес свидетельством голову убитого, и за вражьи головы была назначена награда, а тут уж рубить их принялись с превеликим рвением; так премудрый кесарь одушевил робкие души алчностью и тем исцелил, ибо жаждою наживы укрепилась отвага. Иные варвары укрылись на Рейнских отмелях, но и туда добирались охотники — кто на лодках, а кто и вплавь, — между тем как скот, оставшийся от дикарей, доставался в кормление горожанам. (46) Еще были в той стране два града величайшие,757 из коих один после множества нашествий пребывал в запустении, а другой от единого приступа остался в сокрушении и разорении. Таковыми нашел грады сии кесарь и обоим помог: первый благодетельною своею десницею восставил и войском оборонил, а другой взбодрил благими надеждами, ибо прежде город этот страдал от всеобщего небрежения, так что жителям даже корма человечьего не было. (47) Узревши все описанные дела, некий варварский князь, владетель немалого удела, явился с повинною, каясь в чрезмерном своем разбое и просясь в союзники, да и войском обещал помочь. Кесарь согласился и заключил с ним союз, хоть и на краткое время, а все же усмирив дерзость его страхом возмездия.
(48) Всего этого и многого другого достиг он единым объездом вверенного ему края, еще не получив дозволения править дела по-своему. Однако же наконец-то полководец, с врагами трусливый, а с подначальными дерзкий, был отозван и сменен новым, во всем превосходным, да притом опытным воином. Итак, почти все помехи делу были устранены, и тут представился кесарю случай проявить себя вполне. (49) Глядите же, что вышло. Старший государь порешил, что пора переправляться через реку и идти на варваров, того же самого жаждал и младший,758 поспешая, словно конь в бег, и досадуя на подневольную свою судьбу. Между тем Констанций, видя, что пограничное войско не довольно сильно для наступления, послал в подмогу еще и другое, вдвое большее — тридцать тысяч латников, — а начальником над ними поставил полководца, почитаемого умелым воителем. (50) Оба войска должны были соединиться, однако уже вблизи от места встречи старший, не желая делить победу с младшим и полагая силы свои достаточными, велел на соединение не идти, а переправляться самим. Стали наводить через реку плавучий мост, но тут варвары нарубили в лесу деревьев потолще и пустили их вниз по течению — бревна ударили по лодкам и которые из них размыкали, которые порушили, а которые и вовсе потопили. (51) От первой же неудачи Констанций поспешно отступил, уводя свои тридцать тысяч, но варварам избавления от напасти показалось мало, и рассудили они, что приспело время самим наступать. Итак, они перешли через реку и пустились в погоню, настигли отступавших, устроили им побоище и воротились с победными песнями — столь скоры были дела их, но еще скорее исполняли они угрозы свои, а было это так. (52) Воротились они домой, а кесарь меж тем до отвала наполнил городские и крепостные амбары хлебом с возделанных ими полей — работу сию исполняли, елико возможно, воины, — да притом отстроил он, что было разрушено, и вознамерился извещать зимовавшего близ Рима государя о движениях неприятеля скорыми донесениями по перекладной почте — прежде-то за пространностью запустения никто и не ведал вражьих замыслов. Узнавши обо всем и особливо о том, что римляне — хотя бы и в Римских землях! — жнут их хлеб, варвары вознегодовали, словно лишились законного наследства, и отрядили к кесарю посла. Посол предъявил государево послание,759 в коем тот отдавал землю варварам, и принялся уговаривать кесаря, что перечит-де он воле старшего и что должен-де это признать и держаться договора, а ежели не хочет, так пусть ожидает войны. (53) В ответ кесарь обозвал посла лазутчиком — не может-де варварский вождь взаправду прислать столь дерзкое посольство — и заключил под стражу, а сам стал припоминать все увещевательные речи, какие доводилось ему слышать в повестях о подвигах древних полководцев. Он отлично знал, что ежели перед битвою сказать подобающие слова, то утвердится дух воинский для бранного дела, — и он такую речь произнес. Я с превеликою радостью передал бы сейчас ее всю, однако же правила риторические того не дозволяют,760 и могу я только сказать, что сия речь «у каждого твердость и силу761 в сердце воздвигла без устали вновь воевать и сражаться», позабыв прежнюю леность.
(54) Касательно боевого строя он решил так, чтобы края держала конница, середину — пешие латники, а лучшие латники и всадники чтобы оставались в его особом отряде на правом крыле. Замысел кесарев надобно было от неприятеля утаить, но подлость неких предателей тайну сию нарушила. Итак, варвары начали переправу, а кесарь ни мешать переправе не пожелал, хотя и можно было, ни биться с малою частью врагов, но дождался, пока переправятся тридцать тысяч, и тут напал — прежде, чем подошли остальные, коих было во много раз больше, ибо постановили они, как узнал я после, чтобы ни одному воину дома не оставаться.762 (55) В этом деле дважды заслужил кесарь хвалу: и за то, что не отбил передовой отряд, и за то, что ударил не по всей орде разом: воистину, первое было бы без толку, а второе слишком опасно, первое было бы недомыслием, а второе — безрассудством. Потому-то он сначала и не воспрепятствовал переправе войска, более многолюдного, чем его собственное, а после грянул на врагов и так их остановил. Что до варваров, то они, проведав обо всем заранее, построили храбрейших своих воинов как раз напротив отборного кесарева отряда, а на правом крыле поставили запасный союзный полк, укрыв его на берегу, в зарослях высокого камыша. Берег там болотистый и спрятаться очень возможно, однако же римляне, державшие край левого крыла, успели углядеть засаду, а едва углядели, как в тот же миг с боевым кличем ударили на врага, опрокинули и погнали, а уж тут чуть ли не половина неприятельского войска пришла в смятение, ибо бегство рождает бегство — где одни побежали, там и другие побегут. (57) Описываемая битва, пожалуй, сходствует с морским боем между коринфянами и керкирянами:763 и тут и там воюющие стороны сразу наступали и отступали. Тут вышло так, что с обеих сторон одолевало левое крыло, а потому правое крыло римского строя — именно где был кесарь — оказалось смято: те удальцы теснили наших удальцов, (58) и даже знаменосцы позабыли о своем долге, а уж им-то в главную обязанность вменяется блюсти строй. Итак, ряды смешались, но тут кесарь громогласно обратился к воинам, уподобившись сыну Теламонову:764 тот молвил древле, что после гибели кораблей нет эллинам возврата, а этот объявил, что для беглецов все города будут заперты и что куска хлеба никто им не подаст, да еще добавил, что ежели порешили они бежать, то пусть сперва его прикончат и уж после удирают, ибо он-де, покуда жив, не повернет; и наконец показал им, как теснит варваров другое крыло.
(59) Воины вняли — и стало им стыдно, поглядели — и обуяла их радость, и от того вновь сомкнули они ряды и двинулись в бой, даже те, кто на холме сторожил обоз, даже они возгорелись битвенным пылом! Наступление было столь смело и стремительно, что варвары возомнили, будто у врага добавилось войска, и не стало у них охоты отбиваться, (60) и вот устлали равнину мертвые тела — восемь тысяч! — а воды Рейна сокрыли утопленников, кои и плавать-то не умели, а на островах речных убитые лежали вповалку, ибо победители находили и добивали врагов даже в лесах. До отдаленнейших земель варварских донесла река вместе с мертвецами и доспехами весть о сем побоище! (61) А всего важнее то, что охотники, гонявшиеся за варварами по островам, добыли в той ловитве не только воинов, но также и военачальника, коего и привели под руки, как был, во всеоружии — сей вождь, превосходный красою и силою, привлекал все взоры и статью своею, и нарядом. (62) Солнце прошедшей битвы уже закатывалось, а кесарь еще допрашивал пленного вождя, укоряя того за дерзость; и покуда тот говорил гордо, он им любовался, но когда варвар, убоявшись за жизнь свою, после благородных речей раболепно взмолился о пощаде, он проникся к нему отвращением. Впрочем, никакого вреда он пленному не причинил и даже в оковы не заключил, уважая былое его счастие и сознавая, сколь многое переменилось за единый день.
(63) Какой из эллинских праздников сравнится с тем вечером после битвы? Пировали они, и спорили они, считаясь друг с другом, кто сколько врагов сразил, и смеялись они, и похвалялись, и песни пели, а кто из-за ран своих не мог угощаться, тому и самые эти раны были довольным утешением! (64) Не иначе как и после, даже во сне, побеждали и побеждали они варваров, и ночною отрадою воздавалось им за труды дневные — нескоро, о, как нескоро добыли они сию победу, коей уж и не чаяли, а оттого еще пуще радовались. (65) Что же сталось? Неужто полководец, словно некий бог, взъярил отвагою природных трусов и так обратил их в храбрецов, а есть ли что сильнее божеской силы? Или, напротив, храбрых воинов растлевала трусость прежних военачальников, а есть ли что прекраснее, чем принудить доблестных явить доблесть свою во всем могуществе ее? Или сущий бог из незримости своей добавил бойцам храбрости, а есть ли что почетнее, чем иметь такового соратника? Вот афиняне свершили пресловутый свой Марафонский подвиг вкупе с Гераклом и Паном,765 и, как я мыслю, прибыло им славы больше, чем ежели содеяли бы они то же самое самосильно и без божественной помощи.
(66) Кто другой после столь великой победы распустил бы войско, воротился бы в город и дал бы отдых душе, развлекаясь скачками и услаждаясь лицедейными зрелищами, но не таков был кесарь! Знаменосцев, чтобы знали, как держать строй, он наказал, хотя в память победы смертью не казнил, а того великана, полоненного вождя варварского, отослал к Констанцию горевестником собственного своего поражения, ибо полагал, что трудиться должен сам, а награду за труды уступать старшему — вот так и Ахилл уступал добычу свою Агамемнону.766 (67) А что до Констанция, так тот, напротив, и триумф себе устроил, и чванился, и величался, и все за чужой счет. Вместе с помянутым вождем перешел Рейн еще один князь, отговаривавший того сражаться, ибо сам он битвы испугался и отступил, — однако же и этого беглеца кесарь пригнал к Констанцию, коему достались в добычу сразу два вождя: того полонили, а этот сам сдался.
(68) Но вернусь к прежнему предмету и снова скажу, сколь непохож был кесарь на тех победителей, кои от побед своих становятся ленивы и беспечны. Схоронивши павших, не позволил он воинам сложить оружие, хотя они и желали того весьма. Он полагал, что доселе они лишь выручали своих же земляков, а ныне надлежит по чести отмстить за все обиды, — и вот он повел войско свое во вражеские земли, увещевая и твердя, что осталось сделать самую малость, да и то не труд, а потеха, ибо варвары-де сейчас вроде раненого зверя, и надобно их только добить. (69) Тут он не ошибся: после битвы у брода мужчины спасения ради укрыли жен и детей в лесах, а сами разбежались, так что он жег селения, брал в добычу все спрятанное, и не были помехою ему чащи древесные. Без промедления явилось посольство с раболепными речами, какие и положено вести в столь бедственных обстоятельствах: послы просили далее не идти, землю не разорять и впредь почитать их друзьями. Мир он заключил, однако же, сроком на единую зиму, когда и безо всяких условий в войне обыкновенно выходит передышка.
(70) Итак, побежденным он дал отдых, но сам не пожелал сидеть без дела и посреди зимы полонил тысячу фрактов: сии варвары, коим равно всласть снег и цветы, разбойничали по деревням и заняли брошенную крепость — тут-то кесарь их осадил, доконав голодом и в оковах отослал к старшему государю. Воистину предивное это дело, ибо у фрактов такой закон, чтобы победить или умереть, а все же попали они в полон и тем, по разумению моему, уподобились спартанцам при Сфактерии.767 Принял их к себе государь, словно дорогой подарок, и сразу поверстал в собственные свои отряды, зная наверное, что словно башни крепостные добавил к войску, ибо каждый фракт стоит многих бойцов. (71) Таков был один из многих подвигов той зимы, а вот и другой, ничуть не меньший. Когда внезапно целое племя вторглось в страну, кесарь самолично поспешил к пограничным отрядам, дабы скорее изгнать разорителей, однако же воины, едва заслышав о приближении кесаря, упредили его и сами отбили врагов, немало варваров порешивши. Так кесарь равно побеждал изблизи и издали.
(72) Подвиги сии он свершал, отрываясь от книг, среди коих обретался даже и в ту пору; мало того, он и в походы без книжек не ходил, — и так всегда был он или при мече, или при книге. Мнение его было таково, что войне от науки превеликая польза и что от государя, сильного разумением, больше толку, чем от сильного в бою. (73) Да и впрямь, было ли что полезнее, когда он, во-первых, поощрил усердие и сметливость лучших воинов почестями, о коих ходатайствовал перед тем, кто награды сии раздавал, а во-вторых, дозволил грабившим вражеское добро быть законными владетелями награбленного? С последним указом, очевидно, сходствует и то, что доставивший голову врага получал за отвагу свою деньги. (74) Повсюду разносилась молва об этих его делах, а оттого премного возлюбили его воины, ретивые в бранном деле, и не они одни, но не менее и ревнители словес, так что всякий книжник афинский, ежели сознавал в себе хоть какое дарование, шел в ставку кесарскую,768 точно как древле шли мудрецы в Лидию к Крезу.769 Одрако же пред Солоном Крез открыл лишь казну свою, ибо ничего почтеннее стяжать не умел, а кесарь перед гостями своими отверзал драгоценный ларец души своей, являя им сокровища муз и произнося ради них речи собственного сочинения, кои ныне возможно купить и прочитать.
(75) Вот так веселился он в едином ликовании со служителями Гермесовыми и Зевесовыми,770 но едва весна вознесла знамена боевые, ушел в поход и грянул перуном у реки, столь великим страхом устрашив целый народ варварский, что взмолились сии варвары, да дозволит он им переселиться и стать уделом державы его, ибо слаще-де жить им под началом его, нежели в родном краю, — итак, они просили земли и получили ее. Так оплотом против одних варваров делались ему другие варвары, почитавшие, что куда как краше вместе с ним наступать, чем вместе с теми пятиться. (76) Здесь обошлось без войны, но тут узнал он, что враги вновь у переправы. За недостатком судов заставил он коней и латников переплыть реку и двинулся вперед: кого порубил, кого полонил, а отпора ему нигде не было. Запросили злосчастные пощады, да поздно — надобно звать, пока не загорелось! (77) Рассудил он так, что пришла пора уврачевать галатов, и потому хотя первое посольство он прогнал без чести, но когда снова явились просители, среди коих были уже и цари, и когда скиптроносцы сии кланялись ему земно, то он, напомнив им о превеликой их дерзости и о множестве учиненных ими бедствий, повелел сполна уплатить за мир — ущерб возместить, города отстроить, жителей воротить. (78) Те согласились и не обманули: доставили лес и железо для починки строений, а все пленные были освобождены и возвращены, обласканные прежними своими мучителями, да не поминают лихом. Ежели кого из угнанных в полон варвары не приводили назад, о том говорили, что умер, а верность таковых показаний свидетельствовали воротившиеся. (79) Древле, когда воины Кировы после многих трудов узрели наконец вместо гор море,771 то сразу и стенали, и плакали, и радовались, и обнимали сотоварищей бедствий своих. А тут не море люди узрели, но друг друга, и то же с ними сталось, ибо одни увидели домочадцев своих, избегнувших рабства, а другие вновь обрели сразу домочадцев и дом. Вместе с сородичами плакали и чужие, плакали потому, что видели плачущих, и потоком струились слезы, счастливее прежних слез, ибо прежние были слезы разлуки, а нынешние — слезы встречи.
(80) Вот так война поначалу рассеяла, а после съединила галатов, ибо поначалу военачальствовала трусость, а после — храбрость. Снова в городах многолюдство, курии772 полны, ремесла процветают, богатства умножаются, девицы замуж выходят, молодцы женятся, всяк едет куда хочет, тут ярмарка, там праздник — все идет прежним своим чином, (81) так что когда бы кто назвал поминаемого мужа основателем сих городов, то нимало бы не ошибся. Верно говорю, ибо грады сокрушенные он восставил, а градам, едва не вовсе запустелым, вызволил жителей и всех утешил, да не страшатся более былых бед. Уж и зима настала, а ни единый варвар не перешел реку, дабы, по обыкновению своему, поразбойничать, — нет, все они сидели по домам, кормясь из собственных запасов, и не столько ради договора, сколько во избежание войны, ибо иные и договора не успели заключить, а все-таки опасались и оттого притихли.
(82) Каковы же были дела его в мирную пору? А вот каковы. Есть в Океане остров,773 на всем свете величайший, — итак, поразмысливши, послал он туда людей для надзора за расходами, кои именуются войсковыми, а на деле достаются одним начальникам, и таким способом заставил воров быть честными, но другое его дело было еще примечательнее, и принесло галатам великую пользу, (83) и заключалось вот в чем. Прежде хлеб с помянутого острова доставлялся от моря по Рейну, но варвары, едва усилившись, этот путь заперли, так что почти все суда от долгого лежания на берегу погнили — на плаву остались лишь немногие, да и те приходилось разгружать в океанских пристанях, чтобы дальше везти хлеб не по реке, а на телегах, входя от того в чрезмерные издержки. Кесарь рассудил, что ежели не доставлять хлеб по-старому, то будет весьма худо, и возобновил прежний путь: без промедления понастроил судов, сколько и раньше-то не было, и после самолично проверял, как идут по реке хлебные баржи.
(84) А между тем некий чиновник обвинил начальника своего в казнокрадстве. Судьею в этой тяжбе был Флоренций, ибо был он префектом, да только был он еще и к лихоимству привычен, а потому за взятку оправдал сотоварища своего по воровству и обратил гнев свой на истца. Однако же преступление не осталось в тайне, пошли толки и разговоры; наконец префект прослышал о сплетнях и назначил кесаря рассудить дело, хотя тот поначалу уклонялся, ибо не дано-де ему таковых полномочий. (85) Сам-то Флоренций отнюдь не старался о справедливом приговоре, но ожидал, что кесарь за него вступится, даже если и распознает кривду его, — а вышло так, что истина одолела послушание. Узрев такое, Флоренций взъярился и оговорил ближайшего к себе человека: сочинил донос, будто тот подстрекает кесаря; и так сей муж, ставший юноше вместо отца, был от ставки удален. (86) Тут кесарь уже не в первый раз почтил опального речью774 — той, где изъясняется скорбь о разлуке, — и вместе с ним печалился, но и с оставшимися сношений не прекратил. Уж сколько снес он обид, а не завелось в нем никакой подлости (87) и не допустил он себя мстить за обиды так, чтобы потерпело от того римское владычество, но прошел походом до самого Океана и отстроил Гераклею, древле Гераклом укрепленную, а еще завел на Рейне судоходство — и кто желал тому воспрепятствовать, тот подавился злостью, но помешать не сумел. Шел он в поход окольным путем, дабы ненароком не нанести ущерба союзникам, ежели придется через их земли наступать на врагов. Следом плыли суда, а по той стороне шло неприятельское войско, готовое дать отпор, ежели наши затеют переправу. (88) Право же, нельзя не любоваться столь искусным полководцем — хоть какая препона, а ему все нипочем! Шел он да шел, приглядываясь к противному берегу, и высмотрел наконец подходящее место, которое ежели занять, так можно там и закрепиться надежно. Тогда он потихоньку оставил в укромной бухте на своей стороне несколько судов и малый отряд воинов, а сам двинулся далее, тем вынуждая врагов идти вослед. Вечером устроил он привал и дал знак тем, — кто оставался в засаде, чтобы они переправлялись и занимали помянутую высоту. (89) Те исполнили приказ с легкостью, а меж тем все полки поворотили назад и принялись наводить переправу со своего берега к захваченной высоте, а варвары оттого возомнили, будто мостов наведено множество, и поняли, что незаметно для себя попали в западню и что отовсюду грозит им беда. Тут помянули они добрым словом успевших прибегнуть к миру и сами явились просить того же и на тех же условиях. Однако кесарь прежде сжег и разорил их селения и лишь после, пресытясь мщением, заключил перемирие. Опять было как в тот раз — и пленников вызволяли, и слезы проливали, и все то же самое, что уже описывалось.
(90) Итак, галаты и пограничные варвары поменялись участью: эти процветали, те прозябали, эти пировали, те причитали, те утратили власть, коей мнили владеть вечно, а эти воротили себе силу, коей уже и не чаяли воротить, и все кругом твердили, что не столько оружием, сколько разумением достигнута таковая победа. Тут воздвиглась на кесаря зависть от того, кто его же радением стяжал премногие венки: сей завистник775 повелел отозвать к себе цвет воинства, всех исправных бойцов, а кесарю оставил перестарков, кои в войске числятся, да к делу не годны. (91) Поводом к сему явилась Персидская война, а у галатов-де мир и войска там не надобно — будто бы и не по силам вероломству варварскому преступить клятву и будто бы нет нужды крепить договор оружною силою! Право же, сколько было у него войска против персов, столько ему и доставало, да, по правде, и части того достало бы — хоть и часто собирал он своих воинов, а с неприятелем ни разу не схватился, но всегда решал еще малость обождать. (92) Другой тут был расчет: желал он воспрепятствовать подвигам кесаревым и не дать возрасти славе его, а еще лучше и добытую славу загубить, напустивши здоровенных варваров на немногих и никчемных бойцов. (93) Воистину, возмечтал он, чтобы повсюду говорили совсем наоборот прежнему — чтобы говорили, что кесарь в утеснении, в осаде, что с врагами сладу нет, что вновь сокрушают и разоряют они города и вновь пашут и сеют на чужих полях. Он понимал, конечно, что как ни хорош полководец, а тут достанется ему быть словно кормчему преогромного корабля, на коем ни единого моряка не осталось, — сколь ни искусен кормчий, но не заменит ему искусство его всей корабельной дружины. Вот так наилучший из государей завидовал победителю варваров, коего сам же и облек властью!
(94) В такую-то ловушку попался кесарь, вполне сознававший, что послушание и ослушание равно погибельны: лишись он войска — прирежут его враги, удержи он войско — свои же домочадцы прирежут. Однако в благородстве своем предпочел он лучше пострадать от покорства, чем явить неповиновение, в рассуждении того, что и враги не ударят столь тяжко, как грозится ударить родич. Итак, он предоставил холуям старшего государя делать что пожелают, а те, начавши с собственных его телохранителей и самых верных людей, до того обобрали войско, что наконец оставили ему лишь таких бойцов, у коих и помолиться-то едва хватало силы.776 (95) Он терпел, хотя и не без слез, однако же готов был снести все. Но когда повсюду стали сниматься с мест рассеянные по стране полки, то повсюду до самого неба поднялся вопль: причитали бедные и богатые, причитали рабы и свободные, причитали горожане и поселяне, мужчины и женщины, юноши и старцы — ожидали они, что вот-вот нагрянут враги и что, едва искорененное, зло разрастется вновь. Пуще всех просили жены, народившие от воинов детей: возносили они напоказ чад своих, а особливо грудных младенцев, и трясли ими, словно оливою777 — да не будут преданы! (96) Услышав сии мольбы, кесарь посоветовал италийским своим гостям, чтобы уводили они воинов по другой дороге, подальше от города, где он жил и где была его ставка,778 — я полагаю, он боялся, как бы воины не сделали того, что они, к счастью, все-таки сделали. Посланцы не вняли совету и привели в ставку передовой отряд, за коим следовали прочие войска. Тут вся толпа взмолилась к воинам, чтобы те остались и сберегли все то, ради чего сами же столько потрудились, а воинам и просителей было жаль, и в путь неохота. (97) Узнавши об этом, кесарь собрал сходку — где и обычно, за городской стеной, — и объявил, что государевы приказы никаким обжалованиям не подлежат. Воины выслушали пространную речь его в молчании и спорить не стали, а вечером — вернее, почти в полночь — вздели доспехи, обступили кесаревы палаты и громогласно провозгласили, что назначают его править и государить. Он хотя и разгневался, но ничего не мог поделать, кроме того, что воспретил ломиться внутрь дворца. Однако же поутру воины высадили двери и с мечами наголо поволокли его на вечевое место: и тут вышло долгое препирательство, ибо он уповал утихомирить их доводами благоразумия, а они в ответ лишь шумели, надеясь одолеть его криком. (99) Покуда он, ссылаясь на древние законы, уворачивался от златого венца, подошел к нему сзади некий воин, ростом исполин и статью красавец, снял с себя ожерелье и возложил ему на голову. Так был он венчан на царство. Бессильный противустать столь пылкому натиску столь многих бойцов, он уступил принуждению, но именно пред теми, кто дал ему державу, сразу явил державную свою волю. (100) Он отнюдь не стал стараться, как бы их наградить и какими бы богатыми дарами задобрить, а, напротив, тут же объявил, что решение его надлежит почитать законом, и приказал так: да не понесут противники свершившегося никакой кары, да не казнят их мечом, да не стращают взглядом, да не уязвляют словом, но да будут с ними не как с недругами, а как с соучастниками содеянного. (101) И опять же, кто бы не поощрил беспечности в исполнении такового приказа? Только не он! Не хотел он сквернить царства своего кровью и быть уличен в тиранстве, а потому повелевал с кротостью, так что поначалу трепетавшие взбодрились и возвеселились и окружили трон его, радуясь, что живы; (102) да только отблагодарили его за это самым неподобным способом. Сказано в пословице о связанном благодетеле; а эти затеяли благодетеля своего умертвить и особливо надеялись на евнуха, надзиравшего за государевой опочивальней. Все было готово для злодеяния, однако некий воин по вдохновению Аполлонову прозрел преступный умысел и стал созывать всех на помощь — народ сбежался, и заговорщики были уличены, но всего примечательнее тут то, что не был казнен даже упомянутый их пособник.
(103) После этого государь, видя, как приспешники Констанция строят козни у него под боком, а порою дерзают объявлять, что лучше-де от нынешнего порядка отступиться и воротиться к прежнему, порешил, что в столь тяжких обстоятельствах совета можно ожидать единственно от богов. Вопросил он их и услыхал в ответ, что надобно ему оставаться при своем. (104) Тогда, заручась приговором небесным и согласием войска, стал он назначать новых градоначальников, заменяя подлых честными и грубых просвещенными, а еще собрал войско из бедняков, поневоле промышлявших разбоем — некогда они делили опасности с Магненцием, а после, потерпевши неудачу, стали слоняться по дорогам, добывая себе пропитание грабежом. Простив и призвав к оружию сих бродяг, государь отвратил их от беззаконий, а путников избавил от дорожных страхов. (105) Затем он явился на Рейн, самолично и полномочно свиделся с варварами, скрепив прежний договор новыми присягами, и тут уж приспела ему пора поневоле тягаться с родичем своим за державу, а вернее сказать — обрести ее без боя, ибо божественным внушением ведал он грядущее.
(106) Однако я пропустил в повествовании своем нечто достопамятное, о чем надобно сказать. Обе стороны многократно сносились через посольства: галатские послы обещали, что государь их сан свой сохранит, но владения свои расширять не станет, а италийские послы779 требовали, чтобы отказался он от царских почестей и воротился в прежний чин, — но тогда непременно пропал бы он сам и вместе с ним почти все войско его, и ближние его, и друзья его. Сам-то он не слишком тревожился о собственной гибели, однако предать любимых товарищей — вот это было для него нестерпимо! (107) При таковых обстоятельствах Констанций вновь прибегнул к старой своей уловке и опять написал варварам, прямо-таки умоляя их поработить римские края. Только один вождь согласился преступить клятву: он сразу и разбойничал, и роскошествовал в землях, кои получил в награду за разбой, да еще и пировал с тамошними военачальниками, точно добрый миролюбец. (108) Тогда государь пошел походом на этого клятвопреступника, захватил его в плен, — по обыкновению, пьяного — и сурово покарал за измену. Тут сбежались отовсюду прочие вожди, весьма смущенные упомянутым предательством и перепуганные постигшим предателя возмездием, — со страху они принялись подкреплять прежние свои клятвы новыми. Наконец, государь взошел на высокий престол и узрел кругом стоявших варваров, вождей вперемежку с прочими, и все они преклонились перед властью его — тут он припомнил им прошлое, пригрозил касательно будущего и удалился.
(109) Войско у него было уже собрано, и было это войско всем на диво не столько многолюдством, сколько ревностию, ибо были бойцы его повязаны друг с другом зароками и обетами, дабы все сделать и все претерпеть ради победы, а бояться лишь одного — как бы не опозориться нарушением присяги. (110) Вот так все присягали, но тут некий муж, именем Небридий — да и не муж, а бабень, — назначенный префектом еще при старшем государе, принялся бранить присягавших и самое присягу, клясться нипочем не хотел, а поклявшихся ругал варварами — таков холуй! Речью своею обратил он на себя гнев и меч всего воинства, так что по справедливости едва не был убит на месте, однако же спасся, словно облаком сокрытый.780 Кое-кто наверняка нашел бы здесь милосердие неуместным, но вот таков был у нас государь и таково было великое его милосердие.
(111) А после понесся он лавиною, все преграды сметая на своем пути, заполоняя мосты, застигая врасплох, то отвлекая противника, то приневоливая его к нечаянной схватке, принуждая готовиться к одному и делать совсем другое, и где не видать было рек, там шел он по равнине, а при всякой возможности пускался в плаванье с немногими бойцами, оставляя враждебных полководцев дремать на границах и тем временем занимая подначальные им города — когда убеждением, когда насилием, а когда и обманом. Вот пример последнего. Нарядив своих воинов в доспехи побежденных, он послал их к одному из городов; город был укреплен отменно, но жители приняли подступающее войско за собственное, открыли ворота и сами впустили неприятеля. (112) Так обрел он прекрасную Италию, обрел страну превосходных своею воинственностью иллириян, обрел многие могучие города, а земли столько, что достало бы для большого царства; однако всего отраднее, что ни разу не довелось ему сражаться, ни разу не пролил он крови, но было ему в помощь разумение и еще общая тоска по сущему государю. (113) Главною же подмогою для него сделались письма трусливого предателя к варварам: сии ласковые послания оглашал он в плаваньях и походах, объявлял горожанам и воинам, а для сравнения говорил о собственных своих трудах. От таковых чтений прибавлялось Констанцию врагов, а ему сподвижников, хотя войска при нем было куда как меньше, нежели оставалось у противника.
(114) Вскорости примкнули к нему македоняне и примкнули эллины, дождавшись наконец случая, о коем молили богов в молчании и вдали алтарей, ибо не было у них алтарей, а именно: отворился храм Афины и прочие храмы, и сам государь их открывал, и одаривал, и жертвы приносил, и других к тому призывал. (115) Зная, что у афинян даже и над богами вершится суд,781 порешил он отчитаться в содеянном, препоручив расследование сынам Брехфеевым, и сочинил к ним оправдательное письмо.782 Воистину, полагал он, что неподсудность — счастливая находка лишь для тирана, а подлинному государю надлежит предавать дела свои гласному суду. Заодно он прекратил посланиями своими распрю меж священными родами, из-за коей и между гражданами вышел раскол, но государь всех примирил, дабы в согласии и кротости исправляли они древнее благочестие.
(116) Вот так афиняне после долгого перерыва стали приносить жертвы богам, молясь о том, что было им и безо всякой молитвы даровано, а государь продолжал свой поход. Хотя Фракия была занята неприятелем, он забрал с собою лишь треть войска в надежде скоро одолеть фракиян и пополнить силы на Боспоре, (117) а между тем уже мчали к нему кони из Киликии спешных гонцов с вестью о кончине старшего. Умер тот при Кренах, а еще накануне грозился пуще Ксеркса, измышляя казни для недруга своего, — мечтал об отмщении, еще и одолеть-то не успев! — и тут Зевес, коему, как сказано у Софокла, «хвастливая гордыня ненавистна»,783 покарал его недугом и лишил жизни. (118) Иные почли таковые новости ложью и обманною уловкою и потому отказывались верить, однако же государь послал за свитком, сохраняемым в некоем ларце, и показал записанное там давнее пророчество, ныне подтвержденное полученным известием. Итак, устремились они вперед, словно посланцы бога, возвестившего ему бескровную победу и побуждающего спешить, дабы никто не воспользовался долгим отсутствием государя и не покусился на царство его. (119) Воистину, и предсказание он читал, и видел, что война весьма удачна и успешна, и знал о смерти лютого вепря, ненавистника своего, а все же отнюдь не предался обжорству и пьянству и площадным зрелищам. Исполнилось пророчество, земля и море были во власти его, никто не спорил, но все были согласны вручить ему все, ничто не понуждало его противиться желаниям своим — а он, когда отворились для него наконец царские чертоги, впал в великую скорбь и поливал слезами пророческий свиток, (120) ибо нельзя было ему одолеть природу. Сразу принялся он выспрашивать о мертвом, и где тело его, и воздаются ли оному приличные почести — вот как был он честен с тем, кто намеревался стать ему новым Креонтом!784 Но и перечисленного было ему мало: низошел он ради усопшего в столичную пристань, собрал там народ и, пока подходило погребальное судно, причитал, а после держался за гроб обеими руками и притом низложил с себя в знак скорби все царские знаки, кроме ризы, ибо не желал он винить тело за злоумышления души.
(121) Почтив усопшего достодолжными почестями, обратился он к богам города, у всех на виду угождая им жертвами и возлияниями и поощряя тех, кто ему следовал, а над уклоняющимися подшучивал — так он старался убедить, но нимало не желал принуждать. Меж тем растленных одолевал страх:785 им уже мнилось, что выколют им глаза и отсекут головы, что рекою польется кровь казненных и что отыщет новый хозяин в утеснение им новые казни, да такие, что малостью рядом с ними будут и огонь, и утопление, и живых погребение, и колесование, и четвертование — воистину, все перечисленное было и прежде, а теперь они ожидали куда как худшего. (122) Однако же государь порицал подобных гонителей за бестолковую их ретивость и не усматривал никакой надобности в гонениях, ибо телесные недуги возможно исцелить насилием, а ложные мнения о богах ни огнем выжечь, ни ножом отсечь нельзя. Напротив, ежели рука и принесет жертву, то разум попрекнет руку, уличит телесную слабость, а приверженности своей не изменит, так что от призрачного сего обращения не выйдет во мнениях перемены — недаром случается, что одни после получают отпущение греху своему, а другие и вовсе гибнут, лишь бы не чтить богов. (123) Итак, видя, что от казней заблуждение крепнет, он их осудил и сам не стал прибегать к сему бесполезному злу, но способных исправиться приводил на путь истинный, однако же отнюдь не тащил туда волоком упорных в заблуждении, хотя и не уставал вопиять: «Куда вас несет, человеки?786 Неужто не стыдно вам почитать мрак светлее света?787 Неужто не ведаете о себе, что недуг у вас общий с нечестивыми гигантами? Воистину, не телами рознились от прочих тварей сии нечестивцы, метавшие пресловутые свои стрелы, нет! Но поводом для такового сказания явилось то, что гнали они богов — точно как вы!» (124) Знал он, что умелому врачевателю души, берясь за дело, надобно изо всех душевных превосходств наипаче заботиться о благочестии, ибо для жизни человеческой оно — словно кораблю киль или дому краеугольный камень. Право, когда бы соделал он всех богачами богаче Мидаса и все стены городские отлил бы из чистого золота, но никак не направлял бы заблудших в святости, то уподобился бы лекарю, коему достался больной, всеми частями и членами тела скорбный, а сей лекарь все лечит, да только глаза не лечит. (125) Потом-то, начавши прежде прочего врачевать души, водительствовал он к знанию тех, кто ведал правду о небе, и людей таковой просвещенности почитал для себя ближе родичей, так что друг Зевесов был и ему другом, а враг Зевесов и ему был врагом. Впрочем, вернее сказать, что друг Зевесов был ему другом, однако же не всегда был ему врагом тот, кто еще не успел возлюбить Зевеса, ибо не отлучал он от себя тех, кого предполагал со временем обратить, но увлекал их увещеваниями своими до того, что случалось видывать былых безбожников, пляшущих круг алтарей.
(126) И вот сперва, как я уже говорил, воротил он благочестие словно из ссылки: иные храмы заново строил, иные отстраивал, иные наряжал кумирами, а кто из камней от святилищ понаставил себе домов, тот возмещал убыток деньгами. Всяк видел, как по морю и посуху везут столбы для разоренных капищ, и повсюду алтари, и огнь, и кровь, и тук, и дым, и прежний чин, и пророки избавлены от страха, и флейты дудят на высотах, и святой ход идет, и заклан бык сразу в угождение богам и в трапезу человекам. (127) А поелику затруднительно государю во все дни уходить со двора своего во храмы, но и с богами ему желательно ни на миг не разлучаться, то посреди царского двора был воздвигнут храм Богу — Вознице света: тут и таинства свершались, к коим государь других приобщал и сам приобщался, и тут же водрузил он алтари прочим богам, каждому в отдельности. Едва пробудившись, всегда вперед всех дел сообщался он жертвою с небожителями, превосходя благочестием самого Никия.788 (128) Столь безгранично было усердие его, что не токмо сокрушенное он восставил, а еще и к древнему добавил новое, подвигнутый на дерзание смиреномудрием. Не зря возможно было ему ночевать в ближнем соседстве с храмом — воистину, возвысился он над похотями и не свершал ночью ничего, не приличного таковому соседству. (129) Вот так исполнил он все, что обещал богам и людям о богах еще до воцарения своего, и сколь блистательно было сие исполнено! В которых городах храмы остались неприкосновенны, на те он взирал с радостью и почитал их достойными премногих милостей, а в которых городах все или почти все святилища были разорены, те он называл гнусными и хотя благодетельствовал даже этих своих подданных, однако безо всякого удовольствия. Поименованными своими деяниями — как поставил он начальствовать над державою своею богов и какое устроил с ними примирение — уподобился он корабельному зодчему, сработавшему для большого корабля новое кормило вместо потерянного, хотя и есть различие, ибо государь воротил земле своей прежних ее блюстителей.
(130) Исправив эти наипервейшие и наиважнейшие государственные дела, пригляделся он к дворцовой челяди и увидел, что попусту содержится при нем великое множество дармоедов: поваров тысячи, брадобреев не менее, кравчих и того более, столовых служителей толпа, а уж евнухов и не счесть, словно мух у пастухов по весне, да еще и всякие прочие трутни — целая орава. Что правда, то правда, наилучшее было прибежище для лентяев и обжор — числиться и зваться царским холопом, а золото открывало к тому скорый путь. Вот этих-то нахлебников, даром кормившихся от царского стола, государь тотчас прогнал, рассчитав, что от них никакой пользы, но один убыток. (131) Вместе с ними прогнал он и множество письмоводителей, кои ремесло имели холопское, а желали первенствовать над вельможами, так что нельзя было ни поселиться с ними рядом, ни слова при встрече сказать: они и крали, и грабили, и продавать заставляли, да притом когда не сговаривались о плате, когда недоплачивали, когда платили обещаниями, а иные и вовсе полагали, что ежели не сделали горемыкам никакого зла, то этим и расплатились. Так и рыскали они, враждебные всем, у кого хоть какое было добро — хоть конь, хоть раб, хоть дерево, хоть поле, хоть огород, — и притязая распоряжаться сим добром вместо истинных владетелей. Вот и отдавал честный человек сильнейшим вотчину свою и уходил, променяв имение на слова, а кто не хотел терпеть таковых безобразий, тот был убийцею, колдуном и преступным лиходеем, многие казни заслужившим. (132) Так делали они всех прочих из богачей бедняками, а самих себя из бедняков богачами, наживаясь более всего от разорения людей состоятельных и простирая алчность свою до самых пределов вселенной. У всякого владетеля требовали они чего только не пожелают, а отказать им было невозможно, и потому грабили они древние города и увозили к себе по морю рукодельную лепоту, время победившую, — да воссияют чертоги чад сукноваловых789 ярче царских дворцов! (133) Вот сколь несносны они были, да еще при каждом состояло множество ретивых приспешников — верно сказано, что сука подобится хозяйке.790 То же и тут, не было у них холопа, чтобы не издевался над людьми — не заключал в железа, не пытал, не разорял, не бил, не толкал в тычки, не гнал из дому да не притязал бы еще владеть землею, разъезжать в колеснице и быть превеликим хозяином, точно как собственный его хозяин. (134) Не довольно им было богатеть, но еще и обижались, ежели не доставалось им чинов, потребных для сокрытия рабской подлости, а потому заодно с хозяевами препоясывались они в военные должности, заставляя трепетать хоть улицу, хоть околоток, хоть целый город. Этих-то многоглавых керберов разогнал государь, обратив в простолюдинов и посоветовав радоваться, что остались живы.
(135) И еще были среди государевой челяди негодяи, коих прогнал он от дверей своих, ибо они и воровали, и грабили, и все готовы были сказать и сделать, лишь бы урвать поболе — о них скажу отдельно. Сии злодеи уклонились от службы родным своим городам,791 бежали от советов и законных повинностей и пристроились в осведомители, откупив себе в сем ведомстве должности особых уполномоченных — задумана была сия должность для надзора, да не останется государь в неведении о каких-либо на себя умыслах, а на деле вышла одна торговля. (136) Словно как купец чуть свет отпирает лавку и принимается высматривать покупателя, точно так и эти чиновники корысти ради подстрекали доносчиков, а те волокли к ним под розги бессловесных ремесленников, якобы помянувших всуе царское имя, да не для того, чтобы высечь, а для того, чтобы откупились они от битья. Никому невозможно было избегнуть сих наветов — ни гражданам, ни гостям, ни чужеземцам, но случалось и так, что без вины оклеветанный не давал взятки и погибал, а сущий лиходей платил и спасался. (137) Наиглавнейшею прибылью было им обнаружить государственное преступление, однако опять же не для того, чтобы вручить уличенного гневу обиженных, кои им же доверились, но лишь для того, чтобы за взятку вызволить злоумышленника. (138) Притом они пугали добропорядочных люден бесчестием, подсылая к ним пригожих отроков, и обвиняли в колдовстве тех, кто ни к какому колдовству даже близко не подходил, — таковыми двумя способами добывали они себе сверхурочные доходы, а лучше всего был третий способ, еще прибыльнее описанных. Они делали так: дозволяли тем, кто отважился портить монету, заниматься сим дерзким промыслом, предоставляя им для того пещеры, а после пускали в оборот вместо подлинных денег поддельные и так обогащались. (139) Коротко говоря, иные их доходы получались путями тайными и прикровенными, а иные — явными и открытыми, даже и с видимостью закона, но не с меньшею прибылью. До того дошло, что, помянув названное ведомство, всякий тут же добавлял со всею точностью, сколько денег можно добыть в этой должности, — (140) вот каковы были сии государевы очи!792 Твердили они о себе, будто всех выводят на чистую воду и будто обуздывают негодяев, ибо невозможно-де тем спрятаться, а сами открывали все новые и новые доступы к негодяйству, только что не возглашая на перекрестках о безнаказанности деяний своих, и выходило, что не мешали, а помогали они злодеям, словно псы, взявшие сторону волков. Получить долю в этом промысле было все равно что клад найти — придешь Иром, а вскорости станешь Каллием.793 (141) Так эти корыстолюбцы качали и качали деньги, а города пуще нищали. Государю нашему издавна был не по душе такой порядок, и обещал он его прекратить, а получивши власть, обещание исполнил: разогнал всю подлую ораву, сразу упразднив ведомство и должности, прикрываясь коими предавались разорители воровству своему, а указы стал рассылать со своими людьми, отнюдь не дозволяя им никаких злоупотреблений. (142) Тут-то и стали города взаправду свободны, ибо прежде под властью вымогателей гражданам и дохнуть не было возможности — кого не постигала беда, тому она грозила, и для уцелевших ожидание несчастья было ничуть не легче самого несчастья.
(143) Скажу и о другом его предприятии. Мулы, употребляемые нарочными гонцами, были вконец заезжены и заморены голодом по вине помянутых выше чиновников, кои еще и на скотьем голоде воздвигали свой Сибарис.794 Изнурение скотам — а это как жилы подрезать! — происходило оттого, что всякому желающему было легче легкого получить прогоны и скакать по своей надобности, ибо равно годилась тут подорожная и от государя, и от такого вот уполномоченного. Не было скотам ни роздыха, ни кормежки в стойле, а оттого они бессилели, и никакое битье не принуждало их к бегу, так что приходилось запрягать разом по двадцать и более мулов, и почти все падали и околевали, едва из запряжки, а иные даже и ранее, еще в оглоблях. От всего этого срочным делам выходила задержка, а городам новый расход — возмещать из своей казны дорожные убытки. (144) В каковой бедственности пребывала сия отрасль, всего виднее было зимой, ибо об эту пору повсюду совершенно не оставалось перекладных, так что погонщики бежали и отсиживались в горах, на дороге — дохлые мулы, а кто спешит, тому только и остается кричать да махать руками. Из-за подобных промедлений во многих важных делах власти предержащие упускали время. О лошадях и говорить не стану, с ними было как с мулами, а с ослами еще и того хуже, но уж тем, кто обязан был дорожною повинностью, выходила просто погибель. (145) Со всем этим неслыханным разбродом государь покончил: настрого воспретил казенные поездки без неотложной нужды, объявил, что услуги в этом деле чреваты опасностью для обеих сторон, и, наконец, посоветовал жителям покупать или нанимать упряжной скот. Тут случилось невиданное, хоть глазам не верь, — погонщики принялись проезжать мулов, а конюхи коней! Воистину, как прежде было страшно, чтобы не обезножели скоты от непосильного труда, так теперь было страшно, чтобы не сталось с ними того же от лености. После такового государева дела в домах у подданных его еще прибавилось достатка.
(146) Не менее успел он позаботиться и о городских советах. Сии советы в старину цвели богатством и многолюдством, но затем впали в ничтожество, ибо едва ли не все советники их покинули, перейдя кто в войско, кто в сиятельное сословие,795 а кто и совсем иные нашел себе занятия — такие предавались безделью и плотским утехам, надсмехаясь над прочими, ежели не умели те за ними угнаться. Немногие оставшиеся совсем пропадали, ибо слишком для многих исполнение повинностей оканчивалось разорением. (147) Право же, неужто кому не ведомо, что сильный совет — душа города? Так-то так, но Констанций лишь на словах сочувствовал советам, на деле быв им враждебен: беглым советникам давал другие должности, а иных и вовсе безо всяких оснований отпускал в отставку. Итак, советы уподобились ветхим нищенкам, и обобранные советники причитали, а судьи соглашались с плачевностью их положения и рады были бы помочь, да никак не могли. (148) Однако же и для советов настала пора воротить себе былое могущество. Вышел достохвальный указ, чтобы всякого гражданина призывать в совет, а отвод давать лишь самым неимущим — от сего указа дела до того поправились, что в присутствиях уже и места недоставало для множества заседателей, (149) ибо не находилось письмоводителей и евнухов, готовых отпустить за взятку. И правда: евнухи, как положено евнухам, исполняли рабскую службу, не кичась более роскошеством одежд, а письмоводителям для работы хватало руки, пера и чернил, в остальном же они блюли скромность, наученные наставником своим любить честную бедность, — даже и теперь попадаются среди них иные, от таковой выучки ставшие получше философов. Впрочем, как я полагаю, в ту пору и прочие чиновники отнюдь не искали прибыли, но более всего жаждали славы. (150) Вспомните, сколько было таких, с коими повстречавшись простирались мы прежде ниц, словно пред перуном, а ныне, ежели спешатся они среди площади, мы жмем им руку и беседуем с ними, и почитают они для себя приличнее не запугивать, но держаться запросто.
(151) Впрочем, издавать законы самодержцам легко, ибо сие в их власти, но издать полезный закон нелегко, ибо тут уже надобно разумение. А вот государь сумел добавить к имеющимся законам такие, что в великом убытке остались былые поколения, законов его не знавшие, да притом возобновил он во всей их силе столь же превосходные древние законы, упраздненные державным произволом, — для честолюбия его согласиться с добрым уставом было предпочтительнее, чем попусту бранить принятые порядки.
(152) Теперь разберемся, кто и как был наказан. Казнены смертью были трое.796 Один всю вселенную наполнил доносчиками, и его стараниями в обеих землях погибли несчетные тысячи людей, так что знавшие сего негодяя сокрушались, зачем невозможно его — уже мертвого! — убить еще раз, и еще раз, и еще много раз. Другой не только поработил себе Констанция, хотя сам был рабом и — хуже того! — евнухом, но притом более всех был повинен в злодейском убиении Галла. Третий погиб от ярости войска, ибо говорили, будто из-за него лишились воины государевых подарков, однако же был по смерти несколько утешен, ибо государь отделил дочери его немалую часть отцовского имения. (153) Что до обидчиков его — а они были, да такие, которые сулили царство другим, государя же поносили всеми словами, — итак, сии обидчики заслуженной кары не понесли и смертию казнены не были, но лишь отправились на острова, дабы научиться держать язык за зубами. Воистину, умел он мстить и мстил за чужие обиды, а вот к собственным своим врагам был милосерден.
(154) Взошел он также и в сенат и усадил круг себя сие сиятельное собрание — давно уже не было сенаторам таковой чести! Прежде их вызывали во дворец, и там они стоя выслушивали то немногое, что говорил им Констанций, а сам он сенатских заседаний отнюдь не посещал, ибо в речах был не горазд и потому избегал мест, где требовалось явить витийство. Новый государь, напротив, в речах был силен и говорил точно по слову Гомерову:797 «с мужеством твердым», так что искал таких собраний и всякому желающему предоставлял высказываться со всею откровенностью, однако же и сам не скупился на слова. Порою речь его была краткой и меткой, порою подобилась частому снегопаду — то равнялся он Гомеровым витиям, то превосходил их, хотя и соблюдая присущий каждому слог. (155) Однажды, когда он вот так говорил, хваля, браня и убеждая, донесли, что явился учитель его, родом ионянин,798 прозываемый ионийским любомудром. Тут государь, вскочивши с места, оставил старейшин и кинулся к дверям с теми же чувствованиями, с какими бежал к Сократу Херефонт, но тот был всего лишь Херефонт, и дело было в Тавреевом ристалище,799 а он-то был всемогущий владыка и обретался в знатнейшем из собраний — таковым своим поступком явил он всем и объявил, что мудрость достославнее царства и что всеми лучшими своими свойствами обязан он философии. (156) Обняв и расцеловав гостя, — такое в обычае у простых людей, а у венценосцев ежели и бывает, так только друг с другом, — ввел он его, хотя и не сенатора, в собрание, ибо полагал, что не место красит человека, а человек место. Там принародно изъяснил он, что именно из-за сего мужа сделался он таков, каков есть, из такого, каким был, а после когда уходил, то шел с ним рука об руку. Почему же делал он так? Не единственно в благодарность за науку, как подумают иные, но еще и побуждая к учению всех молодых, да и старых тоже, ибо в ту пору уже и старцы спешили учиться — воистину, что у государей не в чести, то и у всех прочих в небрежении, а что государь чтит, о том и прочие ревнуют. (157) Между тем он, почитая словесность и служение богам занятиями сродственными, но также видя, что благочестие совершенно пало да и витийство в великом упадке, старался не только об устроении святынь, а еще и о том, чтобы воротить людям любовь к словесности — для того и грамотеям оказывал он уважение, и сам сочинял речи. Как раз в то время сочинил он в короткий срок две речи,800 каждую за единый день, вернее сказать, за единую ночь: первая была против пустомели, тщетного подражателя Антисфенова, бестолкового прелагателя премудрости его, а вторая была о Матери богов и содержала множество превосходных рассуждений.
(158) Для того же назначал он градоначальниками мужей просвещенных и отнимал правление провинциями у варваров, кои лишь писать умели скоро, а разумели мало и потому кормилом ворочали без толку. Верно видел государь, что подлинные знатоки всякого рода словесности знают также, в чем доблесть правителя, и поэтому их, прежде утесненных, дал в начальство народам. (159) А после, когда проезжал он по Сирии, каждый из сих начальников встречал его на границе речью — даром, куда как превосходнейшим всех кабанов, фазанов и оленей, коих прежде бессловесно подносили государям, — а этого вот государя дарили речами, и так в походе своем переходил он от одного владетельного витии к другому. Был среди них правитель Киликии,801 мне ученик, а ему друг из друзей, и муж сей обратился к государю с похвальным словом, когда тот стоял у алтаря после жертвоприношения, и с обоих в изобилии тек пот: с одного от усердия в речи, а с другого — от приязненного внимания. (160) С этой поры вновь процвел луг мудрости,802 и стало возможно чаять почестей за словесную науку, а у софистов дела пошли на лад: иные принимались за ученье с самого начала, а иные поздно, так что являлись в школу не только с поурочными записями, но и с бородой. Вот так уготовал он Музам новую весну и по праву удостоил наилучших наилучшего, воспретив рабским работам возвышаться над благородными трудами. (161) Вознести благочестие и словесность — наизнатнейший нам от богов дар, из бездны бесчестия на почетную высоту — что огромнее сего свершения? Также и в последнем своем походе был он всегда к софистам приветлив, а ради святых капищ случалось ему и с прямого пути сворачивать, и тут уж всякая дорога была ему нипочем — хоть долгая, хоть трудная, хоть по солнцепеку. (162) За таковое свое благочестие стяжал он великую награду: прознал от тамошних богов, какой на него воздвигся заговор и какое надобно спасительное средство, и по этой причине поменял распорядок похода, пошел скорее, чем прежде, и так избегнул западни.
(163) Проходя через Сирию, прощал он недоимки городам, навещал храмы, беседовал близ алтарей с городскими старшинами, но невтерпеж ему было поскорее отомстить персам, да и не хотел он сидеть без дела, упуская удобное время года. Однако же латникам и коням, утомленным в походе, требовался роздых, так что он, хотя и сожигаемый нетерпением, поневоле уступил необходимости, сказавши только, что примутся-де теперь шутить, будто он и взаправду прежнему самодержцу сродни.
(164) А теперь поглядим, каков был государь в сию покойную пору и сколь достославны и достохвальны были деяния его при всех обстоятельствах. Пришло к нему письмо от персидской стороны с просьбою принять посольство и покончить распрю договором. Тут мы все на радостях плясали, рукоплескали и кричали, что надо-де соглашаться, а он, напротив, велел послание воротить без чести, сказавши, что, пока города наши повержены, ни о каких переговорах и думать нечего, и ответил царю, что не надобны ему посольства, ибо и так-де вскорости они свидятся. То была победа прежде битвы и одоление прежде схватки — мы знаем, что такое случается на ристаниях, когда превосходнейшему состязателю довольно лишь показаться. (165) Так же вышло и с персидским царем, от одного лишь присутствия государя, и нечему тут особо дивиться, хотя и дивно, что вострепетал тот, кто привык пугать других. Впрочем, уже когда наследовал он Констанцию, успевшему вывести войска свои из сей страны, однако же на место еще не прибыл, то ни единый перс не нападал ни на единый город, притихнув от самого звука имени государева, — вот это диво затмевает прочие чудеса! (166) Итак, касательно посольства он решил, что в таковых обстоятельствах не сговариваться надобно, но воевать, а что до воинов, то прежние во всем казались ему отменно хороши: телом крепкие, в сражении рьяные, снаряжены исправно, да и бьются во имя богов; а вот доставшиеся от Констанция — совсем не то: на вид статные и ладные, в золоченых доспехах, но столь часто приходилось им бегать от неприятеля, что едва заприметят персов — и уже выходит с ними по слову Гомерову803 о человеке, повстречавшемся в горах со змеею, или, ежели угодно, становятся они как олени пред гончими. (167) Понимая, что души их растлены не только негодностью военачальников, но еще и привычкою воевать без богов, девять месяцев государь провел с ними, внушая им рвение к благочестию, ибо знал, что толпы бойцов и острые мечи и крепкие щиты — все ничто и все без пользы, ежели нет у воинства божественных соратников. (168) Потому-то ради сего союза сумел он научить копьеносную длань прежде боя свершать возлияние и воскурение, дабы возможно было среди вражьих стрел взмолиться к тем, кто в силах заградить путь сим стрелам. Когда недоставало слов, помогали убеждению золото и серебро, так что воин от малой корысти обретал великую прибыль — дружбу богов, кои войне господа. (169) Воистину, замыслил государь призвать на помощь не скифскую орду и не разномастный сброд — от такого нашествия происходят лишь убытки и утеснения, — но призвал он себе в подмогу десницу потяжелее, десницу небесную. Небожителей дал он в соратники тем, кто приносил жертвы Арею, и Ериде, и Энио,804 и Страху, и Ужасу, мановением коих вершится битва, а потому ежели сказал бы кто, что сокрушил и поразил он персов еще на брегах Оронта,805 то было бы сие слово правдивым.
(170) Не стану отрицать, что в таковом своем усердии вошел он в большие расходы, но это куда как пристойнее, чем тратиться на позорища, или скачки, или травлю полудохлых зверей. Подобные забавы отнюдь его не привлекали, и ежели случалось ему поневоле сидеть на конных потехах, он находил очам иное занятие, умея разом уважить и праздник, и собственные свои наклонности: праздник — присутствием, а наклонности — постоянством. (171) Ни споры, ни гонки, ни крики не развлекали сосредоточенности ума его, и когда, по обычаю, угощал он разночинное общество, то других поил, а сам мешал вино с речами и соучаствовал в пиршестве лишь настолько, чтобы не выглядеть неучтивым. Неужто среди тех, кто любомудрствует в тихих кельях,806 бывал хоть один, равный ему в обуздании чревной похоти? Неужто кто другой умел, как он, блюсти различные посты ради различных богов — то ради Пана, то ради Гермеса, то ради Гекаты, то ради Исиды и иных прочих? Кто еще проводил столь многие дни безо всякой пищи, услаждаясь общением с богами? (172) Воистину, сбылось реченное стихотворцем: коснулся главы его гость небесный и, прежде чем удалиться, говорил с ним и слушал его. Слишком долго пришлось бы рассказывать о таковых его беседах, но об одной скажу: в самый полдень взошел он на Кассийскую гору к Зевесу Кассийскому807 и узрел бога, а узревши, встал перед ним и получил от него наставление, и так снова избегнул засады. (173) Когда бы возможно было человеку жить вместе с богами в небесном их обиталище, то допустили бы они его к себе и жил бы он с ними, но поелику плоть человеческая сего не дозволяет, нисходили они к нему сами, наставляя, что делать и чего не делать. Даже и у Агамемнона советником был Нестор Пилосский — почтенный старец, однако же всего лишь человек, а вот государю нашему не надобны были советы ни от каких людей, ибо всех людей превосходил он проворством мысли, но были ему наставниками всеведущие боги.
(174) Хранимый такими блюстителями и в частом с ними общении, всегда трезвый и не обременяющий желудок излишнею тяжестью, был он словно крылат и за единый день управлялся со множеством дел: сколько ни являлось послов, всем отвечал, а еще писал письма городам, полководцам, градоначальникам, друзьям далеким и близким, а еще слушал письма, какие ему писали, а еще разбирался в прошениях и говорил так скоро, что скорописцам было за ним не угнаться. Умел он делать зараз три дела, именно слушать, говорить и писать: чтецу вручал свой слух, писцу — речь, ожидающему послания — десницу, да притом никогда ни в чем не ошибался (175) и служителям давал роздых, но сам от одного занятия тут же переходил к другому. Покончив с государственными делами и пополдничав — только чтобы не умереть с голоду, — опережал он неустанностью своею цикад и, устремясь к закромам книжным, читал и твердил, покуда к вечеру опять не наступала пора позаботиться об устроении державы, а после обед — еще скуднее завтрака, а после сон — недолгий при столь умеренной пище, а после являлись к нему новые писцы, проспавшие до того целый день, (176) ибо помощникам его нельзя было не сменяться, так что отдыхали они по очереди. Он один перемежал труды трудами, трудился беспрерывно, многоразличностью свершаемого превосходя Протея:808 он был и жрец, и сочинитель, и пророк, и судья, и воин, и всем неизменный заступник. (177) Однажды колебал Посейдон столицу фракиян,809 и было возвещено, что не избавиться городу от напасти, покуда не найдется кто-либо, кто утишит гнев божий. Едва услыхал это государь, тотчас вышел в сад на открытое место и подставил тело свое ливню — прочие, оставаясь под кровлею, глядели и дивились, а он в святости своей до позднего вечера сносил ненастье, тем ублаготворив бога и отвратив беду, ибо пришедшие после доносили, что в этот самый день перестала земля дрожать, а здоровью государеву помянутое ненастье никакого ущерба не нанесло. (178) Зимними долгими ночами принялся он изучать — помимо многих иных превосходных сочинений — еще и книги, в коих человек из Палестины изображается богом и отпрыском божьим, и в пространном на них возражении непреложно доказал, что таковая его слава есть смех и вздор. В этих своих ответах оказался он мудрее тирийского старца810 — да примет тириянин похвалу сию благосклонно и к своей же чести, как если бы был превзойден родным сыном!
(179) Вот так услаждался государь наш в ночные часы, когда у прочих только и заботы, что об афродитских утехах; а он настолько не любопытствовал, нет ли у кого пригожей дочери или жены, что, когда бы не связала его Гера законным браком, до самой смерти знал бы о плотском соитии единственно из книг. А на деле по супруге своей он горевал, но других женщин не касался ни прежде, ни после, будучи по природе способен к воздержанности, в коей укрепляли его также и волхвования. (180) В сих пророческих занятиях проводил он время вместе с наилучшими волхвами, но и сам никому из них не уступал в премудрости, так что гадателям под надзором очей его невозможно было хитрить со знамениями. В помянутой науке случалось ему превосходить даже и наилучших знатоков, ибо столь чуткою и всезрящею была душа его, что умел он одно провидеть разумением, а другое — божественным одушевлением. Вот почему кое-кого не стал он назначать начальниками, хотя прежде думал назначить, а иных назначил, хотя прежде не имел таковых намерений — то и другое по приговору богов.
(181) Что был он верным блюстителем отечеству и общую пользу почитал превыше собственной, тому имеются премногие свидетельства, а всего очевиднее такое. Когда доброжелатели уговаривали его жениться, дабы родить державе своей восприемников, он отвечал, что того-то и опасается, как бы не родились они негодяями и не разделили бы участь Фаэтона, разоривши законную свою вотчину, — итак, решил он лучше оставаться бездетным, чем ущемить граждан. (182) Равно и судейских трудов — столь многоразличны были уделы разума его! — он не избегал: хотя и возможно было вполне уступить сию заботу префектам, в правосудии весьма искушенным и неподкупностью превосходным, однако же он и сам являлся в числе судей, соучаствуя в ристании — именно в ристании, хоть бы кто и возражал против такового названия, но воистину были для него сии тяжбы развлечением и забавою. (183) С превеликою легкостью отражал он уловки наемных витий, но и всякое честное свидетельство распознавал с быстротою несказанной, и так, сличал слова со словами и правду с ложью, побеждал хитрость законом. Правому богачу он не перечил, а за виноватого бедняка не вступался — знаем мы судей, то завидующих чужому счастию, то проникающихся неуместною жалостью! — он же, напротив, не принимал в расчет личности сторон, но судил только по делам, так что порой богач уходил в выигрыше, а бедняк в проигрыше. (184) Стоило лишь пожелать, и мог он пренебречь законами, отнюдь не тревожась, что потащат его за это в суд и покарают, однако он полагал непременным своим долгом быть во всякой тяжбе щепетильнее самого ничтожного стряпчего. Поэтому как-то раз, когда узнал он, что некий лиходей, и без того ненавистный ему за прочие свои подлости, провинился еще подделкою писем, но что пострадавший обжаловать подлога не может, то вынес он приговор в пользу виновного, хотя и присовокупил, что вполне понял преступную хитрость, но поелику обиженному возразить нечего, то и он, рабствуя закону, принужден оправдать обманщика. От такого приговора выигравшему получилось больше огорчения, чем проигравшему, ибо тот лишился земли, а этот доброго имени — так нашел он способ и закон не нарушить, и лиходея наказать. (185) А когда учреждено было государево судилище и всякому стало возможно искать там помощи, то все, прежде неправедно обобравшие слабейших бесстыдным грабительством или под личиною сделки, сами явились воротить чужое: иные по жалобе истца, а иные и не дожидаясь иска, но в страхе опережая дознание — так каждый преступник сам себе сделался судьею. (186) Словно как о Геракле говорят, что ежели терпит кто бедствие на суше или на море, то зовет его, хотя бы и отсутствующего, ибо самого звука имени его довольно для спасения, точно такую силу обрели мы в прозвании государевом! По городам и деревням, по дворам и площадям, по странам и островам — всюду хоть стар, хоть млад, хоть мужчина, хоть женщина в оборону от обидчиков возглашали имя государево, и не раз от таковой речи цепенела рука, уже готовая нанести удар. (187) В помянутой судебной палате решился и спор городов о первенстве:811 города сии были в Сирии после нашего величайшие, однако один был лепотою превосходнее, ибо богател от моря. По сему поводу сказаны были тяжущимися пространные речи: послы с побережья, помимо прочих относящихся к делу предметов, поминали еще и о премудром своем согражданине, а послы с равнины сразу о госте своем и о согражданине, из коих один избрал их город для ученых своих занятий, а другой приветил и сего гостя, и всех его почитателей, откуда бы они ни явились. В приговоре своем пренебрег государь каменными роскошествами обоих городов, но сравнивал лишь названных мужей и потому присудил первенство граду, гражданами сильнейшему, (188) таковым своим приговором внушив городам рвение к доблести — воистину так, ибо презрел он бездушные красивости, коими невозможно склонить правосудие, ежели судья усерден.
(189) Давеча, ведя речь о благочестивых его делах, поминал я уже простоту его обхождения, но сейчас надобно сказать об этом побольше, ибо даже с судейского места обращался он к тяжущимся витиям и к их подзащитным совершенно запросто, дозволяя всяческие вольности: хоть кричи во все горло, хоть руками размахивай, хоть ходуном ходи, хоть издевайся над противником и прочее подобное — все, что принято делать для победы в прениях. Обыкновенно обращался он к спорящим «друзья мои», (190) именуя так не одних витий, но всех — впервые в наше время назвал владыка подданных друзьями и таковым словом стяжал приязнь крепче, чем вертишейка бы навертела!812 Не в обычае у него было терзаться подозрениями, да пыжиться безмолвием, да прятать руки, да тупить взор в землю, разглядывая вместо собеседника собственные сапоги, да ждать от вольных граждан рабской низости в речах и делах — нет, не это полагал он пользою для царственного своего величия,813 предпочитая, чтобы всякий встречный имел к нему прямой доступ, а не шарахался от изумления. (191) И когда надевал он пурпурную ризу, коей самодержцу не носить никак невозможно, то и этот наряд носил словно самый обыкновенный — не охорашивался, не любовался цветом, не думал, будто от лучшей краски сделается лучшим и от превосходнейшей превосходнейшим, не мерил густотою пурпура счастие державы своей, но предоставлял красильщикам и ткачам работать как умеют, а сам уповал возвеличить царственность свою урожаем разумения, от коего гражданам прибыль и государю пущая слава. (192) Остался у него и златой венец, ибо так порешили боги, а почему, о том лишь боги ведают — сам-то он не раз порывался избавить главу свою от золота, однако же подчинился запрету. (193) Сие золото привело мне на память и прочие златые венцы, доставлявшиеся посольствами от городов, и венцы один другого тяжелее, тот в тысячу статиров,814 этот в две тысячи, а от нашего города тяжелее всех. Столь богатые дары он порицал, отлично зная, что собрать для них средства весьма затруднительно, и постановил, чтобы всякий венец был в семьдесят статиров, ибо честь-де от каждого подарка одинаковая, а вымогать подношения подороже пристало лишь корыстолюбцам. (194) Гонцы, разъезжавшие с этими указами и многими иными посланиями, ничуть не хуже, а то и лучше помянутого выше, совершенно отказывались от награды за труды свои, так что отвергали даже и добровольные дары: слишком опасно было брать взятки, а всякий понимал, что взяточнику укрыться невозможно и что непременно будет он наказан, потому-то и не посрамлялась слава доброго государя подлостью челяди его.
(195) Покуда был он занят названными делами, случилось еще и такое. Собрался на ристалище народ, вопия от голода,815 ибо землю обидели дожди, а граждан — богачи: не отдали они в общее пользование многолетние запасы, но сговорились и подняли цену на хлеб. Тогда государь, созвавши земледельцев, ремесленников, торговцев и всех прочих, кто назначает цены на всякий товар, именем закона повелел им блюсти меру и сам же первый в согласии с законом отправил на рынок пшеницу из своих закромов. Однако вскоре он узнал, что городские старшины наперекор закону только его хлеб и пустили в оборот, а собственный припрятали. Тут, верно, кто-нибудь, не распознавший тогдашних нравов, ожидает услышать о копье, мече, огне, воде — да и чего другого заслуживают подданные, вступившие в бой с государем? и что же это, как не бой, пусть и без оружия, когда оказывают государю предумышленное сопротивление и перечат, хотя можно согласиться, и хитрят, чтобы все указы, о коих он радеет, оказались без толку? (196) Верно говорю, по справедливости мог самодержец карать их названными карами и еще тяжелейшими, и всякий другой непременно обрушил бы перуны на обидчиков своих, однако же он, привыкнув всегда смирять гнев свой, в этом случае одолел его совершенно — заслуженной казнью виновных не казнил, а присудил им тюрьму, да и то не подлинное узилище, но лишь название оного, так что ни единый из городских старшин даже и порога темницы не переступил. Еще и не стемнело, а краткое и легкое сие взыскание уже исполнилось, ибо надзиратели со всею расторопностью приводили виновных в тюрьму и без промедлений отводили назад. Те и пообедать успели и выспаться, а государь не спал и не ел; те радовались, что избегнули кары, а он скорбел о том, что довелось им претерпеть, и объявил, что весьма обижен на город, принудивший его применить такое вот наказание, (197) которое почитал он хотя и наименьшим, однако же для обычая своего огромным и чрезмерным. Потому-то он не ожидал, как бы кто-либо из друзей не попрекнул его содеянным, но сам себя корил и, как я полагаю, не за то, что наказал неповинных, а за то, что не находил для себя возможным наказывать городских старшин, хотя бы и за сущее злодейство. (198) Итак, чуть позднее, когда город явил ему еще пущую дерзость — хотя и говорю я об отечестве своем, но есть ли что почтеннее истины? — он вовсе отказался от начальственных взысканий, а прибегнул к витийству, и, хотя во власти его было пытать и казнить, обрушился на горожан речью.816 Точно так же обошелся он, сколько я знаю, и с неким жителем Рима, обнаглевшим до того, что по справедливости полагалось ему по меньшей мере лишиться имения, однако же государь имения его не тронул, а уязвил недруга стрелою письма, — (199) столь мало было в нем склонности к кровопролитию! И такого-то государя снова замыслили убить: сговорились о сем убийстве десять воинов и только дожидались для того военного смотра, но, по счастию, напились допьяна и проболтались, так что все их тайные злоумышления вовремя обнаружились.
(200) Кое-кто, наверно, подивится, почему случилось так, что хотя был он кроток и милосерден и наказаний или вовсе избегал, или назначал куда меньше положенного, а все-таки всегда находились у него среди подданных зложелатели. Причину этого я изъясню после, когда поведу речь о прискорбной для меня кончине его, а сейчас предпочитаю сказать о ближних его лишь нижеследующее: иные из них казались честными и вправду были таковы, а иные казались честными, но таковыми не были, и первые во всех превратностях остались тверды, а других уличило время. (201) Воистину, когда соделался он полновластным государем и хозяином казны и всех прочих царских богатств, то нашлись люди, сошедшиеся с ним задаром817 и посещавшие его не ради прибыли имению своему, но почитавшие довольною для себя корыстью, что он им мил и они ему милы и что зрят они возлюбленного своего друга властелином превеликой державы, да притом властелином благоразумным. Хотя и предлагал он им не раз, да что предлагал! прямо-таки умолял принять в дар землю, и коней, и дома, и серебро, и золото, однако же они от всех подарков отказывались, ибо и без того-де богаты, — (202) вот каковы были честнейшие среди ближних его. Но были рядом с ним и закореневшие в корыстолюбии:818 эти прикидывались бессребрениками и выжидали подходящего случая, а дождавшись, просили и получали, и снова просили, и снова получали, и не было просьбам их конца, как не было удержу их алчности. По великодушию своему был он щедр, но честности таковых просителей уже не верил и сокрушался о заблуждении своем, однако же по давней привычке терпел и не отдалял от себя вымогателей, предпочитая оставаться верным прежней дружбе. (203) Нрав каждого из ближних своих знал он отлично, но лишь усердные сподвижники были ему в радость, а все прочие — в тягость, так что одних он удерживал, а других только не прогонял. Случалось ему подивиться на софиста, являющего нежданное для звания своего благородство, случалось выбранить философа, ежели нрав у того был не по званию дурен, но все ото всех согласен он был снести, лишь бы не показалось, будто в царственности своей презирает он старинных знакомцев.
(204) Однако примечаю я, что вам уж невтерпеж услыхать о последнем и величайшем его подвиге — о том походе, в коем поверг он персов и сокрушил землю их. Стоит ли удивляться, что давно и с жадностью дожидаетесь вы сего рассказа? Чем кончилось дело — как победил он и пал, — вам известно заранее, а вот о подробностях вы или совсем не знаете, или знаете недостаточно. (205) Нетерпеливое ваше ожидание проистекает от размышлений о том, какова у персов сила, и как победили они несчетные полки Констанция, и как же не убоялся государь идти на столь дерзкого и отважного неприятеля. Что до Констанция, то, помимо островов океанских и прочих, владел он землями от брегов Океана до течения Евфрата, и были земли сии, кроме всего иного, изобильны еще и молодцами, телом крепкими и духом рьяными, — такого воинства никому не одолеть. (206) Снаряжаться-то Констанций был горазд: и цветущих городов за ним неисчислимое множество, и податей отовсюду в избытке, и золота в рудниках довольно, и всадники в железе с головы до ног — куда персидским доспехам! — и даже кони закованы в броню, чтобы не пораниться. Однако же, наследовав от родителя своего войну, для коей требовался самодержец отважный, да еще и разумеющий, как с толком употреблять воинство свое, он словно бы присягнул помогать неприятелю: чтобы отнять чужое и не отдать своего, он и не помышлял, а вместо того всякий год по весне, едва распогодится, вел снаряженное к наступлению войско за Евфрат да так там и сидел со всеми своими несметными полками, готовый бежать, чуть только покажутся враги, и даже услыхав, что собственные его подданные страждут в осаде,819 с полководческою своею мудростью решал он не сражаться и гибнущих не оборонять. (207) Что же происходило от такового сидения? А вот что. Враги таранили стены, сокрушали крепости и возвращались домой с добычею и пленниками, наш же воитель посылал людей поглядеть на пожарище и благодарил Случай, что не вышло худшей беды, а после тоже возвращался домой и среди бела дня шествовал через города, принимая от народа славословия, какие положены победителям. И всякий год одно и то же: персы наступают, а он медлит, персы ломят через засеку, а он только зашевелился, персы уже на подходе, а он еще от разведчиков принимает донесения, персы одолевают, а ему лишь бы не биться, у персов царь похваляется, сколько врагов полонил, а у нас — какие устроил скачки, того венчают города, а этот сам венчает колесничих. Неужто не был я прав, назвавши его помощником персов? Не помешать, когда помешать возможно, — да это все равно что своими руками помочь! (208) Пусть никто не подумает, будто я позабыл о той ночной битве, когда наконец досталось не только нашим,820 или о том морском бое среди суши, когда наши с великим трудом спасли многострадальный город.821 Напротив, именно то и досадно, что получил он в наследство храбрецов, внушавших врагам страх, и этих самых храбрецов сделал трусами, растлив благородные их души подлою выучкою. (209) Сколь велика сила выучки во всяком деле, сие и мудрецы нам изъясняют, и древние предания: выучка и честного сумеет выучить подлости, и подлого честности — одному природный его нрав испортит, а другому исправит. Не выучка ли держала стремя женщинам,822 соделав их воительницами получше мужчин? Ну, — а ежели человека, пусть даже и доблестного по природе, принудишь ты проводить время в гульбе и пьянстве, то доблесть его покинет, отстанет он от своего же нрава, привыкнет к изнеженности, и тут уж прежняя жизнь станет ему ненавистна — вот так привычка теснит природу. (210) Именно это случилось с подначальными Констанцию войсками: хотя бы и рвались они в бой, но он их не пускал, а вместо того научал их позора не бояться, страшиться лишь смерти и дремать в шатрах, покуда земляков их угоняют в полон. Поначалу они, как и подобает отважным воинам, негодовали, однако же с годами негодования убавлялось, а потом смирились они с таким обычаем и, наконец, обрадовались ему. (211) Потому-то, завидев вдали тучу пыли, какую поднимает конница, отнюдь не спешили они в бой, но пускались наутек, а ежели взаправду покажется конный отряд, даже и малый, то молились к Земле, да разверзнется под ними, ибо все готовы были они претерпеть, лишь бы не встретиться лицом к лицу с персами. Утратив мужество, сделались они и в обращении боязливы, и трусость их была повсюду хорошо известна, так что когда на постое требовали они от хозяев угождения, то окоротить их было возможно единым именем персов: всякий мог в шутку сказать, что вон-де перс близко, и они тут же краснели и отступались. В походах против соотечественников умели они и нападать, и отбиваться, но за многие годы столько накопилось у них страха перед персами и столь глубоко врос сей страх, что испугались бы они, пожалуй, этих персов даже и нарисованных.
(212) Вот таких-то вконец растленных воинов и повел на персов предивный муж, о коем повествую, а они шли за ним, мало-помалу вспоминая былую свою отвагу и веруя, что, по замыслам его, хоть из огня выйдут невредимы. (213) Каковы же были сии замыслы? А вот каковы. Зная, что важные расчеты надобно держать в тайне, ибо ежели все разгласить заранее, то и не выйдет никакого толку, а ежели утаить, то будет делу великая польза, не говорил он никому ни о времени вторжения, ни о направлении похода, ни о способах обмануть неприятеля, ни о каких иных сокровенных своих намерениях, отлично понимая, что все подобные разговоры мигом достигнут слуха лазутчиков. (214) Итак, префекту было велено снарядить на Евфрате множество барок и нагрузить их съестными припасами, а государь, не дожидаясь конца зимы и опередив все ожидания, спешно переправился через реку и явился в стоящий поблизости великий и многолюдный город именем [Самосата], дабы других поглядеть и себя показать, стяжав приличествующие самодержцам почести. Зная, что обстоятельства требуют расторопности, он вскорости ушел оттуда в другой город — в тот, где великий и древний храм Зевесов. Подивившись сему святилищу и помолясь, да поможет ему Зевес сокрушить вражью силу, отделил он от войска своего двадцать тысяч латников и отослал их к Тигру сторожить тамошнюю область на случай какой-либо беды, ну, а ежели приспеет надобность, то будут отозваны обратно. (215) Сходственно надлежало действовать и армянскому правителю,823 ибо неприятель, спалив и разорив его земли — и, уж как водится, лучшие! — шел навстречу государю, так что армянское войско должно было соединиться с нашим и затем, ежели враги побегут, вместе их гнать, а ежели не отступят, вместе бить. Распорядившись таким образом, государь пошел вниз по Евфрату — питьевую воду доставляла река, а барки с припасами самоходом плыли по течению. (216) Тут приметил он множество тяжко груженных верблюдов, связанных цугом; в поклаже у них были отборные вина из разных стран, да к тому всякие закуски, придуманные людьми, чтобы еще слаще пилось вино. Он спросил, что везет караван, а когда узнал, то велел сему вместилищу услад отстать от войска, ибо добрым бойцам пристало пить вино, добытое копьем,824 а сам он — такой же боец, и положено ему есть и пить то же, что и всем прочим. (217) Вот так, отвергнув всякую роскошь и довольствуясь лишь необходимым, шел он вперед. Коням и вьючной скотине доставало подножного корму, ибо весна в тех краях уже наступила и травы было в изобилии. (218) Наконец явилась пред войском крепость, воздвигнутая над излучиною реки,825 и сию первую из встречных крепостей взяли они не оружием, но страхом, ибо едва узрели жители, что соседние холмы сплошь покрыты воинством, то не вынесли сверкания доспехов, отворили ворота, сдались и переселились в нашу страну. Припасов захвачено было без счета, так что каждому хватило на многие дни похода, и среди дикого поля воины ели досыта, словно среди городского уюта.
(219) Другая крепость826 стояла на обрывистом острове и со всех сторон была окружена стеною, так что снаружи не оставалось нисколько места — ногу некуда упереть. Тут уж государь, признавши, сколь счастливо для жителей сие обиталище, рассудил, что ежели вознамерится он исполнить невозможное, то лишь угодит врагам, и что биться за недоступное ничуть не умнее, чем упускать доступное. Итак, он объявил островитянам, что скоро воротится, весьма смутив их таковым обещанием и поселив в душах их страх, а сам снова пошел пустынею и наконец достиг Ассирийской земли. Земля сия добродеет поселянам не только богатством и красотою жатвы при малом посеве, но еще и урожаем винограда, смокв и прочих благодатных плодов, даримых благодатною почвою. (220) Воины, наблюдая такое изобилие и пользуясь им в каждой деревне — а деревень по всей Ассирии множество, построены они на славу и зачастую ни в чем не уступают небольшому городу, — итак, встречая повсюду такое изобилие, воины уже не жаловались на тяготы дороги. (221) Они рубили пальмы, рвали лозы, разоряли закрома, давали волю гневу, ели, пили, однако же допьяна напиваться боялись — незадолго до того один воин был за пьянство казнен, так что остальные держали себя в пристойном виде и блюли трезвость. А меж тем злосчастные ассирияне, покинув долину, глядели на беду свою с дальнего нагорья, ибо пришлось им бежать, соделав себе союзницею прежде враждебную реку. (222) Как же случилось, что одним река сия помогала, а других побивала? А вот как. Евфрат полноводен, один стоит многих рек и никогда не мелеет, но весною выходит из берегов — причиною сему дожди, размывающие снег, накопившийся за зиму в Армении. Потому-то земледельцы, обитающие на брегах евфратских, отводят влагу по каналам — точно как египтяне нильскую воду, — а после сами по своей воле отворяют или затворяют ей путь на поля. (223) Когда войско наше вторглось в те края, жители отверзли пред потоком плотины, затопивши всю страну, и не было для бойцов напасти тягостнее — повсюду достигало бедствие, но всего опаснее приходилось в запрудах, ибо вода там была кому по грудь, кому по горло, а кому и с головой. Из последней силы старались бойцы сами спастись да еще уберечь доспехи, и припасы, и тягло, и (224) кто умел плавать, того выручало сие искусство, а кто не умел, тому было куда как хуже, так что иные наводили мосты, а иные в нетерпении пускались на авось. Проходившие по узкому валу оставались сухи, но тесный сей путь был ненадежен, так что избегавшие его шли вброд и раб тащил за руку хозяина, а хозяин поддерживал раба. (225) Однако же хоть и претерпевали они премногие невзгоды, а не вопияли и слез не лили, и о походе своем не каялись, и слова худого не проронили, и даже про себя ничего такого не помыслили, но были веселы, словно шли по Алкиноевым садам,827 одушевленные, пожалуй, не только благими надеждами, а еще и тем, что государь добровольно делит с ними все тяготы. (226) Так оно и было: он не шел по мосткам, опертым на головы воинов — другой на его месте именно так и сделал бы и шагал бы себе беспечно среди всеобщих скорбей, — а шел он, самолично прокладывая путь через ил, грязь и топь, увещевая прочих не речами, но делом, ибо всякий воин и всякий обозник мог видеть промокшую его одежду. (227) Ассирияне исхитрились устроить сей великий потоп в уповании, что войско наше отступит или сгинет, но воины, словно окрыленные — или Посейдон разъял на пути их воды? — почти все убереглись от беды и напали, но уже не на крепость, а на самую столицу ассириян. Сей город был поименован по тамошнему царю,828 стены же его были построены в два ряда, так что в одном городе заключался другой город, меньший в большем, вроде как бочка в бочке. (228) Едва начался приступ, жители со страху попрятались за внутреннюю стену — ту, что покрепче, — и пока осаждавшие, заняв внешнюю стену, подступали к внутренней, лучники с башен осыпали их стрелами и иных убили, однако же наши устроили осадный вал выше стены и так убедили горожан сложить оружие. Те согласились при условии, что ни при каких договорах не будут выданы персам, ибо те непременно содрали бы с них кожу — а сие доказывает, что хотя попали они в плен, но оборонялись изо всех сил и в бою отнюдь не ленились.
(229) Итак, все покорялось государю и ни в чем не было ему препоны. Однако же он не только с врагами был суров, но и со своими, ежели не умели они победить или пасть. Когда конный отряд, коему поручено было добыть припасы, до того плохо сделал свое дело, что даже и начальник оказался убит, он повелел казнить главных виновников и не в шатре своем отдал такой приказ, но среди толпы воротившихся при всем оружии бойцов, и возвестил он им кару, имея при себе лишь трех телохранителей, — вот как приучил он войско покорствовать и подчиняться всякому решению полководца! (230) Выйдя навстречу всадникам, причитавшим об убитом своем начальнике, покарал он по заслугам попустителей гибели его, явив всем прочим пример наказания, ждущего нерадивых воинов, а после воротился в свой шатер, снискав восхищение пуще прежнего. (231) Желая великого разорения вражеской земле, шел он с частыми остановками, во время коих часть войска оставалась на привале за палисадом, а легкая конница и охотники рыскали по стране из конца в конец. Там находили они ассирийских жен и детей в подземных их убежищах и пригоняли их с собою во множестве — воистину, полоненных было больше, чем полоняющих, но и в таковых обстоятельствах все кормились досыта. (232) Затем отправились они снова на тот же подвиг — опять пошли на Евфратские каналы, однако же на сей раз дело это было особенно затруднительно, ибо земля была изрыта вдоль и поперек да и глубже прежнего. Тогда-то и явил себя государь сущим спасителем всего войска, а случилось это так. (233) Кое-кто расхваливал другую дорогу, подлиннее, зато в обход, а он сказал, что дороги такой опасается, ибо тут уж вовсе никакой воды не будет и придется терпеть лютую жажду, и еще добавил, что краткий путь труден, а долгий погибелен и что куда как лучше терпеть невзгоды от избытка воды, чем эту самую воду искать и не находить. Помянул он кстати и о некоем римском полководце,829 точно таковою оплошностью сгубившем себя самого и войско свое, — сказавши так, он тут же прочитал из книги о поголовной гибели сих древних мужей и тем неразумных советчиков заставил устыдиться, а всех прочих избавил от сомнений.
(234) Тотчас же порубили множество пальм, понастроили из них мостов друг к другу потеснее, и так соделалась удобная и просторная переправа, а государь в превеликом своем рвении о чести опередил шедших по мосту, двинувшись вброд, — вот тут-то и обернулась слабостью вражья сила, и вода, коею неприятель уповал победить, была совершенно побеждена.
(235) Вскорости обнаружила не меньшую свою слабость и другая вражья сила, и случилось сие так. Некая крепость,830 отменно неприступная, стояла притом на крутом острове, а башнями вздымалась до самого неба — столь высоки были стены ее. Понизу крепость сия почти сплошь, разве что с самыми малыми промежутками, была окружена зарослями камыша, вполне скрывавшими всякого выходившего, так что жители под прикрытием камышовой чащи беспрепятственно спускались к реке по воду. Стены же крепостные невозможно было сокрушить никакою машиною, ибо они опоясывали весь остров, на коем были воздвигнуты, а остров был весьма возвышен, да притом стенные кирпичи были склеены обожженною смолою. (236) На таковую твердыню и покушаться не стоило, однако же когда враги устроили вылазку, напали на наш передовой отряд и едва не ранили самого государя, то обида одушевила воинов отважиться на осаду. И вот они обложили крепость, а персы сверху надсмехались, ругались, дерзили, стреляли и попадали в цель, и мнилось им, будто наши все равно что небеса затеяли побороть. (237) Государь же сперва сам принялся обстреливать стены стрелами и камнями, так что иные враги были пронзены наповал, а после навел между островом и берегом мост, строители коего делали свое дело под защитою кожаных лодок: лодки эти они перевернули вверх дном, обратив днище в крышу, и в таковом укрытии работали, покуда персы тщетно метили в них огнем и железом, — тщетно, ибо кожаные днища лодок нельзя было ни стрелой пронзить, ни камнем пробить, ни жаром прожечь.
(238) Впрочем, персы и тут не слишком встревожились: хотя и знали они, что враги подводят подкоп, хотя и знали, что те готовятся к приступу, однако же по-прежнему днем и ночью веселились, словно наши трудятся попусту. А наши меж тем работали неустанно и шаг за шагом пролагали себе путь наверх. Подкоп получился шириною для одного человека, и вот наконец первый воин вспрыгнул среди ночи на башню и тайком пробрался в крепость, а за ним другой, а потом и третий — всяк хотел успеть к приступу. (239) Попалась им только одна старуха с младенцем, но едва она их приметила, как они заставили ее умолкнуть и, захватив башенные ворота, подали оставшимся внизу товарищам знак, что пора звать к бою. Боевой клич загремел с такою силою, что стражи в ужасе повскакали с постелей — тут уж только и оставалось хватать их и убивать всех подряд, хотя весьма многие успели сами себя порешить, бросаясь со стен. Началась великая охота за теми, кто старался укрыться, и никто из наших не желал врагам плена более, чем смерти, так что те кидались сверху, а снизу их — живых, полумертвых, мертвых — ловили на копья, и самое падение было им гибелью. (240) Вот так славили они тою ночью битвенных богов, но и рассветный бог831 узрел сие торжество — лишь в этом не послушались бойцы государя. Воистину, повелел он брать врагов живьем и пленных жалеть, но воины помнили о стрельбе со стен и о пронзенных товарищах, и от того гнев вздымал их десницу, и было им кровопролитие утешением в скорбных трудах, и просили они государя простить им, что платят за боль болью. (241) Истребив жителей, принялись они за самое крепость и разорили ее дотла — ни одну из тамошних крепостей так не крушили, ибо насколько превосходила эта все прочие устроением своим, настолько тверже присуждена была совершенно исчезнуть с лица земли. А что до персов, то им равно было в убыток хоть заново крепость ставить, хоть оставлять в развалинах. (242) Славный сей подвиг превышал силы человеческие, так что победители уже не ожидали для себя новых тягот, а гордыня врагов сокрушилась вместе со стенами крепостными, и почитали они дело свое пропащим. Даже государь, всегда свершавший великое, но всегда мнивший сие великое ничтожным, не мог отрицать огромности содеянного и сказал, чего никогда прежде не говорил: обмолвился, что вот-де наконец сириянину и предмет для речи, — а под сириянином разумел он меня. Предивный предмет дал ты мне для речи, любезный мой друг, но нет тебя, а без тебя и жизнь мне не в радость!
(243) Но возвращусь к повести своей. Итак, крепость претерпела помянутую участь, а молва о сем происшествии разогнала врагов, и далеко вперед путь стал свободен, так что обозные отряды ходили по деревням, прибирая все, чего не успели взять с собою бежавшие жители, а вернее сказать, кое-что они прибирали, а неподъемное топили в реке или жгли. Точно так же был разорен и дворец персидского царя: дворец этот стоял над рекою и отличался отменною красивостью на персидский лад — тут и строения, и сады, и дерева возрастают, и цветы благоухают, да на противном берегу еще и заповедный лес со стадом диких кабанов, кои прежде были царю для охотничьей потехи, а теперь все до единого пошли в войсковой котел. Сей дворец, якобы не уступавший даже и дворцу в Сузах, был сожжен, а вслед за ним спалили наши воины и другой, а потом и третий, похуже первых двух, однако не вовсе обделенный лепотою. (244) Свершив названные подвиги, добрались наконец молодцы наши до тех исстари взыскуемых городов, кои красят ныне землю Вавилонскую вместо Вавилона,832 — между этими городами течет река Тигр, несколько далее восприемлющая воды Евфрата. Тут было затруднительно рассудить, как приступиться к делу, ибо ежели воины останутся на кораблях, то невозможно им будет подойти к городам, ежели двинутся посуху, то пропадут суда, а ежели станут подниматься вверх по Тигру, то окажутся меж городами, да и силы израсходуют сверх меры. (245) Кто же разрешил таковое затруднение? Не Калхант,833 не Тиресий834 и не иной какой пророк, но государь наш. Взяв в полон обитавших по соседству жителей, принялся он отыскивать судоходный канал, о коем читал в книгах,835 что построен-де этот канал прежним царем и что соединяет он Тигр и Евфрат выше обоих помянутых городов. (246) Из пленных один по молодости лет ничего о сем не ведал, но другой был в годах и поневоле все сказал, да притом и сам видел, что государю сии края хоть и по книгам, а знакомы ничуть не хуже, чем местному уроженцу, — столь прозорливо из ученого своего отсутствия разглядел он древнюю землю. Итак, старик изъяснил, где проложен канал, и как заперт, и как раскопать пески, замкнувшие устье его. (247) Державным мановением все препоны устранились, и вот из двух потоков один на глазах пересох, а другой понес барки вослед бойцам по Тигру, и горожане весьма испугались, как бы таковая полноводность Тигра, да еще преумноженная евфратскими водами, не сокрушила бы стены. (248) Тут вышли в поле отборные персидские полки, наполнив берег блистанием щитов, ржанием коней, упругостью луков и огромностью слонов, коим растоптать ратное воинство — что хлеба потравить. И вот враги стоят насупротив, а по сторонам вода — поближе канал, подальше река, — а там снова персидские полки, а позади такое разорение, что обратно и ходу нет. (249) При таковых обстоятельствах потребна была непомерная отвага, иначе с голоду пропадешь, а потому все в тревоге взирали на одного. Что же он? Поначалу, словно на радостях, он устроил и выровнял ристалище, созвал всадников на потеху и назначил награды скакунам, а зрителями сих скачек сделались кроме своих еще и враги: наши сидели внизу круг ристалища, а те глядели со стенных башен, почитая государя счастливцем, ибо веселится он, словно уже победил, и оплакивая свою участь, ибо не могут помешать веселию его. (250) Покуда войско развлекало душу скачками, барки по приказу государеву были разгружены — якобы для того, чтобы проверить, не подходят ли к концу припасы, а на деле потому, что хотел он без промедлений и упреждений взвести бойцов своих на корабли. Итак, после обеда он собрал войсковых начальников и растолковал им, что остается один-единственный путь к спасению — переправиться через Тигр и вновь благоденствовать на не разоренных еще землях. Однако же ответом ему было молчание большинства, а главный военачальник даже и возражал, страша совет крутизною противного берега и несчетною силою неприятеля. (251) На это государь сказал, что ежели медлить, то местность останется прежнею, а вот врагов только прибавится, сменил названного военачальника другим и предсказал ему победу, хотя и не бескровную: будет-де он ранен в руку. Вдобавок показал он, в какую именно часть руки будет ранен сей муж и какой малости целебного зелья станет ему довольно.
(252) Воины уже взошли на суда, а государь все стоял, взирая на небеса, покуда не явилось ему оттуда знамение, — тут повелел он полковым начальникам приступать к переправе, а те елико возможно тихо передали сей приказ прочим. Бойцы принялись переплывать реку и высаживаться. Персы, которые поближе, их приметили и стали стрелять, но тщетно — хотя крутизна была такая, что и днем, и налегке, и не встречая отпора вряд ли кто-либо отважился бы взлезть наверх, однако же одолели сию высоту латники, да еще и с врагом над головами. Как сие получилось, даже и сейчас объяснить невозможно, и вернее всего, не человечий свершился тут подвиг, но десница некоего божества взносила каждого воина вверх. (253) Взявши высоту, бойцы немедля начали сечу: кто вскочил на ноги, тех били наповал, а кто спал, тех резали сонных, подобясь злым морокам, так что у разбуженных единое было перед спящими преимущество — сознавать участь свою, — а защищаться было нельзя ни тем, ни другим. (254) Дело было темною ночью, и потому иные мечи секли людей, а иные и дерева — о сем свидетельствовал треск, — и отовсюду слышался вопль раненых, побиваемых, гибнущих и просящих пощады, а наши все шли вперед, рубя направо и налево, и таковое пространство земли усеяв мертвыми телами, что вмещалось в сем пространстве шесть тысяч трупов. (255) Когда бы не замешкались наши бойцы из алчности, чтобы обобрать убитых, а поспешили бы к воротам и сокрушили их или прорвались в крепость, то достался бы им преславный Ктесифонт! Однако же вышло иначе: покуда хватали они от побежденных золото, серебро и коней, настал рассвет, и пришлось им биться с вражьей конницею — поначалу враги одолевали, но затем обратились в бегство, а спугнул их один-единственный воин, нежданно выпрыгнувший из околостенных зарослей. Наконец переправились прочие полки, и, покуда дивились они на открывшееся их взорам побоище, ночные воители умывались в реке — вот так воды персидского Тигра заалели персидскою кровью.
(256) Право, пусть кто-либо посчитает, сколько было на нас персидских нашествий и сколько было от них урона, а после сравнит сей единственный поход с теми многими — сразу обнаружится, что сколь ни примечательны те набеги, а сей поход куда как примечательнее и что персам тогда и отпору никакого не было, а наши отважились идти на целое воинство. Пожалуй, когда бы спросили персов, желательно ли им не свершить ничего, что свершили, но зато и не претерпеть ничего, что претерпели, то все они — начиная с самого царя! — отвечали бы, что все победы их уступают сему поражению. (257) Да и впрямь: уж сколько ходили персы на Констанция, однако же не приневолили его унизиться до того, чтобы просить мира, а вот персидский царь после всего, о чем я рассказал ранее, прислал просить, чтобы с войною покончить и чтобы победитель далее не шел, а вместо того принял бы персов в друзья и союзники. (258) Вельможа, явившийся с помянутым поручением к царскому брату836 — а тот шел на персов вместе с нами, — обнимал колена его, моля передать сию просьбу. Тот поспешно и с радостью, словно добрый гонец, отправился к государю и с улыбкою передал ему все, как есть, чая получить за новость свою дары. Однако же государь велел ему замолчать, посла отправить назад безо всяких переговоров, а для виду объявить, что приезжал-де сей вельможа к родичу своему по семейным делам — воистину, государь с войною кончать не хотел, а что до мира, то самое слово сие почитал вредным для воинской отваги. И вправду, как я мыслю, ежели поверит воин, что можно и вовсе не биться, так уж непременно станет биться плохо, — (259) потому-то и приказал государь все эти сладкие имена договоров и переговоров держать за зубами. При таковых обстоятельствах кто бы не устроил смотра, дабы похвастаться всею своею несчетною силою, и не согнал бы воинов на сходку, дабы послушали они речи его? Не так он. Уже приглашенный к перемирию, пришел он под городскую стену и принялся вызывать осаженных на бой, говоря, что ведут-де они себя по-бабьи, а от мужского дела бегут. (260) На это горожане отвечали, что пусть-де лучше поспешит он к царю и пусть-де пред царем явит доблести свои, и тогда возгорелся он узреть Арбелу и пройти по Арбеле с боем или без боя, дабы вослед преславной Александровой победе славились бы и его победы на том же самом месте.837 Итак, решил он наступать разом на все земли, сколько их ни есть в Персидской державе, а начать с соседней области, хотя никакого пополнения — ни от своих, ни от союзников838 — к нему не прибыло: от союзников потому, что вождь их соделался изменником, а от своих потому, что наш военачальник якобы почитал для себя важнее биться с ближними врагами, ибо те еще прежде подстрелили нескольких его людей, купавшихся в Тигре. Да притом и соперничество полководцев ослабляло в воинах боевой дух, и выходило так, что пока один велит идти вперед, другой уговаривает стоять на месте и таковым потворством лучше умеет убедить. (261) Однако же все эти обстоятельства отнюдь не сломили государя, и хотя порицал он отступников, но исполнить уповал ничуть не менее того, что задумал исполнить вместе с помянутым пополнением, простирая замыслы свои вплоть до Гиркании и рек индийских.
Итак, войско уже устремилось к сим пределам, и иные полки выступили в поход, а иные снаряжались идти, но тут некий бог изменил намерения государевы, внушив ему, как изъясняется в стихе,839 память о возвратном пути. (262) Между тем корабли в согласии с прежним замыслом были преданы огню — пусть лучше сгорят, чем врагам достанутся. Впрочем, когда бы прежнее решение осталось в силе и не победило бы намерение воротиться, то и в таковом случае изничтожить корабли было бы верно, ибо Тигр полноводен и скор, так что вести суда против течения возможно лишь трудами многих рук, и большей половине войска только и было бы дела волочить корабли бечевой. Сие сулило непременное поражение в бою, а случись подобное — тут и всему прочему воистину осталось бы лишь сдаваться без боя. (263) Притом сожжение кораблей совершенно покончило с искушениями малодушества, ибо прежде стоило лентяю прикинуться хворым — и возможно было ему дремать на палубе, а как не стало судов, всяк занял место свое в ратном строю. А что при всем желании нельзя им было сберечь себе столько судов, явствует из последующего, ибо пятнадцать барок поначалу оставили в целости, чтобы употреблять их для наведения мостов, но даже и эти пятнадцать сохранить недостало силы: стремнина, неподвластная ни искусству корабельщиков, ни труду премногих рук, сносила суда вместе с людьми прямо в объятия врагов. Право, ежели кому и подобало пенять на убытки от сожжения кораблей, то единственно персидскому царю, да он, говорят, и вправду часто сокрушался по сему поводу.
(264) Вот так и шли они, утоляя жажду водою Тигра, от коего держались слева, а путь их лежал через страну, превосходящую изобилием прежде пройденную, и потому, вдобавок к уже угнанным пленным, храбро угоняли они новых. Наконец, миновавши пределы плодородной области, очутились они среди наипустыннейшей скудости, так что было велено взять с собою припасов на двадцать дней — столь долгая ожидала их дорога до славного города,840 соседствующего с рубежами отечества нашего. Тут-то впервые и показалось персидское войско — не гурьбою, а строем, да еще и в раззолоченных доспехах. Кое-кто из нашего головного полка был убит, бойцы схватились врукопашную, однако ни конница неприятельская, ни пехота не устояли пред нашими латниками, но тотчас же уклонились от боя и бежали — изо всей военной науки этому одному и были они толком научены. (265) Далее по дороге вражеских отрядов уже не попадалось, хотя случались засады и разбойные набеги немногих всадников — всадники сии нападали из укрытий на замыкающих, но бывали убиты чаще, чем убивали, ибо наши латники, увертываясь от копий, вспарывали коням нутро, валили их вместе со всадниками и с легкостью рубили сих железных витязей. (266) Такова была участь врагов в ближнем бою, однако же издали были они сильны: лучники их целили нашим воинам в правый бок, не укрытый щитом, а те поневоле замедляли шаг, стараясь приметить стрелка. При всем при том даже тучи стрел не могли удержать целого войска, и поход продолжался. Государь на своем скакуне поспевал всюду, пособляя утесняемым, приводя к ним на подмогу отряды с безопасной стороны и назначая к замыкающим наилучших военачальников.
(267) Итак, дотоле сопутствовали ему победы, и сладко мне говорить о них, но ныне — о боги! о небожители! о переменчивое счастие! — что сказать мне и о чем поведать? Хотите, умолчу я об остальном и прерву повесть свою на хорошем месте, дабы доставить вам, почтенные слушатели, не горе, но радость? Что же нам теперь, плакать или говорить? Похоже, вы сокрушены свершившимся, однако ожидаете рассказа, а ежели так, надобно рассказывать и тем покончить с ложными слухами о кончине его.
(268) Вот как было. Персидский царь, притомившись и наверное проигравши войну, опасался, что войско наше займет лучшие области державы его и там зазимует, а потому уже назначил послов и собрал дары, в числе коих был и венец, — назавтра после описываемого дня намеревался он отправить к государю нашему сие посольство и просить мира на любых условиях. А в тот день, покуда воины на ходу отбивались от неприятеля, случилось им разомкнуть строй, да притом поднялся ураган, взметая пыль и собирая тучи, — сие также было на руку охотникам до набегов. Государь с одним оруженосцем бросился съединить полки и тут-то настиг его, безоружного, вражий дрот — в спешке он даже не облачился в доспех, и копье, пройдя через руку, сбоку пронзило ему грудь. (269) Упав на землю и узрев льющуюся потоком кровь, сей благородный муж немедля вновь вскочил на коня, желая скрыть происшедшее, а поелику кровь изобличала рану его, то еще и кричал всем встречным, что бояться-де нечего и что удар-де не смертельный. Так он твердил, однако же боль одолела, и принесли его в шатер, где уложили на постель, а постелью тою ему была львиная шкура на голой земле — такова была государева перина! (270) Когда лекари объявили, что на спасение надежды нет, и о смерти его прознало войско, то повсюду раздался вопль: все причитали и орошали песок слезами, и оружие падало из рук — никто и не чаял, что воротится теперь домой хотя бы единый горевестник. (271) Что до персидского царя, то дары, назначенные к посольскому подношению, посвятил он богам-спасителям, а сам наконец воссел за приличный сану его стол и расчесал волосы, ибо в пору опасности ел он с земли и ходил нечесаный — со смертью единственного мужа стал он в делах своих таков, словно и вовсе не осталось ему соперников во вселенной. Итак, свои и чужие вместе порешили, что все, вершившееся у римлян, вершилось лишь разумением убитого государя, и приговор сей засвидетельствовали свои — скорбью, чужие — радостью, свои — тем, что заранее почитали себя погибшими, чужие — тем, что заранее уверились в победе своей.
(272) Да и по предсмертным его речениям841 всякому видно, каков он был доблестен. Так, покуда все кругом рыдали и даже любомудры не в силах были сдержать слез,842 он укорял всех вообще, а особливо любомудров, говоря, что прожитая жизнь сулит ему Счастливые острова, а друзья плачут по нем так, будто заслужил он Тартар. От сих слов шатер его вполне уподобился узилищу Сократову,843 наперсники его — наперсникам Сократовым, рана — отраве, речи — речам, и как тогда один Сократ не плакал, так и теперь не плакал лишь он. (273) А когда друзья просили его назначить наследника державе, он предоставил решение сие войску, ибо не видел рядом с собою достойного преемника. Еще он завещал ближним своим спасаться любыми средствами, ибо сам-де он трудился для их спасения, как только мог.
(274) Иные любопытствуют, кто же убийца. Имени его я не знаю, однако был он не из вражеских воинов, и вот явное тому свидетельство — ни единый из них не получил награды за меткий удар, хотя персидский царь через глашатаев вызывал убившего, и когда бы таковой явился, то стяжал бы великий почет и многие дары. Но нет, даже желание наград никого не подвигнуло к лживому бахвальству, (275) и, право, остается лишь благодарить врагов, что не присвоили они себе чести за деяние, коего не совершали, предоставив нам самим искать у себя убийцу. Воистину, иным жизнь его была помехою, а потому они — те, что не блюдут законов, — издавна против него злоумышляли и наконец, едва явилась возможность, умысел свой исполнили, побуждаемые неправедностью, притесненною владычеством его, а особливо тем, что вопреки устремлениям их чтил он богов.
(276) Как сказано у Фукидида о Перикле,844 что смертью своею яснее всего явил он, сколь много послужил государству, так же надобно сказать и о сем муже. И правда, хотя прочие обстоятельства отнюдь не изменились, однако же бойцы, доспехи, кони, военачальники, строй, пленные, казна, припасы — все от одной лишь смены правителя пришло в совершенное ничтожество. (277) Сначала они не сумели отбить тех, кого сами же прежде гнали, а после соблазнились разговорами о мире — враги применили прежнюю уловку, но наши на этот раз завопили, что очень даже согласны, и больше всех был доволен новый правитель.845 Между тем Мидянин, прельстив их желанным покоем, не торопился: медлил с вопросами, мешкал с ответами, это принимал, от того отказывался, да еще и несчетные послы его доедали наши припасы, (278) покуда не настало в нашем войске полное оскудение и голод. Тут уж пришлось просить, ибо нужда ко всему приневолит, и тогда-то царь захотел себе самой пустячной мзды: городов, областей и племен, кои были для безопасности державы Римской словно крепостные стены. А новому нашему все было нипочем — все отдает и всему поддакивает! (279) До того дошло, что уж и я часто дивился, почему Мидянин при таковом случае не хочет взять побольше — право, неужто кто-нибудь стал бы ему перечить, когда бы притязал он на земли хоть до Евфрата? Да хоть до Оронта, хоть до Кидна, хоть до Сангария, хоть до самого Боспора846 — никто бы слова поперек не сказал, ибо был при римлянах наставник, твердивший, что и оставшегося-де достанет для власти, и роскошества, и пьянства, и разврата! Ежели кто радуется, что такого все же не случилось, тот пусть за радость сию благодарит персов, кои потребовали лишь самой малости, хотя заполучить могли все. (280) Вот так-то наши молодцы побросали оружие — пусть достается врагу! — и повернули домой голы и босы, да еще чуть ли не все по дороге побирались, точно как после кораблекрушения. Кое-кто из сих славных Каллимахов847 волок с собою половину щита, кое-кто треть копья, кое-кто тащил на плече непарный наколенник, а оправдание всему этому непотребству было одно — умер тот, кто обратил бы это самое оружие против врага.
(281) Зачем же, о боги и небожители, не присудили вы, чтобы так оно и соделалось? Зачем не дали вы счастия ни познавшим вас, ни тому, в ком заключалось все их счастие? Каким помыслом провинился он пред вами, каким делом не угодил? Неужто не водрузил он алтарей? Неужто не воздвиг храмов? Неужто не приносил щедрых даров богам и героям, эфиру и небу, земле и морю, ручьям и рекам? Неужто не воевал с недругами вашими? Неужто не превзошел целомудрием Ипполита, не сравнялся праведностью с Радаманфом,848 не был разумнее Фемистокла и храбрее Брасида? Неужто не помог он вселенной очнуться словно бы от обморока? Неужто не был он с подлостью строг и с честностью ласков, неужто не он был врагом распутства и другом скромности? (282) Сколь огромно было войско, сколь многое было врагам сокрушение, сколь несчетна была добыча и сколь несогласна смерть сия с великими упованиями! Чаяли мы, что вся держава Персидская обратится в Римскую область, и что жизнь там пойдет по нашим законам, и что назначат туда наших начальников, и что понесут нам персы подать, изменят язык свой и наряд и остригут волосы — и начнут софисты в Сузах вколачивать риторику в персидских недорослей! Чаяли мы, что капища наши украсятся военною добычею, дабы возвестить потомкам о величии победы, и что учредит победитель игры во славу подвигов своих и лучшими ристателями полюбуется, но и прочих не прогонит, ибо те ему в радость, но и эти не в тягость, и что процветет словесность, как не цвела дотоле, и что на месте могил воздвигнутся храмы,849 ибо все по доброй воле поспешат к алтарям, и кто прежде их сокрушал, ныне сам станет водружать, а кто прежде бежал жертвенной крови, ныне своеручно заклает жертву! И еще чаяли мы, что дом всякого гражданина процветет достатком, а явится сей достаток от многоразличных причин, но пуще всего от облегчения податей — верно говорят, что даже среди тягот войны молился государь богам о таком ее завершении, чтобы возможно стало ему воротить налоги к былой умеренности; (283) Таковы — и не только таковы — были упования наши, ныне отъятые у нас сонмом завистливых демонов, и вот принесен к нам во гробе богатырь, уже приблизившийся к победному венцу своему! Недаром земли и моря оглашены плачем, недаром после кончины его иные с радостью встречают смерть, а иные скорбят, что еще живы, — воистину, для них до него стояла непроглядная ночь, и после него настала непроглядная ночь, и лишь пора владычества его воссияла сущим и ясным светом.850
(284) О города! — ты воздвигнул бы их! О развалины! — ты отстроил бы их! О словесность! — при тебе была бы ей честь! О доблесть! — тобою бы она крепла! О справедливость! — при тебе воротилась она с небес на землю,851 а ныне вновь вознеслась от нас! О переменчивое счастие, о всеобщее благоденствие! — поздно началось и скоро кончилось! То, что случилось с нами, — вроде как если бы кто-нибудь у жаждущего, едва пригубившего прохладной и чистой воды, отнял бы кубок после первого глотка да с тем бы и ушел. (285) Уж если суждена была нам столь скорая потеря, так лучше бы и вовсе не пробовать нам державства его — лучше, чем не успеть насытиться! А он отнял и ушел, дабы плакали мы не о неизведанном, но об изведанном, коего — и мы это знаем — более нам не вкусить, и это точно как если бы Зевес, уже явивши людям солнце,852 навсегда сокрыл его у себя и не творил более света. (286) Что ж! Хоть и ходит солнце по обычному пути своему, но нет от того добрым людям прежней радости, ибо печаль по усопшему, затопляя душу, помрачает разум, застит взор, и едва ли отличаемся мы от живущих во тьме.
Да и правда, что сталось после убиения государя нашего? А вот что. Снова хулители богов в почете,853 а жрецы в беззаконном утеснении, снова за приношения и всесожжения небожителям взимается пеня, или, вернее сказать, кто побогаче, тот платит, а кто победнее, тот так и пропадает в тюрьме. (287) Из храмов иные разрушены, иные стоят недостроенные на смех негодяям, а любомудры отданы на поругание палачам854 и всякий принятый от государя дар числится долгом. Да еще и обвинения в воровстве! Вот и стоять ответчику летним полднем и мучиться на солнцепеке, покуда с него требуют не только полученное, но и то, чего он, по всей очевидности, и отдать не может, и не для того требуют, чтобы отдал, — невозможное и сделать невозможно! — а для того, чтобы за таковую невозможность ломать на дыбе и жечь огнем. (288) Учителей словесности, кои прежде были в приятелях у властей предержащих, ныне гонят от порога,855 словно каких убийц, а толпы прежних их учеников, видя таковую слабость красноречия, разбегаются в поисках иной для себя силы. Равно и городские старшины, уклоняясь от честной службы отечеству, взыскуют бесчестной свободы, и некому удержать их от преступного заблуждения. (289) Повсюду бойкая торговля: торгуют на берегах и на островах, в городах и в деревнях, на площадях, на пристанях, во всяком переулке, а продают хоть дом, хоть раба, хоть няньку, хоть мамку, хоть дядьку, хоть семейный склеп. Повсюду нищета, скудость, слезы, и вот уже решают земледельцы, что побираться выгоднее, чем пахать, и вот уже тот, кто вчера мог подать нищему, сегодня сам ждет, кто бы ему подал. (290) Скифы, савроматы, кельты и все прочие варвары, прежде чтившие договоры, ныне вновь вострят мечи для походов, переправляются через пограничные реки, грозят, разбойничают, гонят, грабят и побивают посланную за ними погоню — точно как подлые холопы, после смерти господина восстающие на сирот его.
(291) Среди таковых бедствий неужто хоть кто-нибудь в здравом уме не бросится на землю, не осквернит себя прахом, не станет рвать на себе волосы, будь то молодые кудри или стариковские седины? Неужто хоть кто-нибудь не восплачет о себе самом и о всей вселенной, ежели не поздно еще именовать ее так? (292) Воистину, вполне сознала Земля постигнувшее ее горе и почтила усопшего подобающим острижением волос, отряхнув с себя премногие города,856 как конь стряхивает седока: множество городов сокрушено в Палестине, в Ливии — все подчистую, в Сицилии — величайшие, в Элладе — все, кроме одного, и прекрасная Никея лежит в развалинах, и даже прекраснейшая столица сотрясается подземными ударами, так что страшно помыслить о грядущей участи ее. (293) Вот как скорбит о смерти его Земля или, ежели угодно, Посейдон, а еще скорбят Оры, насылая глад и мор, равно погибельные людям и скотам, — словно после кончины его все жители земли лишились права на благоденствие. (294) Стоит ли дивиться, ежели при нынешних обстоятельствах кое-кто подобно мне почитает жизнь сущим для себя наказанием? Что до меня, то молил я богов почтить предивного сего мужа не такими почестями, нет! молил я богов, чтобы родил он детей, и жил до старости, и государил многие годы. (295) Отче Зевес! Вот цари мидиян, племя нечистого на руку Гига857 — и один правил тридцать девять лет, другой пятьдесят семь, да и нечестивый этот телохранитель двух лет не дожил до сорокалетнего царствования, а нашему государю даже и трех лет не дозволив ты быть на державном престоле, хотя заслужил он государить долее великого Кира858 или, по крайности, столько же, сколько тот, ибо для подданных своих был столь же заботливым отцом.
(296) Однако же, памятуя об упреках, кои обратил он к плакавшим в шатре его, думаю я, что и сейчас укорил бы он меня за скорбные сии слова. Право, когда бы возможно было ему явиться сюда, ответил бы он нам так: «Не довольно вы здравомысленны, ежели скорбите о ране моей и молодой моей смерти и мните, будто с богами мне быть хуже, чем с людьми. А ежели, по-вашему, не нашлось мне места в их блаженной обители, то, стало быть, ничего вы обо мне не ведаете и вконец оплошали — совсем не знаете как раз того, в чем более всего уверены! (297) Напрасно страшит вас смерть в бою и от железа, ибо так расстались с жизнью Леонид и Эпаминонд, да еще Сарпедон и Мемнон, отпрыски богов.859 Ну, а ежели грустите вы, что мало я прожил, то пусть в утешение будет вам Александр, сын Зевесов!»860
(298) Так он сказал бы, а я от себя могу кое-что прибавить. Во-первых, — и это самое главное! — судьбы никому не одолеть, и володеет Судьба державою Римской, точно как древле Египтом. Суждены были отечеству нашему беды, а государь жизнию своею тому препятствовал, ибо всем приносил счастье, — итак, уступил он натиску зла, дабы не благоденствовали те, кому назначено бедствовать. (299) Во-вторых, надобно нам принять в расчет, что хотя и опочил он молодым, однако успел обогнать деяниями своими всех царей, правивших до глубокой старости. Воистину, возможно ли вспомнить хоть кого-нибудь, свершившего столь многие и великие подвиги, хотя бы и прожил он втрое дольше? Стало быть, нам, наследникам славы его, подобает являть стойкость и не столько скорбеть о кончине его, сколько радоваться помянутой славе. (300) Сей муж был вне рубежей державы Римской и оставался государем ее, телом пребывая во вражьей стране, царственностью — в отечестве, и равно было ему по силам блюсти всеобщее спокойствие хоть дома, хоть на чужбине: при нем ни варвары ни разу не брались за оружие вопреки договорам, ни внутренней смуты ни разу не случалось, меж тем как прежде даже и в присутствии самодержцев таковые мятежи бывали весьма часто и во множестве. От чего происходил сей покой, от любви или от страха? Или вернее будет сказать, что страх сдерживал варваров, а любовь привораживала подданных? А ежели так, то возможно ли не дивиться и тому, как умел он припугнуть врагов, и тому, как умел полюбиться соотечественникам, или, ежели угодно, как умел он внушать тем и другим оба помянутых чувствования? (301) Пусть же и это утишит нашу скорбь, а еще сознание, что при нем никто из подданных не мог сказать, будто покорствует не наилучшему из государей. Да и кто, как не он, был государем по праву? Сильный словом и разумением, премногими добродетелями отличенный, не он ли был достоин первенствовать среди прочих, ибо во всем их превосходил? (302) Никогда более не увидать нам его, но можно видеть его сочинения, а их немало, и все составлены весьма искусно. Многие сочинители хотя и состарились за писаниями своими, однако же решились испытать себя лишь в нескольких родах словесности, а большинства таких родов избегали, так что похвалы за написанное досталось им не больше, чем хулы за ненаписанное. А вот сей муж и воевать успевал, и сочинять: остались от него сочинения всех родов, и во всех родах превзошел он прочих сочинителей, а в письмах и самого себя превзошел. (303) Перечитывая написанное им, обретаю я утешение в скорби моей, да и вам сии создания его облегчат печаль, ибо завещал он нам бессмертных чад своих, кои не уничтожатся временем, стирающим с досок пестроцветные краски.
(304) Поелику обмолвился я тут о картинах, то прибавлю еще, что многие города воздвигли изваяния его рядом с кумирами богов и равную воздают им честь, а кое-кто уже молился ему, прося для себя хорошего, и преуспел. Вот так вознесся он прямо к небожителям и получил от них долю в божественном их могуществе, а стало быть, наипаче явили благочестие свое те, кто едва не побил камнями за богохульство первого горевестника, донесшего о кончине его. (305) Утешают меня также и персы, ибо живописуют они поход его, а его самого изображают, по рассказам, в обличье огненного перуна, да еще и словами рядом приписывают, что это-де перун, таковым способом изъясняя, что успел он причинить им бедствий больше, чем то в силах человеческих. (306) Прах его покоится близ Тарса в Киликии, хотя справедливее было бы ему упокоиться рядом с Платоном в садах Академовых,861 дабы вовеки все учителя с учениками своими чтили божественность его вместе с Платоновой. Воистину, подобает петь о нем в песнях, и возглашать о нем в гимнах, и восхвалять его во всех родах славословий, именуя его заступником от разбойных варваров! Вполне провидел он грядущее и озаботился узнать наперед, сумеет ли побить персов, a вот воротится ли с войны невредимым — узнать не пожелал, тем обнаружив, что взыскует не жизни, но славы. (307) Подданствовать столь доблестному государю — превеликая радость, коей лишившись надобно лечиться от скорби славою его и божиться именем его, припадая ко гробу его, — и сие куда как согласнее с истиною, чем у иных варваров, когда твердят они о праведниках своих!
(308) О вскормленник небожителей, и питомец небожителей, и совместник небожителей! О ты, малую пядь земли занявший могилою своею и всю вселенную поразивший изумлением! О ты, в боях победивший чужих и без боя своих! О ты, кто отцу милее сына, и сыну милее отца, и брату милее брата! О ты, содеявший великое и взыскующий величайшего! О ты, защитник богов и наперсник богов! Все презрел ты утехи и лишь в словесности находил себе усладу — прими же дар от скудного моего красноречия, ибо сам ты его возвеличил!
ФЕМИСТИЙ ОБ УМЕРЯЮЩЕМ СВОИ СТРАСТИ, ИЛИ О ЧАДОЛЮБЦЕ
862
(1) Муками рождения мучается плоть человека, и по-своему мучается ими и душа.863 Обе муки измыслила природа, готовя род людской к бессмертию, но по-разному в обеих свершается ее воля. Если родить должна душа, то в достоинствах роженицы залог слабости и силы ее утробного плода.864 И у доброй души отпрыски добрых семян могучи и не подвержены никакой грозящей извне гибели, в полном расцвете сил родятся они после мук и такими остаются навсегда. У дурной же и слабой они бесплодны, хилы, и память о них не хранится, но тотчас из утробы их приемлет недро Леты.
(2) Плотских детей, напротив, ни добродетель родителей не спасает, ни порочность не губит. Муками их рождения ведают Мойры с Ананкой и их несокрушимые и неизменные нити.865 Если бы и эти чада получали по заслугам родителей, то не скончался бы безвременно Лампрокл у Сократа, и к Гиппию866 не перешла бы тирания после Писистрата. Но, как я сказал, Клото, Атропа867 и Лахесис, дочери Ананки, вольны и властны делать вот что: кому эти богини повернули веретено [слева] направо, у того потомки, хотя бы и родились немощными, бывают благомощны и благополучны и сами рождают потомков, как пчелы — свой рой: их родоначальника величают множеством имен — отцом, дедом и прочими именованиями счастливой старости; а тот, кому они повернули [справа] налево и криво, весьма злополучен: ему выпал тяжелый удел — напрасные и бесплодные муки родов; а еще более горемычен тот, кому они напряли тонкую и красивую нить вокруг оси веретена, а потом разорвали и отрезали ее: в этом случае дети, вкусив ненадолго пустых и болезненных утех, вскоре осознают, что родились никчемными и что все эти обольщения природы не более чем сны.
(3) Что же до детей иного рода, тех, кого вскармливают и лелеют Музы, то они — и это самое главное — никогда не огорчают своих отцов и к тому же делают их способными стойко переносить беды, причиняемые собратьями. А откуда у них умение делать это, я расскажу, если угодно слушать. На лугах философии в изобилии растет могучее зелье: его-то, по словам Гомера, египтянка Полидамна868 дала Зевсовой дочери Елене. Эту траву они собирают; нарвав ее много в оградах Платона и много в оградах Аристотеля, Никомахова сына,869 толкут и перемешивают в чаше Памяти, а потом мажут и умащают ею своего отца. Впитавшееся зелье действует без промедления: доходит до сердца и гонит прочь затаенную в глубине души боль. Вот тут-то больше всего и проявляет себя сила и достоинство зелья. Всякий раз, когда от опутавших напастей и прилогов скорбь не покидает отца, не отступает, не знает передышек, но упорно отражает все натиски разума, имея своим прикрытием естественную боль, зелье берет эту скорбь в окружение изнутри: обводит стеной, обносит оградой и заслоняет ей выходы адамантовыми засовами,870 так чтобы не слышно было ее воплей и не видно терзаний. Отец при этом занят сторонними делами и ведет себя мирно и спокойно, никому не позволяя догадываться о своей внутренней брани. Внутри остается боль сдавленная, мятущаяся, неистово бранящаяся, а снаружи — полный мир и непринужденность: не заброшены омовения, не оставлены ни пиры, ни обычные собрания. Иной раз и смех прокатится на поверхности легкий, явный, задорный, и поверить нельзя, чтобы в таком человеке не царило согласие. Вот какой рисунок благородства и добродушия вывело это зелье на его наружных дверях! Это о нем говорится в комедии:871 «Блаженным мнят его на площади, — но душу, а не дверь приоткрой, и трижды он несчастен». Философу, истинному философу, не пристало называться «трижды несчастным» из-за случайных обстоятельств. Однако и не «блаженный» он и не «счастливый»:872 добродетель и мудрость не сильны удержать за ним эти славные имена, но не дать дурному имени закрепиться за ним они могут.
(4) Таковы на самом деле все философы, гласно же признают это только питомцы Ликея, и над ними нельзя насмеяться, как насмеялся над китийцем Персеем Антигон.873 Зенонов ученик Персей жил при дворе царя Антигона. Слыша постоянное превозношение Персея и как он без умолку повторяет показные, дерзкие заверения Стои, будто мудрец непреклонен перед случайностью, не подчинен ей, несокрушим, неуязвим, царь решил на опыте разоблачить это явное хвастовство. Призвав купцов с Кипра и из Финикии и заранее научив их, о чем надо говорить в присутствии Персея, стал он задавать вопросы о кораблях, о мореплавании, о войске на Кипре и другие приличные царю вопросы, а потом, тихо ведя разговор, спросил, как идут дела у Персея в Китии. Услыхав имя Персея, купцы вдруг нахмурились и поникли головами: было ясно, что хорошего ответа не будет. Тут вся спесь сошла с философа, а когда, наконец, после упорных приставаний купцы неохотно ответили, что жену его, шедшую на поле с подругами, увели в плен какие-то египетские разбойники, любимый юный сын зарезан, а имущество вместе с рабами погибло, Персей забыл о Зеноне, забыл о Клеанфе.874 Природа обличила красные словечки: то были всего лишь словечки, пустые, бессильные, не свидетельствуемые делом.
(5) Я поэтому, о мужи, всем восхищаюсь у Аристотеля, по больше всего восхищаюсь тем и за то хвалю его мудрость, что его рассуждения не забывают о природе тех, ради кого они произносятся,875 но врачуют немощь и восполняют недостающее и прилагают все старания, чтобы достичь высшего блага. Они не превышают меру природы, не презирают ее, не столь они мудрены, чтобы от мудрости не помнить о живом существе — предмете своих забот, что много в нем от перстного и земного и мало от божественного и небесного. Хорошо, если они устранят и очистят лишнее и ненужное в том, чем питается бессмертное начало смертного человека,876 а также если приведут в порядок, облагородят и смягчат чрезмерные проявления тех [чувств], какие невозможно ни подавить, ни изгладить, настолько глубоко они запечатлелись и прошли внутрь. Ведь когда кто пытается совсем убить и уничтожить их, легко случиться тому, что, по словам баснописца Эзопа, произошло с человеком, купившим раба-индийца. Купившему индийца, рассказывает Эзоп, не нравился цвет его кожи, и, в надежде смыть и стереть его, он погружал его в родники и реки, тер халестрийским щелоком,877 но от этого цвет раба не изменился, а кожа протерлась, и упрямый хозяин понял наконец, что удобнее отнять у индийца душу, чем черноту. Вот так и к человеку прилепились удовольствие, скорбь и все прочие чувства, сильнее же всех скорбь. У Эзопа сказано еще, что глину, из какой Прометей вылепил человека, он замесил не на воде, а на слезах. Значит, не стоит и пытаться от них избавиться: затея это напрасная. Хорошо, если удастся их укротить, усмирить, успокоить, наставить: об этом и надобно заботиться. (6) Если ты так будешь управлять чувствами, то вместо бесполезных и вредных они окажутся полезными и необходимыми. Не для позора и унижения придал их бог человеку,878 но и их присоединил и присовокупил к душе ради сохранения и продолжения рода: ярость — чтобы мы отражали опасность, желание пищи и питья — для их естественного и необходимого стока. И любое чувство имеет свое особое предназначение для тела. Каждое чувство должно блюсти свою меру, и эта мера есть добродетель каждого отдельного чувства. Для горячности это мужество, для вожделения — благоразумие, для сребролюбия и любостяжания — щедрость и великолепие, что же до стремления к почестям, к власти, к получению первых мест, то мерой тут служит величие души. Но если чувства беспорядочны и не воспитаны разумом, то, подобно полезным садовым растениям,879 стоит земледельцу забыть о них, грубеют, буйствуют и обрастают острыми шипами пороков, ядовитыми для всех, а особенно для хозяина. Некоторые, правда, сохнут и чахнут еще до поры цветения, и им нужно не слово запрета и укора, а слово живительное, влекущее и манящее к неослабному росту. Вот почему по ту и другую сторону от любой добродетели расположились два порока:880 один предпочитает недостаток чувства, другой любит избыток. Не должно, однако, судить о чувствах только по дурным и извращенным и все их отметать без разбора, а надобно исследовать, с каким намерением природа насадила и запечатлела каждое из них в душе.
(7) Отнесем это и к предмету нашего рассуждения: если бы мы не любили так сильно потомков и не привязаны были к ним, но покидали бы новорожденных совершенно одних, нагих, беспомощных, не умеющих беречь свою жизнь, разве не исчез бы давно человеческий род? Однако врожденное от природы и развившееся влечение881 побуждает нас искать повитух, звать кормилиц и нянек,882 воспитателей и учителей гимнастики, прибегать к помощи риторов и учителей грамматики, иногда расточать имущество, а иногда копить его и ради этого сеять, сажать, воевать, пускаться в плавание и с необычайной готовностью браться за любой труд, лишь бы по смерти нашей потомки ни в чем не имели нужды. Да, мы, родители, под обаянием детовоспитания несем тяжелую и скорбную заботу. И вот верный знак этой тяготы: когда у ребенка, если он захворал, болит или голова, или глаз, или рука, у отца болит не только все тело, но и вся душа.
(8) Я уклонился в сторону, друзья мои, провидя ваши насмешки и укоризны философам за их не меньшую, чем у большинства людей, привязанность к своим сыновьям и дочерям. Я хочу сказать, что у них и это чувство самое философское и если оно живет во многих, то живет потому, что природа в каждом человеке посеяла крупицу философии. Не философское ли и не подлинно ли божественное свойство — влечение к бессмертию? Поверьте, философ и тут не равен остальным людям, но гораздо выше и лучше их. Вы удивитесь, если скажу: он выше и лучше потому, что более чадолюбив, чем большинство людей. Ведь не тайна, что сапожники, банщики, медники, плотники попирают природу и с легкостью рвут те узы, какими она их соединила с потомками. И как псы пестуют щенят, пока те сосут сосцы, а потом вскоре кусают, терзают, не подпускают к пище, показывая тем, что, когда пестовали, не они пестовали, а сама природа жалела тогда беспомощных новорожденных, — так и большинство людей, пока дети еще ребячливы и лопочут ломано и бессвязно, дорожат ими и они им ценнее не только денег, но и самой жизни. Стоит, однако, детям расстаться с ребячеством, как отцы тут же расстаются с любовью: внося детей в список совершеннолетних, они делают их себе врагами. И тогда им не только поле, не только серебро, не только золото, но и повар и служанка, а иной раз и конь и хитон милее сына. Бывает еще хуже: чуть сын провинится и прогневит, отец ведет его в суд, требует его казни, без колебаний затеяв тяжбу. Если же не велика честь для философа быть лучше купцов и суконщиков, я напомню вам о сатрапах и тиранах, об Ариобарзане, сыне Митридата, и о Периандре, сыне Кипсела:883 первый из них изгнал сына и искал утешения в самоистязании, Периандр же отлучил Ликофрона от огня и воды. Если же и сатрап с тираном имена не очень высокие, то славно и велико, наверное, вот это имя — царь, властитель полумира, Артаксеркс, сын Дария и Парисатиды!884 Не знаете разве, что сей Артаксеркс одного своего сына зарезал, а другого заставил умереть добровольно? А послушайте, о чем в трагедиях Еврипида885 Тесей молит своего отца Посейдона, призывая проклятие на Ипполита, на собственного сына! Послушайте и про то, как это проклятие было карой за Ипполитово целомудрие и справедливость. Да, поистине дивиться можно дивному Аминтору:886 в озлоблении он проклял на бесплодие и бесчадие Феникса, чтобы у сына не родились дети, а у него самого — потомки по той причине, что сын из почтения к опозоренной матери сошелся с наложницей отца.
(9) Не за безделицу, значит, хвалю я философов, если они незапятнаны в том, в чем повинными оказываются и простые люди, и властители, и цари, и герои, и дети богов, когда одни предпочитают сыновьям деньги, другие — почести, иные — власть, а иные — запретную утеху. Сам я боюсь чересчур верить поэтам, когда они ни богов, ни даже старейшего из богов не избавляют от этого недуга. Вы, конечно, прекрасно помните Гесиодов рассказ о Кроносе,887 который пожирал почти всех, кого родил, и как Рея едва смогла вырастить Зевса. Оставим, однако, Гесиоду его разглагольствования о богах. Скажем только, что Кронос у него означает нечто совсем иное: перелагая простое и древнее предание, Гесиод прикрывается тут завесой нелепостей. В предании же том, пусть не обманывают вас поэты, нет ничего величественного и возвышенного. Кронос означает время: я разумею то время, какому принадлежим и я, и вы, и прочие живые существа и растения, оно старше всего остального и в своем непрерывном течении уничтожает все, что было им порождено. Ему не подвластно единственно слово. Слово не страдает от времени и делает исчезнувшее достоянием памяти. Не предосудительно, вообще говоря, для поэтов лгать таким образом,888 и в особенности очень полезна людям ложь Гомера: сделав Зевса отцом Сарпедона,889 он заставляет его скорбеть о сыне и горевать о предстоящей ему гибели от руки Патрокла, не имея возможности изменить предрешенное.
(10) Итак, чтобы не быть многословным, скажу: верьте мне, о мужи, чувство чадолюбца достойно похвалы, и не похож он ни на корыстолюбца, ни на сребролюбца. Эти имена обычно произносятся как бранные, и они в самом деле таковы, ибо не природа, а наша испорченность создает их. Первое же названное чувство заложено в природу свыше, с неба, и непосредственно связано с той золотой неразрывной цепью,890 при помощи которой природа, сшивая и склеивая с гибнущим вновь возникающее, не дает ему скрыться в небытии.
Вот почему не позорит философа любовь к детям, равно как и любовь к мудрости и словесности. Словесные рассуждения тогда ему особенно милы, когда он их сам породит и вскормит, и это-то и есть подлинное рождение им детей, подобное рождению Афины Зевсом.
КОММЕНТАРИИ
Произведения греческих ораторов переводились на русский язык неоднократно, но преимущественно как исторические источники, а не как литературные памятники. Наиболее полезны для ознакомления с ними следующие издания: Демосфен. Речи. Пер. С. И. Радцига. М., 1954; Исократ. Речи. Пер. под ред. К. М. Колобовой. — Вестник древней истории, 1965, № 3-1969, № 1; Греческие ораторы второй половины IV в. до н. э. Пер. под ред. К. М. Колобовой. — Там же, 1962, № 1-1963, № 1; Поздняя греческая проза. Сост. С. Поляковой. М., 1963; Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II-V вв. Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1964; Элий Аристид. Панегирик Риму. Пер. И. Турцевич. Нежин, 1907; Либаний. Речи, т. 1-2. Пер. С. Шестакова. Казань, 1915-1916. Большинство текстов, входящих в настоящий сборник, переведены заново; «Троянская речь» Диона и речи Элия Аристида и Фемистия появляются на русском языке впервые. В скобках дано членение текста на нумерованные параграфы, установленное издателями греческого подлинника; все ссылки в комментариях делаются на номера этих параграфов. Повторный комментарий к одним и тем же именам и реалиям, как правило, не дается. Наиболее известные мифологические и исторические имена не комментируются. При датах указания «до н. э.» и «н. э.» опускаются там, где они ясны из контекста.
1
Далее в статье указание «до н. э.» опускается там, где это ясно из контекста.
(обратно)2
«Похвала Елене» сочинена Горгием как образец школьного риторического упражнения — «похвалы» на парадоксальную тему. Доказывая невиновность Елены, Горгий исходит из положения, что силе сопротивляться невозможно. К вероятным источникам насилия над Еленой он относит высшую волю (6), физическое насилие (7), словесное воздействие (8-14) и силу «любовного хотения» (15-19). Миф о Елене, виновнице Троянской войны, который положен в основу этой речи, подробнее пересказывается в «Троянской речи» Диона Хрисостома (см. с. 304).
(обратно)3
3. Леда — жена спартанского царя Тиндарея, родившая Елену от Зевса, сошедшегося с ней в обличье лебедя.
(обратно)4
4. …многих мужей соединила… — Речь идет о женихах Елены.
(обратно)5
5. …утолил любовь свою… — В юности Елену похитил Тесей, затем она была женой спартанского царя Менелая, потом — Париса, а когда он погиб, вышла замуж за троянца Деифоба. По одной из версий мифа, после смерти, на Блаженных островах, Елена сочеталась браком с Ахиллом.
(обратно)6
6.Случая ли изволением, богов ли велением, неизбежности… — У Гомера судьбу людей вершат главным образом боги, а Необходимость и Случай трактуются как нечто неопределенное. У Еврипида, однако, уже выступает богиня Тиха (Случай), символизирующая изменчивость мира и произвольность всех явлений; у Платона — богиня Ананка (Необходимость), олицетворяющая предустановленность происходящего.
(обратно)7
8. …слово — величайший владыка… — Для софистов объективной истины не существует, положительное знание, согласно их учению, невозможно (ср. 11). Человек живет в мире «представлений», которые можно легко формировать посредством убеждений, а главное орудие убеждения — слово. Горгий считает, что убеждающая речь софиста по силе воздействия сопоставима с поэтическим словом. Отсюда расширительное определение поэзии (ср. 9), переносящее на словесное искусство в целом то, что присуще поэзии, прежде всего — ее силу эмоционального воздействия.
(обратно)8
13. Горгий указывает на те области применения языка, которые не связаны с поэтическим вымыслом, но где тем не менее тоже царят представления, формируемые словом, а не подлинное знание (например, разноречивые теории мироздания у философов — от Анаксимандра до Анаксагора).
(обратно)9
15. Представление о том, что зрительные образы, проникая в душу человека через глаза, оставляют в ней своего рода «отпечатки», восходит к теории зрения Демокрита.
(обратно)10
19. Концепция Эроса в античности менялась — от представления об Эросе как всевластной силе, подобной Случаю или Необходимости; или как об одном из космогонических первоначал, наряду с Хаосом, Геей, — до изображения его в виде капризного бога-мальчика. Для Горгия Эрос — и конкретное божество, и некая воздействующая на человека сила («болезнь»).
(обратно)11
Речь «Об убийстве Эратосфена» Лисий написал для афинского гражданина Евфилета, ответчика по делу об убийстве Эратосфена. Евфилет говорит здесь как человек, уверенный в своем оправдании: действительно, закон разрешал мужу убить прелюбодея, застигнутого на месте преступления, хотя на практике это делалось редко. Речь построена по правилам судебного красноречия: Вступление: обращение к суду и слушателям (1-4); Изложение: раскрытие фактической стороны дела (5-27); Разработка: а) доказательство правоты говорящего (27-36); б) опровержение доводов противника (37-46); Заключение: возбуждение негодования к противникам говорящего и сострадания к говорящему (47-50).
(обратно)12
1. Судьи. — Имеется в виду суд присяжных (гелиэя) — главный судебный орган демократических Афин. Судьи переизбирались ежегодно из числа афинян, достигших тридцатилетнего возраста, — по шестьсот человек от каждой из десяти «фил», на которые делился афинский народ. Обычно заседали десятью коллегиями по пятьсот судей (тысяча членов суда оставалась, таким образом, в запасе). Решение принималось в результате тайного голосования, было окончательным и обжалованию не подлежало.
(обратно)13
2. …это — единственное преступление… — Говорящий не уточняет ни характера преступления, ни сути наказания; подразумевается, что суд уже знаком с данным делом. Накануне процесса производилось нечто вроде предварительного следствия: истец и ответчик представляли письменное обвинение и опровержение, а также все подготовленные ими материалы, свидетельствующие в пользу каждой из сторон — законы, указы, документы. Показания свидетелей записывались в ходе этого «предварительного следствия» и зачитывались на процессе секретарем суда в присутствии самих свидетелей (ср. 29 и 42).
(обратно)14
14. …лицо у нее накрашено… — Во время траура, продолжавшегося тридцать дней, женщинам полагалась воздерживаться от украшений и косметики.
(обратно)15
16. …из Эи… — Дем Эя относился к Энейской филе.
(обратно)16
17. …двери, внутренняя и наружная… — Дверь внутренняя вела из дома во внутренний двор, а наружная — из двора на улицу.
(обратно)17
18. …отправлю на мельницу… — Распространенное наказание для рабов. На мельнице им приходилось ворочать каменные жернова, которые обычно ворочали ослы.
(обратно)18
20. Фесмофории — осенний женский праздник в честь Деметры-Фесмофоры — учредительницы земледельческих уставов.
(обратно)19
В тексте оригинала пропуск.
(обратно)20
27. Его не приволокли с улицы ко мне в дом… — Обвинение против Евфилета строилось, очевидно, таким образом: испытывая вражду к Эратосфену (см. 43-46), Евфилет заманил его хитростью или привел силой (см. 37-40) в свой дом, где убил, ложно обвинив в совращении его жены и получив тем самым возможность остаться безнаказанным.
(обратно)21
…просил защиты у моего очага… — Очаг в греческом доме чтился как алтарь домашней богини Гестии и тем самым служил местом убежища: причинить вред или убить прибегнувшего к алтарю считалось кощунством.
(обратно)22
28. Прочти же закон. — Говорящий обращается к секретарю суда.
(обратно)23
30. …вырезан на камне по указу Ареопага. — Ареопаг — древнейший афинский суд по делам об убийствах. На каменной стеле там были вырезаны законы, которыми искони руководствовался Ареопаг.
О. Левинская
(обратно)24
Слово «панегирик» в современном Исократу языке еще не имело развившегося впоследствии значения «хвалебная речь», но обозначало речь, произносимую на общегреческом празднестве, например, на Олимпийских, Истмийских или Пифийских играх. «Панегирик» Исократа был написан к Олимпийским играм 380 г. до н. э., но не был предназначен для реального произнесения в Олимпии: это фиктивная речь, лишь имитирующая действительное выступление оратора перед торжественным общегреческим собранием, а в действительности предназначенная для письменной публикации. Фиктивность «Панегирика» подчеркивается и тем, что в нем объединены два типа речей, в реальной ораторской практике строго различавшихся: эпидиктическая и совещательная. Речь имеет следующую сложную структуру:
I. 1. Вступление (1-14): общая формулировка темы и изложение эстетических принципов оратора.
II. Эпидиктическая часть (15-128):
1. Переход к ней: уточнение темы; единство эллинов невозможно без примирения Афин и Спарты; Спарта должна признать гегемонию Афин (15-20).
2. Собственно эпидиктическая часть: аргументация права Афин на гегемонию (21-100):
(1) древность и благородство происхождения (21-25);
(2) заслуги перед Элладой (26-27);
(а) Афинам обязаны другие государства: в области культуры, — земледелием и религиозными таинствами (28-33), жизненным пространством (34-37), законами, государством и прочими благами цивилизации (38-50), (б) в области военной (51-53) — в мифической древности (54-65), в войнах с варварами (66-70), в греко-персидских войнах (71-99).
III. Совещательная часть (115-186):
1. Переход к ней: бедствия современности (115-121) и упреки спартанцам (122-128).
2. Собственно совещательная часть: аргументация необходимости войны с Персией (129-186):
(1) это выгоднее, чем воевать между собой (132-137),
(2) могущество персов мнимо (138-159),
(3) сейчас — удобный момент для нападения (160-166),
(4) это единственная гарантия прочного мира внутри Эллады (167-174),
(5) необходимо освободить ионийские города из-под власти персов (175-180),
(6) резюме (181-186).
IV. Заключение (187-189).
(обратно)25
1. Большие награды. — Победитель Олимпийских игр, например, освобождался от уплаты налогов, получал пожизненно за счет государства питание и место в театре и т. п.
(обратно)26
3. Варварами в Древней Греции называли всех негреков, в частности персов. В «Панегирике» речь всюду идет о войне с Персией.
(обратно)27
…многие, притязающие на звание ораторов… (в оригинале — «софистов»). — С такими речами на Олимпийских играх в 392 г. выступил софист Горгий, учитель Исократа, в 388 г. Лисий.
(обратно)28
8. …великое сделать ничтожным, малое великим… Обычная формулировка притязаний софистической риторики (ср. Платон, «Федр», 267).
(обратно)29
10. Красноречие (букв.: «философия, касающаяся речей»). Исократ видел задачу риторики не только в овладении техническими приемами красноречия, но и в нравственном воспитании оратора, которое подготовило бы его к государственной деятельности.
(обратно)30
15. …тяготы междоусобной войны… — Речь идет о Пелопоннесской войне (431-404 гг.) и только что закончившейся Коринфской войне (395-387 гг.) между Спартой и Афинами с их союзниками.
(обратно)31
20. Виновник нынешних бедствий Эллады — Спарта.
(обратно)32
24. Мы не пришельцы… прогнавшие местных жителей… — Намек на спартанцев. Дорийские племена, к которым принадлежали спартанцы, не были исконным населением Пелопоннеса и завоевали его лишь на рубеже мифической и исторической древности. Напротив, афиняне считались «автохтонами», то есть коренным населением Аттики.
(обратно)33
28. Таинства. — Имеются в виду ежегодные религиозные празднества в Элевсине близ Афин в честь Деметры и Персефоны; к участию в них допускались только посвященные. Считалось, что лишь посвященные в таинства ведут блаженное существование после смерти.
(обратно)34
31. Пифия — прорицательница в Дельфийском храме Аполлона; считалось, что ее устами говорит сам этот бог.
(обратно)35
34-35. Исократ излагает здесь в сильно приукрашенном виде патриотическую легенду о греческой колонизации Ионии (прибрежная область в Малой Азии).
(обратно)36
41. Гостеприимство и благожелательность афинян противопоставляются традиционной «ксенеласии» (нелюбви к чужеземцам) спартанцев.
(обратно)37
42. Пирей — афинский порт.
(обратно)38
46. …в других местах общеэллинские празднества справляются редко… — Олимпийские и Пифийские игры происходили раз в четыре года, Немейские и Истмийские — раз в два года. Афинские же праздники — Панафинейские игры — были ежегодными.
(обратно)39
55. Исократ вспоминает здесь сказание о походе Семерых против Фив (Кадмея — фиванский кремль), когда лишь вмешательство афинского царя Тесея заставило фиванцев выдать для погребения тела павших семи вождей. Право погребения считалось священным, так как душа непогребенного, по представлениям греков, не находила успокоения в подземном царстве.
(обратно)40
56. Гераклиды — потомки Геракла; после смерти Геракла его дети искали в Афинах убежища от преследований царя Еврисфея, мучителя их отца. Просящий о защите находился под особым покровительством богов, выполнение его просьбы было религиозным долгом, а отказ — святотатством.
(обратно)41
62. …когда они своими набегами разоряли страну… — Речь идет о событиях Пелопоннесской войны.
(обратно)42
68. По малоизвестным сказаниям, фракиец Евмолп был союзником элевсинцев в их войне с Афинами при мифическом царе Эрехфее. О войне амазонок, мифических женщин-воительниц, против афинского царя Тесея рассказывает как об историческом факте еще Плутарх (II в. н. э.).
(обратно)43
70. …фракийцы… обитавшие в непосредственной близости от нас… — Племена, жившие на склонах Парнаса и Геликона, считались принадлежащими к фракийцам.
(обратно)44
71. …нашествия Дария и Ксеркса… — Имеются в виду события греко-персидских войн: поражение Дария в битве при Марафоне (490 г.), Ксеркса при Саламине (480 г.) и при Платеях (479 г.).
(обратно)45
74. …речей… на погребении тех, кто пал смертью храбрых. — Это так называемые «эпитафии» — торжественные речи, произносившиеся должностными лицами в конце каждого года войны при погребении павших, с прославлением Афин и тех, кто отдал за них жизнь. Фукидид пересказывает такую речь Перикла в конце первого года Пелопоннесской войны.
(обратно)46
85-86. Исократ идеализирует картину: на самом деле спартанцы нарочно уклонились от участия в Марафонской битве (сославшись на обычай, запрещавший выступать в поход до полнолуния).
(обратно)47
87. Трофей — столб, украшенный оружием, отбитым у неприятеля; его ставили те, кто побеждал, на поле боя. Стадий — около 185 м.
(обратно)48
89. …переплыл сушу и прошел пешком по морю… — Наплавной мост через Геллеспонт и канал через перешеек возле фракийской горы Афон вошли в пословицу как пример сверхчеловеческих деяний Ксеркса.
(обратно)49
90-93. Первым рубежом обороны против Ксеркса было Фермопильское ущелье на суше и соседний мыс Артемисий на море, вторым — Истмийский (Коринфский) перешеек на суше и остров Саламин на море; сухопутные операции возглавляли спартанцы, морские — афиняне.
(обратно)50
100. В ходе Пелопоннесской войны союзный город Скиона восстал против Афин, но был побежден ими и уничтожен (421 г.); Мелос был осажден Афинами за отказ от подчинения, захвачен, мужское население было перебито, женщины и дети — проданы в рабство (416 г.).
(обратно)51
105. …по праву рождения… по закону… — Антитеза «по природе — по закону» была введена в обиход софистами и приобрела особую популярность.
(обратно)52
106. …семьдесят лет наши союзники жиль… — Исократ приводит здесь округленное число: первый Афинский морской союз существовал с 478 по 404 г.
(обратно)53
107. …бранить… за посылку поселенцев — Имеются в виду т. н. «клерухии» — колонии, жители которых сохраняли афинское гражданство и играли, по существу, роль афинских гарнизонов на территории союзников.
(обратно)54
108. …не побудило нас к захвату Евбеи… _ Исократ сознательно искажает события: остров Евбея был под очень суровым контролем Афин. На Евбею было выведено около 6000 клерухов.
(обратно)55
109. …отдали платейским беженцам… — Союзный Афинам беотийский город Платеи был разрушен спартанцами в 427 г.; уцелевшие платейцы получили в Афинах права гражданства и земельные наделы на территории, отобранной у Скионы.
(обратно)56
110. Декархии — олигархические комиссии из 10 человек, которым спартанцы передавали власть в завоеванных городах. В Афинах такую роль играла комиссия из 30 человек — «30 тиранов» (404-403 гг.).
(обратно)57
111. …прислуживали илоту… — т. е. Лисандру, главному спартанскому полководцу. Мать его была илоткой, т. е. государственной рабыней, и он получил права гражданства лишь за военные подвиги.
(обратно)58
115-117. …мир, который мы имеем сейчас… — Анталкидов мир 386 г., продиктованный греческим государствам персидским царем. По нему все греческие города получали «свободу», т. е. и спартанский, и антиспартанский союзы распускались; это усиливало анархию.
(обратно)59
117. …под властью персов. — По Анталкидову миру под властью персов оказались греческие города в Малой Азии; стерта с лица земли была Мантинея, во многих городах стояли спартанские гарнизоны.
(обратно)60
118. …заплывать по эту сторону Фаселиды… — То есть входить в Эгейское море. Это было условием так называемого «Каллиева мира» (449 г.).
(обратно)61
119. …стоило нам лишиться державы, как несчастья Эллады начались… — В оригинале игра слов: arche — держава и arche — начало. После поражения афинян в Геллеспонте (при Эгоспотамах в 405 г.) победоносная Спарта стала самым сильным государством Греции, и это вызвало вмешательство Персии (морская битва при Книде, 394 г.).
(обратно)62
120. …сравнить условия договора… — Речь идет о договорах 449 и 386 гг. (ср. коммент. к 118 и 115).
(обратно)63
122. Под предлогом освобождения эллинов (прежде всего ионян) от афинского господства Спарта начала Пелопоннесскую войну в 431 г., а по условиям Анталкидова мира 386 г. Иония отошла под власть персидского царя.
(обратно)64
124. …сражаться за рабство против тех, кто борется за свободу… — Например, против восставших жителей Кипра (см. коммент. к 134, 141).
(обратно)65
125. Когда-то они изгоняли тиранов… — Намек на участие спартанцев в изгнании афинских тиранов Писистратидов (511-510 гг.).
(обратно)66
126. Они разрушили Мантинею… — В 383 г. (см. 117 и коммент.). В том же году были взяты Фивы, Олинф (во Фракии) и Флиунт (в Пелопоннесе) осаждались с 382-381 по 379 г. Македонский царь Аминта III (393-370) был отцом Филиппа и дедом Александра.
(обратно)67
132. …чем собирать дань с островных эллинов… То есть на Кикладских островах.
(обратно)68
134. …как это сейчас происходит на Кипре… — В это время тиран Евагор, союзник афинян, поднял восстание против персидского царя, овладевшего Кипром по Анталкидову миру (см. ниже 141).
(обратно)69
135. Тирибаз — наместник персидского царя в Малой Азии, подавлявший восстание на Кипре.
(обратно)70
139. Хиос — остров в Эгейском море у берегов Малой Азии; отпав от Афин к Спарте в 412 г., Хиос вновь присоединился к Афинам после поражения спартанцев при Книде в 394 г.
(обратно)71
140. Борьба египетского царя Акориса против Персии в союзе с Афинами и Евагором длилась с 385 по 383 г.
(обратно)72
144. Перечисляются эпизоды войны между Спартой и Персией в Малой Азии в 399-394 гг.
(обратно)73
145. Поход Кира (401-400 гг.) из Малой Азии на Вавилон и отступление его 10 тысяч греческих наемников к Черному морю описаны в «Анабасисе» Ксенофонта.
(обратно)74
153. Спартанский царь Агесилай вел войну в Малой Азии в 395-394 гг. О судьбе города Кисфены более ничего не известно.
(обратно)75
154. Конон — победитель при Книде (см. коммент. к 119), был казнен как изменник в 392 г.; Фемистокл — победитель при Саламине, бежавший ок. 471 г. из Афин в Персию, где был милостиво принят и награжден персидским царем.
(обратно)76
155. …они дерзнули сжечь и разграбить. — Речь идет о персах во время нашествия Ксеркса.
(обратно)77
157. Мидийцы — здесь: персы (Мидия — центральная область персидской державы).
…за сочувствие мидийцам… — В сочувствии был обвинен Фемистокл (ср. выше, 154). То же обвинение было предъявлено и спартанскому военачальнику Павсанию. Ср. также: Геродот (IX, 5), Цицерон «Об обязанностях» (III, 48).
(обратно)78
Евмолпиды и Керики — главные жрецы элевсинских мистерий (см. коммент. к 28).
(обратно)79
158. Заимствовано из «Эпитафия» Горгия.
(обратно)80
167.…при нынешнем поколении, чтобы оно, перенесшее столько бед… — Речь идет о Пелопоннесской и Коринфской войнах и о глубочайшем социально-политическом кризисе конца V — начала IV в. до н. э.
(обратно)81
169. …Италия опустошена, Сицилия в рабстве,… Речь идет об эпохе царствования сиракузского тирана Дионисия Старшего (405-367), подчинившего в 392 г. значительную часть Сицилии.
(обратно)82
180. И этот кощунственный договор… высечь на камне и поставить в главнейших эллинских храмах… — Тексты договоров, высеченные на каменных стелах, помещались внутри храмов или вблизи них.
(обратно)83
…как памятник… что воздвигаются на поле брани… — То есть трофей (см. выше коммент. к 87).
И. Ковалева
(обратно)84
Обвинительная речь Демосфена и ответная Эсхина по делу «О преступном посольстве» были произнесены в 343 году до н. э. перед афинским судом присяжных. Демосфен обвинял Эсхина в предательском поведении во время посольства для заключения Филократова мира с Македонией в 346 году и требовал для него смертной казни или лишения гражданских прав. Суд оправдал Эсхина, хотя и незначительным большинством голосов.
Филократов мир 346 года был развязкой двух больших войн: в Средней Греции между Фокидой и окрестными греческими государствами («Священная война», 355-346 гг.) и во Фракии между Афинами и Филиппом Македонским (357-346 гг.). Фокидяне, разграбив дельфийское святилище, набрали наемное войско и вели успешную войну против других государств «амфиктионии» — дельфийского религиозного союза. Среди государств-амфиктионов не было единства. Упорнее всего боролись с фокидянами ближайшие к ним беотийские Фивы; более дальние соседи, Афины и Спарта, наоборот, из неприязни к Фивам относились сочувственно к фокидянам; наконец, подневольные фиванские союзники (беотийские города Феспии, Орхомен и др.) из ненависти к Фивам сочувствовали фокидянам, а подневольные афинские союзники (например, на острове Евбея) и спартанские соседи (Элида, Аркадия и др.) сочувствовали врагам фокидян. Этой борьбой воспользовался для вмешательства в греческие дела Филипп Македонский: выступив на стороне амфиктионов, он подчинил фессалийских союзников фокидян (кроме городка Гала) и подошел к неприступным Фермопилам, воротам Средней Греции. Но силы его были скованы затяжной войной во Фракии против Афин и их союзника царя Керсоблепта; он взял города Амфиполь, Олинф и другие, но решающего успеха достичь не мог и предложил Афинам мир на двух условиях: обе стороны оставляют за собой те земли, которыми владеют к моменту договора (т. е. афиняне лишаются захваченных Филиппом земель), и афинские союзники — фокидяне, Гал и царь Керсоблепт — исключаются из договора (негласно Филипп обещал примириться и с ними). В феврале 346 года к Филиппу отправилось первое афинское посольство (Филократ, Эсхин, Демосфен и др.), в апреле условия Филиппа были, не без колебаний, приняты афинским Народным собранием, и афинские власти «принесли присягу» (ратифицировали мир) и отвели свой флот от Фермопил. Для принятия присяги от Филиппа было отправлено второе посольство в том же составе (май — июнь), но из-за проволочек в пути и при македонском дворе было потеряно много времени, которым воспользовался Филипп, чтобы сделать новые завоевания во Фракии. В июле 346 года второе посольство вернулось в Афины, Филипп стремительно прошел через Фермопилы, фокидяне сдались и были жестоко наказаны, а Филипп в благодарность был принят в члены амфиктионии, то есть получил возможность свободно вмешиваться в греческие дела. При известии о наступлении Филиппа афиняне попытались послать к нему третье посольство (и Демосфен и Эсхин отказались в нем участвовать), но было уже поздно.
Тотчас после этой дипломатической катастрофы Филократ и Эсхин были обвинены в том, что за взятки от Филиппа умышленно затянули переговоры. Филократ ушел в изгнание, но Эсхин сумел избежать суда, выдвинув против своего обвинителя Тимарха встречное обвинение в безнравственности. Дело оттянулось на три года, в 343 году суд состоялся и оправдал Эсхина. Сохранившийся текст речей Демосфена и Эсхина несколько переработан авторами для письменного распространения — отсюда некоторое несовпадение пунктов обвинения и защиты.
ДЕМОСФЕН
План речи Демосфена таков: вступление (1-28): установление пунктов обвинения; главная часть: а) виновность Эсхина в гибели фокидян (первое посольство и Народное собрание, 29-66; второе посольство, 67-149); б) виновность Цехина в потере Фракии (150-181); в) опровержение возможных возражений Эсхина (182-257); г) выводы (258-299); заключение (300-343): повторение главных пунктов обвинения, его политическое значение.
(обратно)85
1. …едва только вас выбрали жребием. Судейские коллегии формировались путем жеребьевки, чтобы избежать возможного подкупа.
(обратно)86
10. Исхандр. — Ср. 303. Текст можно понимать двояко: а) Исхандр, сын Неоптолема, был у Эсхина девтерагонистом (т. е. актером на вторых ролях): здесь слово «девтерагонист» имеет переносный смысл; б) Исхандр, девтерагонист Неоптолема, находился при Эсхине — здесь слово «девтерагонист» имеет буквальный смысл, так как Неоптолем действительно был профессиональным трагическим актером на первых ролях. Актеры часто назначались в посольства, так как умели выразительно говорить. Возможно, Демосфен намекает здесь и на прежнюю профессию самого Эсхина — актера на третьих ролях.
(обратно)87
11. …по возвращении из Аркадии… — После захвата Филиппом Олинфа (348 г.) афинский политик Евбул (о нем — коммент. к 290) предложил отправить посольства во все города Греции для создания всеэллинской коалиции против Македонии. Эсхин был послан в Аркадию, где выступал перед собранием представителей аркадских городов — «собранием Десяти тысяч» (см. об этом 302-305).
(обратно)88
12. Аристодем, Неоптолем, Ктесифонт. — Первые двое — трагические актеры, гастролировавшие в Македонии; Филипп убедил их рассказать в Афинах о его намерении заключить мир и союз с Афинами. Ктесифонт из речи «О венке» — другое лицо.
(обратно)89
15. …а на второй… — Эсхин отрицает это (см. «О предательском посольстве»; 65).
(обратно)90
…мира равного и справедливого… — Демосфен считал несправедливостью и позором как исключение из договора союзников, так и потерю всех захваченных Филиппом территорий.
(обратно)91
16. …если они прежде не помогли вам. — Ср. Эсхин (75-77).
(обратно)92
…слушали послы… — Речь идет о послах, прибывших от афинских союзников для решения вопроса о мире.
(обратно)93
17. …посольство, отправленное принять присягу… — То есть второе (июльское) посольство.
(обратно)94
Совет пятисот — высший совещательный и исполнительный орган демократических Афин. Выносившиеся им предварительные решения должны были утверждаться Народным собранием, высшим законодательным органом.
(обратно)95
…отправляли свои посольские обязанности не по вашему постановлению. — См. об этом ниже 36, 44, 158, 174.
(обратно)96
18. …фокидян и Фермопил… — О фокидских делах см. 29-149. Фермопилы были местом заседания совета амфиктионов.
(обратно)97
20. …обвинительную речь против фиванцев… — Фивы были постоянным соперником Афин. Временное возвышение Фив в 371-362 гг. возродило в афинянах старую зависть к этому городу; кроме того, Фивы союзничали с Филиппом, что вызывало опасение Афин.
(обратно)98
21. Феспии и Платеи — разрушенные Фивами города в Беотии.
(обратно)99
…о взыскании денег в пользу божества… — Речь идет о возмещении убытка, нанесенного фокидянами дельфийской казне.
(обратно)100
22. Ороп — город на границе Аттики и Беотии, предмет раздора Афин и Фив.
(обратно)101
23. …а под конец и высмеивать… Об этом же говорит Демосфен во Второй Филиппике (30): «…те люди говорили тогда про меня, что я пью только воду и потому, естественно, какой-то угрюмый и сердитый человек» (перевод С. И. Радцига). Ср. 46.
(обратно)102
31. …тогда не молчал… То есть после второго посольства.
(обратно)103
…в Пританей. В этом здании для дежурной комиссии Совета пятисот, по традиции, угощались послы, успешно выполнившие свои обязанности.
(обратно)104
…даже с Тимагором… Тимагора, посла при дворе персидского царя Артаксеркса, в 367 г. афиняне приговорили к смерти как предателя (см. коммент. к 137).
(обратно)105
36. …письмо… которое написал Эсхин, расставшись с нами… — Ср. Эсхин (124).
(обратно)106
Тал и Фарсал — города в Фессалии; первый был союзником Афин, а второй — Филиппа.
(обратно)107
39. А про пленных… Речь идет об афинских гражданах, захваченных в плен Филиппом при взятии Олинфа. Об этих событиях см. 166, 169-172.
(обратно)108
47. …какое постановление написал и предложил… Филократ. — Это уже второе постановление, принятое по предложению Филократа; оно содержало одобрение заключенного с Филиппом мира, а также губительные для фокидян решения {48-49).
(обратно)109
50. …спартанцы… отступили… — В это время в Фермопилах стоял спартанский отряд (ср. ниже, 77, а также Эсхин, 133). Проксен — командир афинского отряда на Евбее, недалеко от театра военных действий.
(обратно)110
56. …вписать в мирный договор слова о потомках… Речь идет о потомках Филиппа.
(обратно)111
57…пусть встанет и говорит за счет моего времени. — Буквально: «в мою воду». Отводимое на речи время измерялось водяными часами. В данном процессе стороны имели право только на одну речь, строго ограниченную по времени.
(обратно)112
58. Скирофорион — первый месяц афинского года (март-апрель).
(обратно)113
59. …десятый, девятый и восьмой день… — В греческой календарной системе месяц делился на десятидневки с убывающим счетом в последней. Следовательно, имеются в виду 21, 22 и 23 числа месяца.
(обратно)114
…когда заключили перемирие… Речь идет о перемирии между Филиппом и фокидянами. Фокидяне заключили перемирие в надежде на мирные обещания Филиппа, и оно практически связывало им руки.
(обратно)115
60. Деркил — участник всех трех посольств.
(обратно)116
62. Соглашение Филиппа с фокидянами. — Это соглашение заключено под влиянием «эсхиновых обещаний».
(обратно)117
63. Решения амфиктионов. — По решению дельфийской амфиктионии, принятому после захвата Филиппом Фокиды, все двадцать два фокидских города должны были быть разрушены, вооружение — отнято, а ущерб, нанесенный казне Дельфийского храма, — возмещен.
(обратно)118
65. Когда мы ехали в Дельфы… — Очевидно, Демосфен проезжал через Фокиду, направляясь на собрание амфиктионов в качестве делегата от Афин.
(обратно)119
…в старину… — То есть в 404 г., при капитуляции Афин после Пелопоннесской войны, когда фиванцы проявили к ним особую ненависть, настаивая на обращении афинских граждан в рабство.
(обратно)120
69. Антипатр (будущий правитель Македонии) и Парменион (будущий соратник Александра в Азии) — послы Филиппа, прибывшие в Афины с первым посольством для принятия присяги от афинян и их союзников.
(обратно)121
70. …подпадает под ваше проклятие… — Каждое заседание Народного собрания и совета начиналось с молитвы, в которую входило проклятие врагам государства: «…чтобы погиб тот, кто за взятки говорит о делах не так, как думает». Молитва произносилась глашатаем под диктовку секретаря.
(обратно)122
…в должности письмоводителя… — Демосфен неоднократно об этом упоминает. Эсхин действительно был некоторое время секретарем совета. Это уважаемая должность в Афинах: секретарь выбирался Народным собранием и имел различные привилегии, в том числе — право обедать в Пританее вместе с членами совета.
(обратно)123
72. Гегесипп — сторонник Демосфена.
(обратно)124
73. …до возвращения сюда послов… — То есть до возвращения второго посольства.
(обратно)125
75. Ведь не ради их доблести вы когда-то спасли и спартанцев… — Когда в 371 г. фиванцы победили спартанцев в битве при Левктрах, афиняне, обеспокоенные возвышением Фив, заключили со Спартой союз и сражались на ее стороне против фиванцев.
(обратно)126
…и этих проклятых евбейцев… — Такое отношение к евбейцам связано со столкновением на Евбее Фив и Афин в 358-357 гг., когда многие евбейцы действовали на стороне Фив.
(обратно)127
77. Когда же он сам явился в Фермопилы… — Второе посольство рассталось с Филиппом в Фессалии и направилось в Афины, а Филипп тотчас двинулся в Фокиду через Фермопилы.
(обратно)128
78. …сохранения Xepсонеса… — Этот полуостров у входа в Геллеспонт (Дарданеллы) фракийский царь Керсоблепт передал афинянам в 357 г., и по Филократову миру 346 г. эти земли остались за ними.
(обратно)129
84. …прежний ваш поход… — В 352 г. Филипп нанес фокидянам поражение и пытался пройти в Среднюю Грецию, но был остановлен афинянами у Фермопил.
(обратно)130
86. …постановление Диофанта и постановление Каллисфена… — Первое постановление принято после удачного похода 352 г., а второе — под впечатлением сообщения о разгроме Филиппом Фокиды,. полученного в июле 346 (после отправления третьего посольства). В последнем постановлении говорилось о мерах обороны в случае нападения Филиппа на Афины. С опасностью нападения связано также принесение жертвы Гераклу в стенах города, тогда как обычно эти праздники в честь Геракла справлялись в Марафоне.
(обратно)131
87. Портм — гавань на Евбее, позже была действительно захвачена Филиппом. Мегары — город в соседней с Аттикой Мегариде; попытка захватить его Филиппу не удалась (ср. 295).
(обратно)132
88. …станет себя защищать. — Ср. Эсхин (172-177).
(обратно)133
102. …мягкосердечием Филиппа… — Это говорится иронически.
(обратно)134
103. …дело разбиралось бы как особо важное… Имеется в виду «исангелия» — подаваемое в Народное собрание заявление по поводу преступлений государственной важности, требующее принятия срочных мер.
(обратно)135
…он… только отчитывается… — Демосфен привлек Эсхина к суду, требуя у него отчета в посольской деятельности, которого тот не дал своевременно, оттягивая срок разными способами — например, процессом против Тимарха.
(обратно)136
111. Совсем недавно… — Осенью 346 г.
(обратно)137
112. Орхомен и Коронея — беотийские города, захваченные Филиппом и переданные фиванцам.
(обратно)138
113. …в пользу фессалийцев. — То есть поддерживая их просьбу принять Филиппа в амфиктионию.
(обратно)139
114. …прибегать к свидетельствам под пыткой… — Речь идет о том, что пришлось бы прибегнуть к допросу рабов. Рабов допрашивали редко и только под пыткой: считалось, что иначе дурной раб непременно будет лгать во вред господину, а хороший — в пользу господина.
(обратно)140
…утверждая, что поедет к царю… — То есть в Македонию.
(обратно)141
118. …не обязан отчитываться… — В посольстве участвовал представитель союзников, который, согласно законам, не давал отчета в Афинах. Ср. Эсхин (126).
(обратно)142
120. …словно в драмах… — Намек на прежнюю актерскую профессию Эсхина; а также на процесс против Тимарха.
(обратно)143
122. …под клятвой отказался… Граждане, выбранные на определенную должность, имели право отказаться, дав клятву перед народом, что не могут служить по серьезным причинам.
(обратно)144
123. …как бы не было вдруг созвано без них Народное собрание… — Речь идет об экстраординарном собрании.
(обратно)145
Ведь если бы вы приняли постановление… — Постановление о помощи фокидянам.
(обратно)146
125. …принести жертвы на Гераклеи в городе… См. выше коммент. к 86.
(обратно)147
128. …наблюдателей от совета… — На общегреческие праздники афиняне посылали своих представителей, в том числе «законодателей» (фесмофетов) — членов коллегии архонтов — высшего правительственного органа в Афинах. Пифийские игры — происходили в Дельфах под надзором дельфийской амфиктионии. Афиняне возмущались принятием «варвара» (то есть Филиппа) в амфиктионию (ср. 34) и отказались от участия в очередных играх, которыми теперь руководил Филипп.
(обратно)148
137. …сделал бы то же, что царь. — Имеется в виду Артаксеркс. Речь идёт о событиях при заключении Царского мира 386 г.; имя незадачливого предателя Тимагора стало нарицательным (см. коммент. к 31).
(обратно)149
Амфиполь — самая давняя афинская колония во Фракии.
(обратно)150
141. Корсия, Орхомен, Коронея, Тилфосей — города в Беотии.
(обратно)151
144. …утвердить решение союзников и призвать послов Филиппа… — Речь идет о включении союзников в договор. Это решение следовало объявить послам Филиппа.
(обратно)152
146. …пусть свидетельствуют олинфяне… — Очевидно, Эсхий получил имение около Олинфа.
(обратно)153
154. …не оставалось ни одной сходки… — Регулярные сходки народных собраний происходили четыре раза в каждую «пританию» — десятую часть года.
(обратно)154
155. Орей — гавань на Евбее, откуда Проксен держал под контролем Фермопилы.
(обратно)155
156. …в мирное-то время и заключив договор… — Пока Филипп не дал клятву, скрепляющую мирный договор, он фактически не был связан его условиями.
(обратно)156
158. Феры — город в Фессалии.
(обратно)157
162. …что Филипп отвечал сидящему здесь Евклиду… — Узнав о захвате Фракии, афиняне отправили Евклида к Филиппу для выражения возмущения его действиями, но Филипп заявил, что захватил эти земли до прибытия послов и принесения присяги.
(обратно)158
163. Пагасы, Лариса — города в Фессалии.
(обратно)159
106. Пелла — главный город в Македонии.
(обратно)160
Я сам выручал и искал наших пленников… — Демосфен хотел доказать свою непричастность действиям Филократа и его сторонников во втором посольстве.
(обратно)161
168. Панафинеи — афинский праздник, справлявшийся в августе, т. е. примерно через полмесяца после описываемых переговоров.
(обратно)162
172. Чтоб мне сгинуть и пропасть! — формула клятвы.
(обратно)163
174. Кардианцы — жители города Кардии в Херсонесе Фракийском; во время переговоров с Афинами Филипп привлек их на свою сторону.
(обратно)164
175. …уничтожить у вас народоправство… — Ср. 136.
(обратно)165
…оставался у Филиппа еще ночь и день. — Ср. Эсхин (124).
(обратно)166
176. …понесу полную ответственность… — Истинность показаний каждый свидетель удостоверял клятвой, становясь тем самым ответственным за лжесвидетельство и клятвопреступление,
(обратно)167
177. …обещанное вам в начале речи. — Ср. 4.
(обратно)168
179. Вы все… — То есть судьи.
(обратно)169
180. Эргофил, Кефисодот, Тимомах… — Перечисляются афинские стратеги. Эргофил отстранен от должности и отдан под суд в 363-362 гг. за то, что допустил отпадение от Афин фракийского царя Нотиса. Кефисодот обвинен Демосфеном и отстранен от должности. О Тимомахе подробности неизвестны. Эргокл — казнен за взяточничество, Дионисий — привлечен к суду за неудовлетворительные действия против спартанских войск в 387 г.
(обратно)170
182. …будет возмущаться… — У Эсхина об этом не говорится.
(обратно)171
184. …при вас… — То есть при демократии.
(обратно)172
185. …когда отведено время для вестников и посольств… — Иностранные послы, и вестники обращались сначала к пританам (членам дежурной комиссии Совета пятисот), которые передавали дело в Народное собрание.
(обратно)173
189. …для них… — Демосфен указывает на судей как на представителей всего народа.
(обратно)174
190. Вступительные жертвы — жертвы, приносимые членами совета в начале их деятельности — в первый день года.
(обратно)175
191. Леонт обвинил Тимагора… — См. коммент. к 31.
(обратно)176
Фаррек и Смикиф — очевидно, члены совета 354-353 гг.
(обратно)177
Стратег Адимант был привлечен к суду по подозрению в измене во время битвы при Эгоспотамах (405 г.). Приводя эти примеры обвинения товарищей по должности, Демосфен хочет оправдаться перед афинянами, в чьих глазах, очевидно, его действия выглядели не вполне благородно.
(обратно)178
192. справил Олимпии… — Здесь имеются в виду не Олимпийские игры, а праздник, справлявшийся у подножия горы Олимп в городе Дие начиная с V в. до н. э. и включавший состязания в мусических искусствах.
(обратно)179
193. Актер Сатир, по словам Плутарха, был одним из наставников Демосфена в выразительной речи.
(обратно)180
196. Среди тридцати тиранов (олигархическая группа, жестоко управлявшая Афинами, в 404-403 гг.) имя Федима не упоминается. Ксенофрон в ответной речи Эсхина (157) назван Ксеподоком.
(обратно)181
197. …рассказывал Патрокл… — Ср. Эсхин, 15-20. Мужчины на греческих пирах располагались за столом лежа, а свободные женщины (не гетеры) — сидя и лишь недолгое время.
(обратно)182
198. …в Аркадии, перед Десятью тысячами… — Ср. 11.
(обратно)183
200. Хорегей — помещение для репетиций хора трагедии. Участники хора действительно получали плату от устроителей представлений, но Эсхин был актером, а не хоревтом. Намек, содержащийся в этих словах Демосфена, проясняется ниже (216).
(обратно)184
Он еще возбуждает перед вами дело о блуде против другого! — Имеется в виду обвинение против Тимарха.
(обратно)185
202. …он скажет, будто я сам замешан во всем… — Ср. Эсхин (14-20, 54, 56).
(обратно)186
209. …когда вы не допустили его в посольство… — Возможно, речь идет о том, что весной 343 г. Ареопаг не допустил избрания Эсхина в Священное посольство на Делос.
(обратно)187
…которые под силу сказать хоть вчера купленному рабу… — То есть варвару, еще не обучившемуся греческому языку.
(обратно)188
213. …никто не добавит мне времени. — Речь идет о том, что Демосфену не добавят времени на самозащитную речь вдобавок к обвинительной.
(обратно)189
216. …коли сам Филипп дает деньги на постановку зрелища… — То есть дает взятки.
(обратно)190
218. …городу ничего не грозило… — Здесь ирония: так представляли положение враги заключения мира.
(обратно)191
219. Нарушение присяги. — Речь идет о присяге судить «по правде».
(обратно)192
223. …лишился заслуженного мною уважения… — Участие Демосфена в посольствах Филократа вообще повредило его репутации.
(обратно)193
225. Пифокл. — Ср. 314.
(обратно)194
228. …чтобы таких людей не было вовсе. — Демосфен имеет в виду себя; для него как для истинного патриота личные и государственные интересы нераздельны.
(обратно)195
230. …не успев записать ею в списки граждан… — То есть до совершеннолетия.
(обратно)196
…снаряжая хоры трагедий и корабли… — «Хорегия» (ср. 200) была регулярной общественной повинностью, а «триерархия» (снаряжение на свой счет триеры для государства) — чрезвычайной.
(обратно)197
Целая страна — Фокида.
(обратно)198
231. …они отпустили… — Подразумевается Филократ, которого афиняне осудили не на смерть, а только на изгнание.
(обратно)199
233. …послал к Филиппу для постыдных дел… — Компрометация Фринона бросала тень на Эсхина как его друга.
(обратно)200
234. Скажу-ка я сейчас о пире и о постановлении… — Ср. Эсхин (119) и «О венке» (76); ср. также Демосфен «О венке» (28).
(обратно)201
…в Пританей… — См. коммент. к 31.
(обратно)202
235. …это Эсхин теперь вам и представит… — Ср. Эсхин (45 сл., 53-55, 121 сл.).
(обратно)203
236. …еще не написал своего предложения. — Речь идет о времени между возвращением первого посольства и принятием предложения Филократа об условиях мира.
(обратно)204
237. Тимпаны — атрибуты вакхических шествий. Алавастры — алебастровые сосуды для притираний, бывшие предметом роскоши, то и другое Демосфеном не одобрялось. Изготовлявший их брат Эсхина Фидохар избирался стратегом, а другой брат, Афобет, в течение четырех лет был казначеем, а одно время — послом в Персии.
(обратно)205
240. …коль скоро ты готовил такую страшную беду человеку… — Имеется в виду Тимарх.
(обратно)206
243. «…И никогда не исчезнет бесследно молва…» — Цитата из поэмы Гесиода «Труды и дни» (763-764), перевод В. Вересаева.
(обратно)207
245. Питталак — государственный раб, устроитель петушиных боев, имевший репутацию развратника.
(обратно)208
246. Феодор, Аристодем — актеры на первые роли (протагонисты). Молон — актер старшего поколения (конец V в.).
(обратно)209
247. «Нельзя узнать у каждого заранее…» Софокл, «Антигона» (175-190).
(обратно)210
249. …его мать… — Ср. 199 и «О венке» (259).
(обратно)211
Круглый дом. — Так называется куполообразное здание Пританея на афинской площади (ср. коммент. к 31).
(обратно)212
251. …насчет Солона. — Пересказ речи Эсхина «Против Тимарха» (25 сл.). По преданию, Солон, чтобы побудить афинян к войне за Саламин, притворился невменяемым (не «скромным и разумным») и продел перед народом свою элегию о Саламине, чем и добился цели. Приводимый ниже отрывок взят не из этой, а из какой-то другой элегии Солона.
(обратно)213
158. …даже царь… — Речь идет о персидском царе.
(обратно)214
257. …отдавший целые страны… — То есть Фракию и Фокиду.
(обратно)215
…опозорил того, кто, послушавшись сограждан… — Речь идет о Тимархе. В пользу Эсхина говорили и выигранный им процесс против Тимарха, и одиозный характер данного процесса, возбужденного Демосфеном против «коллеги», с которым он вначале находился по крайней мере в видимом согласии, и, наконец, давность всех событий; однако Демосфен каждый из этих пунктов старается обернуть выгодной для себя стороной.
(обратно)216
261. Исконные туземцы — то есть живущие в своих землях с незапамятных времен, а не пришедшие (как большинство других греческих племен) во время великих «переселений» XI в., на рубеже легендарной и исторической эпохи. Вмешательство Филиппа в фессалийские и пелопоннесские дела относится к промежутку 346-343 гг.
(обратно)217
263. …пример несчастных олинфян? — Противопоставляется судьба союзного Афинам города Олинфа во фракийской Халкидике в двух войнах — против спартанцев в 382-379 гг. (Демосфен прикрашивает картину: Олинф все же подчинился Спарте) и против Филиппа в 349-348 гг. (когда Демосфен произносил свои «Олинфские речи»). В 348 г. подкупленные Филиппом олинфские стратеги Ласфен и Евтикрат сдали ему конницу, после чего Филипп взял город.
(обратно)218
270. Надпись на плите. — Речь идет о надписи на медной доске.
(обратно)219
271. Арфмий — во время греко-персидских войн был подослан Ксерксом для возбуждения спартанцев против афинян.
(обратно)220
272. Бронзовая Афина — «Афина Защитница» (Промахос), статуя работы Фидия посреди Акрополя.
(обратно)221
273. Каллий — в 449 г. заключил с персидским царем мир (положивший конец греко-персидским войнам), по которому персидские суда не допускались в Эгейское море.
(обратно)222
277. …кто возвратил наш народ из Пирея… — при наступлении из Филы в Пирей и из Пирея в Афины в 403 г., восстановившем демократию после Тридцати тиранов; далее упоминаются потомки Фрасибула, восстановителя демократии, и Гармодия, тираноубийцы VI в., чтившегося как предтеча демократии.
(обратно)223
279. …их признание… — Виновным признал себя только Филократ.
(обратно)224
283. …как он… говорил… У Эсхина этого нет.
(обратно)225
287. …кто выдал врагу оружие ваших союзников… — Оружие, отнятое у фокидян, было публично уничтожено амфиктионами.
(обратно)226
Никий и Кирибион (прозвище, означающее «Мякина») ближе неизвестны, ср. Эсхин (150-152).
(обратно)227
…без маски! — Без масок в дионисийских праздниках выступали лишь фаллофоры — участники ритуального непристойного шествия.
(обратно)228
…вспять потекли… реки… — поговорка.
(обратно)229
290. Евбул — один из ведущих афинских политиков, сторонник мира любой ценой. Аристофонт был противником Евбула, Филоник — его сторонником.
(обратно)230
291. …деньги, раздаваемые на зрелища — Существовала государственная зрелищная казна; на иные нужды эти средства обращались лишь в чрезвычайных обстоятельствах.
(обратно)231
293. …за священные деньги… — Возможно, упоминаемый Кефисофонт был хранителем храмовой казны. Подробности дела неизвестны.
(обратно)232
295. …в Мегарах суд трехсот… В Мегарах, как и в Эгине и в других местах, в 346-343 гг. усиленно действовали сторонники Филиппа.
(обратно)233
297. И ему не позволяйте этого. — То есть Евбулу, сменившему у власти (не по должности, а по авторитету) вышеназванных политиков.
(обратно)234
Читаются прорицания. — Речь идет о прорицаниях, полученных в прорицалище Зевса в Додоне.
(обратно)235
299. Диона — местное божество Додоны, согласно Гомеру мать Афродиты.
(обратно)236
303. Постановления Мильтиада и Фемистокла призывали к решительным действиям во время греко-персидских войн;
(обратно)237
Присяга эфебов в храме Аглавры говорила об уважении ко всем гражданским и религиозным установлениям Афин; ее давали вступившие в совершеннолетие (эфебы).
(обратно)238
305. Атрестид — видимо, начальник отряда наемников, аркадянин.
(обратно)239
310. …приведет детей… — Обычный метод воздействия на суд. Ср. Эсхин (179).
(обратно)240
314. Пифокл. — Ср. 225.
(обратно)241
…перед Круглым домом. — См. коммент. к 249.
(обратно)242
316. …он незамедлительно нанял Эсхина… — Демосфен считает этот пункт уже доказанным.
(обратно)243
318. …вернуть их в Фермопильскую амфиктионию… — Фессалийцы были ранее устранены из амфиктионии фокидянами.
(обратно)244
319. …когда впервые одолел фокидян… — Имеется в виду 352 г.
(обратно)245
323. …как вы… слыхали… — См. 51.
(обратно)246
326. Герест — город в южной части Евбеи; Ороп, Дрим и Панакт — пограничные городки, за которые Афины боролись с Фивами.
(обратно)247
327. …восстановить в святилище… — Афины предпочитали, чтобы подлинные амфиктионы, фокидяне, примирившись с Дельфами, сохранили политическую силу.
(обратно)248
…сбрасывают с обрыва… — Демосфен говорит о казни святотатцев в Дельфах; какой конкретный эпизод подразумевается, неизвестно.
(обратно)249
…право первым вопрошать оракул. — Этим почетным правом пользовались до 346 г. афиняне, фессалийцы и спартанцы; затем Филипп присвоил его себе.
(обратно)250
331. Гегесипп. — См. коммент. к 72.
(обратно)251
Ксеноклид — был лишен прав афинского гражданина и, видимо, пытался после этого поселиться в Македонии.
(обратно)252
332. Харет — афинский полководец, часто обвинявшийся в неразумном ведении войны; ср. Эсхин (71).
О. Левинская
(обратно)253
Эсхин, отступая от обычной риторической схемы, перемежает повествование с опровержением обвинений противника, что делает речь более оживленной. План его таков: Вступление (1-11), жалоба на запутанность обвинения. Главная часть: а) рассказ о первом посольстве (12-55) и опровержение обвинений (56-96; о Керсоблепте 81-93); б) рассказ о втором посольстве (97-108) и опровержение обвинений (119-143), о фокидянах (130-143); в) рассказ о себе и сравнение с Демосфеном (144-170). Заключение (171-184): блага мира и тяготы войны, моление о милости.
(обратно)254
1. …чтобы вы даже голоса ответчика не терпели. — Ср. насмешки над актерским голосом Эсхина у Демосфена (337 сл.).
(обратно)255
6. …который сам себя признал виновным… — Будучи уверен в своем осуждении, Филократ до суда удалился в изгнание.
(обратно)256
10. Он попытался уподобить меня Дионисию… рассказал сон… — В дошедшем до нас тексте Демосфена этого нет.
(обратно)257
12. …послы евбейцев… — О евбейских событиях см. ниже (169).
(обратно)258
14. Они вносят письменную жалобу на противозаконность решения… — Имеется в виду так называемая «графе параномон», один из важных институтов афинской демократии: каждый гражданин имел право принести жалобу на любое предложение, поступившее в Народное собрание, или на уже принятое постановление, утверждая, что данное предложение или постановление направлены во вред государству и противоречат существующим законам.
(обратно)259
…не получил и пятой части голосов. — При таком провале обвинитель лишался права в дальнейшем выступать с обвинениями и должен был уплатить штраф в размере 1000 драхм.
(обратно)260
15. …был взят Олинф… — Олинф был взят Филиппом в 348 г. Город был разрушен, жители проданы в рабство.
(обратно)261
Масличные ветви, обвитые белой шерстью, были знаком просьбы.
(обратно)262
18. …меня предложил Навсикл, а Демосфена — сам Филократ… — Эффектное противопоставление: Навсикл — афинский стратег, преградивший в 352 г. Филиппу путь через Фермопилы, а Филократ — предатель.
(обратно)263
19. …избавить его от денежных взысканий. — Речь идет о взысканиях за нарушение «ангажемента».
(обратно)264
20. …избрали послом от союзников… — Заключение мира должно была быть утверждено не только афинским Народным собранием, но и советом (синедрионом) Афинского морского союза.
(обратно)265
А что он утверждает… — См. Демосфен (13).
(обратно)266
21. Леосфен — афинский стратег и знаменитый оратор, был осужден на смерть за военные неудачи, но бежал в Македонию и жил у Филиппа.
(обратно)267
22. …против сотоварищей по трапезе и посольству. Совместное участие в трапезе и жертвоприношениях при вступлении в должность устанавливало между людьми сакральные связи.
(обратно)268
…соль нашего города… — Здесь имеются в виду «государственные жертвоприношения» (жертвенная соль была важным элементом обряда). Получаемое от народа пропитание — угощение в Пританее. …не здешний… — Эсхин постоянно намекает на нечистоту происхождения Демосфена. Ср. Демосфен (223).
(обратно)269
23. Аристид — государственный деятель, прославившийся справедливостью; благодаря своей репутации определял размеры денежных взносов от городов — участников I Афинского морского союза.
(обратно)270
26. Аминта — отец Филиппа, изгнанный из Македонии иллирийцами; возвратил себе трон при содействии Афин и Спарты. После его смерти в 370 г. власть была захвачена его родственником Павсанием.
(обратно)271
27. Ификрат — знаменитый афинский полководец.
(обратно)272
…где городом и плодами со своих земель… владели сами амфиполитанцы. — Амфиполь принадлежал Афинам до 424 г., Спарте — до 421 г., а потом был самостоятелен, пока в 358 г. его не захватил Филипп.
(обратно)273
29. Птолемей — опекун сына Аминты Александра II, захвативший македонский престол в 369 г.
(обратно)274
30. …заключили с ним перемирие… В 362 г. афинский стратег Каллисфен, заключивший перемирие, не соответствовавшее интересам Афин, был обвинен в измене и казнен.
(обратно)275
31. Девять Дорог — старое название места, колонизованного Афинами под именем Амфиполь. Согласно легенде, афинский царевич Демофонт (а не Акамант, как говорит Эсхин), прибыв во Фракию, женился на местной царевне и получил в приданое эту область.
(обратно)276
32. Когда собрались спартанцы… — Речь идет о мирном конгрессе 371 г. с участием послов Персии, Дионисия Сиракузского и Аминты.
(обратно)277
37. …не от тех ли пятидесяти кораблей… — Ср. Демосфен (322).
(обратно)278
40. «Керкопы» — мифические карлики; метафорически «керкоп» — плут и обманщик (как и далее, 43. Сизиф).
(обратно)279
43. …будто и Демосфен говорил в защиту Амфиполя. Демоосфен излагает эту ситуацию в ином свете (ср. Демосфен, 253 сл.).
(обратно)280
44. …речи, произнесенные… с возвышения — Оратор в афинском Народном собрании говорил с каменного помоста.
(обратно)281
45. Гестия — богиня очага; ее очаг с алтарем в здании совета считался общим очагом Афинского государства.
(обратно)282
50. Постановление народа. — Речь идет о постановлении об отправлении послов к Филиппу.
(обратно)283
52. «Кто-то еще говорил…» — Демосфен имеет в виду Эсхина, но презрительно не называет его по имени.
(обратно)284
55. Великие Дионисии справлялись весной, вскоре после описываемого собрания; на время праздников переговоры прерывались.
(обратно)285
59. …за счет моего времени… Ср. коммент. к Демосфену (213).
(обратно)286
61. Собрание в театре Диониса проводилось в последний день Великих Дионисий — 14 элафеболиона (начало апреля).
(обратно)287
63. Он говорил, будто на первом собрании… — См. Демосфен (14-16, 144, 307, 311).
(обратно)288
70. …нашему полководцу… — Имеется в виду Харет; афиняне считали, что его неудачные военные действия сводят на нет результаты побед Тимофея, сына Конона, сумевшего в 378 г. возродить Афинский морской союз.
(обратно)289
71. Деиар, Деипир и Полифонт наемные военачальники; возможно, Эсхин приводит не имена их, а прозвища.
(обратно)290
72. …чаще, чем полагалось по закону. — См. Демосфен, коммент. к 154.
(обратно)291
73. …на поиски нашего главного военачальника… — Имеется в виду Харет.
(обратно)292
…требуйте к ответу за мир военачальников, а не послов. — Ср. ниже, 80. Демосфен предупреждает этот ход защиты (92, 147).
(обратно)293
74. …вспомнить… о могилах предков и победных памятниках. — Ср. выше, 63 и коммент., а также Демосфен (15 сл.).
(обратно)294
76. …сами спартанцы предлагали заключить мир… — В 410 г., после победы афинян при Кизике. Клеофонт стоял тогда во главе радикального демоса.
(обратно)295
75-77. Битвы при Платеях, при Саламине, Марафонская битва и победы Толмида (456 г.) противопоставляются событиям неудачной для Афин Пелопоннесской войны.
(обратно)296
78. …победил в морском бою Хилона… — Упоминается эпизод Коринфской войны 395-386 гг.
(обратно)297
79. Ты ставишь мне в вину также речь… — Ср. Демосфен (10 сл., 198).
(обратно)298
…другие воевали с нами… — Имеется в виду восстание афинских союзников 357-355 гг.
(обратно)299
87. …у Палладия… — Так назывался суд, близ храма Афины Паллады, разбиравший дела о непредумышленных убийствах.
(обратно)300
90. Святая гора — важный стратегический пункт на Фракийском побережье. Месяц элафеболион — март-апрель, мунихион — апрель-май.
(обратно)301
93. …уплатил наложенную Ареопагом пeню. По афинским законам, начавший процесс по поводу личной обиды обязан был довести его до конца, а в противном случае подвергался штрафу в размере 1000 драхм. Эсхин здесь привычно намекает на процессы молодого Демосфена против своих опекунов (ср. 99).
(обратно)302
…незаконный сын… — То есть рожденный не от афинской гражданки (ср. Эсхин, «О венке», 171).
(обратно)303
94. Ты пытался утверждать… — Демосфен (126 сл.).
(обратно)304
…в посольстве к амфиктионам… — Точнее, в Третьем посольстве к Филиппу по делам амфиктионов.
(обратно)305
96. Эсхин возвращается здесь к событиям второго посольства.
(обратно)306
98. …во Фракию… — Там в это время воевал Филипп.
(обратно)307
104. …отстроил стены у беотийцев… — То есть в Феспиях и Платеях, разрушенных фиванцами.
(обратно)308
105. Кадмея — фиванский акрополь. Речь идет о событиях 364 г., когда. Фивы были на вершине могущества.
(обратно)309
106. …привержен Беотии. — По-гречески имеет также второй смысл — «быть глупым».
(обратно)310
112. …сказанное — Ср. выше (51 сл.).
(обратно)311
116. …из Дория или Китиния… — Даже местонахождение этих городков в точности неизвестно..
(обратно)312
117. …когда же амфиктионы собрались в святилище — Амфиктионы не могли собираться, пока святилище занимали фокидяне. Эсхин хочет представить дело так, будто поход Филиппа предпринимается ради восстановления амфиктионов в правах.
(обратно)313
…сделать им столько добра, сколько раньше афиняне… — Имеется в виду помощь афинян при освобождении от спартанцев в 379 г.
(обратно)314
119-124. По его словам, я солгал вам… Здесь и далее ответы на обвинения Демосфена (22; 23; 234-236).
(обратно)315
124. По его словам, я приплыл… — Демосфен (36, 175).
(обратно)316
Леосфен. — См. коммент. к 21. Каллистрат из Афидны — видный оратор, руководитель афинской политики ок. 380-360 гг.
(обратно)317
125. Пифон из Византия — оратор, ученик Исократа, тоже живший при дворе Филиппа.
(обратно)318
126. …день… разделен на одиннадцать амфор. — Время измерялось объемом водяных часов.
(обратно)319
130. Он еще приводил вам какой-то счет дней. — См. Демосфен (57-60).
(обратно)320
133. …с объявившими священное перемирие… — Речь идет о перемирии на время малых Элевсинских мистерий, справлявшихся в Аттике весной.
(обратно)321
Лаконец Архидам — спартанский царь, начальник отряда, охранявшего Фермопилы.
(обратно)322
139. …афиняне свезли добро из деревень… — Афиняне свезли добро в город из страха, что Филипп, разбив фокидян, нападет на Аттику.
(обратно)323
…я уже в третий раз отправился послом… Третье посольство вернулось с дороги, но афиняне вновь послали его к Филиппу, заседавшему тогда в совете амфиктионов; к этим послам присоединился и Эсхин.
(обратно)324
…как ты нагло утверждал. — Ср. Демосфен (86).
(обратно)325
142. …меня обвиняли бы беотийские и фокидские изгнанники… — Ср. Демосфен (80).
(обратно)326
…столкнуть с обрыва… — См. Демосфен (коммент. к 327).
(обратно)327
144. …будто я обвиняю себя своими же словами. — Демосфен (240 и коммент.).
(обратно)328
146. …следовало показать, что я — бездушный зверь… — образец обвинения «от человека» («такой человек мог совершить преступление — значит, он его совершил»), обыгрываемой защитой.
(обратно)329
147. …изгнанный Тридцатью тиранами… — Это обстоятельство считалось честью и доказательством преданности демократии.
(обратно)330
Фратрия — религиозное (когда-то родовое) объединение афинских граждан. Этеобутады — знатный афинский род с наследственными жреческими правами. Афина Градская (Полиада) — покровительница города; жрица ее избиралась пожизненно.
(обратно)331
…как я говорил недавно… — См. выше (78).
(обратно)332
148. …ты… был обвинен в бегстве из войска… — В 348 г. в походе на Евбею; Демосфен должен был вернуться из похода в город для исполнения обязанностей хорега.
(обратно)333
…которого потом убил вместе с Аристархом… — Аристарх, убийца Никодема, был в дружбе с Демосфеном, поэтому, последнему пытались приписать соучастие в преступлении, — впрочем, безуспешно.
(обратно)334
150. …говорить и о моих свойственниках… Демосфен, (287).
(обратно)335
…записан в дем… То есть признан афинским гражданином.
(обратно)336
152. …я привел их сюда вместе с другими… — Обычный способ разжалобить судей.
(обратно)337
156. …пустил слезу, оплакивая Грецию… Ср. Демосфен, 309.
(обратно)338
…восхвалял… Сатира… — Ср. Демосфен (193).
(обратно)339
157. Карион и Ксанфий — обычные имена рабов в комедиях.
(обратно)340
…на пиру у Ксенодока… — Демосфен (196) называет его Ксенофроном.
(обратно)341
158. …будете очищать Народное собрание… — Заседание Народного собрания начиналось с очистительного жертвоприношения и молитв.
(обратно)342
Ведь Гесиод говорит… — «Труды и дни» (240-241). Пер. В. Вересаева.
(обратно)343
164. …после бедствия при Левктрах помогали им… — При Левктрах в 372 г. фиванцы наголову разбили спартанцев; афиняне, опасаясь усиления обоих соседей, до этого поддерживали Фивы, а после этого — Спарту. Фемисон — тиран Эретрии, города на Евбее, колебавшейся между Афинами и Фивами.
(обратно)344
166. Ты вошел в… дом Аристарха… и погубил его. — См. выше (148 и коммент.).
(обратно)345
167. …назвал меня храбрым воином. — Ср. Демосфен (113).
(обратно)346
…два года был… стражем этой страны… — Афинские юноши в возрасте от 18 до 20 лет несли сторожевую службу на охране Пирея и границ Аттики.
(обратно)347
168. …по частичному набору… — То есть когда тот или иной возраст призывался на военную службу не поголовно, а лишь частично. Дело было в 363 г., за год до битвы с фиванцами при Мантинее.
(обратно)348
169. …в поход на Евбею… — В 357 и 349-348 гг. Сражение при Таминах — решающее сражение второго похода.
(обратно)349
175. …заключили с ними мирный договор на пятьдесят лет… — Мирный договор 450 г., фактически соблюдавшийся даже не 13, а 5 лет.
(обратно)350
176. За эти годы мы обнесли стеной Пирей… — Укрепление Пирея (и война с Эгиной) относится к значительно более раннему времени. …купили триста скифов… — Скифы были государственными рабами и использовались в качестве городской полиции.
(обратно)351
177. …жили тридцать лет в мире… Тридцатилетний мир был заключен в 446-445 гг. и соблюдался 15 лет.
(обратно)352
178. …послушавшись мегарцев, мы снова стали воевать… — Имеется в виду начало Пелопоннесской войны (431 г.) и далее Никиев мир 421 г.
(обратно)353
179. …начали войну со спартанцами, послушавшись аргосцев… — Заключение союза между Афинами и Аргосом в 420 г. привело к возобновлению войны со Спартой.
(обратно)354
…попали под власть занявших город врагов, и четырехсот, и тридцати нечестивцев… — Это было результатом олигархического переворота 411 г. и капитуляции перед Спартой 404 г.
(обратно)355
180. явились люди, незаконно записавшие себя в граждане… Народив детей от гетер… — Намек на Демосфена.
(обратно)356
Процесс «О венке» состоялся в 330 году. За шесть лет до того Ктесифонт внес предложение наградить Демосфена золотым венком за его заслуги перед Афинским государством. Предложение было принято, но против Ктесифонта выступил Эсхин, обвинив его в нарушении законов о награждении по трем пунктам: 1) награда присуждена человеку, не сдавшему отчет по должности (Демосфен в это время заведовал перестройкой афинских укреплений); 2) предложено объявить о награждении в театре при иногородних гостях, а не в Народном собрании, среди своих; 3) Демосфен как человек и как политик недостоин награды. Процесс был отложен, и награждение не состоялось. В 330 году вопрос о незаконности предложений Ктесифонта уже стал второстепенным, и процесс превратился в оценку всей политической деятельности Демосфена.
Эсхин проиграл тяжбу. Не собрав необходимой для безопасности обвинителя пятой части голосов и не желая уплатить положенный штраф в 1000 драхм, он удалился в изгнание и закончил свою политическую карьеру.
План речи: Вступление: процессы о противозаконии оплот демократии (1-8).
1-й пункт обвинения: нарушение закона о подотчетных лицах (9-31). 2-й пункт обвинения: нарушение закона о провозглашении награждения (32-48). 3-й пункт обвинения: похвалы Демосфену — ложь (49-176).
А) четыре периода государственной деятельности Демосфена: 1) до Филократова мира, 357-346 гг. (58-79); 2) до возобновления войны, 346-340 гг. (80-105); 3) до Херонейской битвы, 340-338 гг. (106-158); 4) после Херонеи 338-330 гг. (159-166); Б) нрав и образ жизни Демосфена (167-176). Вывод: низость Демосфена недостойна наград (177-245).
Заключение: воспитательное значение процесса о венке (246-260).
(обратно)357
4. Председательствующая фила. — См. Лисий (коммент. к 1).
(обратно)358
10. …провозглашен на играх достойным венка… — То есть во время стечения народа на театральное зрелище, а не в Народном собрании. Эсхин считал это противозаконным.
(обратно)359
13. …должности… распределяются законоблюстителями… — На постоянные — (годовые должности) исполнители назначались народным голосованием или (чаще) по жребию; на экстраординарные назначение осуществлялось архонтами-законоблюстителями (фесмофетами); но если экстраординарное поручение длилось больше месяца, то исполнитель практически приравнивался к должностному лицу.
(обратно)360
14. …все производители работ принимают руководство в судах! — Если дело касается сферы их компетенции.
(обратно)361
15. …пройдя проверку… — Речь идет о так называемой «докимасии»; проверке подлежала чистота афинского происхождения, а также отсутствие порочащих фактов в биографии.
(обратно)362
18. Евмолпиды, Керики и пр. — См. Исократ (коммент. к 157).
(обратно)363
19. …кто строит на свои средства корабли… — Имеются в виду триерархи.
(обратно)364
21. …законодатель смотрит на достояние подотчетного как на залог — Имущество подотчетного лица должно было обеспечить возмещение ущерба государству. Усыновление означало переход в другую семью, которая могла быть беднее прежней, потому и оно временно запрещалось.
(обратно)365
23. …не вырывай у судей из рук судейские камешки… — Голосование производилось при помощи камешков, опускаемых в урну.
(обратно)366
24. Зрелищные деньги — фонд для раздачи денег беднейшим гражданам на посещение театра; в этот фонд поступали все накопления государственной казны, а заведование им расширилось в контроль над всеми государственными финансами: только Гегемонов закон 335 г. (см. 25) сильно ограничил компетенцию заведующих этим фондом.
(обратно)367
25. Евбул. — См. Демосфен, «О посольстве» (коммент. к 290).
(обратно)368
27. …в архонтство Херонта… — В 337 г. Фаргелион в аттическом календаре соответствовал маю-июню, скирофорион — июню-июлю.
(обратно)369
30. Триттия — третья часть филы.
(обратно)370
31. Наш краснобай — Ктесифонт.
(обратно)371
34. Пникс — холм в Афинах, бывший местом Народных собраний. …на представлении новых трагедий… — Речь идет о Великих Дионисиях (см.: Эсхин, «О посольстве» (коммент. к 55).
(обратно)372
38. …исправлять законы… — Вопрос о пересмотре старых законов и рассмотрении новых законопроектов стоял в повестке дня первого Народного собрания каждого года (в середине июля).
(обратно)373
39. …перед статуями десяти фил… — Имеются в виду статуи десяти мифических героев, в честь которые были названы аттические филы; статуи стояли близ здания совета.
(обратно)374
51. …жаловался Ареопагу на Демомела… — См… Эсхин «О посольстве» (93 и коммент.)
(обратно)375
…как при полководце Кефисодоте… — В 360 г.
(обратно)376
52. …делил с ним стол… — Ср. Эсхин, «О посольстве» (22 и коммент.). Кефисодот в 359 г. был осужден за поражение в войне с фракийцами и едва избежал смертной казни,
(обратно)377
…как Мидий избил его… — Мидий, богатый и влиятельный афинянин, питавший вражду к Демосфену со времени процессов против опекунов, ударил Демосфена в театре, в присутствии зрителей (Демосфен исполнял обязанности хорега). Народ в театре осудил Мидия. Демосфен возбудил против Мидия процесс, но не довел его до конца.
(обратно)378
57. …и тем людям, которые явили ему милость и кротость… — Эсхин имеет в виду неожиданную снисходительность к Афинам Филиппа после Херонейской битвы и Александра после антимакедонских выступлений в 336 г.
(обратно)379
…к тому мирному договору, который предложили ты и Филократ. — Имеется в виду Филократов мир 346 г.
(обратно)380
58. …не помешали вам дождаться посольств… — Речь идет о посольствах, посланных в другие греческие города призывать к союзу против Филиппа.
(обратно)381
59. …от неожиданности такая речь покажется невероятной… — Дело в том, что за 13 лет до этого в заключении позорного Филократова мира обвинялся сам Эсхин.
(обратно)382
62. …архонтом стал Фемистокл. — В 347 г.
(обратно)383
…ни действительным, ни запасным его членом… — Дополнительные члены Совета пятисот избирались по жребию на случай замены умерших или избранных, но отведенных докимасией (см. коммент. к 15).
(обратно)384
64. …которых потом так оклеветал… Демосфен… — В процессе «О преступном посольстве».
(обратно)385
66. Тот, кто покупал у них все эти выгоды… — Эсхин не называет имени Филиппа, подчеркивая свою лояльность к Македонии.
(обратно)386
67. …на священный день… начала игр в честь Асклепия! — Первый день Великих Дионисий посвящался Асклепию. На время праздников государственные дела обычно прерывались.
(обратно)387
68. …обсудить… восемнадцатого и девятнадцатого числа элафеболиона… — Ср. Эсхин, «О посольстве» (60-61).
(обратно)388
70. …записать себя на том же камне… Тексты договоров высекались на каменных стелах.
(обратно)389
72. Антипатр — глава македонского посольства.
(обратно)390
76. …и подушки им подкладывал… Ср. Эсхин, «О посольстве» (110 сл.).
(обратно)391
77. Харидем — наемный полководец, служивший Афинам на севере и следивший за событиями в Македонии.
(обратно)392
78. …меняет лишь место, а не душу! — Поговорка (в подлиннике — игра слов).
(обратно)393
80. …начали… свозить добро из деревень… — Ср. Эсхин, «О посольстве» (139 и коммент.).
(обратно)394
…а послы ваши… оказались под тягчайшими обвинениями… — Прежде всего имеется в виду сам Эсхин («О посольстве»).
(обратно)395
82. Дориск, Эргиска, Миртиска… — Речь идет о фракийских укреплениях, названия которых Эсхин намеренно коверкает.
(обратно)396
83. …давал нам Галоннес… — Антимакедонская партия требовала, чтобы Филипп, возвращая это владение Афинам, признал, что владел им не по праву.
(обратно)397
85. Халкидянин Мнесарх возглавлял антиафинскую группировку в Халкиде, но затем перешел на сторону Афин; эретрийский тиран Фемисон в 366 г. в качестве третейского судьи присудил пограничный Ороп фиванцам.
(обратно)398
…когда фиванцы… пытались поработить евбейские города… — В 357 г., когда те пробовали отложиться от Афин. Афинская экспедиция поставила у власти эретрийца Плутарха.
(обратно)399
86. …когда вы потом явились в Евбею на помощь Плутарху… — В 350 или 348 г.; Эсхин сам участвовал в этой экспедиции.
(обратно)400
90. …переменчивей, чем Еврип… — Поговорка. Еврип — пролив, отделяющий Евбею от материка, славился часто меняющимся течением.
(обратно)401
91. …чтобы не заседали в Афинах представители от его Халкиды… не платили союзных взносов. — Каллий хотел заключения равноправного союза, а не возвращения Халкиды в Афинский морской союз; в последнем случае Халкида была бы обязана платить взносы и участвовать в синедрионе союзников.
(обратно)402
98. Шестнадцатого числа анфестериона — в марте 340 г.
(обратно)403
104. …по драхме с мины каждый месяц… — То есть 12 процентов годовых, обычная норма.
(обратно)404
107. Кирра — древняя гавань Дельф.
(обратно)405
113. …стоят там начертаны… — Тексты храмовых документов также высекались на каменных стелах.
(обратно)406
114. Избранный вами в заседатели совета амфиктионов… — Демосфен был избран пилагором в 343 г.
(обратно)407
115. В архонтство Феофраста… То есть в 340 г. …вы избрали священнопредстоятелем… — Гиеромнемон, официальный представитель государства в совете амфиктионов, избирался ежегодно по жребию; три заседателя (пилагора) избирались голосованием; они допускались к участию в заседаниях совета, но право голоса имел лишь гиеромнемоц.
(обратно)408
116. …пожертвовали в новый храм еще до его освящения… — Дельфийский храм пострадал от пожара в 373 г., и восстановление его, прерванное Священной войной, к 340 г. было почти закончено.
(обратно)409
«Афиняне из добычи от мидян и фиванцев… — Имеется в ввиду добыча Афин после битвы при Платеях в 479 г., когда Фивы были в союзе с персами.
(обратно)410
118. Хохлатый (Пробил) — прозвище Гегесиппа, соратника Демосфена по антимакедонской партии. Он был прозван так за свою архаическую прическу.
(обратно)411
120. Корзины с освященною мукою… — Жертвенных животных, согласно обычаю, посыпали особой мукой, смешанной с солью.
(обратно)412
122. …а какой город не явится… — Разумеется, речь идет о городах, представители которых были в то время в Дельфах.
(обратно)413
124. Коттиф — представитель Фарсала в Фессалии; фессалийцы, по традиции, председательствовали в совете амфиктионов.
(обратно)414
…перед следующим собранием… — Совет амфиктионов собирался дважды в год, весной и осенью, в Фермопилах, а оттуда направлялся в Дельфы.
(обратно)415
128. …города, которого не назову… — Имеются в виду Фивы, стертые с лица земли Александром в 335 г.; по древнейшим магическим представлениям, упоминание о несчастье может его навлечь.
(обратно)416
130. …знаменья при таинствах, когда погибали посвященные? — Согласно древним комментаторам, во время Элевсинских мистерий, акула схватила одного из участников священного омовения в море.
(обратно)417
Аминиад — афинский прорицатель.
(обратно)418
131. …разве не послал он воинов на верную смерть? — Имеется в виду битва при Херонее.
(обратно)419
132. …прокопавший Афон, замостивший Геллеспонт… — Перечисленные подвиги совершил Ксеркс в 480 г. Александр воевал, с его шестым преемником Дарием III; к моменту произнесения речи его уже не было в живых, но в Афинах об этом еще не знали. …те самые, [македоняне], которые освободили Дельфийский храм! — Речь идет о вмешательстве Филиппа в Священную войну.
(обратно)420
133. А несчастные лакедемоняне… — Незадолго до произнесения речи было подавлено антимакедонское восстание в Греции, которое возглавляла Спарта.
(обратно)421
135. «Часто немалый град… — цитата из Гесиода, «Труды и дни» (240 сл.).
(обратно)422
137. Фринонд, Еврибат — ставшие нарицательными имена предателей. Первый — эфесянин, второй — афинянин.
(обратно)423
140. Никея — важный стратегический пункт у Фермопил. …эту самую войну, им же когда-то отстраненную от беотийской земли… — В Священной войне 357-346 гг. действия Филиппа были на руку Фивам, а в войне 339-338 гг. (когда Фивы выступали в союзе с Афинами) — во вред Фивам. Война началась взятием Элатеи, пограничной крепости между Фокидой и Беотией.
(обратно)424
141. …настоящую вражду он питал не к вам, а к фиванцам… — Филипп жестоко расправился с Фивами после Херонейской битвы, но пощадил Афины.
(обратно)425
142. …выдал Фивам всю Беотию… — Традиционная афинская политика в Беотии заключалась в поддержке мелких городов против Фив.
(обратно)426
143. …ваш же полководец Стратокл… — В Херонейской битве Филипп вначале уклонялся от столкновения с афинянами, но Стратокл вынудил его к бою, в котором Филипп и одержал победу.
(обратно)427
145. Беотархи — ежегодно избираемые политические и военные вожди Беотийского союза, которым руководили Фивы. …перенес и совет ваш… в Фивы, на Кадмею… — Ср. Эсхин, «О посольстве» (105).
(обратно)428
146. …он обкрадывал вас… — Так как Демосфен не набрал намеченного числа наемников, он обвиняется здесь в присвоений части отпущенных средств.
(обратно)429
147. …сразиться отдельно в Амфиссе… — Филипп сразу разгромил наемников, отправленных на помощь Амфиссе, а затем победил при Херонее соединенные силы Афин и Фив.
(обратно)430
150. …как тот Клеофонт… — См. Эсхин, «О посольстве» (76 и коммент.).
(обратно)431
152. …прославлять хвалою их мужество! — Речь идет о надгробной речи над павшими при Херонее, порученной Демосфену.
(обратно)432
156. …золотом персидского царя! — Как Эсхин обвинялся в том, что он подкуплен Филиппом, так Демосфена обвиняли, что он брал деньги от персов.
(обратно)433
159. …Демосфен покинул свое место… — После Херонейской битвы в Афинах был принят закон, запрещавший покидать город. Отъезд Демосфена, вызванный государственными делами, не был нарушением этого закона.
(обратно)434
…вы же отказывались даже имя его упоминать… — После поражения при Херонее Демосфен вносил законопредложения через подставных лиц, боясь принести Афинам несчастье.
(обратно)435
160. Но Филипп скончался… — В 336 г. Филипп был убит Павсанием. Добрая весть — здесь: известие об этом убийстве. Маргит — герой пародийного эпоса, карикатурный Ахилл: Демосфен издевался над желанием Александра подражать Ахиллу.
(обратно)436
…рассматривать животные потроха… — Имеется в виду гадание по внутренностям жертвенных животных.
(обратно)437
161. …когда… фессарийцы постановили выступить против вас… — После смерти Филиппа в Греции повсеместно начались антимакедонские выступления, быстро подавленные Александром; фессалийцы в качестве его союзников участвовали в этих операциях.
(обратно)438
И вы его не выдали… После разрушения Фив в 335 г. Александр требовал выдачи деятелей афинской антимакедонской партии, в том числе и, Демосфена. Всеэллинский совет в Коринфе под гегемонией македонского царя был организован Филиппом в 337 г.
(обратно)439
162. «Парал» — государственная триера Афин.
(обратно)440
163-164. …когда Александр… двинулся в Азию… — Весной 334 г…когда Дарий… вышел к морю… — Осенью 333 г. перед битвой при Иссе. …мне уже вызолотили рога… — Как животному, приготовленному для жертвоприношения.
(обратно)441
165. …лакедемоняне… разгромили войско Коррага… — Корраг — македонский полководец. Речь идет о восстании 330 г. (см. коммент. к 133), подавленном македонским наместником Антипатром.
(обратно)442
166. …его словечки… — В дошедших до нас речах Демосфена этих выражений нет.
(обратно)443
171. Нимфей на Понте — небольшой порт на восточном побережье Крыма.
(обратно)444
172. …не считаясь с афинскими законами… — Закон 451 г. исключал из числа граждан тех, чьи матери не были афинскими гражданками.
(обратно)445
173. Он был снарядителем кораблей… — То есть он был настолько богат, что мог исполнять триерархию. Наемный сочинитель речей (логограф) — человек небогатый.
(обратно)446
…он выдавал противникам доводы защиты… — См. Эсхин, «О посольстве» (165).
(обратно)447
176. …от площади, окропляемой жертвенной кровью… — Ср. Эсхин, «О посольстве» (158 и коммент.).
(обратно)448
183. …победу над мидянами на реке Стримоне… В 476 г. во время фракийского похода Кимона.
(обратно)449
Стихи даются в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.
(обратно)450
185. Менесфей — предводитель афинских войск под Троей.
(обратно)451
186. Пестрый портик на афинской площади был украшен картинами на сюжеты известных афинских побед (битва с амазонками, взятие Трои, Марафонская битва).
(обратно)452
189. Борец Филаммон — победитель на Олимпийских играх 360 г.
(обратно)453
Патэкион — нарицательное имя дурного человека.
(обратно)454
191. …кое-кто отменил… дела о противозаконии. — Отмена процессов о противозаконии была одной из первых мер олигархического правительства «Четырехсот» в 411 г.
(обратно)455
194. Аристофонт Азанийский, Кефал. — См. Демосфен, «О венке» (219, 251).
(обратно)456
196. …пританейские застольники… То есть те, кто удостоен угощения в Пританее.
(обратно)457
201. …Ктесифонт, перескажет вам сочиненное для него вступление… — То есть речь Ктесифонта, якобы сочиненная Демосфеном, будет лишь вступлением к защитительной речи самого Демосфена, который номинально был лишь помощником («совыступающим») Ктесифонта.
(обратно)458
202. …чтобы он вел защиту в том же порядке, как я обвинение. — Демосфен не выполняет этого требования.
(обратно)459
208. Они произнесли прекраснейшее слово… — См. Эсхин, «О посольстве» (176).
(обратно)460
219. …ни о чем тебе ночью не говорили Афина и Гера… Ср. выше, 77.
(обратно)461
222. …когда мы при Наксосе разбили Поллида… — В 376 г. под началом стратега Хабрия.
(обратно)462
223. …приказал схватить Анаксина Орейского… — См. Демосфен, «О венке» (137). Гостеубийство было кощунством, так как гость находился под защитой Зевса Гостеприимца.
(обратно)463
228. Он… скажет, что я похож на тех Сирен. — В известных нам речах Демосфена таких слов нет.
(обратно)464
230. …этот день… был назначен для принятия венков от чужих городов… — Греческие города награждали друг друга венками в благодарность за услуги. В Афинах для принятия этих наград был отведен день во время Великих Дионисий.
(обратно)465
240. …из-за нехватки пяти талантов не смогли фиванцы отобрать свою крепость… — Во время антимакедонского восстания Фив в 336 г. их крепость Кадмею занимали македонские наемники, которые за деньги могли бы уйти. Потом Демосфен отказался дать деньги фиванцам, которые вели переговоры с аркадянами, и аркадяне покинули союз.
(обратно)466
242. …послом к Клеопатре… — Дочь Филиппа была замужем за Александром, царем Эпира, убитым и 330 г. во время похода в Италию.
(обратно)467
243. Хабрий, Ификрат, Тимофей — знаменитые афинские полководцы IV в.
(обратно)468
244. …камни, дерево, железо… — По древним магическим представлениям, предметы, запятнанные человеческой кровью, ритуально нечисты.
(обратно)469
246. Мусическое образование — в широком смысле — духовное воспитание (в противоположность физическому — «палестры»).
(обратно)470
247. …оправдаться потом перед теми, кого здесь нет… — То есть перед молодежью, еще недопускаемой к Народным собраниям.
(обратно)471
252. …простой человек… струсивший и уехавший на Родос… — Леократ, против которого сохранилась обвинительная речь оратора Ликурга. См. коммент. к 159.
(обратно)472
255. …упражнялся в кознях против тех, кто побогаче. Имеются в виду юношеские процессы Демосфена против опекунов.
(обратно)473
258. …сам народ выдал замуж его дочерей… — Так как Аристид умер, не оставив наследства, народ обеспечил приданым его дочерей. Артмий Зелейский — посланник царя Ксеркса в Греции.
И. Ковалева
(обратно)474
Вопреки требованию Эсхина отвечать последовательно по всем трем пунктам обвинения, Демосфен оборачивает выгодной для себя стороной последний пункт и превращает речь в апологию своей государственной деятельности, отведя ответам на два первых пункта обвинения лишь незначительное место в середине речи. План речи таков: вступление (1-17); разбор 1-го периода жизни Демосфена (18-52, переходная часть: 53-59); разбор 2-го периода (60-109); оправдание в нарушении законов о награждении подотчетного лица (110-119) и об оглашении в театре (120-125); нападки на Эсхина (126-159); разбор 3-го периода (160-251); нападки на Эсхина (252-275), утверждение собственных заслуг (276-296); заключение: краткое повторение сказанного (297-319), разбор 4-го периода (320-323), обращение к судьям (324).
Приводимые документы являются позднейшими вставками, чем объясняется множество имеющихся в них ошибок, а также нередкие расхождения с содержанием тех положений, для подкрепления которых и привлечены документы.
(обратно)475
3. …не равный будет урон… — Эсхин, по мысли Демосфена, не потеряет ничего, кроме денег, ибо репутация его и так невысока.
(обратно)476
…с неуместных слов… — Демосфен избегает употреблять слова, обозначающие неудачу, поражение.
(обратно)477
9. …о самом законопредложении. — То есть о постановлении, принятом по предложению Ктесифонта.
(обратно)478
15. …по прошествии столь долгого времени… — Демосфен имеет в виду время от Филократова мира 346 г.
(обратно)479
18. Фокидская война — Священная война 355-346 гг. О битве при Левктрах см. «О посольстве», коммент. к 75.
(обратно)480
19. …фиванцы… ныне несчастные… — В 335 г. Александр разгромил Фивы.
(обратно)481
20. Великая война — война против Филиппа во Фракии (357-346).
(обратно)482
24. Еврибат. — См. Эсхин (коммент. к 137).
(обратно)483
…не запасся там великой казною… — Речь идет о деньгах, добытых из фракийских золотых рудников.
(обратно)484
…приказать театральному откупщику… — Арендатор театра обычно использовал полученную от зрителей плату (два обола) на поддержание в должном порядке театральных построек.
(обратно)485
30. …три месяца… — В действительности прошло два месяца и десять дней. Демосфен, чтобы усилить впечатление, включает в этот срок и поездку, продолжавшуюся двадцать три дня.
(обратно)486
32. …как уже делали прежде… — При попытке македонского наступления в 352 г.
(обратно)487
31-33. Об обстоятельствах захвата Фокиды см. Демосфен, «О посольстве» (52-66).
(обратно)488
36. …вывозить свое имущество из деревень. См. Демосфен, «О посольстве» (86).
(обратно)489
37. Мемактерион — ноябрь-декабрь.
(обратно)490
38. …начальником пеших латников …хранителем казны… — Между членами коллегии десяти стратегов функции обычно разделялись — один отвечал за латников (гоплитов), другой — за верфи, третий — за флот, четвертый — за хозяйственные дела и т. д.
(обратно)491
41. …в Беотии имение… Видимо, из земель, конфискованных у врагов Филиппа.
(обратно)492
44. Иллирийцы и трибаллы — балканские племена. Кроме того, Филипп завоевал греческий город Амбракию и некоторые города на Евбее.
(обратно)493
48. Ласфен упоминается в речи Демосфена «О посольстве» (265, 342); Тимолай и Перилл — см. ниже 295. Евдик и Сим Ларисейский — правители Фессалии, поставленные Филиппом.
(обратно)494
51. …попрекавшего меня гостеприимством Александра. Ср. Эсхин (66).
(обратно)495
63. Долопы — племя, жившее в южном Эпире.
(обратно)496
69-70. Амфиполь, Пидна и Потидея были захвачены Филиппом до заключения мира, остров Галоннес и фракийские местечки Серрий и Дориск — во время переговоров, а остров Пепареф — после заключения мира, в 341-340 гг.
(обратно)497
72. …мисийскою добычей… — Поговорка, напоминающая, как в Троянскую войну Мисия в Малой Азии стала жертвой ахейских набегов.
(обратно)498
77. Селимбрияне — жители фракийского города Селимбрии.
(обратно)499
79. Посольство в Пелопоннес, как и посольство на Евбею в 344 и 343 гг. должны были убедить местных жителей в захватнических намерениях Филиппа. Евбейские города Орей и Эретрия были освобождены афинянами в 341 г. от промакедонски настроенных тиранов и стали союзниками Афин.
(обратно)500
82. …лишат… гражданской чести». — Если обвинитель собирал менее пятой части голосов, то его наказывали лишением гражданских прав.
(обратно)501
84. Особое постановление. Относится к 339 г.
(обратно)502
87. …привозного хлеба… — Афиняне ввозили хлеб из Северного Причерноморья, чем объясняется их внимание к проливам Боспор и Геллеспонт.
(обратно)503
90. При святом местоблюстительстве… — Имеется в виду гиеромнемон — высшее должностное лицо Византия. Это постановление в подлиннике сочинено на дорийском диалекте, на котором говорили в Византии.
(обратно)504
91. Святые ладьи — священные посольства для участия в празднествах.
(обратно)505
92. …в шестьдесят талантов… Очевидно, подразумевается талант меньшего, чем обычный (ок. 27 кг), веса.
(обратно)506
96-97. Речь идет о событиях Коринфской войны 395-387 гг.; изложение их не вполне точно. В Декелейскую войну 413-404 гг. коринфяне и фиванцы были особенно враждебны к афинянам.
(обратно)507
99. …из-за Оропа… — См. Эсхин (коммент. к 85). Добровольцы. — Имеются в виду усилия добровольных триерархов, которые позволили собрать флот в кратчайшие сроки.
(обратно)508
103. …и камешков-то не собрал сколько нужно. См. Эсхин (коммент. к 23). …старшины податных отделений… — В податные отделения (симмории) объединялись зажиточные граждане с целью совместного выполнения общественных повинностей, требовавших больших затрат. Демосфен перестроил их организацию, по принципу прогрессивного налога и этим навлек на себя вражду богачей.
(обратно)509
107. …в Мунихии… — То есть у алтаря Артемиды, стоявшего в этой афинской гавани.
(обратно)510
112. …кто-нибудь из девяти архонтов! — Архонты вообще не давали отчета, однако проходили проверку до вступления в должность.
(обратно)511
115. В этом и следующем постановлении идет речь о событиях Союзнической войны 357-355 гг., когда хиосцы, родосцы и византийцы высадились в афинских владениях на Лемносе и Имбре, а мегарцы вторглись на Саламин.
(обратно)512
117. …когда я сдавал дела проверщикам? — Ср. Эсхин (31). Проверщики (логисты) — члены комиссии по принятию отчетов у должностных лиц.
(обратно)513
121. Чемерицей лечили душевнобольных.
(обратно)514
122. …словно бродячий лицедей… — Буквально: «как с повозки», намек на обрядовую брань.
(обратно)515
125. …сроки истекли… — Выдвигать обвинение в противозаконии можно было в течение года, а требовать отчета от должностного лица — в течение тридцати дней.
(обратно)516
127. Эак, Радаманф, Минос — судьи в Царстве мертвых.
(обратно)517
129. …близ Каламитова капища… — В оригинале «около Каламита-героя»; герой под этим именем ближе неизвестен.
(обратно)518
Корабельный флейтист задавал ритм работы гребцам.
(обратно)519
130. …из Тромета Атрометом… — Имя Тромет означает «дрожащий», «боязливый», а Атромет — «бесстрашный». Эмпуса — адское чудовище, умевшее принимать различные облики.
(обратно)520
132. …отлучили от гражданства? — Списки граждан время от времени проверялись с целью исключения попавших туда незаконно. В результате такой процедуры (в 346-345 гг.) и был исключен Антифонт. После этого наказание ему было назначено уже не как гражданину («приговорили его к пытке, и смертной казни»).
(обратно)521
134. Тяжба о Делосском святилище — спор афинян с делосцами из-за управления храмом.
(обратно)522
Камешки…со святого алтаря… — самая торжественная форма голосования.
(обратно)523
136. Когда Филипп прислал сюда… — В 343 г., с целью пересмотреть некоторые условия Филократова мира.
(обратно)524
139. …этот жалкий виршеплет? — Буквально: «пожиратель ямбов».
(обратно)525
141. …Аполлона Пифийского, исстари родного нашему городу… — Аполлон почитался в Афинах как «Отчий», потому что был отцом Иона, прародителя ионян, в том числе афинян.
(обратно)526
142. …лживыми своими донесениями… — Ср. Демосфен, «О посольстве» (29 сл.).
(обратно)527
149. Собор амфиктионов. — Ср. Эсхин (115-124). Это собрание состоялось весной 339 г. Эсхин выдвинул обвинение против жителей Амфиссы, и им была объявлена война.
(обратно)528
162. …пресмыкался перед ними… — Эсхин был помощником Аристофонта и секретарем Евбула.
(обратно)529
168. …ободренный упомянутыми постановлениями… — Ободрить Филиппа могли свидетельства продолжающейся вражды Афин и Фив.
(обратно)530
177. …гражданам призывного возраста… — То есть от восемнадцати до шестидесяти лет.
(обратно)531
180. Баттал (заика) — прозвище Демосфена.
(обратно)532
Кресфонт, Креонт, Эномай — действующие лица трагедий Еврипида и Софокла. Эсхину как тритагонисту поручались роли царей и тиранов — величественные и маловажные. …на коллитских подмостках? — при представлении трагедии «Эномай» в деме Коллит.
(обратно)533
195. Нынешнее сражение… — Подразумевается битва при Херонее (338 г.).
(обратно)534
197. Острова Наксос и Фасос после Херонеи пытались отложиться от Афин.
(обратно)535
202. …и фиванцы… — Перечисляются фиванская гегемония 371-362 гг., спартанская гегемония 404-371 гг., нашествие персов в 480 г.
(обратно)536
210. …посох и расчетная бирка… — Судьи получали трости разных цветов соответственно разным комиссиям, в которые они расходились каждый день по жребию, а также жетоны («бирки»), по которым потом получали судейское жалованье.
(обратно)537
212. …будто не я тому причиною, но… случай… Ср. Эсхин (137-141; 237-239 и др.).
(обратно)538
223. Аристоник. — Ср. 83.
(обратно)539
231. Пересчет камешков. — Речь идет о системе счета на счетной доске (абаке).
(обратно)540
234. В 361 г. из союза с Афинами вышла Керкира, а в 357 г. Хиос, Родос и Византий. …лишь сорок пять талантов… — Вместо обычных в ту пору 60 талантов.
(обратно)541
238. …в былое время… — Имеется в виду битва при Саламине в 480 г.
(обратно)542
242. …деревенский Эномай. См. коммент. к 180.
(обратно)543
244. Подробности перечисляемых посольств неизвестны. Посещение Амбракии относится, очевидно, к 343 и 342 гг.
(обратно)544
248. …после битвы… — После битвы при Херонее, в 338 г.
(обратно)545
249. Филократ. — Не путать с инициатором Филократова мира 346 г.; о Дионде см. 222. Остальные лица неизвестны.
(обратно)546
251. Кефал. — Ср. Эсхин (194).
(обратно)547
259-260. Мать Эсхина была, очевидно, жрицей одного из мистических культов, пришедших в Грецию с Востока. Демосфен создает пародийную картину, в которой намеренно смешаны приметы разных празднеств — в честь Сабасия (восклицание «сабе!» — здесь искаженное «сабоэ»), Диониса («эвоэ!»), Великой матери Кибелы («аттис!»).
(обратно)548
266. …если… не соберешь ты пятой части камешков. — Проверка моральных и гражданских качеств человека проводилась при включении его в состав граждан и при выборе на государственную должность.
(обратно)549
267. Первая цитата — начальный стих трагедии Еврипида «Гекуба», остальные — неизвестны.
(обратно)550
268. …кого я выкупал из… плена… — Ср. Демосфен, «О посольстве» (166-170).
(обратно)551
282. …отправился послом к Филиппу… Результатом этого посольства после Херонейской битвы было заключение мира (так называемый Демадов мир — см. коммент. ниже).
(обратно)552
285. Демад, Гегемон, Пифокл — сторонники промакедонской политики.
(обратно)553
289. Приведенные стихи — вставка, сочиненная в более позднее время.
(обратно)554
300. …поставил стены вокруг города и Пирея. Работы по возведению стен в Пирее велись под руководством Демосфена.
(обратно)555
312. …когда все… давали деньги на спасение города… — Деньги вносились, очевидно, и после Херонейской битвы в 338 г., и после разгрома Фив Александром в 335 г.
(обратно)556
313. Феокрин. Имеется в виду сутяга из бывших актеров.
(обратно)557
318. Или твой братец? — О братьях Эсхина см. «О посольстве» (237 и коммент.).
(обратно)558
319. Филаммон — олимпийский, победитель 360 г. Главк — жил лет на сто раньше.
(обратно)559
320. …стали богаты табунами… — Разведение лошадей — одно из излюбленных тогда занятий состоятельных людей.
(обратно)560
323. …хорошие… новости… — Подразумеваются победы Александра над персами.
О. Левинская
(обратно)561
Речь была произнесена в Олимпии в 97 году перед огромной аудиторией собравшихся на Олимпийские игры. После введения (1-26) Дион ставит вопрос: рассказать ли о Дакии, откуда он только что вернулся, или к случаю больше подходит тема, связанная с грандиозной Фидиевой статуей Зевса, в виду которой собрались слушатели? Дион избирает второй путь, начав с рассуждения об источниках богопознания, к которым, отправляясь от «общих мест» современного ему стоицизма, причисляет: 1) врожденное и подтверждаемое самим прекрасным и разумным миропорядком представление о божестве (27-34); 2) представление благоприобретенное а) добровольно (через внушения поэтов) и б) принудительно (через предписания законодателей) (39-40). В качестве еще одного источника богопознания Дион рассматривает изобразительное искусство. Вся последующая часть (44 и сл.) представляет собой воображаемую речь Фидия, выступающего с защитой распространяемых художниками представлений о богах. Речь Фидия — это не только бесценный материал по позднеантичной эстетике (ни у одного античного автора до Диона мы не находим столь детального рассмотрения вопросов теории пластического искусства): многие мысли оказались плодотворными и для нового времени. Проблема различия в поэзии и пластике средств, возможностей и самого характера творческого процесса стала главной в «Лаокооне» Лессинга, а мысль о символичности изобразительного искусства предвосхитила многие идеи современной эстетики.
(обратно)562
1-4. Сове уподобляется философ, под павлином подразумевается софист, под соловьем и лебедем — поэт.
(обратно)563
…сова любезна Афине… — Сова — священная птица богини Афины, ее атрибут, указывающий на древнее зооморфическое прошлое богини (ср. эпитет Афины — «совоокая»). …удостоилась резца Фидия… — Видимо, сова была изображена на пьедестале статуи Афины Защитницы (Промахос), стоявшей на Акрополе; поскольку статуя не сохранилась, упоминание Диона ценно для истории искусства. …Перикла и себя самого… изобразил на щите лишь тайком. — Считается, что Фидий оставил портреты — свой и Перикла — в виде участников битвы греков с амазонками, изображенной на щите другой статуи — Афины Девственницы (Парфенос) из Парфенона. Тайком это было сделано потому, что изображение людей вместе с богами считалось кощунством.
(обратно)564
Птичий клей. — Его делали из омелы, растущей на ветвях дуба, и использовали для ловли птиц.
(обратно)565
9. …привлеченные моим видом… Во времена Диона необходимой принадлежностью философа считались длинные волосы и борода; сума, посох и короткий плащ на голое тело дополняли облик странствующего философа кинико-стоической ориентации.
(обратно)566
10. …в Вавилоне… Нина и Семирамиды… — По преданию, вавилонский царь Нин и его жена Семирамида основали Ниневию, а не Вавилон. Бактра, Сузы, Палиботра. — Для слушателей Диона названия эти символизировали далекие, полные богатств и чудес края. В индийском городе Палиботре жил известный этнограф IV в. до н. э. Мегасфен, автор сочинения об Индии.
(обратно)567
11. …богатство непременно следует за добродетелью. — Одной из основ стоической этики было представление о взаимозависимости добродетелей. В «смягченных» вариантах стоицизма к «добродетелям» причислялись и внешние блага — здоровье, богатство. Сопоставляя эти теории, Дион обнажает вульгарное представление о добродетели как о выгодном приобретении, дающем доход. Игра с расхожими мнениями осложнена и реминисценцией из Гесиода, согласно которому за богатством, нажитым трудом, следуют почет и добродетель.
(обратно)568
12. …перед этим богом… — Дион указывает на статую Зевса.
(обратно)569
…после перенесенных несчастий… — Дион был выслан из Италии новым императором Нервой. Ссылка способствовала перемене образа мыслей: отвращению от софистики и обращению к философии — мудрости заброшенной и зачерствелой. При этом притворно выражается тоска по учителям, полным жизни, то есть софистам.
(обратно)570
10-12. Софист Дион, нося и, так сказать, «исповедуя» маску ученика Сократа, считает своим долгом вслед за Учителем иронизировать над софистами.
(обратно)571
13. …ибо я сам ничего не знаю… — Ср. высказывание Сократа в «Апологии Сократа» Платона: «Из вас, люди, мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего поистине не стоит его мудрость». Так Дион указывает на свое духовное родословие, восходящее к Сократу.
(обратно)572
14. Гиппий — софист, современник Сократа. Пол — ученик софиста Горгия (см. с. 8).
(обратно)573
16. …как их называет Гомер… Одиссея» (II, 141).
(обратно)574
17. «…без щита, без шелома…» — «Илиада» (XXI, 50).
(обратно)575
19. …словно скакуны перед канатом… — Подразумевается стартовый барьер в конских ристаниях.
(обратно)576
20. …являющийся в лагерь… вызволять свою дочь… Намек на жреца Хриса из «Илиады» (I, 13-15). Ср. также «Троянскую речь» (коммент. к 37). Златой жезл — атрибут жреца; под священным венком божества подразумевается гирлянда или венок из лавра, которыми украшали статую Аполлона: Хрис как жрец этого бога взял их в знак мольбы. …одних… и других… То есть римлян и даков.
(обратно)577
16-20. Дион вспоминает о своем путешествии в Дакию, к завоеванию которой готовилась в то время Римская империя (Вторая Дакская война). Истр — современный Дунай. Геты (лат. даки) греческое название племени фракийского происхождения. Мисийцы — в период империи жители Мезии (в Северной Фракии), ставшей с 29 г. римской провинцией; Гомер называет мисийцами совсем другое племя — в Малой Азии.
(обратно)578
21. Великая река — Истр (Дунай).
(обратно)579
23. …перечисление вождей… — Речь идет о «Каталоге кораблей» в «Илиаде» (песнь II).
(обратно)580
24. «Вас, пиерийские Музы…» — Гесиод, «Труды и дни» (1-8). Перевод В. Вересаева.
(обратно)581
25. …дети Элиды… — В Элиде (западная часть Пелопоннеса) находилась Олимпия.
(обратно)582
26. «Рек, и во знаменье черными…» — «Илиада» (IV, 528-530).
(обратно)583
…на беседе у философа? — Беседа (диатриба) — обычная для времени Диона форма учебных занятий философией.
(обратно)584
27. …о естестве предводителя Вселенной… — Ср. 34, 74 и 81 и коммент. к 42 и 81.
(обратно)585
Мистагог — букв. «вводящий в мистерии».
(обратно)586
28. …в самой его сердцевине… — Дион исходит из положения стоиков о тождестве Вселенной и Бога.
(обратно)587
30. Первая пища, вторая пища. Описание Земли как матери, породившей из себя и вскормившей своими соками первых людей, находим в поэме Лукреция «О природе вещей»; ср. также Овидий («Метаморфозы», I, III) о том, что в эпоху молодости Земли «реки текли молока и реки нектара». Там же говорится о плодах и растениях как «второй пище» людей. По-видимому, Дион не считал, что эти образы, восходящие к положениям враждебной ему эпикурейской философии, противоречат традиционно стоическим тезисам (27-29): он предпочел красоту образа чистоте философского учения.
(обратно)588
«…свежими соками нимф…» — Цитата из неизвестного лирического поэта.
(обратно)589
33. Дион сравнивает посвящение человека в таинства Вселенной с посвящением в Элевсинские мистерии и в культ Великой матери (Кибелы). Описание дает уникальные сведения об этих малоизвестных обрядах (о них знали только «посвященные», разглашение таинств строго каралось). Очевидно, Дион счел форму сравнения более безопасной. Возведенье на трон — обряд из посвящения в культ Кибелы. Хоровод — обрядовый тайный корибантов (жрецов Кибелы).
(обратно)590
34. …не в тесном здании… — Посвящение в Элевсинские таинства происходило в телестерионе — здании площадью ок. 50 кв. метров.
(обратно)591
…ни чувства, ни мысли… — Имеется в виду, что чувством человек постигает видимых богов, а мыслью — невидимого Верховного бога.
(обратно)592
Корифей хоровода. — Ср. 27 — «предводитель Вселенной»; образ из платоновского «Тимея». Ср. также 60.
(обратно)593
36. Есть же люди премудрее всей мудрости… Здесь и далее (36-37) Дион говорит о последователях Эпикура, отождествляя эпикурейство с гедонизмом.
(обратно)594
…как итакийские мореплаватели… — «Одиссея» (XII, 173).
(обратно)595
…облаком… таким, какое у Гомера… — Ср. «Троянскую речь» (21), «Илиада» (XIV, 342 сл.). …погромыхивая… кимвалами и играя на флейте… — Кимвалы и флейты — атрибуты экстатических культов восточного происхождения, которым Дион образно уподобляет эпикурейское поклонение Наслаждению («Усладе»).
(обратно)596
37. …которых сослали на необитаемые острова… — Ссылка неугодных на острова была весьма распространенным методом наказания в Римской империи.
(обратно)597
38. …«не для воды и судебной надобы»… — См. Демосфен, «О посольстве» (коммент. к 57).
(обратно)598
42. «Отчий Зевс» почитался как покровитель кровных и родственно-племенных связей. Характерное для стоиков отождествление этого бога с руководителем и устроителем Вселенной.
(обратно)599
44. …набросками, обманывающими зрение… — Речь идет о передаче объема и перспективы с помощью техники светотени.
(обратно)600
45. …и Фидий, и Алкамен… — Перечисляются художники и скульпторы V в. до н. э.
(обратно)601
Дедал — полумифический cкульптор и механик, строитель Кносского лабиринта на Крите.
(обратно)602
52. «Гореусладный, миротворящий…» — «Одиссея» (IV, 221),
(обратно)603
Даже сам Гефест… — Здесь Гефест выступает как покровитель пластического искусства.
(обратно)604
54. Ифит — легендарный царь Элиды, установивший традицию регулярного проведения Олимпийских игр. Упоминание рядом с ним Ликурга — знаменитого спартанского законодателя — уже в древности считалось анахронизмом.
(обратно)605
55. …уроженец речистого города… — Афиняне, в противоположность спартанцам, любили долгие дискуссии; ораторское искусство играло важную роль в их государственной жизни.
(обратно)606
59. Дион считает, что скульпторы, создавая антропоморфные изображения, вынужденно прибегают к условности, так как не в человеческих силах изобразить божественную сущность.
(обратно)607
60. …всякий разумный человек почитает их и верит… — Ср. 34 и коммент.
(обратно)608
62. …Фетида просит Зевса… — «Илиада» (I, 403-532).
(обратно)609
«Зевсу, метателю грома…» — «Илиада» (II, 478).
(обратно)610
64. Голос «вестника». — Вестник в античной трагедии детально описывал те события, которые не могли быть показаны в действии.
(обратно)611
«Гибок язык человека…» — «Илиада» (IV, 248-249).
(обратно)612
65. Дион передает представления стоиков о слове как едином комплексе: обозначающее («имя» в узком смысле), обозначаемое («представление») и объект обозначения.
(обратно)613
66. …смешал воедино все греческие наречия… — Ср. «Троянскую речь» (23 и коммент.).
(обратно)614
67. …и слова он располагал не обычным образом… — Здесь и далее Дион указывает на характерные черты гомеровской метрики.
(обратно)615
68. …показал себя… творцом слов… — Творцами слов, согласно учению стоиков, были древнейшие люди, превосходившие современных знанием и мудростью.
(обратно)616
…он первый нашел слова… — В качестве примеров Дион приводит звукоподражания, которые стоики относили к так называемым «первословам».
(обратно)617
71. …«глаза надежней, чем уши»… — Геродот (1, 8).
(обратно)618
75. Многочисленность эпитетов Зевса связана с многообразием его функций в мифологии. По мысли Диона, совокупность всех имен бога позволяет приблизиться к описанию его сущности.
(обратно)619
78. Образ «гневного» Зевса почерпнут из «Илиады».
(обратно)620
81. …то, что лежит в основе этих стихий. — Подразумевается материя как бескачественная сущность, выделив из которой четыре элемента (стихии) бог создал мир. Это положение, принятое стоиками, перекликается с описанием процесса создания мира Демиургом в платоновском «Тимее». Ср. также о выделении стихий из материи у Лукреция. …это доступно только одному божеству… — Подразумевается Верховный бог, устроитель и предводитель Вселенной, отождествляемый с Зевсом.
(обратно)621
85. См. «Одиссея» (XXIV, 249-250).
(обратно)622
«Троянская речь» была произнесена Дионом перед жителями Илиона (Трои) — маленького городка, возникшего в эллинистическую эпоху близ Геллеспонта, на том месте, где, по преданию, когда-то стояла гомеровская Троя. Это образец речи на парадоксальную тему (вроде популярных «похвал» мухе, дыму или лысине) — порицание Гомеру за «вымыслы» в его повествовании о Троянской войне. Такого рода порицания имеют давнюю традицию и первоначально были вполне серьезны (критику мифологии с точки зрения философии начал еще Ксенофан в VI веке, на критику изображения действительности у Гомера приходилось возражать еще Аристотелю в «Поэтике»), но ко времени Диона стали только игрою остроумия. Демонстрируя критику «Илиады» с позиций здравого смысла, Дион сам открыто пользуется теми же приемами, которые вменяет в вину Гомеру: меняет последовательность событий, контаминирует выхваченные из контекста детали, одни детали «описывает подробно, а другие напоказ не выставляет», вкладывает речь в чужие уста (рассказ жреца о Елене), подменяет миф собственными версиями. «Троянофильский» пафос речи связан с общим пиететом к Трое, распространившимся под влиянием Рима, основанного потомками Энея. (Характерно, что с троянской же точки зрения написана «подлинная история Троянской войны» от лица троянца Дареса, сохранившаяся в латинской переработке V в. и легшая в основу средневековых западноевропейских романов о Трое).
(обратно)623
5. …время во всем лучший судия… — Парафраза изречения, приписываемого Фалесу, одному из семи мудрецов древности.
(обратно)624
7. Фиест, Атрей, Пелопиды, ниже Эдип — представители проклятых богами родов, история которых послужила материалом для многих античных трагедий.
(обратно)625
9. …поразили стрелами Аполлон и Артемида. — Имеется в виду миф о жене Амфиона Ниобе и ее детях.
(обратно)626
11. …погубила свой собственный город… — Афина могла считаться покровительницей Трои, поскольку ее священное изображение (Палладий) служило залогом благополучия города.
(обратно)627
12. Пастух на Иде — Парис, в младенчестве брошенный на этой горе и воспитанный пастухами.
(обратно)628
«И богиня старейшая…» — «Илиада» (IV, 59).
(обратно)629
13. …Елены, бывшей ей сестрою… — Афродита и Елена обе были дочерьми Зевса.
(обратно)630
14. …ославлена несправедливой молвою… Ср. также речь Горгия «Похвала Елене» (см. с. 27).
(обратно)631
…прославлена… как божество. — Подразумевается древнейший культ Елены Древесной — божества растительности.
(обратно)632
…беспомощных юнцов… Дион имеет в виду учеников софистов.
(обратно)633
17. Автолик — сын Гермеса, которому отец позволил лживо клясться его именем.
(обратно)634
…говорил загадками и образами. — Подразумевается способ аллегорического толкования Гомера, особенно развитый стоиками.
(обратно)635
20. …добилась поражения троянцев… — Когда Зевс, утомленный любовью Геры на горе Иде, уснул, Посейдон направил свою силу против троянцев («Илиада», XIV-XV).
(обратно)636
…говорит, что у них не тот же язык… — Эти же примеры из «Илиады» приводит Платон в «Кратиле», но там Сократ оставляет за Гомером право рассуждать о правильности имен.
(обратно)637
…смешивать… эллинские наречия… — Язык гомеровского эпоса — «искусственный» поэтический диалект, включающий элементы различных «живых» греческих диалектов — эолийского и ионийского.
(обратно)638
…не с самого начала… — Повествование Гомера начинается с десятого года войны..
(обратно)639
30. …как предстоящее в скором времени… — Приам у Гомера говорит о том, что хочет умереть раньше, чем увидит разорение Трои («Илиада», XXIV).
(обратно)640
31. Ахиллес, Мемнон, Антилох, Аякс, Александр. — События, связанные со смертью этих героев, действительно не вошли ни в «Илиаду», ни в «Одиссею» — они описаны в поэме «Эфиопида», известной нам по пересказам позднейших авторов: царь эфиопов Мемнон, прибывший на помощь троянцам, убивает сына Нестора Антилоха и сам гибнет от руки Ахилла; Ахилла убивает стрелой Александр (т. е. Парис), Париса — Филоктет, а Аякс сам налагает на себя руки. Битву Амазонки (Пентесилеи) и Ахилла также описывала «Эфиопида».
(обратно)641
32. …о битве реки с Ахиллесом… — Перечисляются эпизоды «Битвы богов» («Илиада», XXI).
(обратно)642
34. …вкладывает это в уста Одиссея… — Имеется в виду рассказ Одиссея на пиру у царя феаков Алкиноя.
(обратно)643
35. «Гнев, богиня, воспой…» — начало «Илиады».
(обратно)644
37. …о Хрисе и его дочери. — Эпизод с Хрисом («Илиада», I) служит в поэме для объяснения причин гнева Ахилла.
(обратно)645
41. …Елена вообще никуда не уплывала… — По версии Стесихора, в Трою был увезен призрак Елены. …еще кое-кто утверждает… — У Геродота приводится версия о прибытии Елены в Египет вместе с Александром; у Еврипида («Елена») Елену переносят в Египет боги.
(обратно)646
43. По словам жреца… Далее излагается традиционная версия мифа о Елене.
(обратно)647
45. …на деревянном ларце… — Имеется в виду знаменитый «Ларец Кипсела», коринфского тирана, описанный у Павсания.
(обратно)648
46. …будучи чужаком и пришлым… — Агамемнон — внук Пелопса, пришедшего в Пелопоннес из Малой Азии.
(обратно)649
47. Амазонка с берегов Фермодонта — Антиопа, мать Ипполита. Амазонки жили якобы у сказочной реки Фермодонт близ Черного моря.
(обратно)650
48. …Ио… как просватанная невеста… — Эта версия предания упоминается уже Геродотом.
(обратно)651
50. Гора Сипил находится в Малой Азии.
(обратно)652
…Лаомедонт выдал свою дочь Гесиону за Теламона… — По мифу, Теламон участвовал в походе Геракла против Трои (ср. 56-57) и получил Гесиону, захваченную Гераклом в плен, как подарок.
(обратно)653
55. «Видом лишь храбрый…» — «Илиада» (III, 39 сл. и 54 сл.),
(обратно)654
57. «Он, приплывши сюда…» — «Илиада» (V, 640).
(обратно)655
71. …их уже не было в живых. — См. «Илиаду» (III).
(обратно)656
76. …стену он не называет завершенной… — Текст «Илиады» (XII, 17 сл.) не дает оснований для такой трактовки: стена была разрушена с помощью всех рек, текущих с Иды, и многодневных ливней.
(обратно)657
78. …Энея застал врасплох… Эней сам говорит об этом эпизоде в XX песни «Илиады» (90 сл.). …пахать землю… на Херсонесе… — Дион следует Фукидиду (I), который также объясняет многолетнее успешное сопротивление троянцев разрозненностью сил ахейцев и недостатком продовольствия, приведшим к необходимости заниматься обработкой земли на Херсонесе Фракийском и грабежами.
(обратно)658
80. Предсказание. — Здесь Дион интерпретирует события, описанные во II песни «Илиады». Разрушение Трои на десятый год войны предсказывает Калхас.
(обратно)659
81. …выводит Гектора… Елену… Александра… — Речь идет о содержании III песни «Илиады».
(обратно)660
82. …ременной подвязью шлема? — У Гомера подвязь Парисова шлема разрывает Афродита.
(обратно)661
83. Единоборство Аянта и Гектора — VII песнь «Илиады».
(обратно)662
84. …с поворотом черепка… — Поговорка, связанная с игрой «в черепки»: в зависимости от того, какой стороной падал черепок, одна партия играющих пускалась бежать, а другая — догонять.
(обратно)663
Деяния Гектора. — Здесь Дион передает некоторые детали XV песни.
(обратно)664
85. …не может пойти на попятный… — Дион меняет порядок описанных в «Илиаде» событий, ставя более ранние («уныние в лагере», «ночное собрание» — IX песнь) в зависимость от более поздних (подвиги Гектора — XV песнь).
(обратно)665
95. …Агенора он не поймал… — У Гомера Ахилл гонится за Аполлоном, принявшим обличье Агенора.
(обратно)666
100. …что Ахилл трусит… В VII песни «Илиады» Агамемнон говорит только, что Гектора боится даже Ахилл.
(обратно)667
101. …не хотел больше жить. Точнее, из двух возможностей — уйти из-под Трои и остаться в живых или вступить в бой, погибнуть, но прославиться в веках (предсказание Фетиды) — Ахилл избрал вторую.
(обратно)668
102. …Патрокл — это двойник… — Представление о Патрокле как о литературном двойнике Ахилла, введенном в поэму для затемнения истинно произошедших событий, угадывает действительно целый комплекс мифологических представлений о двойничестве, о герое «ложном» и «истинном», из которых «ложный» не должен превысить славу и силу истинного и т. п.
(обратно)669
93-102. Рассказ о гибели Ахилла от руки Гектора составлен Дионом из деталей двух описанных Гомером поединков Патрокла с Гектором (XVI песнь «Илиады») и Гектора с Ахиллом (XXI-XXII песни).
(обратно)670
103. …похоронен вместе с Ахиллом. — См. «Одиссея» (XIII, 249).
(обратно)671
109. …еще какие-то погребальные игры… Речь идет о погребении Патрокла («Илиада», XXIII).
(обратно)672
116. …Аянт был убит Гектором… — Возможно, версия Диона возникла из-за того, что Аянт убивает себя оружием Гектора.
(обратно)673
117. …Амазонка… сражена Неоптолемом… — По, обычной версии — Ахиллом.
(обратно)674
122. Он сказал, что троянцы нарушили клятву. — У Гомера говорится о нарушении клятвы, предшествовавшем всем описанным в «Илиаде» событиям (III-IV).
(обратно)675
124. …Гектор… был похоронен перед городом. — Гектор почитался в Илионе как герой вплоть до эпохи Юлиана, и жители города легко могли указать «могилу Гектора».
(обратно)676
125. Необманная пророчица — Кассандра, дочь Приама. Дион не досказывает одной детали: пророчествам Кассандры, несмотря на их правдивость, никто не верил.
(обратно)677
…безоружным предстать перед врагами… — «Илиада» (XVIII).
(обратно)678
126. …всех боле и важен и ровен? — Неизвестно, кто мог дать Аяксу такую характеристику.
(обратно)679
128. …Аянтова-то могила существовала… — Традиция указывает на Ретейский мыс как на место захоронения Аянта.
(обратно)680
129. …в «Снах», сочиненных Гором… — Этот снотолкователь неизвестен.
(обратно)681
132-133. Рассматривая предания о злоключениях героев, вернувшихся из-под Трои, в связи с преданием о захвате Пелопоннеса Гераклидами, Дион следует античной историографической традиции, считавшей эти предания отражением реальных исторических событий — переселения племен, последовавшего после Троянской войны и завершившегося завоеванием Пелопоннеса дорийцами — Гераклидами. Но истолкование им преданий совершенно нетрадиционно.
(обратно)682
135. …Менелай… остался в Египте. — По Гомеру, корабль Менелая, возвращавшегося с Еленой в Спарту, отнесло к Египту; по Стесихору и другим, Менелай приехал из-под Трои в Египет, чтобы забрать Елену; но нигде, конечно, не сказано, что Менелай поселился в Египте.
(обратно)683
136. …в Елисейские поля… — См. «Одиссея» (IV, 561).
(обратно)684
Один из сочинителей трагедий — Еврипид в «Оресте».
(обратно)685
137. Гелен — сын Приама. По общепринятой версии — пленник, а потом наследник Неоптолема.
(обратно)686
138. Антенор. — Версия о посещении Антенором фракийцев и захвате им генетов (в будущем Венеции) возникла уже в римскую эпоху.
(обратно)687
Величайший город на свете — Рим.
(обратно)688
140. …Эней не потерпит, чтобы его лишили власти… — О претензии Энея на царскую власть см. «Илиаду» (XIII, 46; XX, 179 и 307 сл.), но обещание Приама — деталь, внесенная Дионом.
(обратно)689
…обойден по сравнению с Деифобом… — За Деифоба после смерти Париса выдали Елену.
(обратно)690
…Диомед… явился к нему… — Версия о союзничестве Диомеда с Энеем была особенно популярна в римскую эпоху, (Ср. Вергилий, XI, 243 сл.)
(обратно)691
145. Битва при Саламине произошла в 480 г. до н. э., битва при Платеях — в 479 г.; кто это оспаривал, неизвестно.
(обратно)692
146. …а его, по Фукидиду… не существовало… — Напротив, Фукидид пишет о скиритах в первой книге «Истории» (XX, 1-3).
(обратно)693
147. …Уран… оскоплен Кроном, а Крон — Зевсом! — Об оскоплении Урана говорится в «Теогонии» Гесиода; версия об оскоплении Крона взята скорее всего из теогоний орфиков — последователей религиозно-мистического учения, возникшего в связи с почитанием Орфея.
(обратно)694
148. …вышло что-то вроде стычки. Речь идет о Марафонской битве 490 г. до н. э. Далее (149) описываются события 480 г. до н. э., с умолчанием о главном — о поражении персов при Саламине.
(обратно)695
150. …под иною державой. — То есть под властью Римской империй.
(обратно)696
151. «Что не убит я Гектором!..» — «Илиада» (XXI, 279).
(обратно)697
152. Лучший из эллинов — Ахилл. …кто слыл здравомыслящим… — Аякс.
(обратно)698
153. Здесь перечислены наиболее известные эпизоды, связанные с разрушением Трои и нашедшие отражение и в «Гекубе» Еврипида, и у Вергилия, и у Овидия.
(обратно)699
«Священные речи» написаны в 171 году. Содержание их — болезнь Аристида, начавшаяся в 144 году, когда бог врачевания Асклепий стал единственным покровителем его жизни. Обычно «священными речами» называли предания о божественных откровениях; так и эти речи должны были служить свидетельством благодеяний Асклепия Аристиду. Дошли полных пять и начало шестой священной речи (47-52 по общему счету). При написании речей Аристид следовал не хронологии и не какому бы то ни было плану, но свободному ходу мысли, поэтому Первая речь охватывает события более позднего времени, а непосредственно о начале болезни и первом явлении Асклепия речь заходит только в этой Второй речи (5-10).
Похвала Асклепию развивается далее на примере событий 149 года (11-23), тема вещих снов, посылаемых Асклепием, — на событиях 146 года (26-36); по ассоциации с этой темой Аристид обращается к событиям 165 года — «Чума в Смирне» (37-43). События 445-146 годов освещают тему «Омовения» (45-59 и 71-79); эта тема перебивается возвращением к событиям, непосредственно предшествовавшим началу болезни, — описанием поездки в Рим (60-70). В ходе повествования имеются также два мелких отступления (8 и 24-25). В последнем разделе (81) речь, видимо, идет о событиях 170 г.
(обратно)700
2. Адрастея — олицетворение Неизбежности.
(обратно)701
3. …начав описывать… — Речь идет о 1-й Священной речи.
(обратно)702
Когда уже мною было сделано записей… — Имеются в виду дневники с описаниями снов, которых в это время у Аристида не было под руками (см. также 8-9).
(обратно)703
4. …именно его нужно призывать в любом деле… — Ко II в. н. э. Асклепий, видимо, занял в верованиях людей то место, которое в классический период принадлежало Зевсу: бог здоровья стал богом благополучия вообще и, следовательно, покровителем всех событий жизни, включая защиту на суше и на море (ср. 2 и 14), и даже — для Аристида — еще и покровителем литературного творчества (см. коммент. к 30).
(обратно)704
7. Тогда-то и начал впервые Спаситель… — Речь идет о декабре 144 г. К этому моменту относится и предписание омовения (см. коммент, к 10; 50), Спаситель — употребительный эпитет Асклепия …из Смирны в Персам. — В Смирне храма Асклепия не было, в Пергаме же находилось одно из главных его святилищ.
(обратно)705
9. …в первую же ночь… — По ритуалу, пациенты Асклепия спали ночь в его храме, ожидая либо чудесного исцеления, либо вещего сна, в котором Асклепий передал бы свои предписания. Наставник — Эпагаф, воспитатель Аристида, всюду сопровождавший его. Сальвий — возможно, известный юрист Сальвий Юлиан, консул 148 г., или Публий Сальвий Юлиан, консул 175 г. Видимо, Сальвий был пациентом Асклепия в одно время с Аристидом.
(обратно)706
10. Телесфор (букв.: «приводящий в исполнение») — сын Асклепия, олицетворение благополучного завершения лечения. Культовое почитание Телесфора возникло довольно поздно, возможно, именно в Пергаме, где стоял посвященный ему храм. Омовение — часть культа Асклепия; это одновременно и религиозная церемония, и лечебная процедура, один из способов очищения (ср. 30-31). Очистительными считались все основные обряды культа Асклепия как жертвы и возлияния, так и лечебные процедуры.
(обратно)707
11-15. Из Пергама Аристиду следовало плыть сперва на юг до Смирны, а лотом на запад, мимо Клазомен; но от Клазомен «бог направил» их корабль не к Хиосу, а (через залив с островами) к Фокее, где находилось крупное святилище Асклепия и где жил друг Аристида Флавий Руф.
(обратно)708
16. Дистр (март) — второй месяц македонского календаря, которым пользовались в этих местах Малой Азии.
(обратно)709
18. …не только Асклепием, но и Аполлоном… — Слияние образов Аполлона и сына его Асклепия не случайно: их часто почитали вместе как врачевателей и прорицателей. Эпитет «Кларосский» образован от названия одного из главных прорицалищ Аполлона в Малой Азии, а эпитет «Прекраснодетный» указывает, на Аполлона как на отца Асклепия.
(обратно)710
Серапис. Путешествуя в 141 г. по Египту, Аристид стал почитателем Сераписа, отождествлявшегося греками с Зевсом, Плутоном и Асклепием. Поклонения восточным богам были модны в это время. …вытянул пальцы… — Речь идет о счете на пальцах, который производился путем последовательного их распрямления, начиная с большого. Пальцы одной руки обозначали единицы, другой — пятерки. Вытянутые два и три пальца могли составить и число тринадцать, и число семнадцать. Слова бога обещают покровительство, но Аристид не уверен — в течение тринадцати или семнадцати лет. Спустя семнадцать лет (в 165 г.) в Смирне разразилась чума (или оспа), и Аристид ею заразился (см. 37-43). …ты видишь не сон мимолетный… — «Одиссея» (XIX, 547). Мальчик в сновидении означает хороший знак (знак будущего).
(обратно)711
24. Владыка — обращение к Асклепию.
(обратно)712
Изречение оракула о данных мне годах. — Ср. 18.
(обратно)713
27. Эпиботрия (букв.: «обряд, совершаемый около ямы»). — Ямы в земле делались для жертвоприношений подземным богам; бросание монет после перехода через реку, возможно, имитировало уплату Харону и имело магический смысл. Назначение этих обрядов — умилостивить подземных богов (ср. обещание смерти в этом сновидении).
(обратно)714
…снял перстень… Согласно поверью, в снятом с пальца больного перстне сосредоточивается вся его болезнь. При посвящении перстня Телесфору болезнь как бы поступает под его надзор и больше не возвращается в тело больного.
(обратно)715
30. Прислужники храма. — При храме Асклепия состояли жрецы и прислужники (неокоры).
(обратно)716
…в священном театре… — Имеется в виду театр Асклепия в пергамском Асклепейоне, вмещавший три с половиной тысячи человек. Белые одежды — атрибут очистительных обрядов и торжественных чествований Асклепия. …восславить бога… — Словесное прославление (гимны, потом — речи) было важнейшей частью культа Асклепия. Античные авторы (Гален, Либаний) отмечали особую связь Асклепия с мусическими искусствами: в его предписания нередко включалось требование к больному сочинить стихи. Гален объясняет это тесной связью между духовным и физическим состоянием человека.
(обратно)717
35. …у которого я в то время жил… — В храмах Асклепия были помещения для прибывших надолго пациентов. Аристид, как пациент богатый и знатный, жил, очевидно, у одного из служителей храма.
(обратно)718
39. …но дух оставался в нем твердым»… — «Илиада» (XI, 813).
(обратно)719
40. …увидел я некий сон… — Далее игра со словом lysis, которое обозначает одновременно и конец (развязку) болезни, и конец (развязку) театрального представления.
(обратно)720
41. …появилась Афина… — Это сновидение Аристид объясняет в соответствии с принятыми в его время правилами толкования: Афина и запах воска означают аттический мед. В «Одиссее» Афина неоднократно является и Одиссею и Телемаху.
(обратно)721
47. Литра — единица веса ок. 0,8 г.
(обратно)722
48. Каик — река близ Пергама. Появление коня имеет явно чисто медицинский смысл: снадобья, приготовлявшиеся из лошадиного молока или крови, излечивали, как считалось, эпилепсию, болезни желудка и кишечника, а также удушье.
(обратно)723
58. «…о них же может ли все рассказать…» «Одиссея» (III, 113).
(обратно)724
60. Рассказ перед Алкиноем занимает в «Одиссее» три книги (IX-XI). Путешествие Аристида в Рим с ораторскими выступлениями предшествовало началу болезни.
(обратно)725
61. Гебр — самая большая река Фракии.
(обратно)726
62. Эдесса — город у порогов на реке Аксии, в Македонии.
(обратно)727
64. И тут произошла настоящая Одиссея. — Восприятие происходящего сквозь призму литературы — характерная черта Аристида (см. 41-42).
(обратно)728
69. …рассказал немного раньше. — См. 5-7.
(обратно)729
70. Отсиживанием в Пергаме Аристид называет период безотлучного пребывания при святилище Асклепия с лета 145 г. до сентября 147 г.
(обратно)730
72. «…возобладало плохое сопутников мненье». — «Одиссея» (Х, 46).
О. Левинская
(обратно)731
«Надгробное слово по Юлиану» написано в 365 году н. э. и посвящено памяти императора Юлиана, друга Либания, убитого в 363 году, во время войны с Персией. Речь восходит к традиции так называемых эпитафиев — надгробных речей о павших воинах, но является фиктивной и никогда не произносилась. «Надгробное слово» примыкает также к жанру панегирика и следует в основном композиционной схеме похвальной речи: «происхождение — воспитание — характер деяния». План речи: 1) вступление: доблесть Юлиана превосходит всякое красноречие (1-6); 2) происхождение и воспитание Юлиана (7-30); 3) деяния в войнах с германцами (31-89), с Констанцием (90-115), во время царствования (116-163); 4) нрав и образ жизни Юлиана-императора (164-4203); 5) персидский поход и смерть (204-280); 6) заключение: плач по Юлиану (281-308).
Хронология упоминаемых событий такова: 331 год — Юлиан родился в Константинополе; 337-й — гибель отца его; 351 — тайное обращение в язычество, Галл, брат Юлиана, объявлен Цезарем и послан управлять восточными провинциями; 354-й — гибель Галла, Юлиан доставлен ко двору, в Милан; 355-й — учится в Афинах, объявлен цезарем, женится на сестре Констанция, Елене; 356-360-й — ведет войну с германцами в Галлии; 361-й — смерть Констанция, воцарение Юлиана. Эдикт о восстановлении языческих храмов и культа, административные реформы; 362-й — Юлиан покидает Константинополь и через Малую Азию прибывает в Антиохию; 363-й — поход против персов: 5 марта — выступление, 13 марта — переход Евфрата, в начале июня — сражение у Ктесифона, 16 июня — начало отступления, 26 июня — ранение и смерть.
Во главе Римской империи в IV веке стояли два императора Августа («государи»). Их ближайшими помощниками были два цезаря («кесари»). Империя делилась на 4 префектуры, во главе администрации каждой стоял префект претория. Префектуры делились на провинции, управляемые чиновниками разного ранга. Августами были Констанций Хлор, Константин, Лициний, Констанций и Юлиан. У двух последних не было соправителя. Цезарями были братья Констанция, а потом Галл и Юлиан (до провозглашения Августом).
(обратно)732
1. …не сатрапы, но римские наместники… — Либаний имеет в виду, что побежденная Персия, сделавшись римской провинцией, управлялась бы римскими чиновниками.
(обратно)733
2. Ныне зависть демонская одолела благие упования… — По убеждению древних, божества ревнивы к человеческому счастью и губят счастливцев.
(обратно)734
4. Вот и я, сколько ни затевал славословий… Среди речей Либания, посвященных Юлиану, ср. особенно XII, XIII и XVII.
(обратно)735
…на брегах океанских — Имеется в виду деятельность Юлиана в Галлии.
(обратно)736
8. Дед Юлиана — император Констанций Хлор (293-306), отец — Юлий Констанций, единокровный брат императора Константина (306-337); при этом отец Юлиана был сыном Констанция Хлора от законной жены, а сущий самодержец — Константин — от наложницы.
(обратно)737
…женился на дочери вельможи… Матерью Юлиана была Василина, дочь Юлия Юлиана, который был префектом претория у Лициния-соправителя, а затем неудачного соперника императора Константина.
(обратно)738
Единокровный брат Юлиана — Галл.
(обратно)739
11. …небесный его попечитель… — Букв. «демон, получивший его в удел» — языческий аналог ангела-хранителя. (Ср. название трактата Плотина «О демоне в нас, получившем нас в удел», III, 4.) …в городе, после Рима величайшем… То есть в Константинополе.
(обратно)740
12. Негодный учитель — Гекеболий, христианин, наставлявший Юлиана в риторике. Христианское воспитание Юлиана было особой заботой императора Констанция.
(обратно)741
13. Никомедия — город в Малой Азии, столица провинций Востока.
(обратно)742
16. …вторым чином соучаствовать во власти державной… — То есть Галл был объявлен кесарем (см. с. 482).
(обратно)743
18. Как-то раз случилось ему встретиться со знатоками премудрости Платоновой… — В 351 г. в Пергаме Юлиан познакомился с неоплатоником Эдесием, учеником Ямвлиха, и тот направил Юлиана к своему ученику Максиму Эфесскому, который и стал духовным руководителем будущего императора.
(обратно)744
Таковым упоительным словом омылся… — цитата из «Федра» Платона (243 d).
(обратно)745
22. Багряница — пурпурное одеяние, знак императорской власти.
(обратно)746
27. Ино, дщерь Кадмова — морская богиня Левкотея, спасительница гибнущих в море (ср. «Одиссея», V, 333 сл.). За Юлиана вступилась императрица Евсевия.
(обратно)747
29. …встретясь с учителями афинскими… — Ими в ту пору были философ-неоплатоник Приск и риторы Гимерий и Проэресий.
(обратно)748
30. …и особливо одного… — Возможно, имеется в виду Цельс, впоследствии правитель Киликии (см. ниже, 159).
(обратно)749
31. …посланные на сию границу полководцы притязали на удел, больший назначенного. Имеется в виду Сильван, наместник Галлии, который, восстав, провозгласил себя Августом.
(обратно)750
32. …слезно помолившись богине… — Имеется в виду Афина. Либаний мог почерпнуть эти детали у самого Юлиана, из его «Письма к афинянам» (274 d сл.).
(обратно)751
Галаты — галлы.
(обратно)752
33. Магненций — узурпатор, провозгласивший себя Августом в Галлии в 350 г.
(обратно)753
39. …благосклонностью Афины избегнул Геракл вод преисподних. — См. «Илиада» (VIII, 366 сл.), «Одиссея» (XI, 623 сл.).
(обратно)754
41. …когда достиг он первого городка новообороняемой страны. — Описывается въезд Юлиана в Виенну на Роне.
(обратно)755
42. …ни к чему, кроме одежи своей, не допускался… — Либаний цитирует здесь Юлиана — «Письмо к афинянам» (278d).
(обратно)756
43. …словно древле воины Миронидовы. — Речь идет о воинах, отстоявших Мегары от нападения коринфян в 459 г. до н. э. В отряде стратега Миронида были лишь пожилые и юные афиняне. Либаний описывает оборону Августодунума (Отен) в 356 г.
(обратно)757
46. …два града величайшие… — Бротомаг (близ Страсбурга) и Агриппина (Кельн).
(обратно)758
49. Старший государь… младший… — Либаний имеет в виду иерархию власти (Констанций — Август, Юлиан — цезарь).
(обратно)759
52. …предъявил государево послание… — См. выше, 33.
(обратно)760
53. …правила риторические того не дозволяют… — Аммиан Марцеллин, пишущий историю, такую речь приводит (XVI, 12, 9-11), но, по обычаю историков, это речь фиктивная.
(обратно)761
…«у каждого твердость и силу… — «Илиада» (II, 453).
(обратно)762
54. Дается описание битвы при Страсбурге в августе 357 г.
(обратно)763
57. Морской бой между коринфянами и керкирянами — битва при Сиботских о-вах в 433 г. до н. э. коринфяне победили, но и керкиряне, поддержанные афинской эскадрой, не сочли себя побежденными, и обе стороны воздвигли трофей (Фукидид, I 49).
(обратно)764
58. …уподобившись сыну Теламонову… — Речь идет об Аяксе («Илиада», XV, 501 сл.).
(обратно)765
65. Вот афиняне свершили… Марафонский подвиг вкупе с Гераклом и Паном… Геродот (V, I, 105) говорит о помощи Пана, но Либаний учитывает, что близ Марафона находилось и святилище Геракла.
(обратно)766
66. …вот так и Ахилл уступал добычу свою Агамемнону. Ср. «Илиада» (I, 355 сл., IX, 330 сл.),
(обратно)767
70. …полонил тысячу фрактов… — Так Либаний называет франков. …уподобились спартанцам при Сфактерии. Редкий случай капитуляции спартанцев (в 425 г. до н. э. на острове Сфактерия близ Пилоса, где их отряд был блокирован и обречён на голодную смерть).
(обратно)768
74. …всякий книжник афинский… шел в ставку кесарскую… — Либаний имеет в виду неоплатоника Приска (см. выше, коммент. к 29), посетившего Юлиана в его ставке в Париже.
(обратно)769
…точно как древле шли мудрецы в Лидию к Крезу. — Существовала легенда о встрече так называемых «семи мудрецов» у царя Креза в VI в. до н. э.
(обратно)770
75. …со служителями Гермесовыми и Зевесовыми… — Ср. Платон, «Федр» (252 с); Гермес упомянут здесь как покровитель красноречия.
(обратно)771
79. Древле, когда воины Кировы… узрели наконец… море… — Подразумевается завершение похода Десяти тысяч в 400 г. до н. э.. (Ксенофонт, «Анабасис», IV, 7).
(обратно)772
80. Курии — провинциальные городские сенаты (см. ниже 135 и коммент.).
(обратно)773
82. Есть в Океане остров… — Имеется в виду поход в Британию в 359 г.
(обратно)774
86. …кесарь почтил опального речью… — Речь идет о дошедшей до нас VIII речи Юлиана: «Утешение самому себе по поводу отъезда Саллюстия».
(обратно)775
90. Завистник — Констанций.
(обратно)776
94. …таких бойцов, у коих и помолиться-то едва хватало силы. — Выражение самого Юлиана (цитируется Зосимой, III, 3).
(обратно)777
95. …трясли ими, словно оливою… — Ветвь оливы (маслины) — атрибут умоляющего.
(обратно)778
96. …от города… где была его ставка… — Имеется в виду Лютеция (Париж).
(обратно)779
106. Галатские послы — послы Юлиана; италийские послы — послы Констанция.
(обратно)780
110. …спасся, словно облаком сокрытый. — Так в «Илиаде» боги спасают, покрывая облаком, Париса (III, 381) и Энея (V, 345). Юлиан закрыл Небридия своим плащом.
(обратно)781
115. …у афинян даже и над богами вершится суд… — Намек на миф об учреждении Ареопага.
(обратно)782
…сочинил… оправдательное письмо. — Это дошедшее до нас «Письмо к совету и народу афинскому» (сынам Ерехфеевым).
(обратно)783
117. …«хвастливая гордыня ненавистна»… — Софокл, «Антигона», 127,
(обратно)784
…стать ему новым Креонтом! — Ср. Софокл, «Антигона» (198 сл.).
(обратно)785
…растленных одолевал страх… — Еще не изгладились из памяти гонения на христиан после эдиктов Диоклетиана 303 и 304 гг.
(обратно)786
123. «Куда вас несет, человеки?..» — Цитата из псевдо-Платонова «Клитофонта» (407 а), любимая поздними авторами.
(обратно)787
127. …храм Богу — Вознице света… — Имеется в виду Гелиос, Культ бога солнца, популярный в поздней античности, играл особую роль для самого Юлиана.
(обратно)788
…превосходя благочестием самого Никия… — Никий известный афинский полководец V в. до н. э. В греческом тексте игра с именем Никия — «победил Победителя».
(обратно)789
132. …да воссияют чертоги чад сукноваловых… Так, например, сыном валяльщика был Дульциций, правитель Азии при Констанции и Юлиане. «Сукновалы» здесь упоминаются и как представители самого презренного ремесла.
(обратно)790
133. …сука подобится хозяйке. — Пословица; ср. Платон, «Государство» (563 с).
(обратно)791
135. Сии злодеи уклонились от службы родным своим городам… Речь идет о куриалах — высшем городском сословии, материально ответственном за поступление налогов от своего города. Указом Константина им запрещалось переселяться из родного города, но их бегство было повсеместным явлением.
(обратно)792
140. Государевы очи — выражение Аристофана («Ахарняне», 92).
(обратно)793
Ир — персонаж «Одиссеи», нищий; Каллий — богатейший афинянин, упоминается Платоном.
(обратно)794
143. Сибарис — символ роскоши.
(обратно)795
146. …перейдя кто в войско, кто в сиятельное сословие… — Иначе говоря, с местной службы за свой счет на императорскую службу за государственный счет. Сиятельное сословие — имеется в виду сенат.
(обратно)796
152. Казнены смертью были трое. — Это были нотарий Павел Катена, придворный евнух Евсевий и глава государственного казначейства Урсул.
(обратно)797
154. …по слову Гомерову… «Одиссея» (VIII, 171).
(обратно)798
155. …учитель его, родом ионянин… — Максим Эфесский, ср. 18 и коммент.
(обратно)799
…Херефонт… в Тавреевом ристалище… — Ситуация из диалога Платона «Хармид» (153а): Херефонт, ученик Сократа, встречает своего неожиданно вернувшегося с войны учителя.
(обратно)800
157. …сочинил он в короткий срок две речи… — Обе речи — «Против киника Гераклия» и «О Матери богов» — сохранились.
(обратно)801
159. Правитель Киликии — Цельс (см. выше, коммент. к 30).
(обратно)802
160. …луг мудрости… — См. коммент. к Фемистию (3).
(обратно)803
166. …выходит с ними по слову Гомерову». «Илиада» (III, 33 сл.).
(обратно)804
169. …приносил жертвы Арею, и Ериде, и Энио… — Ср. «Илиада» (IV, 439 сл.).
(обратно)805
Оронт — река, на которой стоит Антиохия.
(обратно)806
171. …кто любомудрствует в тихих кельях… — Имеются в виду христианские отшельники.
(обратно)807
172. Святилище Зевса Кассийского находилось в Селевкии, близ Антиохии.
(обратно)808
176. Протей — морское божество, способное принимать любой облик.
(обратно)809
177. …колебал Посейдон столицу фракиян… — Подразумевается землетрясение 2 декабря 362 г. Столица фракиян — Константинополь.
(обратно)810
178. Тирийский старец — неоплатоник Порфирий (234 — ок. 305 гг.). Его перу принадлежало сочинение «Против христиан».
(обратно)811
187. …спор городов о первенстве… Имеются в виду Лаодикея, родина одного из значительных христианских авторов IV в. н. э. Аполлинария, и Апамея, связанная с именами философов Ямвлиха и Сопатра.
(обратно)812
190. …крепче, чем вертишейка бы навертела! — Считалось, что, привязав птичку вертишейку к вращающемуся колесу, можно вернуть любовь. Метафорически «вертишейка навертела» говорится о вызванной чарами, чудесно возникшей приязни.
(обратно)813
…не это полагал он пользою для царственного своего величия… — Возможно, намек на Констанция, придававшего большое значение этикету (ср. Аммиан Марцеллин, XXI, 16, 4),
(обратно)814
193. Статир — мера веса, равная примерно 326 г.
(обратно)815
195. Собрался на ристалище народ, вопия от голода… — Речь идет о голоде в Антиохии в 362 г.
(обратно)816
198. …когда город явил ему еще пущую дерзость… обрушился на горожан речью. — Имеется в виду «Враг бороды», сатирическое сочинение, написанное Юлианом в ответ на издевки антиохийцев над его образом жизни.
(обратно)817
201. …нашлись люди, сошедшиеся с ним задаром… — Либаний имеет в виду самого себя.
(обратно)818
202. Но были рядом с ним и закореневшие в корыстолюбии… — Возможно, намек на Максима Эфесского.
(обратно)819
206. …«собственные его подданные страждут в осаде». — Имеется в виду осада персами Амиды и Сингары (ср. Аммиан Mapцеллин, XIX, 1-8; XX, 6-7).
(обратно)820
208. той ночной битве, когда наконец досталось не только нашим… — Речь идет о сражении при Сингаре в 348 г.,
(обратно)821
…когда наши… спасли многострадальный город. — Речь идет об осаде Нисибиса в 350 г. или об осаде Антиохии на реке Мигдонии, где река, разлившаяся около города, позволяла врагам использовать суда наряду с осадными орудиями.
(обратно)822
209. Не выучка ли держала стремя женщинам… — Подразумеваются амазонки.
(обратно)823
215. Армянский правитель — царь Арсак, с которым Юлиан заключил союз накануне персидского похода.
(обратно)824
216. …вино, добытое копьем… — Реминисценция из Архилоха (фрагм. 2).
(обратно)825
218. Крепость, воздвигнутая над излучиною реки — Аната.
(обратно)826
219. Другая крепость — Тилута.
(обратно)827
225. …словно шли по Алкиноевым садам… — См. «Одиссея» (VII, 112 сл.).
(обратно)828
227. Сей город был поименован по тамошнему царю… — Пирисабора, чье название содержит в себе имя царя — Сапор.
(обратно)829
233. Помянул он кстати и о некоем римском полководце… — Юлиан использует жизнеописание Красса, составленное Плутархом (ср. Плутарх, «Красс», 20 сл.).
(обратно)830
235. Некая крепость — Маозамалха.
(обратно)831
240. Битвенные боги. — См. выше 169 и коммент. Рассветный бог — Гелиос, особенно чтимый Юлианом.
(обратно)832
134. …до тех исстари взыскуемых городов, кои красят ныне землю Вавилонскую вместо Вавилона… — Имеются в виду Ктесифон, столица Персии во времена Юлиана, и Селевкия (Кох), бывшая столицей во времена Страбона (ср. Страбон, XVI, 743).
(обратно)833
135. Калхант — персонаж «Илиады», ахейский прорицатель.
(обратно)834
Тиресий — мифический слепой провидец, герой Фиванского цикла.
(обратно)835
…судоходный канал, о коем он читал в книгах… — Источником сведений Юлиана (и Либания) был скорее всего Геродот (I, 193).
(обратно)836
258. Вельможа, явившийся… к царскому брату… — То есть к Гормизду, брату Сапора, перешедшему на сторону римлян еще при Констанции.
(обратно)837
260. …угреть Арбелу… дабы вослед преславной Александровой победе славились бы и его победы на том же самом месте. — Арбела — город в Адиабене (Ассирии), отстоящий примерно на 100 км от Гавгамелы, места решительной победы Александра над Дарием.
(обратно)838
…никакого пополнения… от союзников… — То есть от Арсака (см. выше 215 и коммент).
(обратно)839
261. …как изъясняется в стихе… — «Илиада» (X, 509).
(обратно)840
264 …до славного города… — То есть до Безабда, пограничного с Кордуеной, городом Римской империи, к которому направлялся Юлиан.
(обратно)841
272. …по предсмертным его речениям… — Предсмертную речь Юлиана приводит Аммиан Марцеллин (XXV, 3, 15 сл.).
(обратно)842
…и даже любомудры не в силах были сдержать слез… — В походе Юлиана участвовали его друзья — философы, в том числе Максим Эфесский и Приск.
(обратно)843
…шатер его вполне уподобился узилищу Сократову… — Ср. Платон, «Федон» (117 с сл.).
(обратно)844
276. Как сказано у Фукидида о Перикле… — Фукидид (II, 65).
(обратно)845
277. Новый правитель — Иовиан, избранный императором.
(обратно)846
279. …хоть до Оронта, хоть до Кидна, хоть до Сангария, хоть до самого Боспора… — Либаний иронически распространяет уступчивость Иовкапа на Сирию (Оронт — река в Сирии), Киликию (Кидн — река в Киликии), Фригию (Сагарис — река во Фригии) и, наконец, на всю Малую Азию.
(обратно)847
280. Каллимах — военачальник (полемарх) афинян в Марафонской битве (см. Геродот, VI, 109 сл.). Иронию Либания усиливает значение имени: Каллимах по-гречески — «прекрасно сражающийся».
(обратно)848
281. …не превзошел целомудрием Ипполита, не сравнился праведностью с Радаманфом… — Все примеры добродетелей почерпнуты из литературных источников. Ср. Еврипид, «Ипполит»; Платон, «Апология Сократа» (41а, о Радаманфе); Фукидид (I, 138, о Фемистокле, и IV, 81, о Брасиде).
(обратно)849
282. …на месте могил воздвигнутся храмы… То есть храмы богов — на месте почитавшихся христианами могил святых. Возможно, Либаний имеет в виду осквернение останков св. Вавилы в Дафнейском предместье Антиохии.
(обратно)850
282-283. Типичное риторическое соответствие тем (и выражений) заключения и вступления (ср. 1-3).
(обратно)851
284. О справедливость! — при тебе воротилась она с небес на землю… — По свидетельству Аммиана Марцеллина (XXV, 4, 19), эти слова часто повторял сам Юлиан, цитируя поэму Арата (греческий поэт III в. до н. э.) «О небесных явлениях» (130, 137 сл.). Согласно одному из вариантов мифа, богиня Справедливость с наступлением железного века покинула землю, превратившись в созвездие Девы.
(обратно)852
285. …Зевес, уже явивши людям солнце… Снова намек на неоплатонические воззрения Юлиана, согласно которым солнце чувственного мира есть отражение солнца умопостигаемого; последнее отождествляется с верховным божеством, одно из именований которого — Зевс.
(обратно)853
286. Снова хулители богов в почете… При императоре Валенте (с 364 г.) началась сильная антиязыческая реакция.
(обратно)854
287. …любомудры отданы на поругание палачам… — Имеются в виду преследования, которым подверглись Максим Эфесский и Приск при императорах Валентиниане и Валенте.
(обратно)855
288. «Учителей словесности… ныне гонят от порога.» — Либаний имеет в виду свои отношения с Фестом, правителем Сирии в 365 г.
(обратно)856
292. …отряхнув с себя премногие города… — Речь идет о землетрясении 365 г.
(обратно)857
295. Вот цари мидиян, племя нечистого на руку Гига… Реминисценция из Геродота (I, 8-18).
(обратно)858
…долее великого Кира… — Кир Старший как идеальный правитель выведен в «Киропедии» Ксенофонта.
(обратно)859
297. Леонид — спартанский царь, павший при Фермопилах. Эпаминонд — выдающийся фиванский государственный деятель, павший в 362 г. до н. э., победив спартанцев при Мантинее. Сарпедон — сын Зевса, Мемнон — сын богини Эос (Зари), павшие под Троей (мифол.).
(обратно)860
Александр, сын Зевесов… Имеется в виду Александр Македонский, который требовал признавать его сыном Аммона (египетский бог, отождествлявшийся с Зевсом).
(обратно)861
306. …в садах Академовых… Школа Платона находилась в священной роще героя Академа в Афинах.
(обратно)862
В 32-й речи Фемистия сложно переплетены перипатетические и платонические представления. Этический термин метриопатия (умереннострастие), использованный в названии оригинала, возник в школе перипатетиков как полемическое противопоставление учению стоиков об апатии (бесстрастии) полном искоренении аффектов. В основе рассуждения о чадолюбии лежит платоническое представление о телесном и духовном рождении, восходящее еще к Сократу: Сократ, сын повитухи, называл свое искусство диалектики майевтикой, то есть повивальным искусством, помогающим рождению правильного Знания.
(обратно)863
1. Муками рождения… мучается… и душа. Ср. у Платона, «Пир» (206 d), «Теэтет» (149 а сл.).
(обратно)864
…ее утробного плода. — Духовное рождение понимается у Платона весьма широко: порождениями души оказываются разум, добродетели, поэтические творения, законы, правильные представления. Фемистий в заключительной фразе поясняет, что «истинные порождения» философа — это его рассуждения или сочинения.
(обратно)865
…их несокрушимые и неизменные нити. — «Нити» относятся к описанию «веретена Ананки», которое управляет движением космоса и человеческих душ (ср. Платон, «Государство», 614b-621с). Этот миф Платона был в античности чрезвычайно популярен; Фемистий добавляет к нему собственные фантастические подробности: поворот веретена направо был благим предзнаменованием, налево — зловещим.
(обратно)866
Лампрокл — старший сын Сократа. Гиппий — сын и наследник афинского тирана Писистрата (VI в. до н. э.).
(обратно)867
2. Мойры и Ананка — мифологические образы, активно используемые греческой философией. Ананка — олицетворение необходимости; Мойры, богини судьбы, — ее дочери: Лахесис — «дающая жребий»: возвещает прошлое; Клото — «пряха»: прядет нить человеческой жизни в настоящем; Атропа — «неотвратимая»: неотвратимо приближает будущее.
(обратно)868
3. На лугах философии… — Ср. знаменитый «луг истины» из «Федра» Платона (248b), весьма популярный в платоническрй литературе. Могучее зелье, которое египтянка Полидамна дала Зевсовой дочери Елене, — снадобье, дающее забвение страданий (Гомер, «Одиссея», IV, 220-232). Аллегорическое и символическое истолкование Гомера было методом стоической и неоплатонической философских школ.
(обратно)869
…Аристотеля, Никомахова сына… — Имя Никомах носил также сын Аристотеля, к которому обращена так называемая «Никомахова этика» — на нее опирается дальнейшее рассуждение Фемистия о добродетелях.
(обратно)870
Адамантовые засовы. — Адамант (букв.: «несокрушимый») сказочный материал, прочнее алмаза и металла.
(обратно)871
Это о нем говорится в комедии… — Имеется в виду комедия Менандра «Кормчие».
(обратно)872
…не «блаженный» он и не «счастливый»… — Выпад против стоиков: по стоическим воззрениям, добродетель, присущая мудрецу-философу, сама есть счастье, поэтому мудрец всегда счастлив.
(обратно)873
4. Питомец Ликея — последователи Аристотеля. Персей Китийский — земляк и ученик Зенона Китийского, основоположника стоицизма. Антигон II Гонат — царь Македонии в 283-240 гг. до н. э., ученик Зенона и покровитель Персея.
(обратно)874
Клеанф из Асса — стоик, ученик и преемник Зенона.
(обратно)875
5. …его рассуждения не забывают о природе тех, ради кого они произносятся… — Этика Аристотеля отличается практическим характером и полемически направлена против учения Платона о благе; Фемистий переадресовывает эту полемичность этическому идеалу стоиков — апатии мудреца.
(обратно)876
…бессмертное начало смертного человека… — То есть разумная часть его души.
(обратно)877
Халестрийский щелок — это щелок из Халестры — озера в Македонии — со щелочной водой; использовался для изготовления дорогого мыла.
(обратно)878
6. Не для позора и унижения придал их бог человеку. Фемистий следует схеме создания трехчастной души, изложенной в «Тимее» Платона (69d-70d) и вошедшей в Платоническую литературу: «бессмертное начало души», т. е. ее разумную часть, создает бог-демиург, а «младшие боги» присоединяют к ней две смертные части — «яростную» и «вожделеющую», завершая создание души «по законам необходимости».
(обратно)879
Но если чувства…подобно…садовым растениям… — Исправление свойств характера сравнивает с исправлением кривизны деревьев также и Аристотель («Никомахова этика», II, 9); сходная метафора «посеянности», «посаженности» врожденных свойств есть у Платона («Государство», 492а).
(обратно)880
…по ту и другую сторону от… добродетели расположились два порока… — Ср. «Никомахова этика» (II, 6).
(обратно)881
7. …врожденное от природы… влечение… — Стоики учили, что любовь родителей к детям есть естественное, «первичное» влечение. Усвоение отдельных стоических положений и использование их в сочинениях, даже направленных против стоиков (как в данном случае), обычно для поздней греческой философии.
(обратно)882
…искать повитух, звать кормилиц и нянек… — Здесь перечисляются стадии античного воспитания и образования.
(обратно)883
8. Ариобарзан, сын Митридата — сатрап Фригии, участник восстания сатрапов в IV в. до н. э., был предан своим сыном и казнен. Периандр, сын Кипсела — тиран Коринфа в VI в. до н. э. О том, как он изгнал своего сына Ликофрона, см.: Геродот (III, 48-53).
(обратно)884
Артаксеркс, сын, Дария и Парисатиды — персидский царь (404 — 359/8 гг. до н. э.) — Согласно Плутарху («Артаксеркс», 29 сл.), старший сын Артаксеркса, Дарий, замышлял убийство царя. Заговор был раскрыт, и Дарий осужден на смерть, но палач не мог «наложить руку на царя», и Артаксеркс в гневе убил сына сам. Другого его сына, Ариаспа, погубил хитростью брат последнего, Ох, устраняя соперника в борьбе за престол: запугивая Ариаспа ложными слухами о грозящей тому мучительной казни, Ох довел несчастного до самоубийства.
(обратно)885
…в трагедйях Еврипида… — «Ипполит» (887 сл.).
(обратно)886
Аминтор — отец Феникса, воспитателя Ахилла; см. «Илиада» (IX, 448-464).
(обратно)887
9. …Гесиодов рассказ о Кроносе… — См. «Теогония» (453-506).
(обратно)888
Не предосудительно… для поэтов лгать таким образом… — Древняя философия — от Ксенофана до Платона, — критикуя представления антропоморфной мифологии, как раз считала рассказы Гомера и Гесиода о богах «предосудительными»; для поздней философии эпос был «священным» текстом, подлежащим символической или аллегорической интерпретации.
(обратно)889
…сделав Зевса отцом Сарпедона… — См. «Илиада» (XVI, 431-461).
(обратно)890
10. …золотой неразрывной цепью». Образ «золотой Зевсовой цепи» заимствован философией у Гомера («Илиада», VIII, 19 сл.); ср. интерпретацию этого образа у Платона («Теэтет», 153 сл.),
И. Ковалева.
(обратно)
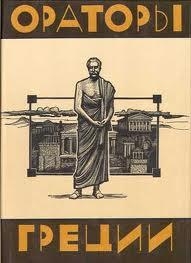




Комментарии к книге «Ораторы Греции», Горгий
Всего 0 комментариев