Джулиан Барнс Открой глаза
Julian Barnes
KEEPING AN EYE OPEN
Copyright © Julian Barnes 2015
All rights reserved
© В. Бабков, перевод, 2017
© А. Борисенко, перевод, 2017
© Д. Горянина, перевод, 2017
© М. Давыдова, перевод, 2017
© И. Мокин, перевод, 2017
© А. Савиных, перевод, 2017
© М. Сарабьянова, перевод, 2017
© В. Сонькин, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается Пат
Предисловие
Несколько лет назад мой друг-журналист, живущий в Париже по заданию редакции, произвел на свет одного за другим двоих детей. Как только они научились фокусировать взгляд, он стал брать их в Лувр, нежно направляя младенческие глаза на шедевры мирового искусства. Не знаю, развлекал ли он их в материнской утробе классической музыкой, как иные будущие родители. Но иногда я задаю себе вопрос, какими вырастут эти дети: смогут руководить МоМА или будут лишены всякой способности к визуальному восприятию и возненавидят художественные галереи?
Мои собственные родители никогда не пытались пичкать меня культурой в раннем (как и в любом другом) возрасте, но и не стремились от нее отвратить. Оба работали учителями в школе, так что к искусству — или, точнее, идее искусства — у нас дома относились с почтением. На полках стояли какие надо книги, в гостиной даже было пианино, — хотя, сколько я себя помню, на нем ни разу не играли. Его подарил маме ее отец, души не чаявший в дочери. Тогда она была юной, способной, подающей надежды пианисткой. Однако в двадцать с небольшим, столкнувшись с трудным произведением Скрябина, она перестала играть. После нескольких безуспешных попыток его освоить она поняла, что достигла некоего уровня, выше которого ей не подняться. Она бросила играть резко и навсегда. И все-таки избавиться от пианино было нельзя; оно переезжало вместе с мамой из дома в дом и было ей верным спутником в замужестве и материнстве, в старости и вдовстве. На его крышке, с которой регулярно стирали пыль, лежала стопка нот, в том числе и тот самый опус Скрябина, брошенный ею десятки лет назад.
Живопись у нас дома была представлена тремя полотнами. Два сельских пейзажа с видами Финистера, написанные одним из французских assistants отца, были, в общем, таким же обманом, как и пианино, потому что «дядя Поль», как мы его звали, не писал их en plein air, а скопировал — приукрасив — с открыток. Оригиналы, с которых он работал (один измазан настоящей краской), я до сих пор держу на столе. Третья картина, висевшая в холле, была несколько более подлинной. Обнаженная маслом в золоченой раме представляла собой, вероятно, безвестную копию XIX века со столь же безвестного оригинала. Родители купили ее на аукционе в пригороде Лондона, где мы жили. Я помню ее главным образом потому, что находил совершенно антиэротичной. Это было странно, ведь большинство других изображений неодетых женщин оказывали на меня, так сказать, здоровое воздействие. Казалось, в этом и есть смысл искусства: своей торжественностью оно лишает жизнь радости.
Открытка. Кемперле (Финистер). Пон-Флери (Цветущий мост) (Editions d’Art «Yvon»).
Было еще одно доказательство того, что цель и следствие искусства именно таковы: скучные любительские спектакли, на которые нас с братом ежегодно водили родители, и тоскливые дискуссионные передачи об искусстве, которые они слушали по радио. К двенадцати или тринадцати годам я был здоровым маленьким мещанином того сорта, который процветает в Британии, любителем спорта и комиксов. Я пел мимо нот, не владел никаким инструментом, не изучал искусство в школе и не играл на сцене после того, как в семь лет исполнил эпизодическую роль третьего волхва (без слов). Хотя я был знаком с литературой по школьным урокам и даже начинал понимать, как она может быть связана с жизнью, но думал о ней преимущественно как о чем-то, что придется отвечать на экзамене.
Однажды родители привели меня в лондонское Собрание Уоллеса: снова золоченые рамы и антиэротичные обнаженные. Мы немного постояли перед одной из самых знаменитых картин музея — «Смеющимся кавалером» Франса Хальса. Я, хоть убей, не понимал, чему ухмыляется дядька с дурацкими усами и что интересного в этой картине. Вероятно, меня водили и в Национальную галерею, но я ничего об этом не помню. И только летом 1964 года, когда между школой и университетом я жил несколько недель в Париже, я начал смотреть на картины по собственной воле. И хотя я, должно быть, ходил и в Лувр, самое сильное впечатление на меня произвел большой, темный, непопулярный музей — возможно, потому, что там не было ни души и я не чувствовал обязанности реагировать каким-то определенным образом. Музей Гюстава Моро возле вокзала Сен-Лазар после смерти художника в 1898 году отошел французскому государству, и, судя по тому, каким мрачным и запущенным он выглядел, с тех пор на его содержание особенно не тратились. На верхнем этаже располагалась огромная, высокая мастерская Моро — настоящий сарай, слабо отапливаемый приземистой черной печкой, которая, видимо, грела еще самого художника. В полумраке от пола до потолка висели картины, а в ящиках больших деревянных шкафов, которые разрешено было выдвигать, хранились сотни эскизов. До того я не видел ни единой картины Моро и ничего о нем не знал (и уж точно не знал, что он был единственным современным художником, которым всей душой восхищался Флобер). Я не представлял, как оценивать такое искусство: экзотичное, изукрашенное, поражающее темным великолепием, странное сплетение авторской и всеобщей символики, которое я едва ли мог распутать. Возможно, меня привлекла эта таинственность, а может, я так восхищался Моро, потому что никто не велел мне этого делать. Но, несомненно, в этот момент я, по собственным воспоминаниям, впервые сознательно смотрел на картины, а не пассивно и послушно находился в их присутствии.
А еще я полюбил Моро за то, что он такой странный. Пока я не набрал зрительского опыта, искусство, чтобы меня привлечь, должно было как можно сильнее преобразовывать реальность, — вообще-то, я думал, что в этом и состоит его суть. Берешь жизнь и неким богоданным тайным способом превращаешь во что-то иное, связанное с жизнью, но более сильное, напряженное и желательно более странное. Из старых мастеров меня притягивали Эль Греко и Тинторетто с их текучими удлиненными формами, Босх и Брейгель с их невообразимыми фантазиями, Арчимбольдо с его остроумными эмблематическими конструкциями. А художников XX века — модернистов, значит, — я обожал всех, ведь они нарезали унылую реальность кубами и ломтиками, превращали в первобытные извивы, яркие кляксы, мудреные решетки и загадочные конструкции. Если бы я знал Аполлинера не только как поэта (модернистского, следовательно восхитительного), мне бы понравилась его похвала кубизму за то, что он являет собой «благородную» и «необходимую» реакцию на «современное легкомыслие». Что касается более обширной, долгой истории живописи, то я, конечно, понимал, что Дюрер, Мемлинг и Мантенья гении, но склонялся к ощущению, что реализм для настоящего искусства — своего рода установка по умолчанию.
Это — нормальный, обычный романтический подход. Мне понадобилось много смотреть, чтобы понять, что реализм вовсе не базовый лагерь для высокогорных экспедиций других стилей, что он может быть столь же правдивым и даже столь же странным, что он тоже требует волевых решений, организации и воображения, и может быть по-своему таким же преобразующим. Мне предстояло постепенно узнавать, что бывают художники, из которых вырастаешь (например, прерафаэлиты), художники, до которых дорастаешь (Шарден), художники, к которым всю жизнь остаешься тоскливо равнодушным (Грёз), художники, которых внезапно замечаешь после того, как годами игнорировал (Лиотар, Хаммерсхёй, Кэссет, Валлоттон), художники несомненно великие, к которым ты относишься слегка пренебрежительно (Рубенс), и художники, которые, сколько бы тебе ни было лет, остаются неизменно, неопровержимо великими (Пьеро, Рембрандт, Дега). А затем — это далось, пожалуй, труднее всего — я разрешил себе думать или, скорее, увидеть, что не весь модернизм целиком прекрасен. Что кое-что в нем лучше остального, что Пикассо бывал тщеславным, Миро и Клее — приторными, Леже мог повторяться и так далее. Постепенно я понял, что у модернизма есть сильные и слабые стороны и изначально заложенное устаревание, как в любом течении. От этого, как часто бывает, он стал не менее, а более интересным.
Но все же в 1964-м я знал, что это «мое» течение. И считал, что мне повезло застать в живых некоторых великих. Брак умер годом раньше, но Пикассо, великий соперник (в жизни и в искусстве), был с нами, как и учтивый мистификатор Сальвадор Дали, как и Магритт, и Миро (а также Джакометти, Колдер и Кокошка). Пока представители модернизма продолжают работать, его нельзя отдать на откуп музейщикам и ученым. К другим видам искусства это тоже относилось: в 1964-м были живы Т. С. Элиот и Эзра Паунд, а также Стравинский, выступление которого я однажды видел: он дирижировал в лондонском Королевском фестиваль-холле. Ощущение пересечения моей и их жизней оказалось важным, хотя тогда я этого не понимал, поскольку не знал еще, что стану писателем. Но всем, кто решал заняться каким-либо искусством во второй половине XX века, приходилось пропустить через себя модернизм: понять его, переварить, осознать, как и почему он изменил мир, и решить, что это означает лично для вас как потенциального художника эпохи, следующей за модернизмом. Вы могли (и должны были) идти своим путем, но невозможно было попросту игнорировать это течение, притворившись, что его нет. Кроме того, к 60-м в игру вступило новое поколение, а за ним еще и еще — настал постмодернизм, позже постпостмодернизм и так далее, пока ярлыки не кончились. Один нью-йоркский литературный критик позже назвал меня «предпостмодернистом», и смысл этого прозвища я пытаюсь разгадать до сих пор.
Хотя тогда я этого не понимал, теперь вижу, что осмыслял модернизм — и любил его, и упивался им — не столько через литературу, сколько через изобразительное искусство. Оказалось, что уходить от реализма проще по холсту, чем по книжным страницам. В музее ты переходишь из зала в зал, следуя ясному и последовательному повествованию: от Курбе к Мане, Моне, Дега, к Сезанну и затем к Браку и Пикассо — и ты у цели! В литературе путь сложнее, не столь прям, шаг вперед — два назад. Если первым великим европейским романом мы считаем «Дон Кихота», то благодаря странному сюжету, озорству и осознанию собственной литературности он относится к модернизму, постмодернизму и магическому реализму — одновременно. Аналогично, если первый великий модернистский роман — это «Улисс», то как вышло, что в лучших своих частях он реалистичен и правдиво изображает обычную жизнь? Я не понимал — еще не мог увидеть, — что во всех видах искусства присутствовали одновременно две вещи: желание создать новое и непрерывный диалог с прошлым. Все великие новаторы смотрят на предыдущих новаторов, которые разрешили им делать все иначе. В живописи оммажи предшественникам встречаются сплошь и рядом.
В то же время идет и прогресс, часто неуклюжий, всегда необходимый. В 2000 году Королевская академия организовала выставку под названием «1900 год — искусство на перепутье». На ней без какой-либо иерархии в развеске и кураторских намеков экспонировалось то, чем восхищались и что покупали на рубеже прошлого века — независимо от школы, принадлежности или последующих вердиктов критики. Бугро и лорд Лейтон висели рядом с Дега и Мунком, инертный академизм и занудная повествовательная живопись соседствовали с воздушной вольностью импрессионизма, старательный и дидактичный реализм — с пылающим экспрессионизмом, прилизанная порнушность и наивно неосознанные эротические мечтания — с новейшими размашистыми попытками правдиво передать человеческое тело. Откройся такая выставка в самом 1900 году, посетители, как легко представить, были бы сбиты с толку и оскорблены представшей их глазам эстетической сумятицей. Такова была какофоническая, многогранная, противоречивая действительность, которую затем в спорах сгладили, превратив в историю искусства, развесив ярлыки «порок» и «добродетель», вычислив победителей и проигравших, осудив дурной вкус. Эта выставка, намеренно избегавшая поучений, четко донесла до зрителей одно: «благородную неизбежность» модернизма.
Флобер был убежден, что невозможно рассуждать об одном виде искусства в терминах другого и что великие полотна не нуждаются в объяснении. Брак думал, что идеал будет достигнут, когда мы вообще ни слова не скажем перед картиной. Но нам до этого очень далеко. Мы неискоренимо вербальные создания и любим все объяснять, составлять мнения, спорить. Поставь нас перед картиной — мы примемся болтать каждый о своем. Пруст, обходя картинную галерею, любил рассуждать о том, кого из знакомых ему напоминают люди на картинах, — возможно, это был ловкий способ избежать открытого эстетического противостояния. Но редко какая картина повергнет нас в молчание. Да и то ненадолго — нам вскоре захочется объяснить и понять самое молчание, в которое мы погрузились.
В 2014 году я впервые за прошедшие полвека снова попал в Музей Гюстава Моро. Во многом он оказался именно таким, каким его рисовала память: похожим на пещеру, мрачным и плотно увешанным картинами. Старую чугунную печь отправили на пенсию, оставив ей только декоративные функции. Я же успел за то время забыть, что Моро, проектируя свой дом, устроил целых две гигантские мастерские, одну над другой, и соединил их винтовой чугунной лестницей. Музей уверенно держится в хвосте списка парижских достопримечательностей. Тем временем мне попалось мнение Дега об этом доме. Он и сам планировал устроить свой посмертный музей, но после визита на рю де Ларошфуко передумал. Выйдя оттуда, он заметил: «Поистине зловеще… Как в фамильном склепе… Эти притиснутые друг к другу картины напомнили мне страницы словаря».
В этот визит я отчасти восхитился самим собой в юности: тем, что я не дал деру. Я убеждал себя, что насмотренное за пятьдесят лет позволит мне лучше оценить Моро, чем в первый раз. Но я снова видел тот же киношный размах и скучные оттенки техниколора, то же высокоумие, скудость тем и серьезную целеустремленную сексуальность. (Моро однажды спросил Дега: «Вы действительно хотите оживить живопись средствами танца?» Дега ответил: «А вы действительно хотите обновить ее ювелирными изделиями?») Хотя меня восхищали отдельные технические приемы — в особенности то, как Моро придумал добавлять чернильный контур и отделку поверх красочного слоя, — к концу второго часа я по-прежнему пытался проникнуться и по-прежнему не мог. Флобер, восхищавшийся Гюставом Моро, — это скорее автор «Саламбо», чем автор «Мадам Бовари». Его творчество было и осталось книжным: взяв начало из академических штудий, оно теперь и само стало достойным объектом академических штудий, а средняя стадия — период полнокровной, пламенной и страстной жизни, — кажется, вовсе его миновала. Несмотря на то что раньше оно было мне интересно своей странностью, теперь я находил его недостаточно странным.
Писать об искусстве я начал с главы о картине Жерико «Плот „Медузы“» в романе «Мировая история в 10 1/2 главах» (1989). Я не руководствовался никаким определенным планом, но, собрав свои тексты воедино, обнаружил, что непреднамеренно следовал тому самому сюжету, который начал неуверенно разматывать еще в 1960-х: истории движения искусства (в основном французского) от романтизма к реализму и к модернизму. Средняя часть этого пути — приблизительно с 1850-го до 1920-го — продолжает меня завораживать. Это время, когда великое правдорубство сочеталось с фундаментальным пересмотром форм искусства. Я думаю, нам еще многому можно поучиться у того времени. И если в детстве я справедливо считал скучной ту обнаженную у нас дома, то вывод насчет холодной торжественности искусства был ошибочным. Искусство не только схватывает и передает страсть, нерв жизни. Иногда все серьезнее: оно и есть сам нерв.
Жерико От катастрофы к искусству
I
Все началось с дурного знака.
Когда они обогнули мыс Финистерре и шли на юг, подгоняемые свежим ветром, к фрегату приблизилась стая морских свиней. Люди заполнили полуют и сгрудились у поручней, дивясь способности этих животных кружить около судна, уже набравшего хороший ход в девять-десять узлов. В то время как они любовались играми морских свиней, поднялся крик. Корабельный юнга выпал в один из передних орудийных портов по левому борту. Был произведен сигнальный выстрел, сброшен спасательный плотик, и судно легло в дрейф. Однако с этими действиями замешкались, и к моменту спуска шестивесельного баркаса место происшествия осталось далеко позади. Не удалось найти даже плотик, тем более юнгу. Ему было только пятнадцать лет, и знавшие его утверждали, что он хороший пловец; они полагали, что он, скорее всего, достиг плотика. Если так, то он, без сомнения, погиб на нем, претерпев жесточайшие муки.
Экспедиция в Сенегал состояла из четырех судов: фрегата, корвета, флейта и брига. Она отправилась с острова Экс 17 июня 1816 года, имея на борту 365 человек. Теперь, потеряв одного члена команды, она держала курс на юг. Моряки запаслись провизией на Тенерифе, взяв в дальнейший путь тонкие вина, апельсины, лимоны, плоды баньяна и всевозможные овощи. Здесь они отметили развращенность местных жителей: женщины Санта-Круса стояли у своих дверей и заманивали французов внутрь, уверенные, что ревность их мужей будет излечена монахами инквизиции, кои неодобрительно отзывались об одержимости брачными узами как об ослеплении, насылаемом Сатаной. Вдумчивые путешественники приписали сии нравы влиянию южного солнца, чья сила, как известно, сокрушает и физические, и моральные препоны.
С Тенерифе отправились на юго-юго-запад. Вследствие свежих ветров и некомпетентности командного состава флотилия распалась. Фрегат в одиночестве пересек тропик и миновал мыс Барбас. Он шел в виду берега, иногда приближаясь к нему на расстояние в пол пушечного выстрела. Море было усеяно скалами; бригантины нечасто посещали эти места при низкой воде. Когда обогнули мыс Бланко — или то, что моряки за него приняли, — судно очутилось на мелководье; лот бросали каждые полчаса. На рассвете мсье Моде, вахтенный прапорщик, произвел счисление на клетке с курами и определил, что они находятся у кромки Аргенского рифа. Его советами пренебрегли. Но даже те, кто был несведущ в морском деле, заметили изменение цвета воды; у борта корабля виднелись водоросли, и было выловлено великое множество рыбы. При тихом море и ясной погоде фрегат садился на мель. Лот показал восемнадцать саженей, вскоре после этого — шесть саженей. Судно, приведенное к ветру, почти немедленно дало крен; потом еще и еще один. Промером определили глубину в пять метров и шестьдесят сантиметров.
К несчастью, они наткнулись на риф, когда вода стояла высоко; и при подымающемся на море волнении попытки освободить корабль потерпели неудачу. Фрегат был, несомненно, потерян. Поскольку имеющиеся на нем лодки не могли забрать всю команду, решено было сложить плот и поместить на него остальных. Затем плот предполагалось отбуксировать к берегу; таким образом, все были бы спасены. Этот план казался непогрешимым; но, как заявляли позже двое очевидцев, он был построен на песке, развеянном дуновением эгоизма. Плот был сложен, и сложен хорошо, места в лодках распределены, провизия заготовлена. На рассвете, при двух метрах семидесяти сантиметрах воды в трюме и сломанных помпах, был отдан приказ покинуть корабль. Однако нарушения сразу же расстроили безупречный план. Распределение мест было забыто, с припасами обращались небрежно; часть оставили на судне, а часть потопили. Плот предназначался для ста пятидесяти потерпевших: ста двадцати военных, включая офицеров, двадцати девяти моряков и пассажиров-мужчин, одной женщины. Но едва на эту платформу — которая была двадцати метров в длину и семи в ширину — спустились пятьдесят человек, как она ушла в воду по меньшей мере на семьдесят сантиметров. С плота были сброшены запасенные ранее бочонки с мукой, и он заметно поднялся; на него спустились оставшиеся люди, и он снова ушел под воду. Полностью загруженная, платформа оказалась в метре под поверхностью воды, а те, кто был на ней, из-за тесноты не могли ступить ни шагу; сзади и спереди они стояли в воде по пояс. Они страдали от ударов незакрепленных бочонков с мукой, которые швыряло волнами; им сбросили двадцатипятифунтовый мешок с галетами, и вода тут же превратила их в тесто.
Предполагалось, что один из морских офицеров примет на себя командование плотом; однако этот офицер не согласился спуститься туда. В семь часов утра был дан сигнал, и маленькая флотилия двинулась прочь от потерпевшего крушение фрегата. Семнадцать человек отказались покинуть корабль или не вышли к отплытию и, таким образом, остались ждать своей участи на борту.
Плот буксировали четыре лодки, развернутые в ряд; флотилию возглавлял полубаркас, который делал промеры. Когда лодки разошлись по местам, на плоту закричали: «Vive le roi!»[1] — и подняли маленький белый флаг на конце мушкета. Но именно в этот момент величайших для всех людей на плоту надежд и ожиданий к обычным морским ветрам присоединилось дуновение эгоизма. Один за другим, в силу своекорыстия, некомпетентности, несчастного стечения обстоятельств или кажущейся необходимости, буксирные концы были отданы. Не отойдя от фрегата и на две мили, плот лишился помощи. У тех, кто был на нем, имелось вино, толика бренди, малый запас воды и немного подмокших галет. Их не снабдили ни компасом, ни картой. Без весел и руля было невозможно управлять плотом и почти невозможно помочь находящимся на нем людям, которых постоянно сталкивало друг с другом, когда волны перекатывались через платформу. В первую же ночь разразился шторм, и плот едва противостоял его свирепому натиску; крики покинутых мешались с ревом валов. Некоторые привязались к бревнам веревками; все были нещадно избиты. Рассвет огласился жалобными криками, люди возносили к Небесам обещания, которым суждено было пропасть втуне, и готовились к надвигающейся смерти. Всякое представление об этой первой ночи бледнеет перед реальностью.
На следующий день море было спокойно, и у многих вновь затеплилась надежда. Однако двое юношей и пекарь, убежденные, что избежать смерти не удастся, распрощались с товарищами и добровольно отдались в объятия стихии. Именно в этот день у потерпевших крушение стали появляться первые галлюцинации. Кому-то мерещилась земля, иные замечали суда, идущие спасать их, и эти обманчивые надежды, разбиваясь о скалы, порождали еще большее отчаяние.
Вторая ночь была ужаснее первой. Волны походили на горы и постоянно грозили перевернуть плот; собравшись у короткой мачты, офицеры командовали перемещениями солдат с одного края платформы на другой, дабы скомпенсировать качку. Несколько человек, уверенные в своей погибели, вскрыли бочонок с вином, желая облегчить последние мгновения жизни путем помрачения рассудка; в чем они и преуспевали, покуда морская вода, проникнув в бочку через сделанное ими отверстие, не испортила напитка. Засим, вдвойне обезумев, эти несчастные решили подвергнуть все полному разрушению и с этой целью принялись за веревки, связывавшие плот. Мятежникам воспрепятствовали, и среди волн и ночной тьмы разыгралась беспощадная битва. Вскоре порядок был восстановлен, и в течение часа на роковом плоту царило спокойствие. Но к полуночи солдаты взбунтовались опять и атаковали своих командиров с ножами и саблями; те, у кого не было оружия, настолько потеряли разум, что пытались загрызть офицеров зубами, и последние претерпели множество укусов. Людей бросали в море, избивали, закалывали; за бортом исчезли два бочонка с вином и единственный бочонок воды. К моменту подавления мятежа плот был усеян трупами.
Во время первой стычки один из примкнувших к мятежникам членов команды, по имени Доминик, был выброшен в море. Услышав жалобные вопли своего предателя-подчиненного, судовой механик кинулся в воду и, схватив негодяя за волосы, с огромным трудом втащил его обратно на плот. Голова Доминика была рассечена ударом сабли. В темноте рана была перевязана и несчастный глупец возвращен к жизни. Но не успел он толком оправиться, как, проявив черную неблагодарность, вновь примкнул к мятежникам и ввязался в схватку. На сей раз он нашел менее удачи и сострадания: той ночью его убили.
Теперь уцелевшим грозила гибелью начинающаяся горячка. Иные бросились в море; иные впали в оцепенение; иные несчастные кидались на товарищей, обнажив саблю, и требовали куриного крылышка. Механику, чье мужество спасло Доминика, чудилось, будто он путешествует по прекрасным равнинам Италии, а один из офицеров говорит ему: «Я помню, что лодки нас бросили; но вы ничего не бойтесь; я только что написал губернатору, и через несколько часов мы будем спасены». Механик, и в бреду сохранивший трезвомыслие, отвечал офицеру: «Разве у вас есть голуби, способные доставлять депеши с такой скоростью?»
На шестьдесят человек, сохранивших жизнь, остался лишь один бочонок вина. Они кое-как смастерили из солдатских жетонов крючки для рыбной ловли; они взяли штык и согнули его, надеясь поймать на него акулу. После чего акула действительно появилась, и схватила штык, и одним мощным движением челюстей снова совершенно выпрямила его, и уплыла прочь.
Дабы продлить свое жалкое существование, они нуждались в дополнительных ресурсах. Некоторые из уцелевших после ночных мятежей набрасывались на трупы и отрубали от них куски, пожирая эту плоть в мгновение ока. Большинство офицеров отказались от такой пищи, хотя один из них предложил завялить мясо убитых, чтобы сделать его более удобоваримым. Кое-кто пробовал жевать портупеи и патронташи, а также кожаную отделку на своих шляпах, однако от этого было мало проку. Один матрос пытался есть собственные экскременты, но потерпел неудачу.
На третий день погода была тихой и ясной. Они надеялись отдохнуть, однако наряду с голодом и жаждой их мучили жестокие видения. Плот, облегченный теперь более чем вдвое, поднялся из воды — непредвиденная польза, которую принесли ночные мятежи. Но вода доходила людям до колен, и они могли отдыхать лишь стоя, сбившись в одну плотную массу. На четвертое утро они обнаружили, что с десяток их товарищей умерли ночью; тела были преданы морю, за исключением одного, предназначенного для утоления голода. В четыре часа пополудни им встретился косяк летучих рыб; многие рыбы, перепрыгивая плот, запутались в снастях. Этим же вечером они разделили добычу, но их голод был столь силен, а доля каждого столь ничтожна, что многие из них увеличили свои порции за счет человеческого мяса; в сочетании с рыбой оно сделалось менее отталкивающим. В таком виде его начали есть даже офицеры.
С этого дня употреблять в пищу человеческое мясо научились все. Следующей ночью его запасы пополнились. Несколько испанцев, итальянцев и негров, во время первых мятежей сохранявших нейтралитет, договорились сбросить командиров за борт и достичь берега — по их мнению, до него было рукой подать — вместе со всем имуществом и ценностями, которые были сложены в мешок и подвешены к мачте. Снова разгорелась жестокая битва, и снова роковой плот был омыт кровью. Когда этот третий мятеж наконец удалось подавить, на борту осталось не более тридцати человек, и плот опять поднялся из воды. Едва ли хоть один человек на нем лежал без ран, которые постоянно окатывала соленая вода, и пронзительные крики не утихали.
На седьмой день двое солдат спрятались за последним бочонком с вином. Они проделали в нем дыру и стали тянуть вино через соломинку. По обнаружении, согласно заключенному ранее уговору, не допускавшему никаких поблажек, эти двое нарушителей были сразу же сброшены в воду.
Теперь подошло время принять самое ужасное решение. Сочли уцелевших; их оказалось двадцать семь. Пятнадцать еще могли прожить несколько дней; остальные, страдающие от глубоких ран и большей частью лежащие в бреду, имели ничтожные шансы на выживание. Однако за тот срок, что отделял их от смерти, они наверняка заметно уменьшили бы ограниченный запас продовольствия. Было подсчитано, что они могут выпить добрых тридцать-сорок бутылок вина. Держать больных на половинном пайке значило лишь убивать их постепенно. И вот после дебатов, тон которым задавало самое беспросветное отчаяние, пятнадцать здоровых людей сошлись на том, что ради общего блага еще способных уцелеть их больные товарищи должны быть сброшены в море. Эту жуткую, но необходимую экзекуцию совершили трое матросов и солдат, чьи сердца были ожесточены постоянным соседством со смертью. Здоровые были отделены от больных, как чистые от нечистых.
После этого страшного жертвоприношения пятнадцать уцелевших утопили все свое оружие, оставив лишь одну саблю на случай, если понадобится перерезать какую-нибудь веревку или перепилить дерево. Припасов должно было хватить на шесть дней, занятых ожиданием смерти.
В это время произошло маленькое событие, к которому каждый отнесся согласно своему характеру. Над их головами появилась порхающая белая бабочка, каких много во Франции, и села на парус. Некоторые моряки, обезумевшие от голода, и в этом узрели возможность добыть себе на ужин лишнюю кроху. Другим, измученным и лежащим почти неподвижно, показалась настоящим оскорблением та легкость, с которой порхала над ними их гостья. Иные же увидели в этой обыкновенной бабочке знамение, вестницу Неба, белую, как Ноев голубь. Даже скептики, не верящие в Божий промысл, осторожно согласились с тем обнадеживающим соображением, что бабочки недалеко улетают от твердой земли.
Однако твердая земля так и не появилась. Палимых солнцем людей изводила свирепая жажда, и они стали смачивать губы собственной мочой. Они пили ее из маленьких жестяных кружек, предварительно опуская их в воду, чтобы скорее охладить жидкость. Случалось, что у кого-нибудь похищали кружку и затем возвращали, но уже без ее содержимого. Был человек, который не мог заставить себя проглотить мочу, как ни страдал он от жажды. Один из них, врач, заметил, что у некоторых моча более пригодна для питья, нежели у других. Еще он заметил, что непосредственным результатом приема мочи внутрь был позыв к тому, чтобы произвести ее снова.
Один армейский офицер обнаружил лимон и хотел приберечь его для себя; бурная реакция остальных убедила его в том, что эгоизм чреват фатальными последствиями. Были также найдены тридцать долек чеснока, которые, в свою очередь, послужили предметом спора; не будь все оружие, кроме единственной сабли, выброшено в море, кровь могла бы пролиться еще раз. На плоту имелись два пузырька со спиртовой жидкостью для чистки зубов; одна-две капли этой жидкости, с которой ее обладатель расставался весьма неохотно, вызывали на языке чудесное ощущение, на несколько секунд прогонявшее жажду. Оловянная посуда, помещенная в рот, позволяла насладиться прохладой. Уцелевшие пускали по кругу флакончик из-под розового масла; они вдыхали остатки аромата, и это действовало на них успокаивающе.
На десятый день, получив свою долю вина, несколько человек решили довести себя до состояния опьянения и затем покончить счеты с жизнью; их с трудом уговорили не делать этого. Плот окружили акулы, и некоторые солдаты, уже почти лишившись разума, открыто купались в непосредственной близости от этих гигантских рыб. Восемь человек, полагая, что земля не может быть далеко, сложили второй плот и хотели уплыть на нем. У них получилась узкая платформа с короткой мачтой и куском дерюги вместо паруса; но, опробовав это хлипкое сооружение, они убедились в безрассудности своей затеи и отказались от нее.
На тринадцатый день пытки солнце взошло в абсолютно безоблачном небе. Пятнадцать несчастных вознесли молитвы Всемогущему Господу и поделили между собой очередную порцию вина; и вдруг капитан от инфантерии, обозревая горизонт, заметил корабль и громким возгласом оповестил об этом товарищей. Все возблагодарили Бога и дали волю изъявлениям радости. Они распрямили обручи с бочек и привязали к ним платки; один из них взобрался на мачту и замахал этими самодельными флажками. Все следили за судном на горизонте и пытались понять, куда оно идет. Некоторые полагали, что оно приближается с каждой минутой; другие утверждали, что оно движется в противоположном направлении. Полчаса надежда боролась в них со страхом. Затем корабль исчез.
Их радость сменилась горем и отчаянием; они завидовали участи товарищей, погибших прежде их. Потом, дабы найти частичное забвение во сне, они растянули над плотом кусок материи для защиты от солнца и легли под ним. Было предложено составить отчет об их злоключениях, всем подписать его и прибить к верхушке мачты в надежде, что он каким-нибудь образом достигнет их семей и правительства.
Они провели два часа в самых мрачных размышлениях; затем артиллерийский сержант, желая попасть на край плота, выбрался из-под навеса и увидел «Аргус», идущий к ним на всех парусах; их разделяло всего пол-лиги. У него перехватило дыхание. Он протянул руки к морю. «Спасены! — сказал он. — К нам идет бриг!» Все возликовали; даже раненые, дабы лучше видеть приближающихся спасителей, кое-как доползли до конца платформы. Они обнимались друг с другом, а когда обнаружили, что обязаны своим избавлением французам, их восторг удвоился. Они замахали платками и возблагодарили Провидение.
«Аргус» взял паруса на гитовы и лег в дрейф по их правому борту, на расстоянии в пол пистолетного выстрела. Пятнадцать уцелевших, самые сильные из которых не прожили бы долее сорока восьми часов, были подняты на борт; капитан и офицеры брига своей неусыпной заботой снова раздули тлеющую в них искорку жизни. Двое, позднее написавшие отчет о своих испытаниях, заключают, что спасение показалось им истинным чудом и что в сем благополучном исходе была заметна рука Высших Сил.
Путешествие фрегата началось с дурного знака, а закончилось оно эхом. Когда лодки-буксиры потащили роковой плот в открытое море, на нем не хватало семнадцати человек. Оставшись на корабле по своей воле, они незамедлительно осмотрели его в поисках того, что не взяли с собой уплывшие и не испортила морская вода. Они нашли галеты, вино, бренди и бекон; какое-то время на этом можно было продержаться. Сначала они не слишком беспокоились, поскольку их товарищи обещали вернуться за ними. Однако, когда минули сорок два дня, а на помощь так никто и не явился, двенадцать из семнадцати решили искать спасения самостоятельно. Выбрав из корпуса корабля несколько брусьев и скрепив их прочными канатами, они построили второй плот и отплыли на нем. Подобно своим предшественникам, они не имели ни весел, ни иного мореходного оснащения, кроме примитивного паруса. С собой они взяли небольшой запас провизии и остатки надежды. Но много дней спустя обломки их плота были обнаружены живущими на побережье Сахары маврами, подданными короля Саида; они принесли эту весть в Андар. Скорее всего, люди с этого второго плота сделались добычей морских чудовищ, которые в таком множестве водятся у берегов Африки.
И наконец, словно в насмешку, за эхом последовало еще одно эхо. На фрегате оставались пятеро человек. Через несколько дней после отбытия второго плота матрос, отказавшийся плыть на нем, также решил достичь земли. Неспособный построить третий плот в одиночку, он пустился в море на клетке для кур. Возможно, это была та самая клетка, на которой роковым утром в день кораблекрушения проверял курс корабля вахтенный офицер мсье Моде. Однако клетка для кур пошла ко дну, и матрос погиб не более чем в полукабельтове от «Медузы».
II
Как воплотить катастрофу в искусстве?
Теперь это делается автоматически. Взрыв на атомной станции? Не пройдет и года, как на лондонской сцене будет поставлена пьеса. Убит президент? Вы получите книгу, или фильм, или экранизированную версию книги, или беллетризованную версию фильма. Война? Шлите туда романистов. Ряд кровавых убийств? И сразу слышен топот марширующих поэтов. Конечно, мы должны понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее себе представить, — отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный выверт Природы, этот сумасшедший человеческий миг? Что ж, по крайней мере, благодаря ему родилось произведение искусства. Может быть, именно в этом главный смысл катастрофы.
Перед тем как начать картину, он обрил себе голову; мы все знаем это. Обрил голову, чтобы ни с кем не видеться, заперся у себя в студии и вышел, только когда закончил свой шедевр. Так вот как это было?
17 июня 1816 г. экспедиция отправилась в путь.
2 июля 1816 г., после полудня, «Медуза» села на риф.
17 июля 1816 г. уцелевшие были сняты с плота.
В ноябре 1817 г. Савиньи и Корреар опубликовали свой отчет о путешествии.
24 февраля 1818 г. был куплен холст.
28 июня 1818 г. холст был перенесен в более просторную студию и заново натянут.
В июле 1819 г. картина была закончена.
28 августа 1819 г., за три дня до открытия Салона, Людовик XVIII посмотрел картину и обратился к художнику со словами, которые Moniteur Universel назвала «одним из тех изящных замечаний, кои служат оценкой работе, а равно и воодушевляют художника». Король сказал: «Мсье Жерико, ваше кораблекрушение никак нельзя назвать катастрофой».
Все начинается с верности правде жизни. Художник читал отчет Савиньи и Корреара; он встречался с ними, беседовал с ними. Он составил из найденных материалов досье. Он отыскал спасенного плотника с «Медузы», и тот сделал для него модель своего оригинального сооружения. На ней Жерико поместил восковые фигуры уцелевших. Чтобы пропитать атмосферу мастерской духом бренности, он окружил себя собственными творениями, изображающими рассеченные конечности и отрубленные головы. На картине в ее последнем варианте можно узнать позировавших ему Савиньи, Корреара и плотника. (Что они чувствовали, имитируя пережитые страдания?)
Во время работы он был абсолютно спокоен, сообщает Антуан Альфонс Монфор, ученик Ораса Верне; движения тела и плеч были едва заметны, и только легкий румянец на щеках выдавал его сосредоточенность. Он писал сразу на белом холсте, и ориентиром ему служили лишь приблизительно намеченные контуры. Он работал дотемна с упорством, продиктованным также технической необходимостью: густые, быстро сохнущие краски, которыми он пользовался, требовали, чтобы каждый фрагмент, раз начатый, был закончен в этот же день. Как мы знаем, он сбрил свои светло-рыжие кудри, не желая, чтобы его беспокоили. Но он был не одинок: натурщики, ученики и друзья по-прежнему посещали дом, который он делил со своим молодым ассистентом Луи-Алексисом Жамаром. Среди его натурщиков был юный Делакруа — с него написана фигура мертвеца, лежащего лицом вниз с вытянутой левой рукой.
Давайте начнем с того, чего он не изобразил. Опущено было следующее:
1) столкновение «Медузы» с рифом;
2) момент, когда буксирные концы были отданы и плот брошен на произвол судьбы;
3) ночные мятежи;
4) вынужденный каннибализм;
5) совершенное ради самосохранения массовое убийство;
6) появление бабочки;
7) сцены с людьми по пояс, или по колено, или по щиколотку в воде;
8) самый момент спасения.
Иными словами, задуманная им картина не должна была быть: 1) политической; 2) символической; 3) театрально-драматической; 4) шокирующей: 5) рассчитанной на дешевый эффект; 6) сентиментальной; 7) документальной или 8) недвусмысленной.
Теодор Жерико. Каннибализм. Эскиз к картине «Плот „Медузы“». Ок. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage.
Примечания
1) «Медуза» была кораблекрушением, газетной сенсацией и картиной; она была также и поводом. Бонапартисты нападали на монархистов. Поведение капитана фрегата стало иллюстрацией: а) некомпетентности морских офицеров и коррумпированности Королевского флота; б) бессердечного отношения представителей правящего класса к тем, кто стоит ниже их. Параллель с государственным кораблем, садящимся на мель, была бы и примитивна, и тяжеловесна.
2) Савиньи и Корреар, двое уцелевших, которые составили первый отчет о кораблекрушении, пытались добиться от правительства компенсации для жертв и наказания виновных офицеров. Отвергнутые официальным правосудием, они апеллировали с помощью своей книги к более широкому суду общественного мнения. Корреар постепенно сделался издателем и памфлетистом; его заведение, названное «У обломков „Медузы“», стало местом сборищ политических оппозиционеров. Мы можем представить себе изображение момента, когда отдают буксирные концы: занесенный топор, сверкнувший на солнце; офицер, сидя спиной к плоту, небрежно распускает узел… получился бы превосходный живописный памфлет.
3) Мятеж был сценой, которую Жерико чуть было не изобразил. Осталось несколько предварительных зарисовок. Ночь, шторм, бушующие волны, порванный парус, подъятые сабли, тонущие люди, рукопашный бой, обнаженные тела. Что здесь неладно? Самое главное, что это похоже на типовую салунную драку в третьеразрядном вестерне, где участниками являются все до единого: кто-то бьет кого-то кулаком, кто-то ломает стул или разбивает бутылку о чужую голову, кто-то в тяжелых ботинках раскачивается на люстре. Чересчур много действия. Можно сказать больше, изобразив меньше.
Уцелевшие наброски сцены мятежа считаются напоминающими традиционные эпизоды Страшного суда с его отделением праведников от грешников и обречением мятежников на вечные муки. Такая аналогия была бы несправедлива. На плоту торжествовала сила, а не добродетель, милосердия же выказывалось очень мало. Подтекст этой версии говорил бы о том, что Бог держал сторону офицерства. Возможно, в ту пору так оно и было. Принадлежал ли к офицерству Ной?
4) В западном искусстве очень мало каннибализма. Ханжество? Едва ли: ханжество не мешало западным художникам изображать выдавленные глаза, отрубленные головы в мешках, жертвенное отсечение грудей, обрезание, распятие. Более того, каннибализм был языческой практикой, что давало возможность благочестиво заклеймить его в красках, исподволь воспламеняя зрителя. Но некоторые сюжеты вообще почему-то использовались реже других. Возьмите, например, представителя офицерства Ноя. Изображений его ковчега поразительно мало. Есть странный, забавный американский примитив и мрачный Якопо Бассано в музее Прадо, но больше на память почти ничего не приходит. Адама и Еву, изгнание из рая, Благовещение, Страшный суд — все это крупные художники писали. Но вот Ноя и его ковчег? Ключевой момент в истории человечества, шторм на море, живописные звери, Божественное вмешательство в дела человека — здесь явно имеется все необходимое. Чем же объяснить этот пробел в иконографии? Возможно, отсутствием достаточно знаменитого изображения ковчега, которое дало бы толчок развитию этого сюжета и превратило бы его в популярный. Или чем-то, кроющимся в самой этой повести: может быть, художники сошлись на том, что потоп характеризует Бога не с лучшей стороны?
Жерико сделал один набросок, темой которого является каннибализм на плоту. Высвеченная им сцена антропофагии изображает мускулистого моряка, гложущего локоть мускулистого трупа. Это выглядит почти комично. В подобных случаях всегда непросто найти верный тон.
5) Картина есть мгновение. Что мы подумали бы, стоя перед полотном, на котором три матроса и солдат сбрасывают людей с плота в море? Что жертвы уже бездыханны? Или что их убивают ради их драгоценностей? Карикатуристы, затрудняясь объяснить смысл своих шуток, часто рисуют нам продавца газет рядом с афишей, где красуется какой-нибудь удобный заголовок. Нужную для понимания этой картины информацию можно было бы передать таким текстом: «УЖАСНАЯ СЦЕНА НА ПЛОТУ „МЕДУЗЫ“, В КОТОРОЙ ОТЧАЯВШИЕСЯ МОРЯКИ, МУЧИМЫЕ СОВЕСТЬЮ, ПРИХОДЯТ К ВЫВОДУ, ЧТО НА ВСЕХ ПРОВИЗИИ НЕ ХВАТИТ, И ПРИНИМАЮТ ТРАГИЧЕСКОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ РАНЕНЫМИ, ДАБЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ». Прямо скажем, длинновато.
Между прочим, «Плот „Медузы“» называется не «Плот „Медузы“». В каталоге Салона полотно именовалось «Scène de naufrage» — «Сцена кораблекрушения». Осторожный политический ход? Может быть. Но тут есть и полезная подсказка зрителю: вам предлагают картину, а не мнение.
6) Нетрудно представить себе появление бабочки в изображении других художников. Но нам наверняка показалось бы, что автор чересчур грубо пытается сыграть на наших чувствах. И даже если бы проблема тона была решена, остались бы две главные трудности. Во-первых, это походило бы на выдумку, хотя в действительности все было именно так; подлинное отнюдь не всегда убедительно. Во-вторых, живописцу, который берется за изображение бабочки величиной в шесть-восемь сантиметров, опустившейся на плот двадцати метров в длину и семи в ширину, очень непросто разобраться с масштабом.
7) Если плот скрыт под водой, вы не можете нарисовать плот. Люди вырастали бы из поверхности моря, словно полчище Венер Анадиомен. Далее, отсутствие плота порождает композиционные трудности: когда все стоят, потому что лечь — значит утонуть, ваша картина оказывается битком набита вертикалями; чтобы с честью выйти из положения, вы должны быть сверхгениальным. Лучше подождать, пока большинство находящихся на плоту умрет, — тогда плот вынырнет из-под воды, и горизонтальная плоскость будет к вашим услугам.
8) Подплывшая вплотную лодка с «Аргуса», уцелевшие, которые тянут руки и карабкаются на нее, трогательный контраст между обликом спасенных и спасителей, изнеможение и восторг — все это, без сомнения, очень эффектно. Жерико сделал несколько набросков этой выразительной сцены. Такая картина производила бы сильное впечатление, но была бы слишком… прямолинейной.
Вот чего он не написал.
Теодор Жерико. Плот «Медузы». Фрагмент с изображением призывающих корабль. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото Эриха Лессинга / akg-images.
А что же он написал? Вернее: что видим на его картине мы? Давайте попробуем посмотреть на нее неискушенным взором. Итак, мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», не зная истории французского мореходства. Мы видим на плоту людей, взывающих о помощи к крошечному кораблю на горизонте (это далекое судно, не можем не заметить мы, по величине примерно такое же, какой была бы та бабочка). Сначала нам кажется, что перед нами миг, предшествующий спасению. Это чувство возникает отчасти благодаря нашей упорной любви к хеппи-эндам, но еще и оттого, что на каком-то уровне нашего сознания брезжит вопрос: как же мы узнали бы об этих людях на плоту, если бы спасти их не удалось?
Что говорит в пользу этого первого предположения?
Корабль находится на горизонте; солнце, хотя его и не видно, тоже на горизонте — оно окрашивает небо желтым. Это восход, заключаем мы, и корабль появляется вместе с солнцем, сулит новый день, надежду и спасение; черные тучи над головой (очень черные) скоро рассеются. А вдруг это закат? Утреннюю и вечернюю зори легко спутать. Что, если это закат, корабль вот-вот исчезнет заодно с солнцем, а потерпевших крушение ждет беспросветная ночь, черная, как эти тучи у них над головой? Чтобы разрешить сомнения, мы могли бы обратиться взором к парусу и посмотреть, движется ли плот к кораблю и разгонит ли ветер эту зловещую тучу, но загадка остается загадкой: ветер дует не от нас и не к нам, а справа налево, и рама пресекает нашу попытку выяснить, какая же погода там, справа. Затем нам, по-прежнему колеблющимся, приходит в голову третья возможность: вполне вероятно, что это восход, но корабль тем не менее удаляется от потерпевших. Так судьба бесповоротно перечеркивает все надежды: солнце встает, но не для тебя.
Тут неискушенный взор с легким раздражением и неохотой уступает место осведомленному. Давайте изучим «Сцену кораблекрушения» в свете рассказа Савиньи и Корреара. Сразу ясно, что Жерико изобразил не тот момент, который предшествовал спасению: тогда все было иначе, ибо бриг вдруг обнаружился около плота и ликование было общим. Нет — это первое появление «Аргуса» на горизонте, заставившее моряков провести в страхе и надежде мучительные полчаса. Сравнивая написанное кистью с написанным пером, мы тут же замечаем, что Жерико не стал изображать человека, залезшего на мачту с выпрямленным обручем от бочки и привязанными к нему платками. Он заменил его другим, забравшимся на бочку и машущим большой тряпкой. Мы медлим перед этой заменой, потом соглашаемся, что она очень выгодна: реальность подсовывала ему петушка на палочке; искусство предложило более уверенный фокус и лишнюю вертикаль.
Но не будем спешить и сразу вспоминать все, что знаем. Дадим потрудиться обидчивому неискушенному взору. Забудем о погоде; разберемся, что происходит на самом плоту. Почему бы для начала не счесть моряков по головам? Всего на картине двадцать человек. Двое энергично машут, один энергично указывает вдаль, двое страстно и умоляюще тянут руки и еще один поддерживает забравшегося на бочку: шестеро за надежду и спасение. Затем имеются пять человек лежащих (двое ничком, трое навзничь), которые либо мертвы, либо умирают, плюс седобородый старик, который сидит в скорбной позе спиной к «Аргусу»: шестеро против. Посередине (как по расположению, так и по настроению) еще восемь персонажей: один полувзывает-полуподдерживает; трое наблюдают за машущим с неопределенным видом; один наблюдает за ним с му́кой на лице; двое, в профиль, следят за волнами, один за набегающими, другой за убегающими; и завершает счет неясная фигура в самой темной, хуже всего сохранившейся части картины — это человек, который сжимает руками голову (и впился в нее ногтями?). Шесть, шесть и восемь; абсолютного перевеса нет.
(Двадцать? — спотыкается осведомленный взор. Но Савиньи и Корреар сообщают лишь о пятнадцати уцелевших. Значит, все те пятеро, которые могли быть просто в обмороке, наверняка мертвы? Да. А как же насчет проведенного отбора, когда пятнадцать здоровых утопили в океане тринадцать своих раненых товарищей? Жерико вернул нескольких погибших из морской пучины, чтобы уравновесить композицию. А учитываются ли голоса мертвых в споре надежды с отчаянием? Строго говоря, нет; но они вносят полноправный вклад в общее настроение картины.)
Итак, состав сбалансирован: шестеро — за, шестеро — против, восемь — непонятно. Оба взора, неискушенный и осведомленный, блуждают по холсту. Они постепенно уходят от главного композиционного центра, человека на бочке; их притягивает фигура в скорбной позе впереди слева, единственный персонаж картины, смотрящий на нас. У него на коленях лежит юноша, который — мы это уже вычислили — наверняка мертв. Старик повернулся спиной ко всем живым; поза его выражает покорность, печаль, отчаяние; далее, он выделяется своими сединами и накидкой, красным куском материи. Он словно попал сюда из другого жанра — возможно, какой-нибудь заблудившийся пуссеновский старец. (Чепуха, перебивает осведомленный взор. Пуссен? Герен и Гро, коли уж на то пошло. А мертвый «сын»? Смесь Герена, Жироде и Прюдона.) Что же делает этот «отец»: а) оплакивает мертвеца (сына? друга?), лежащего у него на коленях? б) укрепляется в уверенности, что их никогда не спасут? в) думает, что даже если их спасут, это гроша ломаного не стоит из-за смерти, которую он держит в объятиях? (Между прочим, замечает осведомленный взор, иногда невежество и вправду помогает жить. Вы бы, к примеру, никогда не догадались, что «отец и сын» — это подавленный каннибалистический мотив. Впервые они появляются вместе на единственном сохранившемся наброске сцены каннибализма, и всякий образованный современник, глядя на картину, непременно вспомнил бы графа Уголино, скорбящего в Пизанской башне среди своих умирающих детей — которых он съел. Теперь понятно?)
Теодор Жерико. Плот «Медузы». Фрагмент с изображением седобородого мужчины. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото Эриха Лессинга / akg-images.
Но что бы, по нашему мнению, ни думал этот старик, его присутствие на картине ощущается с не меньшей силой, чем присутствие человека на бочке. Это противостояние заставляет сделать следующий вывод: на холсте изображен момент, когда «Аргус» находился в середине своего получасового путешествия по горизонту. Пятнадцать минут уже прошло, пятнадцать осталось. Некоторые все еще считают, что корабль направляется в их сторону; некоторые сомневаются и ждут, что будет; некоторые — включая самого умного человека на борту — знают, что он удаляется от них и на спасение рассчитывать нечего. Эта фигура помогает нам истолковать «Сцену кораблекрушения» как образ обманутой надежды.
Почти все, кто видел картину Жерико в стенах Салона 1819 года, знали, что они смотрят на уцелевших моряков с «Медузы». Знали, что корабль на горизонте подобрал их (пусть не с первой попытки), и знали, что случившееся с экспедицией в Сенегал отозвалось крупным политическим скандалом. Но картина, которая стала шедевром, обретает свою собственную историю. Религия гибнет, икона остается; происшествие забыто, но его воплощение в красках по-прежнему завораживает (неискушенный взор торжествует — какая досада для осведомленного взора). Теперь, когда мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», нам трудно всерьез возмущаться поведением Гюгюса Дюроя де Шомарея, капитана экспедиции, или министра, который назначил его капитаном, или морского офицера, который отказался принять командование плотом, или отдавших буксирные концы матросов, или взбунтовавшихся солдат. (И в самом деле, история демократизирует наши симпатии. Разве солдат не ожесточил приобретенный на войне опыт? Разве капитан виноват в том, что он рос избалованным ребенком? Можем ли мы поручиться, что сами проявили бы себя героями в подобной ситуации?) Время растворяет историю, обращая ее в форму, цвет, чувство. Нынче, несведущие, мы пересоздаем историю: примем ли мы сторону оптимистического желтеющего неба или печального седобородого старика? Или в конце концов оставим в силе оба варианта? Наше настроение, а с ним и интерпретация картины могут меняться от одного полюса к другому; не так ли и было задумано?
8а) Он едва не изобразил следующее. Два эскиза, написанные маслом в 1818 году и по композиции стоящие ближе всего к окончательной версии, имеют такое существенное отличие: корабль, к которому взывают потерпевшие, на них много ближе. Мы видим его очертания, паруса и мачты. Он изображен в профиль, справа, на самом краю картины — муки людей, которые следят за его продвижением по нарисованному горизонту, только начинаются. Ясно, что плота он не замечает. Воздействие этих предварительных набросков на зрителя носит более активный, кинетический характер; нам кажется, что неистовые усилия людей на плоту могут достичь цели в ближайшие же две минуты и что картина, переставая быть мгновением, подталкивает себя в собственное будущее вопросом: неужели корабль уплывет за раму, ограничивающую холст, так и не заметив плота? Напротив, последняя версия «Кораблекрушения» менее активна, ставит вопрос не столь отчетливо. Мы уже не ждем, что потерпевших вот-вот спасут; случайность, от которой зависит судьба этих людей, отодвигается в область фантастики. С чем можно сравнить их шансы на спасение? С каплей в море.
Он провел в мастерской восемь месяцев. Примерно в ту же пору был нарисован автопортрет, с которого он смотрит на нас угрюмым, довольно подозрительным взглядом, нередким у художников, позирующих себе перед зеркалом; мы виновато думаем, что его неодобрение адресовано нам, хотя в первую очередь оно относится к самому автору. Борода у него короткая, стриженую голову прикрывает греческая шапка с кисточкой (мы знаем только то, что он обрился в начале работы над картиной, но за восемь месяцев волосы успевают порядком отрасти; сколько еще стрижек ему понадобилось?). Его пиратская внешность впечатляет, он кажется нам достаточно свирепым и целеустремленным, чтобы пойти на приступ, взять на абордаж свое огромное «Кораблекрушение». Между прочим, кисти у него были необычные. По широкой манере его письма Монфор заключил, что Жерико, скорее всего, пользовался очень толстыми кистями; но они были у него меньше, чем у других художников. Маленькие кисти и густые, быстро сохнущие краски.
Мы должны помнить его за работой. Возникает естественный соблазн упростить, свести восемь месяцев к законченной картине и серии предварительных набросков; но поддаваться ему нельзя. Жерико выше среднего роста, силен и строен, у него замечательные ноги, которые сравнивали с ногами сдерживающего лошадь эфеба в центре его «Скачек в Барбери». Стоя перед «Кораблекрушением», он работает с глубокой сосредоточенностью, ему нужна абсолютная тишина: чтобы порвать невидимую нить между глазом и кончиком кисти, достаточно простого скрипа стула. Он пишет свои большие фигуры сразу на холст, куда перед тем нанесены лишь легкие контуры. Незавершенная, его работа походит на ряд висящих на белой стене скульптур.
Мы должны помнить его затворничество в мастерской, помнить его за работой, в движении, делающим ошибки. Когда нам известен результат этих восьми месяцев труда, путь к нему кажется прямым. Мы начинаем с шедевра и пробираемся назад сквозь отброшенные идеи и полуудачи; но у него эти отброшенные идеи рождались как озарения, и то, что нам дано сразу, он увидел лишь в самом конце. Для нас вывод неизбежен; для него нет. Мы должны попытаться учесть случайность, счастливые находки, даже блеф. Мы можем объяснить это только словами — но попытайтесь забыть о словах. Процесс письма может быть представлен рядом решений, пронумерованных от 1) до 8а), но нам надо понимать, что это лишь комментарии к чувству. Мы должны помнить о нервах и эмоциях. Художник не скользит по тихой реке к солнечной заводи оконченного труда, но пытается удержать курс в открытом море, полном противоборствующих течений.
Все начинается с верности правде жизни; но после первых же шагов верность искусству становится более важным законом. Изображенное никогда не происходило в действительности; цифры не совпадают; каннибализм сведен к литературной ссылке; группа «отца и сына» имеет самое шаткое документальное обоснование, группа около бочки — вовсе никакого. Плот был приведен в порядок, словно перед официальным визитом какого-нибудь чересчур впечатлительного монарха: куски человеческой плоти убраны с глаз долой, прически у всех волосок к волоску, как новенькая кисть художника.
По мере приближения к последнему варианту вопросы формы начинают преобладать. Жерико сдвигает фокус, урезает, настраивает. Горизонт то поднимается, то опускается (если фигура человека на бочке ниже горизонта, выходит слишком мрачно — плот поглощен морем; чем она выше, тем ярче проблеск надежды). Он отсекает окружающие участки неба и моря, вталкивая нас на плот, хотим мы этого или нет. Он увеличивает расстояние от потерпевших до спасительного корабля. Он подыскивает для своих персонажей нужные позы. Часто ли столько действующих лиц на картине бывает обращено спиной к зрителю?
А какие красивые, мускулистые у них спины. Тут мы чувствуем некоторое смущение; однако смущаться не стоит. Наивные вопросы порой вскрывают самое важное. Так что соберемся с духом и спросим. Почему уцелевшие кажутся такими здоровыми? Мы восхищаемся тем, что Жерико разыскал плотника с «Медузы» и уговорил его соорудить модель плота… но… раз он так хотел правильно изобразить плот, отчего было не сделать того же и с людьми? Мы можем понять, зачем он погрешил против истины, выведя человека с флагом в отдельную вертикаль, зачем на картине появились уравновешивающие композицию добавочные трупы. Но почему все — даже мертвые — выглядят такими крепышами, такими… здоровяками? Где раны, шрамы, истощение, болезни? Ведь эти люди пили собственную мочу, жевали кожу на своих шляпах, питались плотью своих товарищей. Пятеро из пятнадцати ненадолго пережили день спасения. Так почему же они смахивают на выпускников группы бодибилдинга?
Когда телекомпании штампуют свои эффектные фильмы о концлагерях, взор — неискушенный или осведомленный — всегда останавливается на этих статистах в пижамах. Их головы могут быть обриты, плечи сгорблены, весь лак с ногтей смыт, но все равно они пышут энергией. Глядя, как на экране они выстраиваются в очередь у котла с жидкой овсянкой, куда презрительно сплевывает лагерный охранник, мы представляем себе, как между съемками они обжираются в ресторанах. Является ли «Сцена кораблекрушения» прототипом этой лжи? Имей мы дело с другим художником, мы бы остановились и призадумались. Но Жерико — запечатлитель безумия, трупов и отрубленных голов. Однажды он встретил на улице приятеля, который был весь желтый от желтухи, и отпустил комплимент насчет его внешнего вида. Такого художника едва ли смутит задача изобразить плоть, подвергшуюся самым жестоким испытаниям.
Давайте же представим себе еще нечто, чего он не написал, — «Сцену кораблекрушения», в которой все действующие лица измождены до последней степени. Усохшая плоть, гноящиеся раны, щеки как у узников Бельзена — такие подробности без труда вызвали бы у нас сочувствие. Соленая вода хлынула бы из наших глаз под стать соленой воде на картине. Но подобный мгновенный эффект нехорош: уж слишком он примитивен. Полускелеты в отрепьях находятся в том же эмоциональном регистре, что и бабочка: глядя на первых, мы чересчур легко отчаиваемся, увидев вторую — чересчур легко утешаемся. Такие фокусы дело нехитрое.
Однако отклик, которого ищет Жерико, лежит дальше простой жалости и негодования, хотя эти чувства могут быть подобраны по пути, как путешествующие автостопом. Несмотря на весь свой конкретный характер, «Сцена кораблекрушения» полна мощи и динамизма. Фигуры на плоту точно волны: они тоже дышат энергией бушующего внизу океана. Будь они дистрофичны, чего требует правда жизни, они были бы не полноценными проводниками этой энергии, а скорее брызгами пены. Ибо взгляд наш скользит — не от скуки, не рассудочно, но будто подхваченный морским валом — на гребень, к фигуре зовущего, потом вниз, во впадину, к отчаявшемуся старику, затем по диагонали к распростертому справа трупу, который словно вливается в настоящие волны. Именно потому, что персонажи ее достаточно крепки и сильны для выражения этой мощи, картина высвобождает в нас более глубокие, подводные эмоции, увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного подъема, паники и отчаяния.
Что произошло? Картина снялась с якоря истории. Это уже не «Сцена кораблекрушения», тем более не «Плот „Медузы“». Мы не просто воображаем себе жестокие страдания людей на этом плоту; не просто становимся этими людьми. Они становятся нами. И секрет картины кроется в ее энергетическом заряде. Взгляните на нее еще раз: на эти мускулистые спины, в своем порыве к спасению водяным смерчем взмывающие к крошечному кораблю на горизонте. Весь этот буйный всплеск — ради чего? Главный импульс, заложенный в картине, остается, по сути, безответным, так же как безответно большинство человеческих чувств. Не только надежда, но любая обуревающая нас страсть: честолюбие, ненависть, любовь (особенно любовь) — часто ли эти стремления приводят нас к тому, чего мы, по нашему мнению, заслуживаем? Как тщетно мы взываем; как темно небо; как высоки волны. Все мы затеряны в море, мечемся по воле течений от надежды к отчаянию, хотим докричаться до спасительного корабля, но нас вряд ли услышат. Катастрофа стала искусством; однако это превращение не умаляет. Оно освобождает, расширяет, объясняет. Катастрофа стала искусством; может быть, именно в этом и есть ее главный смысл.
А как насчет той более давней катастрофы, потопа? Что ж, ранняя иконография представителя офицерства Ноя не таит в себе никаких сюрпризов. В первую дюжину с лишним веков христианства ковчег (обычно в виде простого короба или саркофага, намекающих на то, что спасение Ноя было предвестием выхода Христа из своей могилы) часто появляется в иллюстрированных рукописях, на витражах, в церковной скульптуре. Ной был весьма популярен: мы можем обнаружить его на бронзовых дверях Сан-Дзено в Вероне, на западном фасаде Нимского собора и восточном Линкольнского; он бороздит океан на фресках Кампо-Санто в Пизе и Санта-Марии Новелла во Флоренции; он бросает якорь на мозаике в Монреале, во Флорентийском баптистерии, в венецианском соборе Святого Марка.
Но где же великие полотна, знаменитые росписи, к которым все это должно было бы привести? Что случилось — неужто воды потопа пересохли? Не то чтобы так; но их направил в другое русло Микеланджело. В Сикстинской капелле ковчег (теперь похожий скорее на плавучую эстраду, чем на корабль) впервые теряет свое композиционное главенство; здесь он отодвинут на самый задний план. Передний же план занят теми допотопными горемыками, которых обрекли на погибель, в то время как избранник Ной со своим семейством удостоился спасения. Акцент сделан на брошенных, покинутых, отверженных, на грешниках — шлаке Господнем. (Позволительно ли счесть Микеланджело рационалистом, поддавшимся жалости и рискнувшим мягко упрекнуть Бога за бессердечие? Или же считать его набожным, верным своему папскому контракту и поучающим нас: вот что может случиться, если мы сойдем с прямых путей? Возможно, все дело тут в эстетике — художник предпочел очередному послушному изображению очередного деревянного ковчега извивающиеся тела про́клятых.) Какой бы ни была причина, Микеланджело переориентировал — и оживил — старую тему. Бальдассаре Перуцци, Рафаэль последовали его примеру; художники и иллюстраторы все чаще концентрировали внимание не на спасенных, а на покинутых. И с обращением этого новшества в традицию сам ковчег уплывал все дальше и дальше, отступая к горизонту, как «Аргус» по мере приближения Жерико к окончательному варианту картины. Ветер продолжает дуть, волны — катиться; ковчег постепенно достигает горизонта и исчезает за ним. В пуссеновском «Потопе» корабля уже нигде не видать; все, что нам осталось, — это группа отверженных страдальцев, которых впервые вывели на передний план Микеланджело и Рафаэль. Старик Ной уплыл из истории искусств.
Три отклика на «Сцену кораблекрушения».
а) Салонные критики жаловались, что, хотя события, отраженные художником, им и небезызвестны, в самой картине нет деталей, позволяющих определить национальность жертв, а также то, под какими небесами разыгралась трагедия и когда именно все произошло. Конечно, эти детали были опущены намеренно.
б) Делакруа в 1855-м, почти сорок лет спустя, вспоминал свою первую реакцию на едва начатую «Медузу»: «Она произвела на меня такое сильное впечатление, что, выйдя из мастерской, я бросился бежать и бежал как сумасшедший всю дорогу до своего дома на рю де ла Планш, в дальнем конце Сен-Жерменского предместья».
в) Жерико на смертном одре в ответ на чье-то упоминание о картине: «Bah, une vignette!»[2]
И вот он — момент наивысших страданий на плоту, схваченный, видоизмененный, оправданный искусством, превращенный в весомый, полный внутреннего напора образ, затем покрытый лаком, обрамленный, застекленный, вывешенный в знаменитой картинной галерее иллюстрацией нашего положения в мире, неизменный, окончательный, всегда на своем месте. Так ли это? Увы, нет. Люди умирают; плоты гниют; и шедевры искусства не исключение. Эмоциональное воздействие работы Жерико, противоборство надежды и отчаяния подчеркнуты выбором цветовой гаммы: хорошо освещенные участки плота резко контрастируют с областями наигустейшей тьмы. Чтобы сделать тени как можно мрачнее, Жерико использовал битумные добавки, которые позволили ему добиться искомой блестящей черноты. Однако битум химически нестабилен, и со дня посещения Салона Людовиком XVIII шло медленное, необратимое разрушение наложенных на холст красок. «Едва появившись на свет, — сказал Флобер, — мы по кусочкам начинаем осыпаться». Шедевр, раз законченный, не останавливается — он продолжает двигаться, теперь уже под уклон. Наш ведущий специалист по Жерико подтверждает, что картина «местами выглядит весьма плачевно». А если посмотреть, что происходит с рамой, там наверняка будут обнаружены древесные черви.
Делакруа — романтик?
В 1937 году американский художественный критик Уолтер Пач впервые перевел на английский «Дневник» Делакруа. В своем предисловии Пач приводит случай, о котором ему много лет назад рассказывал Одилон Редон. Однажды в 1861 году в Париже молодой Редон, только что прибывший из Бордо и еще не успевший прославиться, пошел на бал со своим братом Эрнестом, музыкантом. Там их представили Делакруа, но братья, едва отважившись заговорить с ним, весь вечер только следовали за ним по залу «от одной группы гостей к другой, жадно внимая каждому его слову». Увидев приближающегося художника, знаменитости умолкали, а он, хоть и не был хорош собой, держался «подобно коронованной особе». Когда Делакруа ушел с бала, братья Редоны последовали за ним:
«Мы шли за ним по улицам. Он шагал медленно и казался погруженным в раздумья, и поэтому мы держались на расстоянии, чтобы не мешать. Недавно прошел дождь, и я помню, как он осторожно обходил лужи. Только дойдя до дома на Правом берегу, где он прожил до того много лет, Делакруа осознал, что пришел туда просто по привычке, повернулся и так же медленно и задумчиво двинулся через весь город на другой берег, в дом на рю Фюрстенберг; он жил там до самой своей смерти, последовавшей два года спустя».
Редон и сам описал этот случай, который он отнес к 1859 году, в посмертно изданной книге записок «Себе самому». Хотя в теории такой источник должен быть достовернее, его собственная версия выглядит более приукрашенной. Так, в ней молодых Редонов не просто представляют Делакруа — великого художника в толпе находит Эрнест, «повинуясь чутью». Братья бросаются к нему:
«Он обвел нас своим неповторимым взглядом — сверкающим ярче пламени свечей в люстре. Держался он величественно; на высоко поднятом вороте был прикреплен орден Почетного легиона, на который Делакруа то и дело поглядывал. К нему подошел Обер[3] и подвел юную принцессу дома Бонапартов[4], которой, по его словам, „не терпелось увидеть столь крупного художника“. Он дернулся, с улыбкой поцеловал ей ручку и произнес: „Что ж, как видите, не такой уж он и крупный“».
В рассказе Редона Делакруа выступает одновременно как мифический герой, каким он и должен предстать юному воображению поклонника, и как обычный человек, которому можно сопереживать. Мы читаем: «Когда я увидел Делакруа… он был великолепен, словно тигр: гордость, изящество, мощь». Но вместе с тем нельзя было не заметить его «сутулых плеч и плохой осанки», его «невысокого роста, худобы, нервозности». Шагая в одиночестве по ночному Парижу, залитому дождем, он «балансировал на узких тротуарах, будто кот». И еще одна сцена, которой нет в версии, рассказанной Редоном американскому критику, — пожалуй, она слишком хороша, чтобы быть правдой:
«Его взгляд привлекла афиша с надписью „Картины“; он подошел к ней, прочел и пошел дальше, погруженный в свои мечтания — я бы даже сказал, одержимый ими».
Редон явно не раз пересказывал эту историю в компаниях, и наверняка где-то найдутся и другие ее варианты. Но несмотря ни на что, в ней много подлинного Делакруа: гордость и неуверенность в себе, успех в обществе и одиночество, обостренное внимание и мечтательность, честолюбие и замкнутость, кошачье чутье и неприкаянность. И хотя поклонники были готовы следовать за этим великим романтиком повсюду, последователей в творчестве у него было мало. Он выходил в свет, играл свою роль и уходил — бродить в одиночестве по мокрым улицам.
Делакруа начал вести «Дневник» 3 сентября 1822 года, когда ему было двадцать четыре. Дневник открывается лапидарным заявлением и интригующим обещанием:
«Привожу в исполнение много раз возникавшее у меня намерение вести дневник. Больше всего мне хотелось бы не забывать, что я пишу только для самого себя; значит, я буду, надеюсь, правдив и стану от этого лучше. Эти записи будут служить упреком моему непостоянству. Начинаю я их в прекрасном расположении духа»[5].
Теперь понятно, почему некоторые считают все частные дневники в каком-то смысле предназначенными для чужих глаз. Несмотря на категоричность второго предложения, взятый целиком, этот пассаж приглашает нас к чтению. Будь это роман, в первом абзаце уже содержалась бы завязка сюжета: нам хочется, даже необходимо знать, действительно ли автор дневника искренен, станет ли он в результате лучше, откажется ли от первоначальных убеждений и сохранит ли доброе расположение духа. Более того, первая запись в дневнике Делакруа появляется в особенный для него день, и эта дата (годовщина смерти его матери) заставляет его — а заодно позволяет и нам — обратить взгляд как в прошлое, так и в будущее: только что государство купило его первую значительную живописную работу, «Ладью Данте», и она вывешена в Люксембургском дворце. Далее, совсем недавно его сердцем завладела одна юная особа — по имени, конечно же, Лизетта, — в которой «есть крупица того, что так хорошо чувствовал Рафаэль. У ее рук — чистота бронзы; их форма нежна и в то же время крепка». Он поцеловал ее в первый раз в темном уголке дома, когда они возвратились домой из деревни. Казалось бы, после этого «Дневник» просто обязан стать историей любви и честолюбия в стендалевском духе, тем более что происхождение героя-художника окутано романической тайной. (Еще при жизни Делакруа ходили слухи, что он — незаконный сын Талейрана.)
Теодор Жерико. Плот «Медузы». Фрагмент с изображением распростертой фигуры, для которой позировал Делакруа. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото Эриха Лессинга / akg-images.
Но ожиданиям сбыться не суждено: ни Лизеттиным (молодой поклонник уже размышляет о том, как станет вспоминать ее впоследствии — «прелестным цветком на моей дороге и в моей памяти»), ни читательским. «Дневник» — один из величайших документов истории искусства XIX века, но он вовсе не таков, каким может показаться вам или тем, кто полистал различные сокращенные издания. Во-первых, в нем есть огромный пробел в самом начале — с 1824 года по 1847-й, — так что автор «Дневника» как бы мгновенно стареет — с двадцати с чем-то до почти пятидесяти. Далее, ожидаемая фабула в духе Стендаля внезапно отсутствует: жизнь художника-романтика оказывается не слишком-то романтичной. Несмотря на все восхищение Байроном, Делакруа были чужды страсти и грехи английского поэта. За исключением поездки в Марокко в 1832 году, он и Парижа почти не покидал; не бывал он даже в Италии, куда столь многие из его коллег-художников отправлялись, чтобы воочию увидеть знакомые лишь по копиям оригиналы. Амурные приключения у него, конечно, случались, но не было великой любви, которую препарировали бы исследователи и которой восхищались бы поклонники. Он считал, что любовь отнимает слишком много времени, и, хотя недолгое время тешил себя мечтой о спутнице жизни, которая была бы ему во всем равна или даже превосходила бы его, вскоре смирился с тем, что «женщины — всего лишь женщины, и все они по сути одинаковы». Художнику было хорошо известно, и даже в чем-то желанно, «то неизбежное одиночество, на которое обречены наши сердца», но Делакруа сознавал его преимущества для творческого человека: «то, что переживаешь наедине с самим собой, остается крепким и непорочным». Поэтому к внешнему миру он относился с изысканно-холодной вежливостью. Всего через год с момента появления первой записи Делакруа назовет привычку регулярно вести дневник «средством успокоить волнения, мучающие меня в течение долгого времени». Дневник, таким образом, — проявление самодисциплины, а дисциплина — кратчайший путь к величию; перед лицом этой всепоглощающей страсти бессильны все Лизетты в мире. «Не пренебрегай ничем, что может привести тебя к величию», — советовал Стендаль, а сам Делакруа в своем дневнике повторял вслед за Вольтером: лень — признак посредственности.
Получается, что, хотя содержание этих «дневников романтика» в чем-то соответствует нашим ожиданиям, вообще-то, они служили художнику и в других качествах: это и рабочий журнал, и блокнот для путевых заметок, и черновик «Словаря изящных искусств», который он хотел составить, и записная книжка, и архив корреспонденции, и сборник цитат, и адресная книга, и многое другое; в нем попадаются расписания поездов и омнибусов, вырезки из газет, квитанции. В своей последней воле Делакруа даже не упоминал эти écrits intimes[6]. В 1853 году он разрешил своему другу Теофилю Сильвестру просмотреть рукописи и опубликовать несколько фрагментов; однако мы знаем, что он не желал публиковать «Дневник» целиком, пока он жив (или пока живы те, о ком он нелицеприятно отзывается на его страницах). Более того, Жанни ле Гийю, многие годы помогавшая художнику по хозяйству, говорила, что за несколько дней до смерти Делакруа хотел сжечь дневник, однако она спасла рукопись из огня. В своем предисловии к новому французскому изданию «Дневника» (первому с 1932 года) Мишель Аннуш пишет, что намерения Делакруа относительно записок остаются «абсолютно неизвестными». Однако неясны даже границы самого «произведения». Предыдущие издатели отдавали приоритет одним дневниковым тетрадям перед другими, чтобы в итоге вышло нечто похожее на привычный нам дневник; но у нас, в общем, нет оснований думать, что самому Делакруа фрагменты, составляющие основной текст наших изданий, были важнее, чем те, которым нашлось место лишь в приложениях. Аннуш называет дневник Делакруа «документом невероятно сложным, неоднородным, хаотичным и запутанным». Художник признавал, что делал записи «на бегу», на любом подвернувшемся клочке бумаги, в любом блокноте; поэтому восстановить сюжет повествования или даже просто хронологию не всегда возможно. Он возвращается к тексту, исправляет его, дополняет; иногда одному дню соответствует несколько записей. Местами текст дневника больше напоминает рабочий черновик чего-то вроде «Опытов» Монтеня или «Философского словаря» Вольтера, которыми Делакруа восхищался. Уолтер Пач, хотя и посвятил «великому художнику», по собственным словам, тридцать пять лет жизни, во время работы над первым английским изданием без тени смущения или сожаления выбрасывал из оригинала «целые страницы чепухи»:
«Мне известны лишь немногие, кто хотя бы попытался продраться через три толстых тома оригинального издания. Большинство из тех, кто берется за эти знаменитые книги, пусть даже из самых благородных побуждений, сдаются, потеряв нить сюжета среди перечислений прочно забытых персоналий, отчетов о расходах… и бесконечных списков красок — тех сведений, на основе которых подмастерья художника работали над его великими росписями. Эти списки совершенно бесполезны для современных художников, так как рядом уже нет Делакруа, который бы подсказал, в какой пропорции эти краски надо смешивать».
Мишель Аннуш в своем издании «Дневника» 2010 года значительно дополнила эти «три толстых тома». Оригинальные рукописи художника были изучены заново, к разделу приложений были добавлены новые документы, а авторский текст вытеснили на самый верх страницы обильные сноски: на мгновение в них снова оживают «прочно забытые персоналии», а «бесконечные списки красок» вновь занимают подобающее им место. Это гениальная работа издателя, в которой имеет шанс потеряться целое новое поколение читателей — некоторые с цитатой из записи от 1857 года на устах: «Затянутость — главнейший недостаток книги»[7]. Однако эта устрашающе полная версия сослужит добрую службу тем, кого занимают не только сюжеты, мнения и образ автора, увиденный его собственными глазами, но и то, что интересно самому художнику, в том числе все неизбежные мелочи и дрязги профессии. Полное издание «Дневника» — чтение порой изматывающее, но оно позволяет увидеть подлинную повседневную жизнь художника с намного более близкого расстояния.
Чем больше вы узнаёте его, тем сложнее становится загнать Делакруа в какие бы то ни было рамки. Он принадлежал к тому поколению французских романтиков, которое вдохновлялось Шекспиром и Байроном, Вальтером Скоттом и Гёте; однако он считал своим идеалом и Вольтера. Он вроде бы находит родственные души в Стендале и Берлиозе, но в «Дневнике» часто отзывается нелестно о «невыносимом» композиторе: его творчество — такая же халтурная поделка, как и книги Дюма, а «Осуждение Фауста» — просто «героическая чепуха». И хотя Стендаль одним из первых признал талант Делакруа и еще в 1824-м назвал его «учеником Тинторетто», но в том же году Делакруа писал в «Дневнике», что «этот Стендаль наглец, он судит здраво, но слишком высокомерно, а порой завирается». В отличие от Берлиоза, Делакруа не видит в Бетховене великого освободителя музыки; он, конечно, восхищается Бетховеном, а иногда его восхищение почти не знает границ, но в то же время для него этот композитор утомителен и неровен, а ближе ему Моцарт, который «дышит покоем верно выстроенной фразы». Как и многие художники, проявляющие яркую оригинальность в собственном творчестве, он не склонен принимать новые формы и приемы в других видах искусства; поэтому он инстинктивно не доверяет Вагнеру — не слышав ни ноты из его опер, — ведь тот хочет «нововведений» как в музыке, так и в политике. «Он мнит, будто достиг истины; ниспровергает многие условности музыки, считая, что за этими условностями не стоят непреложные законы». (Парадоксально, что Ницше, отзывавшийся о художнике в целом отрицательно, в конце концов пришел к выводу, что «Делакруа — это своего рода Вагнер».)
У Делакруа мы не находим и сколько-нибудь понятных параллелей между жизнью и творчеством, как у других художников-романтиков. В его картинах мы видим бурю, страсть, насилие, роскошь; а в жизни он был замкнутым человеком, боялся страстей и более всего ценил покой, надеясь и веря, что человечеству «суждено однажды понять: покой превыше всего». В нем было многое от денди — но не столько образ, сколько сознание своего духовного превосходства. По словам Аниты Брукнер, он был, возможно, самым светским художником со времен Рубенса, но вместе с тем (и тоже по ее словам) человеком привередливым и в чем-то даже скупым, отшельником и аскетом во всем, кроме своего яркого воображения. Он не любил людей, живших плотской жизнью, и с подозрением относился к выставленной напоказ «устрашающей роскоши» салона демимонденки Ла Паива, после ужинов у которой «чувство переедания сохранялось до утра». Делакруа был чужд романтический оптимизм; согласно его убеждениям, искусство «находится в непрерывной деградации» еще с XVI века, когда были решены все величайшие задачи живописи. Не нравилось ему и отношение поклонников: «Меня записали в романтический лагерь, хотел я того или нет». Когда некто, желая польстить, назвал Делакруа «Виктором Гюго живописи», художник ответил ледяным тоном: «Мсье, вы заблуждаетесь: я сторонник классического искусства». И пусть его, пожалуй, самое известное произведение — это «Свобода, ведущая народ» (в которой сейчас многие ошибочно видят сцену 1789 года, а не 1830-го), но сам ее автор был по духу скорее реакционером. Он считал, что человек — «подлое и ужасное животное», природой обреченное прозябать в посредственности. Истина, по его мнению, доступна лишь немногим избранным, а не массам. Он не одобрял использования машин в сельском хозяйстве, потому что механизация оставит селянам слишком много времени на праздный досуг (хотя для себя он ввел правило, о котором сообщает Редон: «Отдыхай почаще»). Подобно Флоберу и Рёскину, он ненавидел железные дороги и пессимистично замечал, что в будущем нас ждет «мир биржевых дельцов»: города заполонят бывшие крестьяне, которые не интересуются ничем, кроме курса акций, — «людской скот, откормленный философами». Сентиментальность он называл тяжким пороком, а гуманистические взгляды — и того хуже (и это человек, который боготворил Жорж Санд). Порою трудно избавиться от мысли, что мы считаем Делакруа романтиком ошибочно: возможно, разумнее было бы видеть в нем некую отдельную могучую вспышку, случайно совпавшую с расцветом романтизма?
А еще Делакруа не перестает удивлять. Он восхищался картинами Холмана Ханта. Считал, что в Перигё женщины красивее, чем в Париже. Заявлял, что ему так же интересно разговаривать с «кретинами», как и с «людьми мыслящими». Был убежден, что Рембрандт «несравненно более великий живописец, нежели Рафаэль» (для тех времен настоящее «кощунство», говорит сам Делакруа). В 1851 году он вошел в число основателей Гелиографического общества — первого научного общества, посвященного фотографии, — и тем самым стал одним из первых художников, задумавшихся о сущности и возможных последствиях нового вида искусства. Впрочем, он не относился к числу тех, кто поверил, будто «с сегодняшнего дня живопись умерла». В мае 1853-го он рассматривает фотографии Эжена Дюрье с изображением обнаженных моделей: «Некоторые из них плохо скомпонованы, некоторые передержаны, эффект неудачный». Однако затем он сравнивает эти факты натуры с гравюрами Маркантонио[8], которые вызывают «ощущение отторжения, почти отвращения, своей ошибочностью, манерностью, отсутствием естественности». И все же преимущества фотографии не очевидны: с одной стороны, Делакруа убежден, что «гениальный художник» сможет использовать метод дагеротипии, чтобы «подняться до неведомых нам высот»; однако пока что «машинное искусство» умеет только «портить шедевры» и не может «удовлетворить нас окончательно». Впрочем, в августе следующего года Делакруа снова выполняет рисунки по дагеротипам Дюрье, и уже в октябре 1855-го он выражается намного категоричнее: он рассматривает «со страстью и без устали эти фотографии обнаженных мужчин, эту восхитительную поэму человеческого тела, которую я только учусь читать»[9].
В характере художника открытость всему новому сочеталась с боязнью быть загнанным в рамки — творчески или лично, по собственному желанию или, еще хуже, ради кого-то другого. Он позволял себе добрые чувства к Жанни ле Гийю, ее преданность была ему приятна — несомненно, потому, что эти чувства не волновали, а способствовали душевному покою. Но вопреки своему нежеланию быть кому-либо обязанным получить тот самый орден Почетного легиона Делакруа очень хотел. Как и многие другие независимые французские художники и писатели, с каждым отказом, полученным от Института Франции[10], Делакруа все сильнее загорался желанием быть в него принятым (его наконец избрали в 1857 году, с восьмой попытки). Этот конформизм смущал, например, Бодлера; в письме Сент-Бёву через три года после смерти Делакруа он вспоминал, как попросил художника объяснить такое «несгибаемое упорство», в то время как «молодежь предпочитала бы видеть в нем изгнанника и бунтаря». Делакруа ответил:
«Мсье, если мою правую руку разобьет паралич, членство в Институте обеспечит мне право преподавать и, сверх того, оплатит мне кофе и сигары — если я буду еще в состоянии ими наслаждаться».
Как это похоже на нынешнюю рыцарственную аристократию от искусства, которая, изображая скромность, утверждает, будто главное преимущество рыцарского титула — в том, что сэрам легче заказать столик в ресторане.
Анри Фантен-Латур. Памяти Делакруа. Фрагмент с изображением (слева направо) Уистлера, писателя Шанфлёри, Мане. 1864. Музей Орсе, Париж. Фото: DeA Picture Library / The Art Archive.
В то же время — а в случае с Делакруа «в то же время» приходится повторять часто — художнику не особенно нравилось выглядеть «изгнанником и бунтарем». Бодлер же, на самом деле, желал, чтобы молодежь считала бунтарем его самого. Собственно, многое в сложных взаимоотношениях этих двоих объяснялось тем, что писатель хотел перетянуть художника на свою сторону, а тот сопротивлялся: отчасти по своей разборчивости, а отчасти из гордости, не желая незаслуженных похвал. И пусть Бодлер превозносил Делакруа как «безусловно оригинальнейшего художника всех времен — древних и новых», но вместе с тем он стремился наложить на него «свой отпечаток неумирающей болезненности», как это называла Брукнер. А Делакруа не хотел, чтобы в «Смерти Сарданапала» или «Алжирских женщинах» искали непременную бодлеровскую мрачность. Поэтому в своем «Дневнике» художник в основном красноречиво умалчивает о Бодлере, а самый заметный случай, связанный с ним, на первый взгляд выглядит до крайности прозаично:
«Пришел Бодлер, когда я вновь взялся за маленькую, в восточном вкусе, фигуру лежащей на диване женщины, предназначенную для господина Тома с улицы Бак. Он рассказывал мне о трудностях, которые испытывает Домье, когда заканчивает свои вещи. Затем он заговорил о Прудоне, которым восхищается и которого называет кумиром народа. Его взгляды представляются мне наиболее современными и совершенно передовыми. После его ухода я продолжал писать маленькую фигуру и работал далее над „Алжирскими женщинами“».
В этом описании Делакруа демонстрирует ту же кошачью ловкость, с какой сохранял равновесие на самых узких тротуарах. Мы читаем, как к художнику пришел критик, только и всего. Говорил о том о сем. Критик современен и прогрессивен; художник — нет. Критик уходит, и художник возвращается к работе: сначала над «маленькой фигурой», а затем над шедевром.
Пусть Уолтер Пач и вырезал из своего издания «бесконечные списки красок», но именно этим краскам и вполне конечному множеству их комбинаций посвятил свою жизнь Делакруа. Максим Дюкан в своих «Литературных воспоминаниях» рассказывал, как художник «однажды вечером оказался за столом, на котором стояла корзина, полная клубков разноцветной шерсти. Он доставал один клубок за другим, раскладывал их рядами и группами, от оттенка к оттенку, создавая удивительные сочетания цветов. Еще я помню, как он говорил: „Некоторые персидские ковры превосходят иные картины“».
Если не вдаваться в детали, французское искусство XIX века — это борьба цвета и линии. Поэтому у Делакруа была еще одна причина искать членства в Институте: во французском обществе, где искусство всегда было тесно связано с политикой, официальное признание художника стало бы признанием и его идей. В начале века стараниями Давида и его школы преобладала линия, а к концу века, с приходом импрессионизма, триумф ждал колористов. Середина столетия ознаменована схваткой главного защитника линии и главного сторонника цвета (в квадратном углу — Энгр! В круглом углу — Делакруа!). В этом бою случались и удары ниже пояса: однажды, после визита Делакруа в Лувр, Энгр демонстративно велел распахнуть все окна, чтобы выветрился «запах серы». Дюкан рассказывает о случае в доме у одного банкира, который, пребывая в неведении о борьбе живописных направлений, умудрился пригласить на ужин в один день обоих соперников. В конце концов Энгр, весь вечер только смотревший на врага исподлобья, не смог себя сдержать. С чашкой кофе в руке он подошел к Делакруа, стоявшему возле камина. «Мсье! — воскликнул он. — Рисунок — это честность! Рисунок — это честь!» Распаляясь все больше при виде холодного спокойствия Делакруа, Энгр в конце концов пролил кофе себе на рубашку и жилет, схватил шляпу и бросился вон. В дверях он развернулся и повторил: «Да-да, мсье! Честность! И честь!»
Пользуясь возможностью смотреть на тот век из нынешнего, мы можем признать, что честность и честь были присущи обоим художникам и что порой дистанция между их взглядами оказывалась куда меньше, чем сами они были готовы признать и вынести. Оба вдохновлялись искусством старых мастеров, оба были убеждены, что «за условностями стоят непреложные законы», и искали темы для живописи в Библии и литературе. Росписи стен и плафонов на религиозные и мифологические сюжеты, которыми Делакруа в разные годы украсил интерьеры дворцов и церквей, — «Орфей, приносящий цивилизацию», «Вергилий, представляющий Данте Гомеру», «Борьба Иакова с ангелом», «Изгнание Гелиодора из храма» — свидетельство того, что истины, преследуемые обоими художниками, и принципы, которыми они руководствовались, были, по сути, не так уж различны. В те дни, однако, казалось, что борьба между ними завязалась не на жизнь, а на смерть: одна форма высокой серьезности погибнет, другая — выживет.
Эжен Делакруа. Неубранная постель. Ок. 1827. Музей Эжена Делакруа, Париж. Фото © RMN — Grand Palais (Musée du Louvre) / Michèle Bellot.
Цвет воздействовал на зрителя непосредственно — он полон бурной энергией, движением, страстью, жизнью, — но в этом был и тактический недостаток. Делакруа с насмешкой отмечал в «Дневнике» 4 января 1857 года:
«Я хорошо понимаю, что звание колориста — скорее препятствие, нежели преимущество… Господствует мнение, будто колорист интересуется лишь низменными, так сказать, земными сторонами живописи, будто хороший рисунок станет еще лучше, если его дополнит тусклый колорит, а главная задача цвета — отвлекать внимание от вещей более возвышенных, которые прекрасно без него обходятся»[11].
С другой же стороны, как он указывает в одном черновике для «Словаря искусств», «превосходство цвета, его, если хотите, изысканность» обусловлены воздействием на воображение. В картине Делакруа цвет ведет вас: это он задает направление взгляду и чувству, и лишь затем ваш разум начинает считывать рисунок и содержание. Оглядываясь назад, в конце XIX века, когда цвет, казалось, одержал окончательную победу (на самом деле — лишь до тех пор, пока кубизм не восстановил первенство линии), Одилон Редон писал, что Делакруа «нашел свой истинный путь, путь выразительного цвета — можно даже сказать, духовного цвета». По мнению Редона, это открытие двинуло искусство вперед: «Венеция, Парма, Верона видели лишь материальную сторону цвета. Делакруа прикоснулся к цвету духовному; в этом его главное достижение и его заслуга перед потомками».
На смертном одре, в шестьдесят пять лет, Делакруа сожалел, что уходит, когда мог бы трудиться еще лет сорок. Он несколько раз говорил мечтательно, что хотел бы вернуться в этот мир лет через сто и узнать, какого мнения о нем потомки. Когда он рассказал об этой своей мечте Дюкану, тот едва удержался, чтобы не ответить: «Они поместят вас между Тьеполо и Жувене[12]". Эта невысказанная фраза как нельзя лучше характеризует вкус и мнения эпохи, которые Делакруа столько лет стремился преодолеть.
Курбе Не так, а этак
В 1991 году Музей Курбе в Орнане (область Франш-Конте) выставил "эротические" работы Андре Массона. В основном неприятные: поверхностные, инфантильные, а зачастую попросту мерзкие, напоминающие о том, что, углубившись в мужское подсознание, вы рискуете выудить дохлую собаку и ржавый пыточный инвентарь. Но тех, кто дотащился до конца экспозиции, ждала неожиданная награда. Там, одинокая и незамеченная, висела редко выставляемая[13] картина Курбе "Происхождение мира": распростертое нагое женское тело от груди до середины бедер, написанное для турецкого дипломата Халил-Бея. В последнее время картина хранилась в загородном доме Жака Лакана. Несмотря на всю эротику и порнографию, созданные за сто с лишним лет существования этой картины, она все еще необычайно впечатляет. Даже Эдмон де Гонкур, хотя и считал "этого современного Йорданса" слишком вульгарным, а его ню "противоречащими природе" — в 1867 году, после закрытого просмотра сапфических "Спящих" ("Le Sommeil") Курбе и "Турецкой бани" ("Bain antique") Энгра (также написанных для Халил-Бея), он заклеймил обоих художников как "популярных идиотов", — даже он не устоял перед "Происхождением мира". Впервые увидев картину в 1889-м, через десять лет после смерти Курбе, он принес в дневнике "почтительные извинения" тому, кто умел изображать плоть не хуже Корреджо. Она написана сочно, утонченно и впечатляет своей устрашающей реалистичностью. Кажется, картина заявляет: "Нет, не так, а вот этак" (реализм всегда исправляет реальность). И то, что на фоне эротики XX века это заявление звучит по-прежнему убедительно, что картина способна бросить вызов не только своему прошлому и настоящему, но и будущему, доказывает, насколько же она живая.
Он всегда был задирой, правдолюбом — и в искусстве, и в жизни. "Не так, а этак": прямой, как лобовая атака, морской пейзаж с клубящимся небом, дерзкий автопортрет, тугая женская плоть, умирающее животное на снегу — все у него насыщено описательным и назидательным пафосом. Этот художник тычет своим реализмом вам в нос. "Кричи громко, ходи напрямик" — судя по всему, это было семейным девизом Курбе, который всю жизнь — лично, на холстах, в письмах — громко кричал и с восторгом слушал эхо. В 1853 году он назвал себя "самым гордым и наглым человеком во Франции". В 1863-м утверждал, что "на меня смотрит вся артистическая молодежь и на данный момент я — их главнокомандующий". В 1867-м: "Я изумляю весь мир… Торжествую не только над современниками, но и над старыми мастерами". В 1873-м: "На моей стороне вся демократия, все женщины всех наций, все иностранные художники". Он не может отправиться на охоту в окрестностях Франкфурта, не сообщив, что его деяния "вызвали зависть всей Германии".
Гюстав Курбе. Средиземноморье. 1857. Собрание Филлипс, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
Заносчивость была свойственна ему от природы, но отчасти все же он ее сознательно культивировал. Курбе родился в Орнане в 1819 году, приехал в Париж двадцатилетним, а спустя пять лет его картину уже принял Салон. Он создал — или приспособил к своим нуждам — личину разбитного, воинственного, мятежного, неотесанного провинциала, а затем, как какая-нибудь современная телезвезда, обнаружил, что этот образ стал неотделим от его истинной сущности. Курбе — великий художник, но также и серьезный пиар-проект. Он — пионер в области продвижения личного бренда: торговал фотографиями своих картин ради рекламы, выпускал пресс-релизы, когда случалось продать работу задорого, а еще придумал первый постоянный выставочный центр, посвященный единственному художнику — ему самому. Во время Франко-прусской войны он даже добился, чтобы в честь него назвали пушку, после чего написал газетному рисовальщику, сообщил подробности маршрута перемещений "Le Courbet" и попросил "осветить в одной из газет по своему выбору".
При всем его либертарианском социализме, при всем потрясании основ и искреннем желании очистить запущенные конюшни французского искусства, в нем все же было немало евтушенковщины, немало от лицензированного бунтовщика, знающего, как далеко можно зайти и как монетизировать свой гнев. Когда его антиклерикальное "Возвращение с конференции" вышвырнули из Салона 1863 года (конечно же, это был далеко не первый отказ), Курбе отозвался с несколько даже неуместным самодовольством: "Я написал ее для того, чтобы ее отвергли. Я преуспел. Так я смогу на ней кое-что заработать". Он был докой, или, во всяком случае, шумно участвовал в интригах вокруг выбора и развески картин в Салоне; ему хотелось, чтобы его одновременно принимали и отвергали.
Сам Курбе тоже был не прочь одновременно принимать и отвергать, как, например, в знаменитой истории с орденом Почетного легиона. Публичное предложение награды подарило бы ему желанный повод публично оскорбиться. Он почти добился этого в 1861 году, но Наполеон III, как назло, вычеркнул его из списка. Долгожданное оскорбление было нанесено только в 1870-м. Курбе отверг награду — разумеется, открытым письмом в газеты — с галльской велеречивостью: "Честь — не звание, не знак отличия, она в действиях и в том, что движет действиями. По большей части — в уважении к себе и к своим взглядам. Я оказываю себе честь, оставаясь верным своим всегдашним принципам (etc., etc.)". Для сравнения: несколькими месяцами ранее орден Почетного легиона был предложен Домье, который отказался от него без огласки. Когда Курбе стал упрекать коллегу, Домье, всегда тихо поддерживавший республику, ответил: "Я поступил так, как счел нужным. Я рад, что сделал это, но публике об этом знать незачем". Курбе пожал плечами: "Мы ничего не добьемся от Домье. Он мечтатель".
Есть шуточная фотография, сделанная около 1855 года, на которой Курбе беседует с самим собой. Обе стороны целиком поглощены беседой. Его автопортреты написаны с внимательной чувственностью, граничащей с нарциссизмом, а позы, которые он себе придает, часто напоминают об иконографии Христа. (Анархист Прудон, его друг-философ, тоже не стеснялся этого сравнения; чего стоит его замечание: "Если я найду двенадцать ткачей, то, без сомнения, завоюю мир".) На картине "Встреча" (1854) Курбе, только что вышедшего из экипажа, исчезающего в левой кулисе, приветствуют его друг и меценат Альфред Брюйя со своим слугой Кала. Трудно решить, кто из этих двоих выглядит более подобострастно. Брюйя снял шляпу, приветствуя Курбе, тогда как Курбе держит шляпу в руке, потому что, будучи свободным художником, предпочитает так прогуливаться; Брюйя опустил взгляд долу, а Курбе вскинул голову, наставив на собеседника бороду, как указующий перст. Для пущего эффекта палка в руках художника вдвое больше, чем трость его патрона. В происходящем нет никаких сомнений: художник проводит собеседование, проверяя мецената на пригодность, но никак не наоборот. Картину ехидно прозвали "Богатство кланяется гению". Как далеко мы ушли от тех дней, когда патрон или донатор преклонял колена на картине бок о бок со святыми, а художник в лучшем случае мог изобразить себя с краю в толпе крестьян.
Или возьмем "Мастерскую, или Реальную аллегорию, характеризующую семилетний период моей творческой жизни" (1854–1855): справа друзья и меценаты, слева обитатели дольнего мира, в центре — художник и обнаженная модель. Курбе назвал картину "нравственной и физической историей моей мастерской", а еще, вполне естественно, "самой удивительной картиной, какую можно представить". Он наслаждался ее загадочностью: критики "зайдут в тупик", картина будет "провоцировать все новые предположения". Что она и делает до сих пор. Кто эти люди, стоящие порознь и явно непохожие на реальных посетителей студии Курбе? Откуда падает свет? Зачем на картине натурщица, если художник пишет пейзаж — и почему он пишет его в студии? И так далее. Но как бы мы ни пытались снова и снова разгадать загадку — это политическая карикатура? Есть ли в ней масонская символика? (в случае сомнения всегда привлекай масонов) — никто не спорит о смысловом центре картины — фигуре самого Курбе за работой. Казалось бы, она слишком мала, чтобы собрать воедино гигантскую композицию, но образ мастера с кистью в руке обладает такой мощью, что, очевидно, должен справиться с задачей.
Гюстав Курбе. Встреча. Фрагмент. 1854. Музей Фабра, Монпелье. Фото: Bridgeman Images.
Полезно увидеть "Мастерскую" в зале Музея Орсе, где она висит прямо напротив самой ранней из великих картин Курбе — "Похороны в Орнане" (1849). Последняя построена по принципу грандиозного фриза, стесненного рамой; силуэтам плакальщиков вторит гряда утесов вдалеке, а верх композиции решительно обрезан, и видна лишь узкая полоса неба — только чтобы уместить и акцентировать воздетое распятие. Эта суровость и сосредоточенность подчеркивают разбросанность "Мастерской" и в особенности тот факт, что две пятых этого полотна занимает фон над фигурами людей — большая площадь, покрытая грязноватыми лессировками. Композицией она может напомнить средневековый триптих: по сторонам рай и ад, вверху — обширный небесный свод. А что у нас в центре? Христос с Девой Марией? Господь с Евой? Ну, сидящий там Курбе с моделью, во всяком случае, заново создает мир. Возможно, здесь кроется ответ на вопрос, почему Курбе пишет пейзаж в студии, а не на пленэре: он не просто воспроизводит известный, сложившийся мир — он творит новый. Отныне, говорит картина, мир создает не Бог, а художник (кстати, Курбе однажды сказал писателю Франсису Вею: "Я пишу, как Господь Бог"). В таком прочтении "Мастерская" — это, в зависимости от вашей позиции, либо колоссальное богохульство, либо провозглашение первостепенной ценности искусства. Либо и то и другое.
Если романтику Делакруа недоставало романтического темперамента, то реалист Курбе обладал эгоманией истинного романтика. Мы имеем дело не с карьерой, но с миссией. Как писал Бодлер, в 1855 году дебют Курбе — он сам организовал показ после того, как и "Мастерскую", и "Похороны" отвергли на Всемирной выставке, — прошел "с ожесточенностью вооруженного восстания". И с того момента жизнь художника и будущее французского искусства были неразделимы. "Я сражаюсь за свою свободу. Я спасаю независимое искусство", — он пишет так, будто второе вытекает из первого. За очистительным разрушением стереотипного академического и романтического искусства (условные символы романтизма — гитара, кинжал, шляпа с пером — лежат поверженные на переднем плане "Мастерской") должна следовать переработка формы. В открытом письме 1861 года, адресованном молодым парижским художникам, Курбе перечислил основные признаки нового искусства: современные темы (художникам не следует изображать прошлое или будущее), индивидуальный стиль, конкретность, реализм (он как-то хвалил одну из своих картин за то, что она "математически точна" и не содержит "ни унции идеализма") и красоту. Эту красоту следует находить в природе, ибо природа несет "в себе" собственную художественную выразительность, искажать которую художник не имеет права. "Красота, данная природой, превыше всех ухищрений художника".
Гюстав Курбе. Мастерская художника. Фрагмент. 1854–1855. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
Этот символ веры обычно приписывают другу Курбе Жюлю Кастаньяри. Курбе воображал себя теоретиком, но склад ума у него был скорее практический, чем абстрактный. В любом случае доверять надо живописи (и судить по ней же), а не провозглашенному манифесту. Призыв к конкретному реализму явно не исключает аллегории, тайны или намека — как в "Мастерской". А воинственная риторика Курбе не может подготовить нас ни к утонченности, ни к бурлящему многообразию его живописи: от раннего портрета сестры Жюльетт в духе Беллини до тех вызывающих морских пейзажей, сильнейшие из которых выходят за рамки реализма, до сложных и сонно-эротичных "Девушек на берегу Сены" ("Demoiselles des bords de la Seine"). По поводу последней картины Курбе обвиняли в погоне за шумихой (без сомнений, за дело — а когда он за ней не гнался?), но и теперь, когда эпатаж в прошлом, она остается мощным притягательным образом. Хотя сцена расположена в тени, все в картине указывает на жестокую жару; томной на первый взгляд атмосфере противоречит яркий, почти буйный колорит; сонный, полуприкрытый глаз ближней к нам женщины контрастирует с прямым взглядом, которым нам дозволено изучать ее и ее соседку. К тому же мы рассматриваем их с бесцеремонно близкого расстояния, поскольку картина скомпонована так, что ей тесно в раме; пышные ветви необычно низко склоняются над лежащими фигурами, ветка с листвой в правом нижнем углу замыкает эту плотную знойную композицию. Есть и еще одна структурная нить, брошенная вкруг картины. Гребец, привезший девушек по Сене в это тихое местечко, ушел, оставив шляпу в лодке, пришвартованной на заднем плане. Куда он делся? Видимо, тихо вышел из кадра, обогнул картину и теперь стоит по соседству с нами, коварно подглядывая за своими пассажирками. Возможно даже, что лодочник и зритель — одно лицо, но если это и не так, то он точно стоит рядом соучастником, жадно подглядывая, присутствуя в картине.
Значимое отсутствие — прием, неоднократно использованный Курбе в величайших из его полотен: кроме владельца шляпы в "Девушках", это и покойник в "Похоронах", опущенный в могилу под ногами скорбящих, и мадам Прудон в проникнутом светом оммаже философу. Точно так же и в письмах Курбе встречаются мощные умолчания. Даже учитывая, что сохранность переписки — вещь случайная и нерепрезентативная, сложно представить большого художника, который меньше интересовался бы работой других и ценил ее. Никаких восторгов от встреч с великими картинами, никаких наставлений другим художникам (кроме рекомендаций быть похожими на Курбе). Мир делится на "старых мастеров", то есть тех, кому не повезло родиться до него, и "современных", то есть его самого. Он общается с Буденом, проявляет финансовую щедрость по отношению к Моне, положительно, но кратко отзывается о Коро и упоминает Тициана, сравнивая его работы с собственными. Есть лишь одна персона или, скорее, персонаж, перед которым Курбе робеет, — это Виктор Гюго, единственный из французов, кого Курбе признавал более знаменитым, чем он сам, и кому он писал смущенные заискивающие письма.
Курбе был социалистом (впрочем, домарксистского толка), но играл на бирже и охотно скупал землю; точно так же, несмотря на утопические убеждения, в отношении к женщинам он был сыном своего времени и сословия: бордели, любовницы и бездумная развязность. Следовательно: "Женщинам следует интересоваться лишь капустным супом и домоводством". Или, чуть более возвышенно, в форме галантного афоризма, хотя суть та же: "Задача дам — корректировать с помощью чувств умозрительную рациональность мужчин". Он то и дело заявлял, что искусство не оставляет ему времени для брака, и то и дело пытался жениться. В 1872 году он остановил выбор на молоденькой девушке из родного Франш-Конте, широко раструбив, что его и его семью не беспокоят "социальные различия" между ними, а в письме к свахе беззаботно продолжал:
"Несмотря на дурацкие советы, которые дают ей крестьяне, не может быть, чтобы мадемуазель Леонтин отвергла блестящее положение, которое я ей предлагаю. Ей, бесспорно, станет завидовать вся Франция, и проживи она еще три жизни, ей не достичь такого положения. Ведь я могу выбрать любую женщину во Франции, не встретив отказа".
И те, кто считает, что надменность надо наказывать, и те, кто просто любит хорошую мыльную оперу, с радостью узнают, что мадемуазель Леонтин не захотела, чтобы ей завидовала вся Франция. Курбе осталось злобно поносить соперника-деревенщину, которого ему предпочли, и "сельских голубков", которые "равны умом собственным коровам, хотя и не стоят тех же денег".
При Второй империи Курбе вел шумную, буйную и достойную восхищения кампанию за демократизацию искусства — его финансирования, управления и преподавания. В 1870–1871 годах, во время осады Парижа и при Коммуне, он наконец обрел власть, которой, по-видимому, жаждал; ирония состоит в том, что она его и погубила. Всю эту историю он странным образом предсказал в письмах. В 1848-м — в год революции — Курбе пишет домашним, уверяя их, что он "не слишком лезет в политику", но "всегда готов помочь разрушить то, что дурно построено". Годом позже он сообщает Франсису Вею: "Я всегда чувствовал, что, если правосудию вздумается обвинить меня в убийстве, меня неминуемо гильотинируют, даже если я буду невиновен". Еще через год: "Если бы пришлось выбирать страну, то я, признаюсь, не выбрал бы свою собственную". Два десятилетия спустя Курбе инициировал кампанию за снос "дурно построенной" Вандомской колонны, символа наполеоновского империализма, а после падения Коммуны правосудие и впрямь обвинило его. И хотя формально он, возможно, и не был виновен (уж точно менее многих, ведь он в то время не был делегатом Коммуны), его приговорили к шести месяцам тюрьмы, а потом и к разорительной компенсации в 286 549 франков 78 сантимов. Под угрозой долговой тюрьмы Курбе "пришлось выбирать страну". Он остановился на Швейцарии.
Курбе взял на себя моральную ответственность за разрушение ненавистной колонны, но ни это, ни напоминание, что во время осады и Коммуны он спас множество национальных сокровищ, не смягчило его участь. Похоже, он так и не понял, что к 1871 году стал идеальной мишенью для нового правительства. Харизматическая личность, профессиональный провокатор установленного порядка, социалист, антиклерикал, делегат Коммуны, тот, кто возвел независимость художника в политическое кредо, кто мог называть Наполеона III "наказанием, которого я не заслужил" и чей призыв к парижским художникам в апреле 1871 года завершался фразой "прощай, старый мир и его дипломатия", — Курбе был образцовой жертвой для "старого мира", вернувшегося к власти. А когда государство решает преследовать человека из соображений национальных интересов, на его стороне не только деньги и мощь системы, но и такое грозное преимущество, как время. Человек может устать и впасть в уныние, почувствовать, что талант иссяк, а годы уходят, тогда как государство редко устает и воображает себя бессмертным. В частности, французское государство бывает беспощадным после войн, особенно гражданских.
Даже в 1876 году Курбе все еще не мог понять, что произошло, а точнее — почему. "Неужели в наказание за то, что я отверг награду Империи, я должен нести иной крест?" — вопрошал он сенаторов и депутатов в открытом письме. Возможно, это не более чем фигура речи, однако она показательна для художника, назвавшего один из автопортретов "Христос с трубкой". Французское государство не распяло Курбе, но постаралось его сломать: собственность художника реквизировали, картины разворовали, имущество продали, а за семьей учинили слежку. Он продолжил работать и отстаивать свою позицию, время от времени к нему возвращалась былая хвастливость: "В данный момент у меня больше сотни заказов. Этим я обязан Коммуне… Коммуна сделает меня миллионером". И все же разлука с семьей и друзьями, а также все более мучительные воспоминания о пережитом предательстве и вынесенном приговоре сделали его последние годы горестными и тяжелыми. В конце концов, устав сопротивляться, он согласился на сделку с французским правительством и обещал выплатить стоимость восстановления Вандомской колонны в течение тридцати двух лет. "Мне нужно ехать в Женеву, получить паспорт в консульстве", — писал он с оптимизмом в мае 1877-го. Но из-за возобновившихся беспорядков во Франции пробыл в изгнании до самой смерти, последовавшей в декабре того же года.
В 1991 году, посетив ту выставку Массона, я сидел за столиком кафе на площади Юмбло и смотрел на maison natale художника, расположенный на другом берегу мелкой, быстрой реки Лу — Курбе писал ее много раз от устья до истока с лесистыми берегами. На боковой стене дома видна была поблекшая надпись BRASSERIE (пивная). В точку. Как сообщал Эдмону де Гонкуру бельгийский живописец Альфред Стевенс, Курбе поглощал пиво в "ужасающих количествах" — по тридцать кружек за вечер, — а абсент предпочитал разбавлять не водой, а белым вином. Его друг Этьен Бодри не раз привозил изгнаннику литровые бочонки бренди, общим числом шестьдесят два (а сестра посылала только "великолепные носки", в ответ на что он подарил ей швейную машинку, а отцу — мельницу для перца). Злоупотребление алкоголем вызвало водянку, тело Курбе чудовищно раздулось. Устрашающий новый метод позволил, сделав прокол, отвести двадцать литров жидкости и оказался немногим эффективнее старого способа (паровые ванны и слабительное), давшего "восемнадцать литров из ануса". Зловещая уместность видится в том, что в смерти Курбе было нечто причудливое и ужасное, — как и в его жизни, и в его живописи.
Мане Черный и белый
а) Бросить кирпич
Вандалы, крушащие произведения искусства, по-своему правы. Никто не станет нападать на то, к чему равнодушен, в чем нет опасности. Иконоборцы крушили образа не из безразличия. Возьмем мужчину, поднявшего трость на "Музыку в Тюильри" на персональной выставке Мане в галерее Мартине в 1863 году. Он не сообщил о своих мотивах, но, конечно же, его обидела увиденная в картине фальшь: ну что за маскарад, что за оскорбление не только его, зрителя, но и всей истории искусства, от чьего имени он вынужден говорить или, точнее, действовать! Да и само содержание картины — срез современной парижской жизни — возмутило узколобого посетителя Салона, уверенного, что искусство должно быть возвышенным. Теперь в этом видится ирония, ведь на картине изображены, судя по всему, люди, подобные тому, кто ее атаковал, и та самая парижская жизнь, которую вели он и его друзья. Мане говорил: здесь, сейчас, как оно есть.
Когда Наполеон III в том же году увидел "Завтрак на траве" в Салоне отверженных, он назвал картину "оскорблением приличий", а его супруга, императрица Евгения, сделала вид, что ее не существует. Теперь это было бы превосходной рекламой, тогда обернулось катастрофой: Салон отверженных закрыли, и на двадцать лет независимые художники лишились большого публичного пространства для выставок. Когда в Салоне 1865 года выставили "Олимпию", то из-за угроз физической расправы над полотном его — ее — пришлось перевесить, поместив над дверью дальней галереи, так высоко, что было не разобрать, "смотрите вы на массу обнаженной плоти или на ворох белья". Из-за осуждения императора и публики бо́льшую часть жизни Мане пришлось сносить насмешки и сарказм прессы. Которая, впрочем, была не так уж не права в том смысле, что чувства ее были подлинными: презрение, коренящееся в безотчетном страхе. Один из самых образованных и искушенных ненавистников Мане прекрасно понимал, чего все боятся. "Посмешище, посмешище!" — прокричал в своем дневнике Эдмон де Гонкур, побывав на посмертной выставке Мане в январе 1884-го. Но он сознавал, что все уже давно стало серьезно, а посмешищем выглядят он сам и ему подобные:
"Мане, заимствовавший технику у Гойи, Мане и все художники, следующие за ним, несут нам смерть масляной живописи, то есть живописи прелестной, янтарной, кристальной, прозрачной, совершенный образец которой — Рубенсова "Женщина в соломенной шляпке". Теперь мы имеем тусклую, матовую, белесую живопись, во всем подобную росписям на мебели. И так теперь пишут все, от Рафаэлли до последнего мазилы-импрессиониста".
Но и сторонники Мане знали, что для появления чего-то нового должно умереть что-то старое. Так, Бодлер, приветствуя Мане как (возможно) художника новой жизни, востребованного эпохой, — хотя он и Константена Гиса считал первоклассным мастером — писал ему: "Вы лишь первый, с кого начнется упадок искусства". Как остроумно заметила Анита Брукнер: "Может, он чувствовал в Мане зарождение искусства без нравственного измерения?"
Анри Фантен-Латур. Мастерская в квартале Батиньоль. Фрагмент с фигурами Мане (у мольберта), Ренуара (на фоне рамы) и Моне (крайний справа). 1870. Музей Орсе, Париж. Фото: Collection Dagli Orti / The Art Archive.
Эзра Паунд как-то сказал, что он разобьет кирпичом окно, а Т. С. Элиот влезет в дом с черного хода и унесет добычу; так и вышло. И Мане, в некотором смысле, швырнул кирпич, предоставив импрессионистам возможность ограбить дом, — разумеется, если считать добычей оглушительно успешные выставки на протяжении века с лишним. Крупные выставки Мане не так часты даже в Париже (1983, 2011), но важно время от времени напоминать о том, что он сделал с французским искусством — и для него. Он осветлил его палитру и придал ей яркости (где академисты начинали с темных тонов и потом вводили светлые, Мане со своей peinture claire делал обратное), он отказался от полутонов и изобрел "новую прозрачность" (и ворчал на картины, похожие на "рагу с подливкой"), обобщил и акцентировал контур, часто пренебрегал традиционной перспективой (купальщица в "Завтраке на траве" совершенно "неправильная" — слишком большая — для обозначенного расстояния), он сжал глубину фона и вытолкнул фигуры на нас (Золя писал, что такие картины, как "Флейтист", "проламывают стену"), он придумал свой черный и свой белый. Как Курбе, он отринул массу традиционных сюжетов: мифологические, символические, исторические (его "исторические" картины все о современности). Как Домье, он верил, что "нужно жить в своем времени и писать что видишь". Определить его место можно по трем точкам — великим писателям, которые его превозносили. Это денди и поэт новой жизни Бодлер, натуралист Золя и чистый эстет Малларме. У какого еще художника была такая писательская поддержка? Однако Мане ни в малейшей степени не иллюстратор и не литературный художник. Его самое известное "литературное" полотно — "Нана", изображающее героиню Золя, — совсем не то, чем кажется. Портрет куртизанки был написан, когда она была лишь второстепенным персонажем в раннем романе "Западня". Гюисманс в очерке о картине объявил, что Золя решил посвятить Нана целый роман, и поздравил Мане с тем, что он "показал ее такой, какой она, несомненно, станет". Так что это Золя "иллюстрировал" Мане, а не наоборот.
Читая книги и рассматривая репродукции, можно составить представление о творчестве Мане, но бо́льшую часть его достижений осознаешь только перед самими картинами. Его черный цвет выходит на репродукциях прилично, его белый — очень плохо. "Олимпия", кроме вечного эротического вызова, представляет собой еще и "симфонию в грязно-белом" в духе Уистлера (тонкие взаимоотношения оттенков тела, покрывала, простыней, цветов и самого чистого белого — бумаги, в которую завернут букет). На портрете Золя центральное пятно буквально ослепляет белизной — это, разумеется, страницы книги, которую читает писатель. На нежном портрете мадам Мане под названием "Чтение" белое платье помещено на фоне белой обивки дивана, а тот — на фоне более серого оттенка кружевных занавесей. Даже один из самых революционных — и устрашающе уродливых — портретов, изображение любовницы Бодлера (крошечная кукольная головка, гигантская правая рука плюс неправдоподобная, видимо отрезанная, правая нога, торчащая из-под подола), написан, похоже, ради возможности заполнить холст от края до края гигантским, клубящимся белым платьем.
Вышесказанное позволяет взглянуть на Мане с ретроспективной точки зрения и увидеть, чего он достиг. Но художникам никогда не доводится увидеть, чего именно они достигли. К тому же художники движутся по разным траекториям: путь одних, например Дега или Боннара, нам легко проследить, а их работы пугают постоянством качества. Следить за другими, например за Мане, гораздо труднее, причем, возможно, даже им самим. Выставка 2011 года в Музее Орсе подтвердила, каким неугомонным, а также каким неровным художником был Мане. Эта истина проступила во всей ясности благодаря подходу, выбранному кураторами выставки. Искусство не стоит на месте, искусствоведение и музейная теология тоже. Сегодня кураторы, в отличие от публики, терпеть не могут выставок, где шедевры просто выстроены в линию и рассказывают все ту же знакомую историю. На французский манер такой подход называют "объяснить его современность посредством иконографической описи".
В этом есть свой смысл. Легко забыть, каким провокатором изначально считали Мане, но так же легко забыть, как быстро проходит шок и новое переваривается, музеефицируется и становится товаром. У меня несколько лет был коврик для мыши с изображением бутылок шампанского из "Бара в Фоли-Бержер". Пруст в романе "У Германтов" описывает, как такое присвоение может произойти в пределах одной человеческой жизни. Его герцогиня посетила Лувр:
"Мы остановились перед "Олимпией" Мане. Теперь она никого не поражает. Кажется, что ее написал Энгр! А сколько мне из-за этой картины пришлось переломать копий, боже ты мой, между тем я совсем ее не люблю, но я понимаю, что писал ее настоящий художник"[14].
Герцогиня ошибается в узком смысле (Мане никогда не походил на Энгра, ни тогда, ни сейчас), но права в более широком. Итак, вот очевидная опасность развески шедевров как на бельевой веревке, когда просто повторяется история искусства, устоявшаяся сто лет назад: мы больше не видим, мы всего лишь знаем. Но где искать альтернативный сюжет? Сейчас он кроется в историческом и социальном контексте, а в частности, для этих парижских кураторов в 2011 году — в споре с теми, кто доселе обескровливал художника "во имя современного искусства". Поразительно, но в результате они представили нам Мане — "поборника традиционных ценностей". Например, "знакомая история" повествует, как юный Мане провел шесть лет в мастерской модного живописца Тома́ Кутюра, почти ничему у него не научившись. Поэтому выставку в Орсе открывал зал, полный картин Кутюра, подталкивая нас к противоположному выводу. Несомненно, один из ранних портретов Мане сильно напоминает Кутюра. Но этого не скажешь о двух самых впечатляющих картинах в зале — серьезном и меланхоличном портрете родителей художника и мальчике из семьи Ланж, написанном в "фирменных" черных тонах, внимательно глядящем черными глазами. По ним видно, что Мане старался как можно быстрее отойти от стиля своего учителя.
Еще более экстравагантен его "католический" период, которому выставка посвятила целый зал и который, вероятно, стал большим сюрпризом для тех, кто думал, что знает Мане. Заявив о себе "Завтраком на траве" (1862–1863) и "Олимпией" (1863) и будучи за них освистан, в 1864–1865 годах Мане создал несколько религиозных картин — огромное изображение мертвого Христа, такое же огромное "Поругание Христа" и коленопреклоненного монаха, — которые, как сказано в каталоге, "и врагов возмутили, и поклонников обескуражили". Антонен Пруст, большой друг Мане, не взял их на ту посмертную выставку, которую Гонкур обозвал посмешищем. И поделом: такие вторичные академические чудища сегодня висят разве что под потолком в провинциальных музеях изящных искусств, куда их с облегчением сослали парижские чиновники от искусства ("Смотрите, мы делимся с вами Мане!"). Понятно, почему они могут стать частью альтернативного кураторского сюжета, — зрелый Мане уделил этим работам много времени, но, похоже, альтернативный сюжет заключается не столько в демократизации ценности, сколько в ее временной отмене. Тот зал был назван "Сомнительное католичество". Лучше бы "Обухом по голове".
"Католический" период — полезное напоминание о том, что Мане не всегда был "Мане". Немало его картин невозможно атрибутировать слепым методом. Например, уистлеровские прияпоненные "Лодки на море" с парусом в форме восточного вензеля или вид пляжа в Булони, похожий на картину Будена с внезапно наведенной резкостью (и к тому же с некоторыми нарушениями перспективы — например, неправдоподобно большой мужской фигурой справа). Первую привезли из Гавра, вторую — из Ричмонда, штат Виргиния. Кураторы проявили старание и оригинальность. Они показали другого Мане — не такого, каким мы ожидали его увидеть, однако не более великого. Самые знаменитые его картины знамениты по праву, они не подводят и не перестают удивлять (например, раньше я не замечал, что у обнаженной в "Завтраке" в волосах почти незаметная черная лента, словно Мане говорит: "Нагая? Как — нагая? На ней же ленточка!"). Выставка разочаровала тем, что из, скажем, двенадцати (четырнадцати, шестнадцати) его бесспорных шедевров были представлены меньше половины. Не было "Музыки в Тюильри" (которую Джон Ричардсон назвал "первой истинно современной картиной"), "Железной дороги", "Аржантёя", "Нана", "Завтрака в мастерской", "Бара в Фоли-Бержер"; была бостонская "Казнь Максимилиана", но не было мангеймской (как и фрагментов, принадлежавших Дега), был меньший из двух портретов Моне в его bateau-atelier[15], не было знаменитого пучка спаржи, только один "лишний" стебель, который Мане написал и послал заказчику в качестве "довеска" после того, как тот щедро заплатил за первый пучок. Возможно, эти картины отказались предоставить для выставки, да и залы Орсе всегда переполнены (хотя очередному помпезному "шедевру" — портрету Жана Батиста Фора, поющего заглавную партию в "Гамлете" Амбруаза Тома, — было отведено громадное пространство). Но, скорее всего, дело в кураторах, которые хотели найти, а то и выдумать новую сюжетную нить. Кажется, они порой намеренно высмеивали наши ожидания. Там была крошечная копия "Железной дороги" работы Жюля Мишеля Годе — фото, тронутое акварелью и гуашью. Кураторы словно говорят: "Ищете любимую картину? Ну вот вам".
В стороне от споров и поиска альтернативных сюжетов лежит тихая заводь натюрмортов. Этот жанр составляет пятую часть всего наследия Мане (не в последнюю очередь потому, что его хорошо покупали). Во время поездки в Венецию в 1875 году с женой Сюзанной и коллегой-живописцем Тиссо он заявил, стоя посреди рыбного рынка, что хочет быть "святым Франциском натюрморта". Углядев в овощных рядах груду тыкв, он вскричал: "Головы турок в тюрбанах! Трофеи сражений при Лепанто и Корфу!" В той же поездке он заявил, что "художник может сказать все, что хочет, при помощи фруктов, цветов и даже облаков". В зале натюрмортов в Музее Орсе я задержался возле двух скромных работ с изображением цветов в высоких хрустальных вазах, написанных в 1882-м, за год до смерти. Мане — денди, счастливо женатый дамский угодник — умер, как Бодлер, от третичного сифилиса. Это был ужасный конец: сухотка спинного мозга, инвалидное кресло, гангрена, ампутация ноги, затем смерть. В этот последний отрезок жизни Мане снова и снова писал эфемерную красоту цветов. Словно тихо повторял слова, которые много лет назад отказался услышать мужчина с тростью: здесь, сейчас, как оно есть.
б) Меньше, да лучше
Сколько времени мы проводим перед хорошей картиной? Десять секунд, тридцать? Целых две минуты? А сколько — перед каждой хорошей картиной на выставках из трехсот полотен, ставших нормой для любого крупного художника? Две минуты перед каждым экспонатом в сумме дадут десять часов (ни поесть, ни чаю выпить, ни в туалет сходить). Поднимите руки те, кто проводил по десять часов перед Матиссом, Магриттом, Дега? Я — нет. Конечно же, мы смотрим не все, глаз останавливается на привлекательном (или на знакомом). Но даже если человек в музее как рыба в воде, понимает связь между уровнем сахара в крови и эстетическим наслаждением, умеет ориентироваться в больших залах и не пугается, если надо вернуться назад по хронологии, не тратит времени на разглядывание каталогов и не вывихивает шею, силясь прочесть этикетки, если он высок ростом и видит все поверх голов, если достаточно крепок, чтоб его не затерли любители искусства, которых тянут на аркане аудиогиды, — даже такой посетитель уходит с большой выставки со жгучим чувством несбывшихся надежд.
Конечно, в некоем идеальном смысле лучше, чтобы как можно больше людей увидели как можно больше картин. Но чем масштабней выставка, тем бо́льшие толпы требуются для того, чтобы ее окупить. А это значит, что зрителей будут подвозить автобусами, обещая им не только эстетическое впечатление, но и шанс повращаться в свете (тем самым событие обретает классовую структуру: ближний круг попадает на вернисаж, а широкие массы пыхтят в очередях). В последние годы слоновья болезнь музеев слегка ослабевает — на той парижской выставке Мане 2011 года было всего 186 экспонатов, — но это результат скорее экономического спада, чем политики кураторов. А между тем есть масса свидетельств тому, что небольшие и не столь многолюдные выставки приносят больше удовольствия, что часто удается лучше понять художника, посмотрев меньше, а не больше работ.
Эдуар Мане. Букет сирени. 1882. Старая Национальная галерея, Берлин. Фото: Jörg P. Anders. © 2015 Photo Scala, Florence/BPK, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin.
Одна из лучших выставок, которые я видел за тридцать лет, прошла в 1993 году в Национальной галерее. Она занимала шесть залов, но была посвящена одной картине или, вернее, одному сюжету: "Казни Максимилиана" Мане. На этой тематической, целевой выставке впервые после смерти художника в 1883-м были собраны три варианта "Казни": написанная свободным мазком, в мрачных тонах первая версия — сплошные сомбреро — из Бостона; фрагментарная (спасенная Дега после смерти Мане) из собственного собрания Национальной галереи; и самая известная, последняя картина, хранящаяся в Мангейме.
Созерцание этих трех полотен в одном зале (но не в один ряд — чтобы их сравнить, приходилось поворачиваться, и это было физическим напоминанием о том, что изображения разделяют время и раздумья) — непосредственный, захватывающий, пугающий опыт. Почему Мане сделал это, отказался от того, изменил третье? Какой мыслительный или чувственный процесс, внезапное озарение или случайность привели его от a к b и затем к c? Чтобы облегчить нам задачу, трехчастный центр выставки был подкреплен шестьюдесятью или около того вспомогательными экспонатами: официальными портретами главных участников, злободневными литографиями, сделанными Франсуа Обером фотографиями тогдашних мексиканских пейзажей и типов, cartes de visite с набросками расстрельной команды и окровавленной рубашки императора, собранием документов и диковин. Ничего не было курьезнее фото Максимилиана, играющего в крикет со своими приближенными (около 1865 года), по-видимому, близ замка Чапультепек в окрестностях Мехико. Император стоит за калиткой рядом с британским послом сэром Чарльзом Уайком. Площадке для игры, похоже, не хватает не столько катка, сколько бригады каменотесов.
Сегодня, когда государство-должник вынуждено откладывать выплаты по финансовым обязательствам, власти предержащие засылают туда команду из МВФ, Европейского Центробанка, Еврокомиссии и так далее. В 1861 году, когда президент Мексики Бенито Хуарес объявил двухлетний мораторий на зарубежные долги, ответом ему была евротройка своего времени: в Веракрусе высадились шесть тысяч испанских солдат, две тысячи французских и горстка британских. Британцы были робки, испанцы рассчитывали на принудительное урегулирование, но французы предпочитали завоевание. В 1864-м они назначили австрийского эрцгерцога Фердинанда Максимилиана императором, на следующий год вспыхнула партизанская война, оккупация провалилась, французы вывели войска, Максимилиан отказался оставить свой марионеточный трон, и 19 июня 1867 года вернувшееся мексиканское правительство казнило его вместе с двумя генералами на холме Лас-Кампанас, близ города Керетаро. Новость облетела мир. 18 июля Флобер писал принцессе Матильде, что его ужаснула казнь (совершившаяся несмотря на телеграммы протеста от Гарибальди, Виктора Гюго и других). "Какая мерзость. И как жалок род человеческий. В попытках не думать о преступлениях и глупостях этого мира (и не страдать от них) я с головой погружаюсь в искусство: печальное утешение".
Это событие и Мане заставило погрузиться в искусство, однако о том, как именно и почему он это сделал, с какими намерениями или ожиданиями и как они изменялись в процессе работы, мы остаемся в блаженном и освобождающем неведении. Свидетельств того, как он продвигался к окончательному варианту картины, осталось гораздо меньше, чем, скажем, свидетельств о работе Жерико над "Плотом "Медузы"". Как сообщает нам Джулиет Уилсон-Барро, "в архивах Мане нет документов, поясняющих, к кому он обращался или какие материалы использовал, создавая картины, — ни газетных вырезок или иллюстраций, ни фотографий, ни заметок, ни набросков". До нас не дошло ни полезных obiter dicta[16], ни сплетен из мастерской. Мы не знаем, почему он забросил второй вариант картины (композиционно очень близкий окончательному) или как он выглядел в целости, поскольку уже фото 1883 года — а это самый ранний документ — демонстрирует отсутствие двух фигур слева — императора и генерала Мехиа. Та же манящая неизвестность не дает нам с уверенностью назвать в качестве художественного источника "Казни" картину Гойи "Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 года", написанную на сходный сюжет и тоже изображающую дуло винтовки устрашающе близко к жертве. Мы знаем, что Мане был в Прадо и расписался в книге посещений 1 сентября 1865 года, но он никогда не упоминал, что видел майский мятеж Гойи (тогда висевший в коридоре, не внесенный в каталог и едва упомянутый в путеводителях). Так что нам остается лишь строить догадки и изучать рентгеновские снимки, а основным источником информации будут сами картины: три больших полотна, один эскиз маслом, одна литография, один контурный рисунок плюс позднейшая переработка главной группы в акварели "Баррикада".
Трудно удержаться, чтобы не перепутать хронологию искусства с прогрессом. На самом деле первая "Казнь" Мане настолько отличается по цвету, интонации и эмоциям, что предстает не неудачной первой попыткой, а грандиозной и завораживающей альтернативой. Общие с другими вариантами элементы сводятся к группе из трех жертв, сбившейся в кучу расстрельной команде и отдельно стоящей фигуре солдата, которому выпал долг (честь? проклятие?) нанести coup de grâce[17]. В первом варианте этот унтер-офицер — единственный персонаж, наделенный хоть каким-то лицом, и это лицо поражает отсутствием всякого выражения: изображено напряженное, нервное противостояние, дурное и постыдное событие, в котором одна группа неотличимых друг от друга людей лишает жизни другую, а цвета океана одинаково обволакивают и палачей, и жертв, и пейзажный фон. Кажется даже, что все происходит ночью (как у Гойи в "Расстреле повстанцев"), хотя мы понимаем, что это не так.
Второй и третий варианты, с их рассчитанной, четкой, ясной композицией, интонационно весьма далеко отстоят от первого. Даже дым от выстрелов стелется с осторожностью, чтобы не закрывать лица жертв. Но хотя положение основных персонажей (композиционное эхо Гойи) в вариантах II и III едва ли отличается, происходящее на заднем плане изменяет восприятие картины. В варианте II действие происходит, по видимости, на открытой равнине или, возможно, на низком холме, фон — синие горы и небо. Событие, таким образом, лишено зрителей, анонимно — мгновение узаконенного зверства на лоне природы, которая в своей теплой синей непрерывности кажется такой же равнодушной, как и расстрельная команда. В варианте III участники действия находятся, вероятно, в тюремном дворе, под ногами у них песок, сзади — высокая стена, с которой свешиваются зрители (протестующие и скорбные), выше по склону холма — еще зрители, а в верхнем левом углу — кипарисы и белые кладбищенские надгробия. Стало немного похоже на бой быков (смерть на песке, болельщики на заборе), присутствует внутренний комментарий и реакция на событие, и ободрительное memento mori[18]. Все это делает картину более взвешенной, продуманной и аргументированной, апеллирующей к зрителям более традиционным способом. В этом отношении вариант III — "прогресс" по сравнению с вариантом II. А в другом — регресс: словно Мане почувствовал равнодушие к радикальной форме варианта II и отказался от ее обнаженного аскетизма.
Однако обе картины являют собой образы чрезвычайной силы, и корень ее — в ногах. Ключевой элемент гойевского "Расстрела повстанцев" — стойка расстрельной команды: жесткие лодыжки, натянутые колени, опорная задняя нога поставлена под правильным профессиональным углом, одна и та же поза у каждого в строю наполеоновских солдат: это ноги угнетателей, эти ноги топчут протест, и их напряжение проходит через все тело, достигая апогея в напряженно вскинутых винтовках. На картине Мане солдаты не в строю (строго говоря, там можно разглядеть две шеренги по три, но выглядят они сбившимися в кучу), их ступни стоят под углом около 120 градусов, у одного солдата пятки вместе, у других ноги расставлены, рядовой в центре, в отличие от остальных, опирается всем весом на левую ногу, а правая касается земли только пяткой. Эти ноги явно претендуют на особое внимание зрителя, поскольку Мане украсил их белыми гамашами (это не дань реализму — изображенная Мане форма условна, собирательна). Эти ноги стараются встать потверже, как ноги гольфиста, который перетаптывается в песке, ища равновесие. Можно представить, как капрал напутствовал солдат перед казнью: мол, важно встать удобно, расслабить ступни, затем колени и бедра, притвориться, будто просто выцеливаешь куропатку или вальдшнепа…
Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. Фрагмент. 1867–1868. Кунстхалле, Манхейм. Фото: The Art Archive.
Итак, эти палачи — не отряд убийц, как у Гойи. Это солдаты, выполняющие повседневные обязанности, в которые, так уж вышло, входит казнь императора. Тему образцового соблюдения распорядка отдельно олицетворяет фигура унтер-офицера. На бостонской картине (I) он смотрит прямо на зрителя, отвернувшись от казни, тем самым посвящая нас в специфику своей задачи — прикончить недобитых. В вариантах II и III он столь же настойчиво, но гораздо более изощренно притягивает к себе внимание. Теперь он поставлен под углом 90 градусов к стрелкам — не наблюдает за казнью, но и не отворачивается от нее, — так же безразличен он и к нам. Вместо этого он занят своим делом: опустив глаза, взводит ружейный курок (III) или проверяет, взведен ли он (II). Примечательно, что Мане не дал своему унтер-офицеру гамаш, чтобы мы не отвлекались на его ноги (на картине III они почти растворяются в темном фоне) и сосредоточились так же пристально, как и он сам, на курке винтовки. Фигура унтер-офицера на картинах II и III имеет два ключевых отличия. В варианте II его лицо индивидуализировано и написано более детально: веришь, что это конкретный человек, которому поручено это конкретное дело. Вариант III отличается более свободным мазком, а фигура унтер-офицера чуть-чуть менее определена: он больше похож на "просто солдата", такого же, как остальные. У обеих версий есть достоинства и обоснования. В чем версия III не кажется совершеннее версии II — так это в проработке правой руки. В варианте II она изображена натуралистично и в масштабе, в варианте III она розовее, растопырена и крупнее размером. Более того, размером эта рука даже превосходит второй в картине акцент на руки — соединенные руки Максимилиана и генерала слева. Рука унтер-офицера привлекает к себе внимание, взывая почти мелодраматически: "Смотри, что я творю". Незначительное и, кажется, ненужное огрубление.
Один современный критик жаловался, что живопись Мане демонстрирует "род пантеизма, придающего голове не больше ценности, чем домашней туфле". Пантеизм, безличие, безразличие: "Казнь" работает жестким, ровным светом и ровными, сглаженными плоскостями, и ее нравственный посыл странный, сглаженный, модернистский. Конечно, она иллюстрирует драматичное событие, и мы восхищаемся стойкостью жертв, в особенности после правдоподобной выдумки Мане, что император и два его генерала держались за руки (на самом деле во время казни Максимилиан не был центром группы, а генералов, вероятно, застрелили в спину, сидящих на табуретах, — тогда именно так расправлялись с осужденными предателями). Но мы также можем восхититься непоколебимостью палачей, их устойчиво расставленными ногами. Это не историческая картина с героическим посылом: в устах Мане слова "peintre d’histoire" были худшим из ругательств. Да и политический посыл картины, возможно, мимолетен: когда в 1869 году запретили литографию "Казни", Мане в заявлении для прессы назвал ее "une oeuvre absolument artistique" — чисто художественной работой.
Разумеется, в этом было некоторое лицемерие, поскольку Мане все-таки решил изобразить событие, крайне унизительное для имперской мечты Наполеона III, и сделал это, придав фигуре Максимилиана черты мученика (сомбреро смахивает на нимб, а центральное положение, возможно, должно ассоциироваться с распятием Христа). Далее, мундиры, сочиненные им для расстрельной команды, выглядят достаточно неопределенно, чтобы казаться французскими в той же мере, что и мексиканскими, допуская намек на то, что французы бросили своего марионеточного императора в трудный час и, считай, сами его казнили. Такова была, разумеется, интерпретация Золя, хотя его два отзыва о картине являют поучительный контраст. В неподписанной статье в "Ля трибюн" писатель, вторя художнику, утверждает, что литографию запретили несмотря на то, что "мсье Мане трактовал тему с чисто живописной точки зрения", и саркастически интересуется, станет ли правительство преследовать людей просто за то, что они не отрицают факта смерти Максимилиана. Однако уже четыре дня спустя Золя подчеркивает неопределенно написанные мундиры и отмечает "жестокую иронию" картины Мане, которую можно истолковать как "Франция убивает Максимилиана". Не только лицемерные власти любят и невинность соблюсти, и капитал приобрести.
Этого, впрочем, не удалось ни Золя, ни Мане. Либо картина — "чистое искусство", сюжетом которого, так уж вышло, стало недавнее политическое событие, либо нет. Но верно также и то, что сам факт запрета (во Франции публика не увидела картину при жизни Мане) политизировал ее волей-неволей. Но не популяризировал: "Казнь Максимилиана" не стала "Герникой", которая, будучи под запретом на родине, волновала умы за ее пределами. На выставке в Нью-Йорке в 1879 году (угол Бродвея и Восьмой улицы, вход — двадцать пять центов) "Казнь императора Максимилиана" не снискала успеха. В Бостоне было получше, но предложенный тур в Чикаго и далее провалился, и полотно вернули во Францию.
Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. Фрагменты с изображением унтер-офицера, взводящего курок, с лондонской (слева) и мангеймской (справа) картин. 1867–1868. Национальная галерея, Лондон. Фото: akg — images; справа: Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. 1868. Кунстхалле, Манхейм. Фото: The Art Archive.
Почему же литографию запретили, заранее предупредив Мане, что законченную картину не примут в Салон 1869 года? Здесь снова зияет манящий пробел. Не существует официального документа с галочками в графах "подстрекательство к мятежу" или "эстетически неблагонадежна". Джон Хаус утверждает, что прегрешение Мане должно было быть серьезнее просто изображения события, конфузящего правительство, поскольку две другие картины на тот же сюжет, написанные Жюлем Марком Шамерла (к сожалению, утраченные — еще один пробел), были приняты в Салон 1868 года. Возможно, дополнительная причина исключения картины Мане — ее "кажущаяся отстраненность от событий и отказ выделить четкую мораль", даже ее "обобщенный мазок и кажущаяся незавершенность". Может быть, но было бы ошибкой наделять органы цензуры излишней рациональностью (или излишним эстетизмом). Они, как известно, живут в своем мире, у них свои причуды и фобии. "В случае сомнения запретить" — вот их основное правило. Прекрасным поводом для запрета была репутация художника (Мане знали как республиканца). Как было на самом деле, сейчас уже не восстановишь. А цензура продолжает действовать, ограничивая знания потомков. Это не просто запрет картины и литографии с нее: подавлена реакция поколения, для которого она написана, тех людей, что могли бы поведать нам, как ее следует читать. Из-за этого пробела для сегодняшнего зрителя картина оказывается еще более непроницаемой. В этом смысле цензура своего добилась, как это часто случается.
Фантен-Латур Человеческий ряд
На четырех картинах, написанных за двадцать один год, изображены тридцать четыре мужчины — двадцать стоят, четырнадцать сидят. Почти все одеты строго, в черные сюртуки, которые в те времена во Франции носили что буржуа, что художники; малейшая вольность — светлые брюки, мышино-серое пальто, белый халат — бросается в глаза. Пространство этих портретов столь же аскетично: узкие, душные, давящие помещения без единого окна, а дверь присутствует лишь на одном; бежать некуда. На стенах могут висеть картины, но и они не напоминают о внешнем мире: полотна темные, нечитаемые. Наш взгляд вновь возвращается к скопищу людей. Порой атмосферу слегка разрежают цветы, фрукты, кувшин вина или красная скатерть — но тусклый оттенок красного не нарушает общую похоронную тональность. И хотя эти люди собрались вместе не просто так — они пришли отдать дань умершему художнику, понаблюдать за работой живого, послушать чьи-то стихи или игру на фортепиано, — непохоже, чтобы им было весело. Ни один из тридцати четырех (тридцати трех, если быть точным, — один человек изображен дважды) не смеется и даже не улыбается. Большинство серьезны и сосредоточенны, но многие явно витают в собственных мыслях и даже скучают. Среди них есть друзья, двое любовников, большинство — единомышленники, коллеги, члены самопровозглашенной элиты или авангарда; и вместе с тем они почти не взаимодействуют друг с другом. Никто из них не касается соседа; они могут стоять вплотную, заслонять друг друга, но контакта нет. Такое ощущение, что они ждут, пока отсидят (или отстоят) положенное время и смогут вернуться к себе в студию, мастерскую или кабинет.
Эти четыре работы Фантен-Латура (всего их было пять, но последнюю он уничтожил после того, как критики разгромили ее в Салоне) хранятся в Музее Орсе. Я несколько раз проходил мимо них и видел репродукции, но никогда не замечал их странности — возможно, потому, что, подобно большинству, не воспринимал их как произведения живописи. Для меня это были всего лишь образчики жанра группового портрета — образцы высочайшего качества, разумеется: вот Мане, а вот Бодлер, Моне, Ренуар, Уистлер и Золя на них как живые. А самый знаменитый фрагмент всех четырех работ, вместе взятых, — это левый нижний угол картины "Угол стола", потому что на нем Рембо и Верлен изображены рядом. Рембо, прелестный юноша в окружении бородачей, трогательно подпер щеку ладонью и смотрит куда-то за наше левое плечо. Верлен изображен вполоборота — у него залысины, он явно напряжен и нервно сжимает стакан с вином, в котором так скоро пропадет. Но даже эта пара — они ближе друг к другу, а заодно и известней, чем все остальные персонажи, — не смотрит друг на друга, и сложно предположить, что перед нами любовники. Подобные картины неизбежно вынуждают нас сосредоточиться на знаменитостях; современный зритель лишь сочувственно скользнет взглядом по какому-нибудь Луи Кордье, Закари Астрюку, Отто Шольдереру, Пьер-Эльзару Бонньеру, Жану Экару, Артуру Буассо, Антуану Ласку и так далее. И здесь мы испытываем даже не вину, а скорее неловкость: ведь именно мы — те, кто их забыли.
Анри Фантен-Латур. Угол стола. Фрагмент с изображением (слева направо) Верлена, Рембо, Леона Валада. 1872. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
Эти работы мы воспринимаем как своего рода документы — поначалу, во всяком случае. Так всегда бывает с групповыми портретами, взять хотя бы "Апофеоз Гомера" Энгра — или последнюю цветную фотографию "Лучших начинающих писателей Великобритании". Кто здесь новенький, кто хорош собой, кто талантлив, кто ничего не добьется? Мы тут же приступаем к оценке; помню, как сам вставал в 1983 году под прицел камеры лорда Сноудона вместе с такими же "начинающими романистами", и после съемки кто-то ехидно заметил: "Ну что ж, они выбрали лучшую двадцатку из семерых имевшихся". Мало кто разглядывал эту фотографию, чтобы оценить чувство композиции Сноудона, — так же как и мало кто любуется мастерством Фантена, оглядывая мельком его персонажей — что знаменитых, что безвестных — в Орсе. Так что главное, чего добилась Бриджет Альсдорф своей книгой "Такие же, как он"[19], — картины Фантена вновь стали восприниматься как картины: произведения, которые появляются на свет в виде идей и надежд, затем воплощаются в набросках и ошибках, которые все же приводят к новым мыслям, а затем, после череды последующих набросков и эскизов маслом, когда уже преодолены все препоны вроде пропавшего в последний момент натурщика, рождается финальная версия картины, чтобы вскоре удостоиться осуждения со стороны завсегдатаев Салона, непонимания критиков и насмешек карикатуристов.
Четыре дошедших до нас полотна огромны: самое маленькое из них — 160 на 222 сантиметра, самое большое — 204 на 273,5 сантиметра. И это не скромные зарисовки на память для товарищей-единомышленников, это мощные публичные высказывания — напористые, даже в чем-то агрессивные. Берегитесь, идут художники и писатели, и лучше бы вам их знать (хотя последняя картина, "Вокруг фортепиано" (1885), гордо заявляет скорее не об изображенных на ней людях, а об их общей идее — вагнерианстве). Для художника, который ранее и впоследствии был известен лишь своими автопортретами и натюрмортами с цветами, такие картины представляли непростую задачу: как выстроить группу одинаково одетых товарищей, чтобы их было интересно разглядывать, как сделать их узнаваемыми и вместе с тем — объединить некой общей идеей, провозгласить которую они и собрались? Каждая картина построена своим особым образом. Первая, "Памяти Делакруа" (1864), довольно чопорна: четверо мужчин сидят (все лица на одном уровне), шестеро — стоят (все лица на одном уровне), а на стене, чуть выше, портрет Делакруа (строго говоря, все сложно: картина с литографии на основе фотографии). Вторая картина, "Мастерская в квартале Батиньоль" (1870), менее традиционна: здесь мы видим диагональный расширяющийся каскад лиц, как бы указывающий нам на Мане за мольбертом. Третья картина, "Угол стола", наименее прямолинейная и провоцирующая — это отражается и в названии, и в выборе центрального элемента (открытая книга, которую, возможно, только что читал поэт), и в композиции: пятеро сидят за столом, рядом с ними стоят еще трое, края и передний план украшены листьями, цветами и фруктами. Архитектура четвертой более стандартна: открытые ноты в центре композиции и четверо мужчин в черном с каждой стороны от этой светлой музыкальной вспышки.
Но в чем же общий посыл этих четырех работ? Он не бросается в глаза. "Памяти Делакруа", к примеру, в принципе не является оммажем — хотя бы потому, что это работа Фантена. Его реалистический стиль, приглушенный колорит и довольно-таки чопорные композиции предельно далеки от работ Делакруа; а поскольку собравшиеся отдать дань художнику смотрят на нас, отвернувшись от портрета своего покойного героя, мы понимаем, что они вряд ли будут продолжать его дело. Прощай и покойся с миром, как бы говорит картина. "Мастерская в квартале Батиньоль" оказывается вовсе не мастерской в квартале Батиньоль, но весьма напоминает место работы самого Фантена. К тому моменту, как Фантен запечатлел ее, "Батиньольская школа" уже, скорее, отошла в область воспоминаний; а человек, окрестивший ее, Эдмон Дюранти, не попал на картину, так как успел поссориться с Мане (и винил в этом Фантена). Подобные предыстории — обычное дело, ведь принадлежность к коллективу важнее всего для молодых художников (и писателей), в том возрасте, когда особенно ценятся взаимная поддержка и объединение перед лицом общего врага; но стоит человеку набраться уверенности в себе, он уже не хочет, чтобы на него вешали ярлыки, считали частью группы. Поэтому, хотя персонажи картины "Угол стола" и кажутся на первый взгляд самой однородной и гармоничной компанией (здесь представлены лишь писатели), на деле они столь же разобщены, как и остальные. Вскоре Рембо и Верлену предстояло сокрушить этот парнасский мирок — как своей поэзией, так и поведением на публике. Хотя мягкие зеленоватые тона картины и присутствие в композиции фруктов и цветов как бы предполагают меньший аскетизм и большее согласие между персонажами, большой цветок в горшке в правой части картины появился вместо Альбера Мера, который отказался позировать с парой "вороватых пидоров", красующихся в противоположном конце стола.
Анализируя внешние признаки работ, Бриджет Альсдорф демонстрирует нам, что на этих монументальных "документах эпохи" все не так просто, как может показаться. Пристально и обоснованно она разбирает суть, подтекст происходящего. Когда критики тех времен разглядывали эти мрачные, разобщенные группы, больше всего их возмущало (помимо того, что Фантен прославлял себя и своих единомышленников) пренебрежение художника необходимостью создать хотя бы видимость пусть и формальной общности изображенных. Однако Альсдорф убедительно доказывает, что отсутствие взаимодействия между персонажами — не промах художника, а главная тема картин. Фантена интересует, как взаимодействует с группой каждый конкретный персонаж, — именно это он и изображает. Очевидная скованность здесь преднамеренна: люди пытаются понять, как сохранить свою индивидуальность в обществе собратьев и коллег, среди которых могут быть и ученики, и соперники. На некоторых из предварительных рисунков Фантен изобразил художников и писателей в момент оживленной беседы, но итоговые версии картин оказались совершенно иными. Альсдорф проводит крайне интересную параллель с картиной "Мастерская на улице Ла Кондамин" Фредерика Базиля, предымпрессиониста средней руки (он есть среди персонажей "Мастерской в квартале Батиньоль"). В мастерской Базиля много пространства и воздуха, окно в пол, картины с нагими красотками на стенах, и всюду бурлит творческая деятельность: справа кто-то барабанит по клавишам, слева двое мужчин (один из них подымается по лестнице) оживленно дискутируют — несомненно, об искусстве; в центре сам Базиль за мольбертом демонстрирует законченную работу двум коллегам (один из них определенно Мане, другой, возможно, Моне). Искусство здесь тоже является сугубо мужской прерогативой, но это светлая, яркая, живая картина — словно беднякам из "Богемы" повезло и они переехали в престижный район, а выздоровевшая Мими сейчас подаст обильный обед. Кроме того, по сравнению с фантеновской "Мастерской" эта картина совершенно банальна — как по замыслу, так и по исполнению. Базиль как бы говорит нам: вот как живут художники. Фантен уточняет: вот как они живут на самом деле.
Такие художники постоянно мучаются тревогой и сомнениями, а их тяжкий труд порой ни к чему не приводит. Именно это должна была продемонстрировать вторая картина серии — та, что он уничтожил, когда ее вернули из Салона (сохранились только три лица — самого Фантена, Уистлера и Антуана Воллона). Альсдорф описывает эту картину как "самый амбициозный и провальный групповой портрет работы Фантена". Она называлась "Тост! Оммаж правде". В то время как "Памяти Делакруа" — это, в частности, порицание тому, как быстро люди забыли покойного художника (на похоронах Делакруа почти никого не было, и о них мало писали), "Оммаж правде" должен был стать новым словом в искусстве — а также в творчестве самого Фантена. Картина "Памяти Делакруа" рассердила критиков нескромностью автора: они сочли саморекламой то, что его фигура с палитрой в руке заметно выделялась на фоне группы в черном своей ослепительно-белой блузой, а букет цветов перед портретом покойного мэтра намекал на любимый сюжет Фантена. "Оммаж правде" был еще более провоцирующим.
Анри Фантен-Латур. Памяти Делакруа. Фрагмент, изображающий самого Фантен-Латура. 1864. Музей Орсе, Париж. Фото: DeA Picture Library / The Art Archive.
Альсдорф подробно описывает подготовку к созданию этой работы (Правда на ней представала в виде обнаженной женщины с зеркалом в руках в окружении художников), и мы видим, сколько усилий Фантен приложил к тому, чтобы донести свою идею до публики. По мере разработки концепция картины меняется: это уже не псевдоклассическая аллегория, где фигурируют персонифицированные искусства, но более реалистичный групповой портрет с обнаженной натурой; Фантен постоянно переписывал и менял местами художников на картине; но самую сложную задачу представляло взаимодействие его самого — также присутствующего на картине — с мифологической Правдой. Художники веками вписывали себя в многофигурные композиции, нарочито скромно выбирая для автопортрета местечко где-нибудь с краю, откуда он взирал на происходящее с чуть более осведомленным видом, чем прочие. Но, помещая себя в центр картины, художник брался за заведомо непростую задачу и к тому же подставлял себя под огонь критики. Фантен ориентировался на "Мастерскую художника" Курбе — где Художник недвусмысленно ассоциируется с Богом, творящим мир. Но по сравнению с Фантеном Курбе обладал непоколебимым самомнением, к тому же на картине он всего лишь спокойно пишет мир (и принимает комплименты), тогда как Фантен должен был изобразить себя в сложном взаимодействии с вооруженной зеркалом нагой аллегорией. В первых набросках она изображена со спины, держащей зеркало над головой, а художник в ответ подымает вверх большой плакат с надписью VERITE (правда). Идея очевидно сырая. Далее Фантен изобразил Правду, избирающую его своим глашатаем, и себя — в одной руке палитра, другая недоверчиво воздета (все вместе выглядит как довольно-таки богохульственная метафора Благовещения). Наконец, художник разработал итоговую композицию, дошедшую до нас в виде эскиза маслом: на нем обнаженная Правда с зеркалом в руках стоит в центре, остальные художники также изображены к нам лицом, за исключением самого Фантена: поглядывая на нас, он указывает рукой на Правду. Как он выразился в письме своему английскому представителю Эдвину Эдвардсу: "Я единственный, кто ее видит". Таким образом, Фантену грозили дальнейшие обвинения в самолюбовании; к тому же изображение обнаженной женщины в компании одетых мужчин должно было всколыхнуть истерику подобно той, что разразилась в Салоне двумя годами ранее, когда выставляли "Завтрак на траве" Мане. Фантен совершенно справедливо беспокоился, что публика увидит в его работе изображение "оргии художников".
Чего Фантен так и не попробовал, так это убрать себя из центра композиции: например, поставить, как это заведено, где-нибудь с краю. Альсдорф упоминает групповой портрет набидов[20] работы Феликса Валлоттона (1902–1903) (такой же масштабный и довольно загадочный): здесь художник изобразил себя чуть меньше и чуть дальше остальных, похожим на старшего официанта, наблюдающего за оживленной беседой. Фантену такое и в голову не пришло. Равно как не пришло ему в голову и более радикальное решение: отказаться от музы. "Симпозиум" (1894) Акселя Галлен-Каллелы — это по-мунковски фантасмагоричный групповой портрет, герои которого изображены изрядно выпившими в отеле "Камп" в Хельсинки. Справа сидят Сибелиус и его друг, композитор Роберт Каянус: глаза у них покраснели, они дымят сигаретами, явно осоловев от выпитого; слева от них спит музыкальный критик Оскар Мериканто, за ним стоит сам Галлен-Каллела и смотрит на нас. Его наполовину заслоняет то, на что смотрят Сибелиус и Каянус: багровые крылья, словно принадлежащие хищной птице. Им только что явилась Тайна Искусства, но, как мы видим, уже собирается улетать. Картина мелодраматична до абсурда, но все могло быть куда хуже, если бы Галлен-Каллела реализовал один из своих первоначальных замыслов: вместо улетающей птицы на скатерти должна была лежать обнаженная женщина. Вот это в самом деле была бы "оргия художников".
Перед тем как завершить "Оммаж правде", Фантен сомневался, не абсурдна ли его идея. Картину и впрямь обвинили в абсурдности, претенциозности и вульгарности. Один критик диагностировал "воспаление гордости", другой назвал картину "очередным пивным райком, в котором художник воображает себя Господом Богом, а своих дружков апостолами". Как и львиная доля французской критики той поры, это злобные, надменные и, как правило, несправедливые замечания, но они только подстегивают неуверенность художника. Уничтожив "Оммаж правде", Фантен признал свое поражение и принял обвинение в самовлюбленности. Со временем он перестал писать себя на групповых портретах и постепенно отдалился от собратьев. В молодости он был страстным республиканцем, но на улицы выходил редко; он декларировал свои политические воззрения, изображая более активных товарищей ("Угол стола" прозвали "Ужином коммунаров"). Таким образом, решение спрятаться в Лувр и в собственную мастерскую в его случае не было трагедией. В 1875 году он написал немецкому художнику Отто Шольдереру (на картине "Мастерская в квартале Батиньоль" он стоит слева от Мане): "Ты прав насчет сборищ художников… Ничто не сравнится с собственным внутренним миром". В ноябре 1876-го он пишет ему же, что хочет "удалиться от всех и жить один, вдали от художников, так как я не чувствую себя одним из них".
Анри Фантен-Латур. Семья Дюбур. 1878. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
По интересному совпадению в том же месяце он женился на Виктории Дюбур — художнице, с которой они познакомились, когда делали копии с картин в Лувре. Два года спустя он написал картину "Семья Дюбур" (1878) — на ней изображены его жена, ее сестра Шарлотта и их родители. Всякому, кто видит некоторое несоответствие между желанием "удалиться от всех" и женитьбой, стоит посмотреть эту картину: возможно, это одно из самых мрачных изображений тестя с тещей в истории живописи и брака. Четыре фигуры в черном — родители сидят, дочери стоят — на фоне серо-бурой стены, на которой висит некая картина, от которой нам виден только темный угол; в левой части — дверь, которая выглядит так, словно забита наглухо. Стылая, мертвенная атмосфера заставляет вспомнить ранние романы Франсуа Мориака или чеховское "если боитесь одиночества, то не женитесь". Что еще удивительнее, Фантен словно бы отдает предпочтение Шарлотте, а не Виктории: глядя на этот и последующие портреты сестер, невольно гадаешь, а не гадал ли сам Фантен, на той ли сестре женился. По крайней мере, на этом портрете один персонаж все же касается другого — жена Фантена нежно положила руку на плечо матери. В этом загадка таланта Фантена — его портреты отличаются похоронной мрачностью, обычно свойственной натюрмортам; тогда как в его натюрмортах, в его цветах, на которых он сколотил состояние (а заодно заработал славу), — сила, жизнь и краски, которые он, несомненно, был способен увидеть.
Сезанн Яблоко двигается?
Первая персональная выставка Сезанна прошла в 1895 году, когда ему было пятьдесят шесть. Его посредник Амбруаз Воллар выставил "Купальщиков на отдыхе" (1876–1877) в витрине своей лавки, не сомневаясь, что они вызовут скандал. Он также предложил художнику сделать литографию с картины. Сезанн выполнил литографию больших размеров, известную как "Большие купальщики", подцветив некоторые оттиски акварелью. В 1905 году Пикассо купил один из них и отнес к себе в мастерскую. Два года спустя "Авиньонские девицы" усвоили секреты этой работы. Влияние Сезанна на Брака было настолько же очевидным и не скрывалось. "Его работы, когда я с ними познакомился, все перевернули, — говорил Брак в старости. — Мне пришлось все переосмыслить. Предстояло побороть многое из того, что мы умели, к чему относились с уважением, чем восхищались, что любили. В работах Сезанна следует видеть не только живописные композиции, но также — о чем часто забывают — новую этическую идею пространства".
Художники учатся с жадностью, а искусство поглощает само себя: XIX век быстро уступил место XX. Так и один тип художника быстро уступил место другому. Даже прославившись, Сезанн оставался загадкой. Он был скрытен, сдержан, непритязателен; часто пропадал на целые недели; его внутренняя жизнь, какой бы она ни была, оставалась глубоко личной и закрытой; и он совершенно не интересовался тем, что мир называл успехом. Брак, затворник по нашим меркам, был денди и держал личного шофера; Пикассо и вовсе в одном лице воплощал идеал художника XX века: открытый обществу, политике, богатый, успешный во всех смыслах слова, любитель сниматься и сластолюбец. И если Сезанн счел бы жизнь Пикассо вульгарной — в том смысле, что она лишает времени и нарушает цельность личности, необходимую для искусства, — то каким высоконравственным аскетом станет казаться Пикассо в сравнении с наиболее "успешными" художниками XXI века, которые втюхивают нескончаемые варианты одной и той же идеи невеждам-миллионерам.
Морис Дени. Оммаж Сезанну. Фрагмент, изображающий (слева направо) художников Редона и Вюйара и критика Андре Меллерио. 1900. Музей Орсе, Париж. Фото: Erich Lessing / akg-images.
В детстве, проведенном в Экс-ан-Провансе, Сезанн был крепким, упрямым и смелым. Со школьными друзьями Эмилем Золя и Батистеном Байлем они называли себя "Неразлучными". В начале 1860-х они приехали в Париж, куда стремились все амбициозные провинциалы (Байль впоследствии станет профессором оптики и акустики); но из всех троих у Сезанна были наиболее неоднозначные представления о том, что может дать Париж. Вдвоем с Золя, молодые и неизвестные в метрополии, они размышляли об "ужасном вопросе успеха". Когда спустя много лет случилась их "ссора", они разошлись не столько из-за романа Золя "Творчество" — который восприняли как роман о его друге, — сколько из-за того, что их ответы на этот самый вопрос не совпали. (Как правило, успех, как бы его ни определяли, разделяет друзей-художников сильнее неудачи.) Золя было нужно, чтобы литературный успех выражался материально: большой дом, хорошая еда, продвижение в обществе, буржуазная респектабельность; тогда как Сезанн избегал мира тем старательнее, чем известнее становился. Ближе к старости, когда его работами торговал ненасытный Воллар (в 1900 году он купил "сезанна" у одного клиента за 300 франков и тут же сбыл его другому за 7500 — аргумент в пользу droit de suite[21], если оно вообще существует), художник жил по соседству с каменоломней, старался ни с кем не встречаться и читал Флобера. В современном мире одним из искушений святого Антония могло бы стать искушение творческим успехом.
Валери считал Сезанна "примером преданности делу". В новой биографии Алекс Данчев называет его "примерным художником — творцом современности"[22]. И это пример куда более мощный, чем художник, который все бросает (Гоген нашел сладостное утешение на Таити — и в труде, и в отдыхе; Рембо, торгуя оружием, хорошо зарабатывал), или художник, который сходит с ума и/или кончает самоубийством. Более мощный потому, что для продолжения жизни может потребоваться больше героизма, чем для самоубийства: постоянно работать, постоянно бороться, зачастую уничтожать неудачные работы — и обязательно, как считал Сезанн, жить честно, ведь от этого зависит честность работы. Клайв Белл отмечал "отчаянную искренность" работ Сезанна. Дэвид Сильвестр заключает, что его искусство, полностью принимающее человеческие противоречия, являет нам "моральное величие, которое мы не можем найти в себе". Это высокая планка, и Данчев искусно соблюдает баланс, одновременно являя нам Сезанна таким, каким он был, каким хотел казаться и каким его считали окружающие. Согласно бытующему мифу, он был кем-то вроде благородного дикаря — самоучки, idiot savant[23] среди художников. Действительно, он называл себя "примитивом" и, как замечал Ренуар, был "колюч как еж"; между тем с возрастом он отнюдь не смягчился, но и, как удачно выразился Данчев, "не заматерел". Но миф вырос отчасти потому, что он сам его взращивал, играл в игру "быть Сезанном" — то есть художественной версией лукавого крестьянина, который всегда знает больше, чем говорит, и берет свое, делая вид, что проигрывает. На самом деле Сезанн был образован, начитан и — вообще-то — он был мещанин. Его отец, шляпник-банкир-рантье, более понимающий, чем многие подобные отцы, даже ухитрился найти самодовольный повод поддерживать безумное призвание сына: "Не мог же я породить идиота". И действительно, Поль завоевывал литературные награды в школе (художественные завоевывал его друг Золя); позднее отец откупил его от армии. Он читал много классики и даже доказал, что иногда можно быть бальзакианцем, стендалианцем и флоберианцем одновременно. Моне называл его "Флобером живописи": он определенно был в нужной степени аскетом и еще верил, что автор произведения искусства должен оставаться незаметным. Правда, в отличие от Флобера, он был довольно стыдлив и скромен, когда дело касалось женщин. Он совсем не одобрял sale-bourgeois[24] Золя, падкого на горничных. А в старости, когда писал купальщиц, он пользовался натурными рисунками, сделанными еще в молодости, предпочитая лишний раз не беспокоить моделей (и, возможно, себя).
Мы неизбежно видим в нем отправную точку современного искусства, поэтому в нынешней экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке слева висят один "гоген" и три "сёра", а потом, справа, превосходя их числом, — полдюжины "сезаннов". Кроме того, мы склонны в первую очередь отмечать его влияние на крупнейших модернистов, которые у него учились. Но влияние Сезанна куда шире — не избежали его даже те художники, которые не следовали за ним непосредственно. Об этом очень хорошо пишет Феликс Валлоттон (сначала швейцарский художник, потом французский, сначала один из набидов, потом независимый). 5 июня 1915 года Воллар подарил Валлоттону экземпляр своей книги о Сезанне, опубликованной годом раньше. Художник тут же ее прочитал и уже на следующий день записал в дневнике:
"Чтение этой книги ничего не прибавило ни к моим знаниям о нем, ни к моему пониманию его живописи. Сезанн был человеком необходимым с любой точки зрения. Мы нуждались в его примере, чтобы увидеть все четче, чтобы переосмыслить себя, свои приемы в живописи, искусство в целом, жизнь и "успех". Не обязательно перенимать "стиль" Сезанна; но если уделять время оттачиванию идей, пристальному наблюдению природы, своей палитре и орудиям своего ремесла, из этого выйдет только хорошее. Сезанн оказал неоценимую услугу даже тем художникам, чья работа диаметрально противоположна его".
Поль Сезанн. Игроки в карты. 1893–1895. Галерея Института Курто, Лондон. Фото: Bridgeman Images.
Некоторые современники догадывались, к чему он может привести. Но они так же ясно видели, откуда он пришел. Так, благожелательный критик назвал его "греком Belle Epoque". Ренуар сказал, что в его пейзажах есть гармония Пуссена, в то время как цвета его "Купальщиц" "словно взяты с древней керамики". Как и все серьезные участники любого художественного авангарда, Сезанн постоянно искал поддержки в творчестве предшествующих мастеров, всю жизнь изучал Рубенса. И хотя мы восхищаемся тем, как смело он рассекает увиденное на фрагменты, сам художник искал "гармонии", которая не имела никакого отношения к "завершенности" или "стилю". Начиналась она с противопоставления двух тонов — совсем как у Веронезе. Сезанн едва ли считал себя основателем того, что позднее назовут модернизмом. Для него писать значило выражать истину о природе, пропуская ее через собственный темперамент.
"Разговаривайте, смейтесь, двигайтесь, — убеждал Мане своих моделей, — чтобы выглядеть настоящими, вы должны быть живыми". Модели Сезанна, наоборот, должны были часами сидеть как гвардейцы. Когда Воллар имел неосторожность заснуть, художник заорал на него: "Слушайте, вы! Поза пропала к чертям! Я серьезно говорю: надо замереть, как яблоко. Яблоко разве двигается?" А в другой раз, когда модель отвернулась, засмеявшись над чьей-то шуткой, Сезанн отшвырнул кисть и в ярости вышел вон. Так что его портреты как раз не пытаются уловить настроение, беглый взгляд, ускользающее мгновение, когда личность модели раскрывается перед художником. Сезанн гнушался таких банальностей точно так же, как он презирал тщательное жизнеподобие и попытки передать характер. "Я пишу голову как дверь", — сказал он однажды. И еще: "Если меня интересует голова, я делаю ее слишком большой". С другой стороны, кроме "характера", есть что-то еще. "Мы не души пишем. Мы изображаем тела; а когда они, черт возьми, хорошо написаны, то сияние души — если таковая в них есть — проявляется во всем". Портрет Сезанна, как мудро замечает Данчев, "это скорее "есть", чем "похож"". Дэвид Сильвестр писал, что Сезанн "превосходит всех в том, что касается проблемы воспроизведения плотности, которая видится в людях, когда мы на них смотрим".
Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном кресле. Ок. 1877. Холст, масло. 72,4 × 55,9. Музей изящных искусств, Бостон. Дар Роберта Трит Пэйна II. Фото: Bridgeman Images.
Итак, все портреты Сезанна — это натюрморты. И если они удаются, то скорее как живописные произведения, где правит колорит и цельность, а не как визуальные описания людей, которые, как и все, смеются, разговаривают, двигаются. Эти картежники, склонившиеся над столом, на самом деле никогда не разыграют карту и не возьмут взятку. Они могут сколько угодно смотреть на лучшую комбинацию в своей жизни, но гробовщик придет раньше, чем им позволят раскрыть карты. Мадам Сезанн, пригвожденная к стулу строгим приказом мужа не шевелиться, не раскроет нам свою личность, сколько бы раз он ее ни писал. Она с таким же успехом могла бы быть его любимой дверью.
Правда, дверь, яблоко или сахарница, несомненно, могут быть настолько же интересными и живыми, как человек. Данчев цитирует Гюисманса, который с некоторым возмущенным восхищением говорит о "накренившихся плодах в опьяненных вазах". Опьяненные вазы — это прекрасно. Потому что, хотя яблоко, в отличие от торговца искусством, может послушно не менять позу, пока не загниет, оно не просто яблоко, если определять его с точки зрения формы, цвета и съедобности. Вирджиния Вулф говорила, что чем дольше смотришь на яблоки Сезанна, тем тяжелее они кажутся (так что в каком-то смысле — да, яблоко двигается). Сезанн, безусловно, одобрил бы эту ремарку. "Ухватиться за предмет" — главное для его целей. "Предметы служат нам опорой. Сахарница позволяет нам понять о себе и своем творчестве ничуть не меньше, чем работы Шардена и Монтичелли. Кажется, что сахарница безлика, бездушна. Но это тоже меняется день ото дня".
Сахарница с душой. Сахарница меняется каждый день? Конечно, могут меняться освещение или наши чувства (из-за ассоциаций или ее особой красоты), но сама сахарница? Ее вес, форма, поверхность? Правда, это может увести к рассуждениям о совсем иных материях: "И трещина в чайной чашке / Путем в землю мертвых легла" (Оден)[25]. Но в какой-то момент у строгого принципиального пантеизма появляется оттенок невероятного антропоморфизма. Кандинский писал, что Сезанн "умел сделать из чайной чашки одухотворенное создание или, сказать вернее, открыть в этой чашке такое создание. Он поднимает nature morte на высоту, где внешне "мертвые" вещи внутренне оживают". Это, быть может, и верно, но так же верно и обратное: Сезанн так занижал и обездвиживал человеческую жизнь, что в какой-то момент она почти переставала быть внутренне живой. Движение в картинах — в основном движение взгляда зрителя, который следует скорее за движениями кисти, чем за изображенным движением. Иногда быстрыми короткими мазками он оживляет ветви деревьев. Но как его цвета редко бывают ослепительны — он использовал яркие краски, но в сером свете, как заметил его друг и ближайший соратник Писсарро, — так и его пейзажи редко подвижны. Зато они, несмотря ни на что, выражают и внушают радость. Одна сторона Сезанна принижает мир, пишет его пастозно, как будто хочет пригвоздить к месту, а в другой есть живость и пластичность — то, что Джон Апдайк назвал "эта странная воздушная строгость, этот трепет перед лицом повседневного". Тут еще важен синий цвет: когда собрание Барнса перевезли в центр Филадельфии и развесили как прежде, но при более естественном освещении, синие (и зеленые) Сезанна вдруг засияли по-новому — заново. Если в комнате, полной "сезаннов", задать пошлый, но проверенный вопрос: "Если бы вы могли, что бы вы украли?" — большинство, я подозреваю, выбрало бы либо "накренившиеся плоды в опьяненных вазах", либо один из его синеватых пейзажей с деревьями, водой, восходящим берегом реки, склоном холма и ромбом красной крыши вдалеке.
Для Сезанна искусство существовало скорее параллельно жизни, а не зависело от нее как подражание. Это искусство со своими правилами, которое ищет собственных гармоний, освобождается от интерпретативности прежних стилей и объявляет демократию, при которой пишут пятнами, и пятно в форме штанов не менее важно, чем пятно, изображающее голову. К счастью, все теории разбиваются о жизнь, и обитатели сезанновского мира порой так же непокорны, как в параллельном мире, где они жили во время позирования. Художник, работая над портретом своего старого друга пекаря (и курильщика) Анри Гаске, пытался объяснить свои действия сыну Гаске:
"Смотри, Гаске, вот твой отец там сидит, так? Он курит трубку. Он слушает только вполуха. Он думает — о чем? К тому же его обуревают разные ощущения. Его глаз меняется. Крошечная частичка, атом света внутри изменились и встретились с всегда или почти всегда одинаковой шторой на окне. И вот ты видишь, как этот крошечный оттенок, который дает тень под веком, изменился. Хорошо. Я исправляю. Но тогда я вижу, что мой светло-зеленый рядом с ним слишком яркий. Я приглушаю его… Я продолжаю так же, едва заметными касаниями, повсюду. Глаз выглядит лучше. Но есть ведь еще второй. Мне кажется, он щурится. Он смотрит, смотрит на меня. А этот смотрит на его жизнь, на прошлое, на тебя, не знаю на что. На что-то, но не на меня, не на нас…"
И в этот момент Гаске позволяет себе расслабиться и пошевелить губами и замечает: "Я думал о козыре, который я придерживал вчера до третьей взятки". Мы не пишем души, мы пишем тела, и душа светит изнутри. Но иногда эта душа более всего обеспокоена судьбой шестерки червей.
Писсарро заметил, что, когда появился Мане, Курбе вдруг стал всего лишь "частью традиции". И добавил, что Сезанн ровно то же самое сделал с Мане. Это оказалось верно. А если Сезанн сделал с Мане то же, что Мане сделал с Курбе, то как насчет всех тех, кто пришли за ним, впитали и пожрали Сезанна (начиная с кубистов), — что они оставили от него? Очевидно, с него начинается современное искусство; он обязательное звено. И тем не менее теперь на стенах великих публичных собраний он естественным образом присоединился к тому, что уже стало традицией. Мы видим, чем ему обязано искусство и как оно отдает ему эту дань. Мы понимаем, почему художники ценили, почитали и коллекционировали его. С другой стороны, мы вряд ли разделяем невысокое мнение Сезанна о большинстве его современников, его презрение к Гогену, его нелепое мнение, будто Дега "недостаточно художник". Мы безусловно чтим его как пример цельности и честности в искусстве и наслаждаемся гармониями его лучших картин — столь же вневременными, сколь и "современными". Правильно ли это? "Достаточно" ли этого? Для Данчева — нет. В начале и в конце своей биографии он утверждает, что влияние Сезанна "на наш мир, на наши представления о мире, сравнимо с влиянием Маркса или Фрейда". Это больше похоже на восторженный возглас поклонника, чем на твердый аргумент. Данчев цитирует слова Брессона, что Сезанн "дошел до грани невозможного". Может, это и так, но живопись не закончилась, а искусство изменилось, порой основываясь на открытиях Сезанна, а порой и нет. Осезаннилось ли наше повседневное зрение? Оно так же опирается на его ви́дение, как наша мысль — на тезисы марксизма или фрейдизма? В этот момент читателю позволено, как одному из карточных игроков художника, ожить на мгновение, тихо стукнуть по столу и пробормотать "пас".
Дега и женщины
Великие художники часто навлекают на себя низкие подозрения; низкие, но поучительные. Летописец парижских окраин Жан Франсуа Рафаэлли (1850–1924) заявил в 1894 году, что Дега как художник "пытается принизить тайные формы Женщины" и что он "явно не любит женщин". В доказательство Рафаэлли приводит слова одной из натурщиц Дега: "Странный господин: целых четыре часа сеанса потратил на то, чтобы расчесать мне волосы". Эдмон де Гонкур (у которого были свои саркастические соображения по поводу Дега, как и по поводу всех остальных) пересказывает эти обвинения в дневнике и добавляет в подтверждение историю, рассказанную писателем Леоном Энником — у того одно время была любовница, чья сестра была любовницей Дега. И вот эта его "свояченица" якобы жаловалась, что Дега "не оснащен для любви".
Все ясно как день. У него слишком маленький (и/или не стоит); он странно ведет себя с натурщицами; он ненавидит женщин и мстит им в своих картинах. Дело закрыто, обвиняемый виновен, давайте сюда следующего художника на биографическое судилище. И вряд ли имеет смысл с понимающим видом посмеиваться над пошлостью столетней давности, а возможно, и над завистью (Рафаэлли как раз собирался прикоснуться собственной кистью к теме Женщины). Вот вам сегодняшний критик, Тобиа Беццола:
"Неизвестно, были ли у Дега сексуальные отношения с женщинами; во всяком случае, тому нет никаких свидетельств… [Его] серия монотипий, изображающая сцены в борделе, — яркий пример вуайеризма и отвращения к женской сексуальности".
Или, если вы предпочитаете более концептуальную версию, послушайте поэта Тома Полина в телевизионном "Позднем шоу". В 1996 году Полин отправился на выставку Дега в Национальной галерее, будучи заранее убежден, что тот был антисемитом и выступал против Дрейфуса:
"Я размышлял, как это повлияло на его живопись. По картинам этого не видно, и я сказал себе: наверное, надо восхищаться их красотой. Но потом я прочитал исследование об Элиоте [написанное Энтони Джулиусом], где говорилось, что женоненавистничество и антисемитизм тесно связаны, и осознал, что на этой выставке мы видим женщин в уродливых позах… Они как животные, выставленные на забаву, как звери в зоопарке. Здесь глубокая, глубокая ненависть к женщинам, думал я, что же мне это напоминает, как будто врач из концлагеря создал эти фигуры… Я оказался внутри головы глубоко, глубоко озлобленного человека… Я думаю, здесь закодировано вот что — он представляет себе женщину на толчке, это его эротизм. Он представляет себе сиськи и задницы, женщин, которые подтираются, — и я все думал, а что скажут об этом дети? — женщина подтирается, снова и снова".
Эдгар Дега и Уолтер Барнс. Апофеоз Дега. 1885. Альбуминовая серебряная печать. Музей Гетти, Лос-Анджелес. Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.
С чего начать? Здесь и бьющее через край пуританство, и биографические подтасовки; сначала в восприятии перестают участвовать глаза, а потом и мозг. Если не можешь увидеть в картине те гадости, которые хочешь увидеть, то просто объясни, что они там есть. Оказывается, "восхищаться красотой" — сомнительное занятие, и лучше сразу от него отказаться, раз создатель красоты не тот человек, которого ты нанял бы присматривать за детьми.
Выставка, которая спровоцировала это злобное шипение, представляла поздние работы Дега. (Кстати, она включала только одну картину, где женщина прикладывает губку к своему колену; видимо, именно на ней базируется убеждение Полина, что все женщины Дега "подтираются" в туалетном смысле.) Работы на выставке служили примером того, как великий стареющий художник творит на границе между Правдой Жизни и Правдой Искусства, постоянно расширяя возможности формы, цвета, техники. Для большинства выставок одного мастера работы выбирают особенно тщательно: важно найти лучшие примеры того или иного периода "развития" художника, найти те полотна, на которых он наигрывает наши любимые мотивы. Это не то чтобы сознательный обман, но некоторая подтасовка, ведь творчество художника можно рассматривать как игру в лотерею, перечень выигрышей и проигрышей: шедевр, мимо, мимо, полушедевр, мимо, шедевр. Но карьера художника, как показывает эта выставка, — скорее навязчивое повторение, утомительное движение туда-обратно, процесс, а не результат; путешествие, а не прибытие в пункт назначения.
Эдгар Дега. Расчесывание волос. Ок. 1896. Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, Осло. Фото: Børre Høstland.
Многие работы выполнены на кальке, по причинам как эстетическим — калька особенно хороша для пастели, — так и практическим: образ скорее намечен (чем определен), его можно копировать снова и снова. Копировать, чтобы, переосмысляя, встраивая в другой контекст, использовать повторно. Этот изгиб бедра, поворот головы, скрещение ног нам уже встречались — иногда на той же стене, иногда два зала назад. Поза или жест кочуют из угля в пастель, в масло, в скульптуру (роль скульптур — отлитых только после смерти Дега — приятно загадочна: самодостаточны ли они или имели подсобную функцию, или, может быть, они — продолжение картин, или все вместе?). Сентиментальность ли это — чувствовать гнев за исступленным и неустанным исследованием одних и тех же форм? Творческий гнев, ярость против уходящего времени, уходящего света (на Дега наступала слепота), когда столько еще можно было бы увидеть, так много форм проверить на прочность.
Время. Дега четыре часа расчесывал волосы модели. Что за странный господин, когда обычно всего-то и надо, что сбросить одежду и забраться на помост, а потом можно еще быстренько выпить по рюмке? "Странный господин" был внимательным наблюдателем, а волосы — непростая материя. Есть история, как Дега вышел однажды с вечеринки и, повернувшись к приятелю, пожаловался, что теперь в обществе уже не увидишь покатых плеч. Пустяковое замечание великого художника. Гонкур пересказывает это наблюдение, подтверждает его справедливость, пытается объяснить это тем, что уже нескольким поколениям прививают новые привычки, но увидел это именно Дега — художник, а не писатель, не светский летописец, не критик искусства. Заметьте, это была жалоба. Гонкур не вдается в подробности, но жалоба эта, по всей видимости, художественного свойства: осознание того, что прекрасная, фундаментальная форма, изображенная на многих картинах, меняется если не прямо у него на глазах, то за время человеческой жизни — и будет меняться и дальше.
Четыре часа (и такие "четыре часа" повторялись много раз): работы Дега полны мгновений, в которых волосы оказываются "видны". Интимно, неформально — обнаженные волосы. Дега знает, как женщина держит волосы, когда их расчесывает, как она поддерживает их, когда ее расчесывает кто-то другой, как она уменьшает натяжение прядей, придерживая их ладонью в самые болезненные моменты расчесывания. Но (и тут Правда Жизни переходит в Правду Искусства) волосы еще и покладисты, метафоричны, готовы принять абстрактную форму. На многих картинах, изображающих женщин после ванны, волосы становятся эхом, отголоском узлов и каскадов полотенца, иногда как будто меняясь с ним местами. "Женщина в ванной" (1893–1898) даже предлагает шутливую подмену: то, что сначала кажется нам головой женщины с собранными темными волосами, — на самом деле кувшин, которым горничная готовится сполоснуть наклоненную голову хозяйки.
Современное женское тело, изображенное в интимный момент наблюдателем-мужчиной. Век спустя мы стали более скованными зрителями; к уравнению добавились разборчивость и корректность. Художник подлил масла в огонь своим часто цитируемым утверждением: "Женщины ничего мне не прощают; они ненавидят меня, они чувствуют, что я их обезоруживаю. Я показываю их вне кокетства". Возможно, отчаянные кокетки действительно ненавидели его полотна; возможно, те натурщицы, на которых он кричал (но с которыми также проявлял "невероятное терпение"), чувствовали, что заработали свой хлеб в поте лица. Но не стоит слишком яростно становиться на сторону людей, которые нам совершенно незнакомы. Нелишним будет напомнить вот еще о чем: как показал Ричард Кендалл, именно женщины часто становились первыми покупателями этих интимных сцен женского ухода за собой.
Это непростая область: мы все привносим в нее свои предубеждения. На пресс-показе в Национальной галерее я столкнулся с директором музея, который сказал, что, по его мнению, эти картины изображают "увядание плоти"; в то время как, по моему ощущению, Дега изображал плоть в самом расцвете. Его балетные танцовщицы не сильфиды или нимфетки — утонченные и в то же время слегка порнографические, — какими их писали до него мужчины-художники. Это настоящие женщины, делающие тяжелую физическую работу: они потеют и жалуются, у них рвутся сухожилия, кровоточат пальцы ног; но даже в состоянии передышки после изнурительного труда (напряженная спина, руки на талии, поза "когда уже день закончится") они излучают мощную жизненную силу. Или это всего лишь мое предубеждение? Может быть, мое предубеждение заставляет меня различать жизнь, в которой Дега мог высказывать или не высказывать характерные для той эпохи женоненавистнические взгляды, и искусство, которое, на мой взгляд, явно свидетельствует о том, что Дега любил женщин? Конечно, эти слова нуждаются в немедленном пояснении (когда он работал, он не "любил женщин", а писал картины, и, несомненно, именно картины занимали все его мысли), но в остальном все именно так. Разве вы будете снова и снова через силу изображать то, что презираете и не любите? "Постылое рисуют все"?[26] Как правило, нет. Может, тот факт, что Дега был "не оснащен для любви" (если это правда; как ни странно, недавно всплыло свидетельство, которое этому противоречит: он покупал презервативы), превратил его в женоненавистника? Не обязательно: эта особенность могла сделать его еще более внимательным наблюдателем.
Эдгар Дега. Урок танцев. Фрагмент. Ок. 1879. Национальная галерея искусства, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
Художник как "вуайерист"? Но кем же еще быть художнику, как не человеком, который видит (слово voyeur может еще означать галлюцинирующего визионера). Художник терзал своих моделей, ставя их в неудобные позы? Но он работал также с фотографий и по памяти (не говоря уже о кальке). Летописец борделей, который таким образом давал волю "отвращению" к женской сексуальности? Но бордельные монотипии Дега, на мой взгляд, отражают жизнелюбие, скуку, сосредоточенность и профессионализм тех, кто занят этим конвейерным ремеслом; и в тоне их не больше отвращения, чем в бордельных картинах Тулуз-Лотрека. Может быть, репутация Лотрека — веселого малого, карлика, маргинализованного своим уродством, так что он как бы оказывается на одном моральном уровне с маргиналами вроде проституток, — работает на Лотрека, в то время как репутация Дега работает против Дега. Но ведь графические изображения от этого не меняются. И если вы смотрите, скажем, на "Праздник хозяйки" Дега, а видите только отвращение к женской сексуальности, то с вами явно что-то не так в критическом — а может быть, и в личном — плане.
Еще один повод для неодобрения — пристрастие художника изображать моделей спиной, отвернувшихся от зрителя, как это часто бывает на поздних его полотнах, что якобы свидетельствует о его квазипорнографических намерениях. Впрочем, все те же аргументы можно с тем же успехом привести, доказывая обратное: можно, например, сказать (при желании), что отвернувшаяся женщина не обращает внимания на художника/наблюдателя, что она занята собой, замкнута в своем отдельном мире. Еще важнее, что это не портреты; во всяком случае, не те портреты, которые должны передать характер, натуру. Это портрет тела как формы, итог жизненного поиска, который начался для Дега много лет назад с наставления Энгра: "Рисуйте линии, молодой человек, рисуйте линии". Одно время Дега принадлежала картина Энгра "Руджеро, освобождающий Анджелику" и карандашный эскиз к "Большой одалиске". Как далеко Дега продвинулся в изображении женского тела, можно оценить, если мы переосмыслим эти две работы. Живописное полотно говорит нам, что обнаженная натура — это в первую очередь блеск, лоск: даже в терзаниях и муках женщина сохраняет ослепительное великолепие. Рисунок показывает, что обнаженная натура — это линии: спина женщины архитектурно изогнута, как киль норманнской ладьи, а грудь ее, несмотря на то, как она должна выглядеть в такой позе, сохраняет силиконовую безупречность. У Энгра маммарное становится мраморным, у Дега грудь сохраняет подвижность, как в реальной жизни. Идеализация против натурализма. Художники, изображающие обнаженных женщин, непременно от кого-то получат на орехи; против них сиюминутные предпочтения и принципы — хотя они, конечно, не более чем сиюминутны.
Выставка в Национальной галерее включала полотно "У модистки" (1879–1886). При некотором занудстве можно и здесь углядеть "отвернувшуюся модель", потому что лицо модистки действительно повернуто к зрителю только наполовину. Но это потому, что картина изображает шляпы. Это не портрет, не повествование о работе модистки, эта картина о шляпах, здесь ткань — эквивалент плоти. Дерзость приема напоминает великий портрет работы Дега "Женщина с хризантемами". Однако здесь, скорее, "хризантемы с женщиной": солнечная копна цветов занимает центр полотна, а женщина смотрит за раму, куда-то вправо от зрителя. Когда я вижу эту картину (она живет в нью-йоркском Метрополитен-музее), я как будто принимаю вызов, как будто слышу вопрос: ты в самом деле знаешь, что такое портрет? Способов изобразить женщину и букет цветов больше, чем мы с тобой можем вообразить, шепчет картина. И в этом смысле она предвосхищает то, что мы видим более ясно и неизбежно в поздних работах Дега: художник раздвигает границы формы и цвета, исследует неизвестные еще возможности в передаче очертаний и движений человеческого тела. И если он был требователен к своим моделям, то еще требовательней он был к себе, а также ко всему тому, что способно увидеть и показать искусство.
Редон Выше! Выше!
В XIX веке, да и в начале XX, художники видели в браке угрозу искусству. Любовь — пожалуйста, но только не брачные узы. Флобер воспринимал свадьбу любого коллеги по перу как личное оскорбление и, более того, как предательство их общего дела. Русский импрессионист Леонид Пастернак опасался, что семейное счастье повредило его таланту, и верил, что достиг бы в творчестве большего, если бы страдал. Композитор Делиус считал, что творцу жениться не следует, а если уж пришлось, то надо выбрать женщину, которая любит твое искусство, а не тебя самого. Универсального решения нет: в любом случае в будущем ждут сожаления об упущенных возможностях. Но идея, что буржуазный институт брака сковывает и обуздывает вольного творца и правдоискателя, широко распространена. Примером служит запись из дневника литератора Поля Леото от 11 февраля 1906 года, которую он сделал после ужина с другом, Анри Шатленом:
"Мы говорили о том, как влияет на художника семейная жизнь. Плюсы: меньше бытовых забот. Минусы: перемены в атмосфере и настроении, ущерб индивидуальности и независимости: уже не запишешь самые потайные мысли или похождения, разве что выдать их за плод воображения. Необходимо обладать: 1) стойкой волей к свободе и независимости вопреки всему; 2) хорошо развитой двойственностью: в столовой, с женой, ты один человек, но у себя в кабинете, наедине с собой, ты освобождаешься от оков…"
Женщина (если мы подразумеваем, что художник — мужчина) заведомо находится в проигрышной позиции. Если она содержит семью — брак кажется тюрьмой; в противном же случае от нее одно беспокойство. Если она делает мужа счастливым, то гасит его творческий порыв; если нет, то только лишний раз отвлекает его от искусства. А ведь еще есть и секс (и зачастую дело именно в нем). Если в рамках соблюдения ханжеских традиций мужчине дозволено погуливать — с соблюдением всех приличий, — как быть, если ему захочется написать об этом? Фактическая сложность или невозможность развода также играла свою роль — теперь с этим проще. В 1960-е годы я как-то читал в студенческом журнале интервью с Бриджид Брофи. Ее спросили, что помогает писателю или писательнице творить, и она ответила: "Жена" (читай: секретарь, повар, посыльный, машинистка, психотерапевт и так далее). Флобер рекомендовал творческим людям вести упорядоченный и размеренный образ жизни, чтобы выплескивать свою страсть и ярость в работе. А брак — это один из способов упорядочить жизнь.
Одилон Редон. Мадам Камилла Редон за чтением. Частное собрание. Christie’s Images. Photo: Bridgeman Images.
Возможно, впрочем, что мы подходим к проблеме не с того конца. Возможно, мы позволяем известным нам фактам биографии творцов повлиять на наши представления об их работах: "недостает смелости", "маловато воображения", "не хватает опыта страдания" — "жаль, что он/она вступили в брак!". Можно ли понять по работам писателя, художника, композитора, состояли ли они в браке? Кому семейная жизнь видна яснее — женатым или неженатым? Кто лучше изображает детей — родители или бездетные? Если бы мы вдруг узнали, что Джейн Остин, Флобер и Генри Джеймс втайне имели супругов и множество детей, взглянули бы мы на их книги по-другому? Курбе не удалось завоевать "деревенскую прелестницу", и он так и не женился; Делакруа хотел жениться на женщине если и не превосходящей его, то хотя бы равной, но быстро отказался от этой надежды; Мане был женат, но не переставал гоняться за женщинами (и зачастую успешно). Были бы их картины другими, если бы по-другому сложилась их жизнь? Это невозможно проверить, но нельзя и опровергнуть.
Если бы вам показали работы Одилона Редона и попросили рассказать о его жизни — что бы вы сказали? Его загадочный мир населен мороками и фантасмагориями, мрачными и деформированными образами, и вы, возможно, с уверенностью предположили бы, что их творец вел соответствующий образ жизни — что-то в духе Бодлера, с опиумом, галлюцинациями, смуглокожими любовницами и путешествиями в экзотические края (или хотя бы мечтами о путешествиях). Вы вряд ли предположили бы, что семейная жизнь его складывалась совершенно счастливо, что он обожал свою супругу, писал ее портреты более тридцати лет и был автором таких строк: "О мужчине можно судить по его спутнице или жене. Каждая женщина является ключом к характеру любящего ее мужчины, и наоборот — он отражает ее сущность. Наблюдателю почти всегда удается увидеть существующую в паре тонкую связь. Я верю, что величайшее счастье возможно только в абсолютной гармонии".
И эти слова принадлежат не услужливому мужу: Редон писал так за девять лет до знакомства с супругой, Камиллой Фальт. Он также утверждал, что ни одно решение в творчестве не было таким однозначным и уверенным, как тот момент, когда он произнес "да" в день их свадьбы.
Поставим вопрос проще. Прошли бы вы как художник "проверку дымоходом"? Родольф Бреден, гравер, литограф, учитель молодого Редона, написал об этом в 1864-м с присущей ему "мягкой строгостью": "Взгляните на этот дымоход. Что он говорит вам? Для меня это целая история. Если вам достанет силы познать и понять его, вообразите самый причудливый, необычный сюжет; и если он по-прежнему будет вписан в здание, ваша фантазия оживет".
Впоследствии Редон размышлял об этих словах и жаловался, что большинство художников его поколения видят в дымоходе всего лишь дымоход. Они, писал Редон в своем дневнике "Себе самому" ("À soi-même"), "паразитируют на изображаемом предмете", и "их искусство лежит исключительно в области зримого". Некоторых своих современников он сдержанно хвалит (не называя имен, но, видимо, имея в виду первую волну импрессионизма) за следование "путем истины в густом лесу", за "уверенную бунтарскую поступь" и за то, что они хотя бы недолго были частично верны "истине в истине". Но все же Редон не готов идти на уступки: он одинаково свысока смотрит и на Энгра ("ему не хватает реализма"), и на Боннара ("достойный художник, иногда даже остроумный"). Настоящее искусство не может быть ограничено визуальным, а настоящие художники должны полностью постигать истину, сокрытую в истине. Искусство, утверждал он, "превосходит, озаряет или расширяет предмет и уводит дух в область таинственного".
Мы не знаем, почему Бреден выбрал дымоход, а не другой бытовой предмет, но для Редона этот образ обрел огромное значение. По дымоходу подымается вверх преображенная материя — это определение применимо и к творчеству Редона. Это искусство дыхания, преображения, воплощенного в устремленных в высшие сферы образах. Крылатый Пегас символизирует здесь полет творческой мысли; отрубленные или привязанные головы парят в воздухе, словно наполненные гелием; стиснутые зубы Береники парят вдоль книжных полок; где-то наверху ржут кони Аполлона; человечество всеми способами пытается выбраться из варварского ила. Образы полета, подъема настолько важны в творчестве Редона, что появляются даже в его более мирных натуралистичных работах. В волнах танцуют морские коньки, которых течение вытолкнуло на поверхность воды, над землей бабочки выбираются из куколок. И это не просто куколки: на его ярких цветочных натюрмортах головки цветов — лишенные стеблей, парящие в воздухе, окрашенные в самые фантастические цвета — напоминают порхающих бабочек. Настурция в своем роде идеальный редоновский цветок: они бывают всевозможных расцветок и не стоят в вазе, подобно часовым, но колышутся и колеблются, и их листья и лепестки словно говорят друг с другом. Поначалу кажется странным, что он не писал их чаще. Но, возможно, проблема как раз в том, что настурции делают всю работу сами: поставь их в воду — и искусство художественного преображения уже излишне.
Одилон Редон. Химера (Фантастическое чудовище). 1883. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.
Стремлению ввысь в работах Редона противостоит чудовищный страх быть похороненным, преданным земле, утратить возможность летать. Угрюмый кентавр печально глядит на породившее его облако; падший ангел обводит взглядом утраченные небеса; скованный ангел не может взлететь. Само человечество сковано, заперто, угнетено: на фронтисписе альбома литографий Редона 1879 года "В грезе" ("Dans le Rêve") поэтическое воображение приходит на помощь дереву с обрезанными ветвями, символизирующему здесь человеческую душу. Мы стремимся к полету, но нас сдерживают собственная телесность, меланхолия, низменные страсти. Но и взлетев, мы все равно не обретаем свободы: на одной из главных черных работ — нуаров (noirs) Редона изображен воздушный шар, на куполе которого — благородное, вдохновенное лицо человека, тогда как в корзине корчится обезьяна — символ всего того, что мы не можем отбросить. Эту тему, этот образ, вопрос — если нам дано парить в небе, как нам научиться этому? — Редон исследует в серии изображений отрубленных голов. Некоторые лежат на блюдах, другие парят в воздухе; одни крепятся на стебли, прочие резвятся на свободе; у некоторых есть маленькие крылышки, у других — скрытые газовые горелки. Отрубленная голова напоминает о казни, последнем падении тела, но в нуарах зачастую бывает наоборот: чтобы освободиться и воспарить, духу необходимо отделиться от тела. Иногда голова отделяется от тела буквально как в Священном Писании голова Иоанна Крестителя. Чаще же это символ, фантасмагория: плачущий паук, человек-кактус, свернувшийся головастик — бестелесное племя безмятежных, ухмыляющихся, страдающих или рыдающих голов. Они появляются даже в поздних, куда более спокойных работах Редона. Серия картин "Закрытые глаза" выдержана в созерцательном, таинственном духе, а цветовая гамма как нельзя более далека от нуаров; но сами образы (на всех портретах глаза героинь закрыты, как у мертвых) и особенности их композиции (мы видим лишь их головы и плечи — остальное обрезано, словно гильотиной) навевают воспоминания о ранних, более мрачных работах Редона.
В последнее время слава Редона стала расти — масштабные выставки прошли в 1994–1995 годах (Чикаго — Амстердам — Лондон) и в 2011-м (Париж — Монпелье). На этих выставках становится очевидна его одержимость образами и, как ни странно, его творческая неудовлетворенность. Он постоянно мечется между техниками и темами, постоянно экспериментирует. "Меня не интересуют художники, которые уже нашли свою технику", — напишет он как-то. Необычно также и то, что мрачный период стал в его творчестве первым, а не последним: он успешно бежал от теней, а не пришел к ним с возрастом. Вначале были разоренные пейзажи, достойная Эдгара По атмосфера ужаса, меланхолическая жуть и запустение нуаров; потом — светящаяся палитра, дымчато-лиловый и каштановый, лазурная синева и огненная настурция, пастельный румянец и кровоподтек. Вначале — более личное, многозначительное, нереальное; потом — публичное, программное. И нет, никаких параллелей между биографией Редона и этой сменой творческого курса провести не удается.
Подобный нарратив, так удобно делящийся на две части, — это мечта каждого куратора; и выставки в Амстердаме и Париже были организованы так, чтобы наглядно продемонстрировать этот разлом. У входа висели ранние работы — потолки здесь были ниже, освещение глуше; здесь обитали отрубленные головы, мрачные сны, скованные ангелы. Этажом выше царил свет, высокие потолки, открытые окна, а работы Редона в буквальном смысле расцветали: тут были набитые цветами вазы, сияющие парусники, одухотворенные профили, будто светящиеся сквозь цветное стекло, портреты, расшитые спинки кресел. Внизу обитали работы, которые так хвалил Гюисманс ("Они выходят за рамки изобразительного искусства и порождают на свет новый жанр безумной, горячечной фантазии") и осуждал Гонкур ("бредовые испражнения слабоумного маразматика"); наверху — работы, восхваляемые современными розенкрейцерами и мистиками, работы, которые превозносил Матисс и ругал Толстой, — увидев "Золотую келью" в Лондоне, изумленный ее палитрой (ультрамарин и охра), тот сделал вывод, что современное искусство окончательно сошло с ума.
И что же? Редон вынуждает нас решать две проблемы. Одну — его, другую — нашу собственную. Наша проистекает из совершенно естественного стремления находить в работах художников различные влияния и причинно-следственные связи и не менее естественного желания похвалить себя за такие находки. В творчестве Редона мы можем легко усмотреть, например, мостик между романтизмом и сюрреализмом, или же графическую предтечу психоанализа. Литературные реминисценции дают нам повод для праздного анализа: По, бормочем мы себе под нос, Бодлер, Флобер, Малларме, Гюисманс. На выставках Редона XX (и XXI) век рукоплещет самому себе — Редон был на нашей стороне, он предсказал наше появление. Разве "В грезе" не предвосхищает Магритта и Эрнста? А "Продавец корон" запросто мог бы быть написан каким-нибудь немецким сатириком в 20-е годы. Редон связан не только с высоким искусством: его крылатые головы предвещают "Монти Пайтона", "Портрет девушки в шляпе: мадемуазель Боткин" — это настоящий Эдриан Джордж, а томные глаза его персонажей растиражированы до конфетных коробок.
В работах Редона можно увидеть возможные источники некоторых проявлений дурновкусия в современном искусстве и визуальной культуре в широком смысле этого слова — и тем самым оправдать это дурновкусие, что, однако, мешает непредвзятому восприятию его творчества: серия "Закрытые глаза" напоминает вывески каких-нибудь низкопробных гуру с курительными палочками наперевес: те же безмятежно-болезненные краски и налет мистицизма с примесью самодовольства. Некоторые работы Редона настолько эстетически заряжены, что возглас какого-нибудь простодушного филистера перед ними ощущается как глоток свежего воздуха. В Амстердаме я наткнулся на его позднюю картину — ухмыляющегося "Циклопа". Пока я пытался определиться со своим к ней отношением, рядом с непринужденно-собственническим видом остановилась стайка француженок — только этой нации хватает самоуверенности так держаться в музеях. Одна из них смерила картину взглядом и изрекла: "Какой кошмар!" (словно это была сценка из жизни). Подобная серьезность заставила ее спутниц притормозить у портрета одноглазого гиганта.
Одилон Редон. Циклопы. Ок. 1914. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.
— Это окунь, — предположила одна.
— Нет, скорее камбала, — ответила вторая.
Определив, таким образом, Редона в рыбный ряд, они прошествовали к цветочным натюрмортам.
— А вот это красиво.
Проблема же самого Редона куда интереснее и кроется в поисках ответа на следующий вопрос: насколько индивидуальность художника развивается от того, что он совершенствует свои сильные стороны, а насколько — благодаря тому, что избегает демонстрировать слабые? Хочется ответить, что важно и то и другое, однако вспомним Брака (или, наоборот, Пикассо, у которого не было очевидных недостатков, только куча достоинств — что само по себе может быть недостатком). Редон же прекрасно знал о своем недостатке — и это была одновременно его личная и глобальная проблема. В дневнике он описывает свое художественное воспитание и вспоминает "лихорадочную дрожь", охватившую его при первом столкновении с работами Делакруа, и бешеный восторг от работ Милле, Коро и Моро. Он пишет далее:
"Когда впоследствии я отправился в Париж, чтобы более подробно изучить работу с живой моделью, было, по счастью, уже поздно: я уже сформировался".
И это правда: изображения людей давались ему хуже деревьев. В его работах нет силуэта, превосходящего "Дерево с подрезанными ветвями", нет портрета лучше, чем "Дерево на фоне голубого неба" (1883) — полуабстрактный треугольник ствола и пышное облако листвы. Камни ему тоже удавались хорошо, и многие героини его ранних картин отличаются некой рубленостью черт: "Ангел в оковах" вряд ли взлетел бы, даже не будь на нем оков. Впоследствии, занявшись портретной живописью, он стал прибегать к стилизации: теперь всем его героиням стала присуща некая птицеподобная декоративность, и они, как правило, привлекают чем-то другим — например, тем, как на пастельном портрете мадам де Домси цветочный фон становится частью героини, захватив ее блузку и, возможно, жакет.
Самое важное в процитированной записи Редона — "по счастью". Очевидно, он имеет в виду, что его творчество вырвалось из мертвой хватки художественных школ, где его непременно критиковали бы или даже активно с ним боролись. Надо сказать, что он совершенно справедливо ставил себе в заслугу этот пробел в образовании:
"Готов признать, что лепка формы — важнейшее дело в нашем искусстве, но лишь при условии, что наша единственная цель — красота. Во всех остальных случаях лепка формы — ничто".
Если поставить рядом с этим мнением еще одну его цитату из Бредена-Трубочиста: "Цвет — это сама жизнь, в его сиянии растворяются линии", — то вы получите представление о его позднем творчестве. Оно светится и переливается цветом, формы в нем создаются наслоениями и сращиваниями, оно скорее центробежно, нежели центростремительно. Это искусство вычурной идейности, переливчатой монументальности. Оно призвано возвышать и вдохновлять, иначе может показаться крайне ханжеским, если не сказать безумным. И кому нужен "Читающий монах"?
Толстовцы и гонкуровцы уже не критикуют Редона, но ему до сих пор дают порой довольно странные оценки. В своей работе "Сюрреализм" (1935) Дэвид Гаскойн пишет, что "если бы Дез Эссент дожил до наших дней, он бы питал слабость к Сальвадору Дали, ужасы которого во много раз превосходят Редона", а поэт Джон Эшбери считает, что "реалистичные работы Редона куда более безумны, чем сюрреалистические, а его цветы пугают куда больше его же графических чудовищ". Эшбери здесь намеренно парадоксален (а также напуган цветами, подобно тому как К. С. Льюис был "Настигнут радостью"). Редон так многогранно и порой возмутительно талантлив (немногие его натюрморты так и пылают красками — взять хотя бы ржавый фон "Натюрморта с перцами и кувшином"), что нас может потянуть на критику. Но только из чистого упрямства можно отрицать, что нуары — лучшие его работы (сам он считал так же). Они отражают момент, когда его техника максимально соответствовала образам, которые он стремился создавать.
Нуары также более художественны, менее литературны и сюжетны, чем поздние работы Редона. Это утверждение может показаться парадоксальным, поскольку многие из них подаются как иллюстрации — к По, Флоберу, Паскалю и так далее. Но сами изображения настолько фантазийны, что не привязаны к тексту: "иллюстрация" к паскалевскому "У сердца есть причины" изображает обнаженного мужчину перед каменным дверным (или оконным) проемом — голова его написана в духе Пикассо, волосы вьются, и он запустил правую руку в дыру в своей груди. Это простой и пугающий рисунок — эдакий сердечный фистинг, — не важно, что послужило поводом для его создания, но это Редон. Жуткие, плавающие в воздухе "Зубы" не отсылают нас напрямую к По, а "Сердце-обличитель" куда страшнее, если вообще не вспоминать об исходном тексте; то же и с химерами и деформированными черепами из серии "Искушение святого Антония". При этом поздние, символистские работы кажутся более "книжными" — даже если не привязаны к конкретным текстам. К ним требуются пояснения, сноски, они хуже работают сами по себе и словно бы настаивают на том, чтобы мы не только понимали, но и принимали их символику. Агностик вполне способен постигнуть традиционную христианскую живопись, зазубрив соответствующую историю, но теоретическая база Редона представляется выспренной, отталкивающей и беспомощной. Его работа в самом деле делится на два уровня. Мы греемся в сиянии его поздних красок, оставаясь равнодушными к его мыслям; тогда как нуары, гордость Редона, преследуют и мучают нас, словно чудовищные отродья наших общих тайных фантазий.
Боннар Марта, Марта, Марта, Марта
В мае 1908 года Андре Жид побывал на аукционе на улице Друо в Париже. "Выставляют Боннара, — пишет он в "Дневнике", — работа откровенно слабая, но пикантная; на картине обнаженная женщина одевается, где-то я это уже видел. Цена ползет мучительно медленно: 450, 455, 460. Вдруг кто-то выкрикивает: "Шестьсот!" — и я застываю в изумлении, ибо это был мой собственный голос. Я взглядом умоляю соседей перебить мою ставку — я вовсе не желаю становиться владельцем этой картины, — но чуда не происходит. Я чувствую, что краснею; пот льет с меня градом. "Здесь очень душно", — говорю я Лебею. Мы выходим".
Жид подчеркивает абсурдность порыва, несовершенство объекта, его вызвавшего, и, далее, необыкновенное великодушие аукционного дома, округлившего его ставку и окончательный счет до 500 франков — как бы в знак сочувствия к жертве секундного помутнения рассудка. Но при желании можно истолковать ситуацию иначе: работа великого художника вонзается в душу против нашей воли, даже если разумом мы этому сопротивляемся, даже если ее "пикантность" нацелена на другую сексуальную ориентацию. Несмотря на все это, вы выбрасываете в воздух номерную карточку.
Как видно из рассказа Жида, Боннар может производить непредсказуемый эффект. Я помню, как в течение десятилетия побывал на трех крупных выставках его работ, и всякий раз первой моей реакцией было: до чего искусный куратор! Он отобрал для выставки сплошные шедевры, а таких картин, которые на аукционе покупают по ошибке, почти нет. Как будто где-то в подсознании отголосок знаменитой боннаровской скромности упорно подавляет правильную реакцию. Следовало бы сказать: до чего великий художник! Он написал так много шедевров, а неудачных работ почти нет. Второй реакцией — на этот раз ничем не подавляемой — было потрясение, вызванное нераздельностью цели и пути к ней: от слегка топорного набизма он перешел к абажурному интимизму, чтобы в конечном итоге стать, безусловно и бесповоротно, Боннаром. Он писал только то, что удавалось ему лучше всего; отзвуки других художников в его работах почти не слышны. Не напоминает ли "Большая желтая обнаженная" какую-то из картин Матисса? Возможно, в первые секунды (хотя многие называют Мунка); но это впечатление вскоре уходит.
Нет в стиле Боннара и наскучивающего однообразия. Как отмечал Ларкин, так называемому "развитию" художника сегодня придается почти мистическое значение; не исключено, однако, что истинное развитие связано не столько с движением от стиля к стилю (зачастую неоднозначным), сколько с готовностью раз за разом возвращаться к зримой правде и упорно постигать то, как красота проявляется в форме или форма вырастает из красоты. Незадолго до смерти Боннар сказал своим гостям в Ле-Канне: "Я старый человек и начинаю понимать теперь, что знаю ничуть не больше, чем знал в молодости". Он сказал это не из скромности (или, по крайней мере, не только из скромности): он был еще и мудр.
Эдуар Вюйар. Пьер Боннар. Из цикла "Анабаптисты". 1930–1934. Музей современного искусства, Париж. Photo: Roger-Viollet / Bridgeman Images.
Переход от приглушенных, темных тонов интимизма к теплу и свету стал удивительной метаморфозой, открытием сначала желтых, оранжевых и зеленых, затем розовых и фиолетовых. Этот прорыв — или высвобождение — на первый взгляд носит чисто топографический характер: парижанин покидает городскую квартиру и открывает для себя солнечный юг. Но свет отныне заполняет пространство не только снаружи, но и внутри. Меняется также изображаемое время суток: раньше вечерние (как по настроению, так и по существу) сцены встречались у Боннара постоянно; теперь их практически нет. Все — даже купание Марты — как будто происходит немногим раньше или позже полудня. Меняется, наконец, состав персонажей на картинах. Ранние работы Боннара заселены довольно плотно: это уличные пейзажи, изображения беседующих, сцены семейных вечеров; на юге картины быстро пустеют; остается разве что собака, пара котов, сам художник, возможно, случайный гость, и Марта, Марта, Марта, Марта.
Предметная составляющая у Боннара бывает столь соблазнительна, что порой даже настораживает. Все эти картины из французской жизни с их уличным зноем и истомой будуаров, тарелки с едой, фрукты, пузатые кувшинчики, окно, вид из окна, кроваво-красная подкладка под скатертью, подпертая дверь, толстый радиатор, умилительный кот — прямо-таки по-платоновски идеальное воплощение того самого gîte, домика во французской провинции со страниц туристического буклета. Боннар остается художником великого интерьера, даже когда пишет великий пейзаж. Этот пейзаж мы часто наблюдаем из безопасного нутра дома, через окно, из-за ограды балкона. Но даже если мы оказываемся непосредственно снаружи, пейзаж предстает заполненным и статичным, словно интерьер. Пестрые леса похожи на обои — хотя коль скоро это обои Боннара, то и выглядят они почти как часть живой природы. Дует ли в пейзажах Боннара ветер? Его небо выразительно в первую очередь цветом, а не движением, реальным или предполагаемым. А поскольку ветра почти нет, боннаровские листья никогда не падают с боннаровских деревьев. Один лондонский критик, возмущенный таким буйством растительности, заявил, что в садах, которые видны из окон на картинах Боннара, "слишком много зелени". В конечном итоге работы художника предстают перед судом экспертов в радиопередаче "Садовод: час вопросов" ("И если уж на то пошло, этот ваш Таможенник[27] насажал многовато кактусов у себя на участке").
Но даже поклонники Боннара, бывает, задумываются, не перегибают ли они палку в своем восхищении; не вызвана ли их любовь мелочными, недостойными причинами, не в последнюю очередь связанными с хмурым лондонским небом. Джон Бёрджер назвал мир Боннара "камерным, созерцательным, доступным лишь избранным, оторванным от внешнего мира": два описательных прилагательных и две близкие по смыслу фразы с намеком на оценочность. Возможно, Пикассо был в чем-то прав, утверждая, что Боннар обладает "повышенной восприимчивостью", которая заставляет его "тянуться к тому, к чему не следует тянуться" — и, по всей вероятности, любить то, что не следует любить. Марту, пожалуй, можно отнести к этой категории. Зачем, спросите вы, он, замуровав себя в четырех стенах с этой женщиной, пишет ее 385 раз? Что это — некая одержимость домом или рабское подчинение жене, запрещающей писать кого-то еще? Другой лондонский критик назвал "уму непостижимым" тот факт, что Боннар продолжал писать Марту в ванне спустя пять лет после ее смерти. Пора отпустить прошлое, старина! Что и говорить, она твоя муза, твоя страсть, твоя главная натурщица — но она умерла, время остановиться. Найди себе новое занятие. Для начала можно прополоть сад.
И все же Марта — это способ развеять наши сомнения по поводу чрезмерно соблазнительного предмета изображения. Она появляется везде и всюду, от картины к картине, в ванне, в постели, в одежде и без одежды, наливает кофе, кормит котов, бездельничает, пассивна и одновременно назойливо-вездесуща со своим кошачьим личиком и стрижкой под горшок. Далеко не сразу мы осознаем, что регулярное ее воспроизведение не складывается в цельный портрет — по крайней мере, такой портрет, который, как, например, у Лотто или Энгра, рассказывал бы, кто перед нами: мудрый правитель, домашний тиран, опытная куртизанка. Вспомним многочисленные изображения Марты и спросим себя: какая она? Мы этого не знаем (в традиционном понимании слова). Мы видели ее столько раз, но при этом словесное описание, например, у Тимоти Хаймана в его прекрасной монографии, посвященной Боннару, оказывается совершенной неожиданностью. Она была, говорит нам Хайман, "обидчивым эльфом", изъяснялась "необычайно резко и беспардонно", а одевалась "как настоящая оригиналка, порхая на высоких каблуках и напоминая всем своим видом какую-то экзотическую птицу".
Пьер Боннар. Обнаженная в ванне. 1925. Галерея Тейт, Лондон. Фото: Tate, London 2015 © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Это описание не имеет ничего общего с Мартой на картинах, кроме, пожалуй, ее предпочтений в обуви. Конечно, можно сказать, что это взгляд человека со стороны; Боннар же писал женщину, с которой прожил двадцать, тридцать, сорок лет. Фокус внимания в супружеской паре со временем меняется: появляется глубина, уходит сиюминутность. Причина могла быть и формальной. Боннар считал, что "человек на картине должен быть частью фона, на котором он написан". Окруженная кувшинами и скатертями, ставнями и радиаторами, кафелем и ковриками для ванной, Марта стала — конечно, в самом безобидном, живописном смысле — частью обстановки комнаты.
Но это еще не все. Боннар пишет не внешний облик Марты (и уж тем более не ее характер), а скорее ее присутствие и впечатление от этого присутствия. Все те картины, на которых где-нибудь в углу виднеется кусочек Марты, можно было бы рассматривать как попытку — сознательную или подсознательную — избавиться от нее, оттеснить ее к краю холста; в действительности же смысл этих картин ровно противоположный: это доказательство ее имманентности. И когда на картине не остается ни затылка, ни даже локтя, она присутствует незримо: кофейная чашка, тарелка на столе, пустое кресло — верные знаки того, что Здесь Была Марта, знаки ничуть не хуже священного следа стопы, оставленного на скале неким древним религиозным деятелем, когда тот возносился на небо. И то, в чем принципиальный критик увидит лишь свидетельство праздного образа жизни, на самом деле предлагает нам нечто гораздо более сложное и неуловимое.
Избранная палитра цветов говорит одно, само изображение — другое. Соотносится ли энергия и сложность палитры с чувственным опытом, к которому отсылает картина, — с недавним приемом пищи, с сексом, который только что был или скоро будет, с прогулкой жарким, пряным днем, — или же эта палитра есть избыточный, почти иронический способ показать ограниченное, уединенное, неврастеническое существование, смысл которого — сидеть целыми днями без дела да прятаться от солнца? Счастливые это картины или печальные: можем мы ответить хотя бы на этот вопрос? Конечно, они могут быть и теми и другими, эти домашние откровения, запечатленные в таком фейерверке красок, что подобное изобилие неизбежно вызывает мысль о своей быстротечности. И чем живописнее это торжество, тем печальнее впечатление, которое оно производит.
Пятьдесят лет назад было проще. Племянник Боннара, Чарльз Террасс, в предисловии к каталогу выставки МоМА 1948 года упомянул, что его дядя "хотел писать только счастливые моменты". Звучит немного двусмысленно (хотел, но ему это не удалось), хотя автор высказывания, вероятно, ничего такого не имел в виду. Так или иначе, сегодня это никого уже не устроит. Счастье? Не может же великий художник, в самом деле, хотеть писать только счастливые моменты? На белой бумаге счастье пишет белыми чернилами[28], а на холсте — палитрой человека, которого некоторые называют ни больше ни меньше как "великим колористом". Нет, так не пойдет. И здесь на выручку как будто приходит биография, услужливо напоминая нам о Рене Моншати. Если когда-нибудь человеческие жертвы помогали художнику сделать имя, то Боннар — тот самый случай, и история с Рене пришлась здесь как нельзя кстати. Теперь вместо не ослабевающей на протяжении всей жизни одержимости Боннара Мартой — натурщицей, подругой, женой — мы имеем Боннара, который после тридцати лет отношений с Мартой увлекается вдруг Рене, начинающей художницей много моложе его, делает ей предложение в 1921 году, трусит и идет на попятный (впрочем, здесь могла вмешаться Марта) и находит Рене мертвой в номере парижского отеля. Спустя год после самоубийства Рене Боннар женился на Марте.
Тут можно пуститься в размышления о дальнейшей судьбе терзаемого чувством вины художника, который отныне прикован к своему пассивно-агрессивному тюремщику; можно понять неэротичность, характерную для поздних картин с обнаженной Мартой, и то, что на автопортретах Боннар все сильнее походит на несчастного, иссохшего коммивояжера; можно привести в качестве доказательства "Молодых женщин в саду" — картину, которую Боннар переписал после смерти Марты так, что сияющая Рене заслоняет собой оттесненную на край полотна Марту. (Можно, в конце концов, предположить, что каждый кот на работах Боннара — это остроумная отсылка к фамилии Рене[29].) Можно… А можно ли? Вырванный из биографии кусок — опасная вещь. В одной из ранних версий истории с Рене Боннар находил ее тело в ванне, и этот "факт" мгновенно наделил бы гротескным, жутковатым подтекстом всякое последующее изображение Марты, принимающей ванну. Позже, однако, выяснилось, что Рене "всего-навсего" застрелилась в своей постели, обложившись перед этим цветами.
На самом деле, ведет ли человек искусства скучную или интересную жизнь, важно исключительно для рекламных целей. Я помню, как однажды по радио передавали концерт, и в беседе во время антракта прозвучала мысль, что двухсотлетний юбилей Шуберта затмил столетнюю годовщину смерти Брамса, потому что про Шуберта нам известно больше аппетитных подробностей. Бедняга Брамс. Долгие годы его земную жизнь "делал интересной" факт, что впечатлительным подростком он играл на рояле в моряцком борделе, — опыт, который, разумеется, наложил свой отпечаток и заставил его впоследствии бежать от мира грубых чувственных наслаждений. Увы, последние биографические исследования доказали сомнительность этой пикантной детали. Вернемся теперь к Боннару. Представьте, что история с Моншати оказалась мистификацией, — смотрели бы мы на его картины так же, как раньше? Есть все-таки что-то грустное в нашем стремлении окружить любого художника мрачными тайнами.
Вы можете возразить мне с чисто прагматической точки зрения: эта трагическая история на руку Боннару в посмертной битве с Пикассо, современным художником, который лучше других представлял, как правильная биография повышает цену искусства. Пикассо — вышибала у дверей модернизма. Боннар, может, и не пытался вставать в эту очередь, но Пикассо все равно запретил ему входить. Его доводы — а они дошли до нас во всей своей полноте благодаря невероятно подробным воспоминаниям Франсуазы Жило — стоит процитировать целиком:
"Не говори со мной о Боннаре. То, что он делает, — не живопись. Он никогда не выходит за рамки чувственного восприятия. Он не способен сделать выбор. Когда Боннар пишет небо, он сначала использует, скажем, голубой, что более-менее соответствует действительности. Потом он всматривается в небо чуть дольше, видит там лиловый и добавляет пару мазков лилового, просто для виду. Потом он решает, что небо, если приглядеться, немного розоватое, а раз так, почему бы не добавить розового? В итоге его нерешительность выливается в мешанину. Если он продолжит изучать небо, то в конце концов добавит еще и желтого, вместо того чтобы определиться наконец, какого цвета небо должно быть. Так картины писать нельзя. Живопись — это не вопрос восприятия; это готовность захватить власть, возвыситься над природой, а не ждать от нее помощи и доброго совета. Вот почему мне нравится Матисс. Матисс умеет осознанно выбрать цвет. Боннара… вообще нельзя назвать современным художником: вместо того чтобы превзойти природу, он ей подчиняется… Боннар — это конец старой идеи, а не начало новой. То, что восприимчивость у него чуть выше, чем у других художников, на мой взгляд, просто еще один недостаток. Эта повышенная восприимчивость заставляет его тянуться к тому, к чему не следует тянуться".
Вряд ли можно ожидать от Пикассо — провокатора, человека левых взглядов и любителя эпатажа — симпатии к Боннару, закрытому, консервативному домоседу. Фигура Боннара — или, скорее, репутация Боннара, — должно быть, раздражала Пикассо, особенно после того, как Матисс открыто назвал Боннара гением. Возможно, неспособность выкинуть Боннара из головы (а также из головы окружающих) провоцировала его язвительную агрессию — и ошибочность его суждений. Начать с того, что Боннар вовсе не метался между небом и холстом, маниакально запечатлевая всякий увиденный цвет; он писал по памяти, а память у него была отменная.
В борьбе против Боннара Пикассо обращается к главной антитезе искусства: является ли художник слугой Природы или ее господином? Кто он: благоговеющий подражатель или неукротимый соперник-дикарь, способный голыми руками забороть Великую Самку? Можно догадаться, какой вариант вы предпочтете, если вам импонирует идея Художника как Героя (хотя в этом концепте нет ничего отчаянно модернистского: взять хотя бы Курбе). Отношение Пикассо к Природе напоминает отношение Юла Бриннера к полному скептицизма и, казалось бы, непобедимому Илаю Уоллаку в "Великолепной семерке": вон отсюда!
Но великая антитеза по большому счету иллюзорна и по большому счету постепенно сходит на нет. Даже самый кроткий подражатель, высаживающий живую изгородь, оперирует суровой системой отбора, упорядочения и контроля — преобразования и замещения старого новым, — когда копошится над ивовыми кустиками. Это и есть Искусство в самых разных его формах, крупных и малых, от живописи и литературы до садового дизайна и кулинарии. Швырнуть Природе в лицо горсть песка, бросить ей вызов, стать творцом параллельной или касательной вселенной — в этом заключается эстетика грубой силы, но все созданные нами вселенные своим воздействием обязаны первичной вселенной, в которой мы живем. "Захватить власть" звучит волнительно и наводит на мысли о Прометее, но в искусстве это все равно что выпросить на время зажигалку Zippo, оставив богам контролировать государственную энергосистему. Кубизм имеет смысл лишь до тех пор, пока мы принимаем как данность устоявшийся и непрерывный процесс восприятия визуального мира. Если бы кубизму удалось потеснить этот мир, он бы сам стал нормой, которую мы зовем Природой.
Пикассо заявил, что Боннар был "концом старой идеи", что его "нельзя назвать современным художником". Ему вторит неумолимый Джон Бёрджер: в работах Боннара "1914 год прошел практически бесследно". И все же, как ни странно, Боннар отказался оставаться тише воды ниже травы на манер своей таксы Убю. К моменту смерти Боннара в 1947 году многие считали его второстепенным художником; прошло двадцать лет, и Бёрджер обеспокоенно заметил: "Теперь некоторые заявляют, будто он — величайший художник нашего века". Что произошло? По мнению Бёрджера, такой скачок популярности совпал "с уходом ряда интеллектуалов от политики и с массовой утратой уверенности". Звучит довольно расплывчато, но, по-видимому: 1956 год, 1968 год, кризис левых сил и, как результат, тоска по искусству "камерному, созерцательному, доступному лишь избранным, оторванному от внешнего мира". Есть и более оптимистичное предположение: репутация художника перестала наконец зависеть от категоричных суждений "ряда интеллектуалов", уверенных в своей правоте.
Существует несколько линий защиты от нападок Пикассо. Можно отказаться от модернистской терминологии: какая, в сущности, разница, был ли Боннар великим модернистом, если он в любом случае был великим художником? Можно задаться вопросом, почему художник непременно должен принадлежать своему времени: Тургеневу критики вменяли в вину оторванность от жизни и современности, порожденную его западническими взглядами; сегодня он считается великим писателем, и нам совершенно не важно, что нигилизм и положение крепостных у Тургенева отстают от реальности на десять лет. Говоря о Боннаре, можно также сослаться на то, что к концу Первой мировой войны ему было уже за пятьдесят и он вырабатывал свой стиль на протяжении долгих тридцати лет. Для художника нет ничего унизительнее и бесплоднее, чем на ходу запрыгивать в уходящий поезд, когда на горизонте уже показался следующий.
Или же можно возразить, что, несмотря на всю свою постимпрессионистскую маскировку, Боннар все-таки модернист, пусть в его случае это и не так очевидно. Освоение им пространства картин, его эксперименты со сжатием и растяжением этого пространства, с диссонирующими углами и головокружительными траекториями, может быть, не так скандальны, как то, что делают кубисты, но не менее радикальны. Картины с изображением ванной комнаты составлены из кочующих по холсту и противоречащих друг другу точек зрения, а "Угол стола" (1935) считается одной из самых подспудно тревожных картин XX века. Что же касается цвета, Пикассо в своем стремлении к модернизации делал упор на драматическое упрощение, Боннар — на драматическое усложнение. Время играет с искусством презабавнейшую шутку: с каждым годом бессмысленность грызни между школами прошлого становится все очевиднее.
Пьер Боннар. Угол стола. 1935. Центр Помпиду, Париж. Фото: Bridgeman Images © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Последней законченной работой Боннара стало "Миндальное дерево в цвету"; это было дерево из его собственного сада. Он умер, едва успев поставить на картине подпись. В день похорон, 23 января 1947 года, на светлые желтые мимозы падал снег; снег падал на светлый нежно-розовый миндаль. Очевидно, что Природа прощалась не с раболепным прислужником, но со страстной любовью. Что, к слову, Природа сделала ради Пикассо, когда тот умер?
Вюйар Можете звать его Эдуаром
Я помню, как впервые увидел "Бичевание Христа" Пьеро делла Франческа в Урбино. Любое великое полотно заставляет зрителя высказаться, поделиться впечатлением, хотя мы прекрасно понимаем: что бы мы ни произнесли, мы лишь повторим то, что уже сказали до нас люди более компетентные и знающие. Итак, мне в голову пришла мысль, которую я незамедлительно высказал, — мысль о сочетании плотной структуры и прозрачного воздуха, о ясности и непостижимости; краткое замечание о том, что величайшие произведения искусства сочетают в себе красоту и тайну, утаивают что-то (Вермеер, Джорджоне), даже когда говорят ясно. И тут же — встречное замечание: а вдруг то, что мы считаем тайной, в действительности лишь незнание или забывание, характерные для человека другого времени? Возможно, "Бичевание", или "Буря" Джорджоне, или картины Вермеера с женщиной, за спиной которой висит географическая карта, были абсолютно понятны современникам их авторов? В таком случае блистательная тайна, которую мы так лелеем, — не более чем фальшивка в сочетании с нашим любительским восхищением. Когда знания подошли к концу, пришлось обратиться к суждению: "Точно войдет в мою десятку лучших", — решил я.
Вернувшись домой, я прочитал у Олдоса Хаксли эссе о Пьеро:
"Нет более бессмысленного занятия, чем с видом знатока составлять первую и запасную сборную лучших художников мира, гребные восьмерки и четверки музыкантов, чемпионскую команду поэтов, сборную всех звезд архитектуры и так далее".
Чья бы, как говорится, корова мычала: одним только названием эссе — "Лучшая в мире картина" — Хаксли признает за собой склонность к этой бессмысленной, пусть и безобидной игре. Для него лучшая в мире картина — это фреска "Воскресение Христа" Пьеро в Борго-Сансеполькро. "Лучшая" не только исходя из вкусовых предпочтений, но и с точки зрения нравственного эталона искусства: "хороша картина или плоха, целиком зависит от личности, проявляющей себя в работе". Художественные добродетель и достоинство, как мы знаем, могут расходиться (порой разительным образом!) с добродетелью и достоинством личными. Плохое искусство, искусство лживое и пустое, может успешно маскироваться при жизни художника. Но "в конце концов ложь непременно выходит наружу"; обманщики и шарлатаны со временем проявляют свою истинную сущность. Хаксли прав (по крайней мере, мы на это надеемся), хотя тут есть и некоторый парадокс: пусть правда рано или поздно торжествует, невежество зрителя более позднего периода в отношении того, что на самом деле изображено на картине, только усугубляется.
Вернувшись домой, я захотел узнать больше о самом Пьеро и обратился к Вазари. В его книге я прочел, что жизнь человека, создававшего такое упорядоченное и доверчиво-безмятежное искусство, завершилась страшным ударом судьбы и предательством; что, перенеся в возрасте шестидесяти лет тяжелую простуду, он потерял зрение и провел последние двадцать шесть лет жизни во мраке; и что после его смерти слава его была украдена, а память о нем — почти стерта деяниями завистливого ученика, Фра Луки дель Борго. Эти печальные факты заставили меня почувствовать то же, что почувствовал бы всякий на моем месте, — пока я не прочел комментарии к моему изданию. Вазари не просто приукрасил действительность: он пустил ее на лоскутное одеяло. История с потерей зрения оказалась неподтвержденными домыслами, а ученик вовсе не крал у Пьеро его научные труды по арифметике и геометрии: он всего лишь опубликовал некоторое количество рядовых разработок, касающихся Евклидовых идей и не содержащих никаких оригинальных положений Пьеро. "В конце концов ложь непременно выходит наружу"? В биографии — далеко не всегда.
Хит-парады и биография: маленькие, сбивающие с толку, но как будто безобидные слабости, которые искушают нас, пока мы стоим перед плоской поверхностью, покрытой маслом, темперой, пастелью или акварелью и приносящей ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда я впервые посетил Собрание Филлипс в Вашингтоне, я увидел картину, которая немедленно вошла в мою десятку лучших и остается там и поныне. (Надо сказать, в тот день моя десятка лучших пополнилась и другими работами — авторства Курбе, Дега и Боннара, а впрочем, я не знаю точно, сколько именно там картин, — вероятно, уже больше сотни.) Картина, о которой я говорю, почти квадратная, со стороной приблизительно сорок пять сантиметров, и написана в коричневых тонах с оттенком золотого. На картине кругленькая женщина в простом полосатом платье подметает комнату. Слева от нее открытая дверь, которая перекликается с грубоватым прямоугольником комода на заднем плане в центре. На переднем плане слева пестрой горой вздыбилось на кровати покрывало; позади комода обои соответствующей расцветки. Женщина невозмутимо метет пол плоской щеткой. Это очень плотная организация пространства и цвета, полная добродетели и достоинства прямо по Хаксли. Вдобавок, решил я, это очень мудрая картина: работа зрелого художника, написанная, по всей видимости, уже на склоне лет и впитавшая огромный жизненный опыт. Осенняя, как будто прощальная хрупкость; торжество обыденного, домашнего, безыскусного, наполненное гораздо большим пониманием жизни, чем многие признанные шедевры. Жалкая черно-белая открытка — все, что я смог тогда раздобыть, — поведала мне, что Вюйар (которым Хаксли особенно восхищался) написал "Женщину, подметающую пол" приблизительно в 1892 году, когда ему было двадцать три или двадцать четыре года; биография же утверждает, что в возрасте двадцати трех или двадцати четырех лет Эдуар Вюйар, по мнению большинства исследователей, жизненным опытом обладал довольно скромным. И все же всякий раз, когда я вижу эту картину, я убеждаюсь, что я прав, а хронология ошибается. Это действительно мудрая картина, наполненная хрупкостью прожитых лет; просто Вюйар, очевидно, обрел эти качества раньше положенного. В конце концов, он сказал однажды о творческом процессе: "Ты достигаешь цели либо в мгновение ока, либо с приходом старости".
Биография и Вюйар. На первых страницах каталога грандиозной выставки работ Вюйара, проходившей в 2003–2004 годах в Вашингтоне, Монреале, Париже и Лондоне, можно найти прекрасный снимок художника в его студии — пожалуй, даже идеальный портрет художника в студии вообще. Вюйар сидит в плетеном кресле, руки сцеплены между колен, лицо задумчивое и немного печальное. Фотограф, вероятно, любитель (или же его замысел настолько тонок?), поэтому Вюйар не в фокусе. И печка с металлическим ведерком для угля в паре метров за его спиной, и несколько его картин — в том числе портрет молодого Боннара — сзади на стене запечатлены идеально резко; сам же Вюйар вышел слегка размыто. Именно этого, подозреваю, он бы хотел. Смотрите на то, что я вижу, а не на меня.
Эдуар Вюйар. Женщина, метущая пол. Ок. 1899–1900. Собрание Филлипс, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
В течение целого века и даже дольше этот маневр (или назовем это тактом или скромностью) работал. Кроме того, французы не питают особой любви к жанру биографии, особенно если речь идет о художниках; да и семьи очень неохотно делятся своими тайнами. Книга "Вюйар и его эпоха" Клода Роже-Маркса, одобренная самим художником, но опубликованная лишь в 1945 году, спустя пять лет после его смерти, начинается словами, которые скорее ожидаешь увидеть в конце: "Жизнь Вюйара, как и его творчество, сложно назвать захватывающей; в ней не было ни одного заметного происшествия". Вюйар действительно был застенчив, замкнут и обладал созерцательным характером; он жил с матерью до самой ее смерти — когда она умерла, ему было шестьдесят. Он, конечно, не был затворником: он общался с Валери и Малларме (последний хотел, чтобы Вюйар проиллюстрировал "Иродиаду"), Лотреком и Дега, Жироду, Прустом и Леоном Блюмом. Путешествовал больше, чем можно предположить, глядя на его картины; несколько раз бывал вместе с Боннаром в Лондоне (где в 1895 году работал над постановкой "Строителя Сольнеса" в качестве художника-декоратора). Но он проскальзывает сквозь сети общественной и богемной жизни; о нем почти не пишут в газетах того времени и не упоминают в личной переписке; его частная жизнь как будто заключается в незаметном присутствии на фоне чужой драмы. Так, в начале 1920-х годов он познакомился с Эдит Уортон (через ее близкого друга Уолтера Берри, чей портрет он написал в 1918 году); но то, что могло бы вылиться в интереснейший союз, свелось к упоминаниям его фамилии в ее письмах к друзьям.
Похожим образом дело обстояло в живописи: хоть он и считался мастером, он был не из тех, в ком молодое поколение видело соперника, которого полезно, а то и необходимо сбросить с пьедестала ради продвижения нового искусства. Пикассо, к примеру, опасался Боннара в достаточной степени, чтобы отчаянно нападать на его работы, в то время как имя Вюйара в том же источнике (мемуары Франсуазы Жило) упоминается лишь мимоходом, в виде случайной шпильки. Жило вспоминает, как вскоре после завершения Второй мировой войны Пикассо взял ее с собой в студию к Браку. Когда Брак показал им свою последнюю работу, Пикассо, патологически склонный к соперничеству, заметил: "Вижу, ты возвращаешься к французской живописи. Но знаешь, мне и в голову не приходило, что из тебя выйдет Вюйар от кубизма". Ни о каком комплименте — ни Браку, ни Вюйару, — понятное дело, речи не шло.
Конечно, не бывает, чтобы в жизни человека "не было ни одного заметного происшествия", даже в жизни человека, который говорит о себе: "Я всегда был простым наблюдателем"; даже в жизни человека, чьи друзья женского пола были осторожны и хранили его секреты. Мизия Серт рассказывает в своих мемуарах — и это едва ли не единственная известная нам история, связанная с Вюйаром, — как они с ним шли по свекольному полю, и уже темнело, и она споткнулась о корень и упала бы, если бы он ее не поддержал, и как глаза их встретились… И как Вюйар разразился рыданиями. Следующей своей фразе Серт посвящает отдельный абзац (наверное, так следует поступить и нам):
"Это было самое красивое признание в любви, которое мне когда-либо делали".
А ей определенно было с чем сравнить. Не только красивое, но и характерное — как для него, так и для его живописи. Джон Рассел очень проницательно отмечал сходство принципов, которыми Малларме руководствовался в поэзии, с работами молодого Вюйара. Малларме призывал "изображать не вещь, но эффект, который она производит"; он также писал: "В центре акта творения лежит попытка вызвать в воображении предмет, не называя его напрямую, но, напротив, сознательно скрывая его в тени и говоря о нем иносказательно". Картины Вюйара всегда менее туманны и менее недоступны, чем поэзия Малларме; но случай на свекольном поле есть воплощение в жизнь художественных принципов последнего. Рыдания Вюйара — это не констатация любви, а эффект, который она производит.
Сейчас очевидно, что связь с Мизией была его первыми по-настоящему серьезными отношениями сексуального характера; хотя многолетнюю привязанность к Люси Эссель, сменившей Мизию в качестве поддержки и опоры художника в обществе и в искусстве, тоже нельзя назвать платонической. Кроме того, из его дневника, который стал доступен исследователям только в 1981 году, становится ясно, что человек, которого Жак Эмиль Бланш описывает как "гурмана, обратившегося к воздержанию", воздержан был далеко не во всем. Ги Кожеваль, главный куратор уже упомянутой выставки 2003–2004 годов, рассказал мне, что дневник, написанный преимущественно сухим языком в духе судового журнала, содержал некий шифр, которым отмечались любовные похождения. Я поинтересовался, какой шифр использовал Вюйар. "Он писал d’içi — passion", — пояснил Кожеваль. Да, подумал я, чудной шифр — "отсюда — страсть", — но разгадать его, в общем, нетрудно. Оказалось, что я ослышался. Шифр впечатлял своим откровенным отсутствием: слово, которое писал Вюйар, было dissipation (разврат).
Эдуар Вюйар. Затылок Мизии. 1897–1899. Частное собрание.
Итак, у Вюйара, который до этого момента считался монахом не хуже Генри Джеймса, была сексуальная жизнь, заинтересованные могут выдохнуть, все остальные — проигнорировать этот факт и идти дальше. Меняет ли это каким-либо образом наше восприятие его картин? У Вюйара есть небольшая, вытянутая по горизонтали, нежная картина под названием "La Nuque de Misia" ("Затылок Мизии"). Строго говоря, это только часть затылка: обнаженного плеча там примерно столько же, сколько задней части шеи. Мы смотрим на Мизию чуть сверху, ее голова опущена, волосы закрывают лицо; на ней белая блузка. Это, несомненно, в высшей степени эротичная работа застенчивого человека. Пока я глядел на нее в Монреале, проходящий мимо француз-журналист пробормотал: "Вот истинное признание в любви". Это так; но были Вюйар и Мизия любовниками в период ее создания или нет — картина от этого не меняется. Мы смотрим на, скажем, "Бичевание", написанное в 1455–1460 годах, и нам мешает наше незнание (что это за ребята на переднем плане? Вот эти трое?); мы смотрим на светскую картину, написанную в 1897–1899 годах, и нам мешает наше знание (интересно, что между ними происходит?).
Биография не бывает нейтральной, и самые благие, возвышенные намерения приводят к тому, что некоторые ранние работы Вюйара сегодня обрастают досужими историями. Всплывают новые факты о его жизни; его картины доступны публике; делаются все новые выводы. Рекламная кампания выставки в Монреале отличилась пугающе пошлым слоганом: "Эксперты зовут его Вюйаром. Вы можете звать его Эдуаром". Как будто на выставку вы идете не чтобы лучше понять искусство, а чтобы поближе узнать художника. Но попытка всеми доступными средствами сделать из Вюйара простого парня, который рассказывал нам историю своей жизни с помощью красок, весьма сомнительна. Посетите выставку дважды, и можете звать его Эдом.
Художники не датируют свои картины, если дата для них несущественна; они не дают им названий, если только не считают, что название необходимо. Но во внешнем мире картины, как дети, не могут оставаться безымянными и не иметь официальной даты рождения. Картины Вюйара получали новые имена чаще других. Иногда, конечно, переименование необходимо. Одна его картина 1891 года десятилетиями была известна под названием "Вагон третьего класса". Это насыщенная смесь сажи, охры и умбры, изображающая в профиль носатого мужчину (вероятно, в берете), который повернулся к своим соседям — женщине и ребенку. Название отсылает нас к вариациям Домье на ту же тему; через несколько лет Вюйар напишет ряд картин под названием "Вагон первого класса" (открыто признавая в своем дневнике влияние Домье). Но в 1990 году было высказано соображение, что если на картине "Вагон третьего класса" действительно изображен железнодорожный вагон третьего класса, то это было, надо полагать, уникальное явление в истории общественного транспорта, потому что в этом вагоне, судя по всему, цветет дерево. Нынешнее название картины больше похоже на правду: "В саду".
Прочие переименования, однако, вызывают немало вопросов. Например, доподлинно известно (Кожевалю), что Вюйар был главным инициатором брака своей сестры Мари и Кер-Ксавье Русселя, его близкого друга и собрата-набида, — брака, который пожилая мадам Вюйар считала большой ошибкой, поскольку Руссель был ветреник и волокита. Примерно в это же время Вюйар написал две из самых известных его работ: "Интерьер с рабочим столом", на которой некто, похожий на Русселя, заглядывает в ателье, где стоит некто, похожий на Мари; и "Интерьер с красной кроватью", на которой некто, похожий на Мари, стоит с подносом перед желтой ширмой, а на заднем плане две женщины убирают комнату. Это типичные картины Вюйара того периода: интерьеры с людьми, занятыми своими делами; не так важны их личность и смысл их занятий, как колорит и организационные требования картины. Первая картина холодная и игривая по настроению, в сине-серых и серо-коричневых тонах; вторая теплее и сочетает алый, оранжевый и желтый (а также черный). Когда Жак Соломон — муж Аннет, племянницы Вюйара, — увидел "Интерьер с рабочим столом" в колледже Смит, он "проницательно" (как утверждается в каталоге выставки 2003–2004 годов) дал картине второе название: "Жених"; именно под этим названием картина известна сегодня. Схожим образом "Интерьер с красной кроватью" получил название "Спальня новобрачных". Подобные переименования "проницательны" только в смысле коммерческого продвижения продукта: да вы не бойтесь, можете звать его Эдуаром. С художественной точки зрения о проницательности здесь говорить не приходится. Новые названия так и заявляют: "Да, между прочим, вот это он на самом деле и писал, он просто не хотел нам в этом признаваться". Такой подход обесценивает картины; пусть он не делает их банальными, он делает их более заурядными. Он рассматривает их как повествование, как разговорный портрет, как автобиографию повседневности. С композиции и эстетики он перетягивает наше внимание на тему. Это маленькое, но тяжкое предательство художника.
Ранний период творчества Вюйара — один из самых ярких примеров мощного и стремительного "развития" в искусстве двух последних столетий. У него практически нет юношеских вещей; он стал мастером масла, пастели, акварели и пера, когда ему еще не было тридцати; он очень удачно обнаруживает недалеко от дома прекрасный материал (иногда материал в буквальном смысле: рулоны и отрезы ткани из ателье его матери) и превращает его в глубокие, сияющие ювелирной красотой колористические размышления, в которых движение и соединение цвета и формы затмевают сюжетную составляющую. Конечно, его живопись не абстрактна; на картинах изображены (чаще всего) внутренние пространства и люди, которые живут и работают в этих пространствах. Положение тела — ссутулившиеся плечи, наклон корпуса, разворот — это ключ к пониманию; Вюйар следует изречению Эдмона Дюранти о том, что "спина человека может рассказать все о его характере, возрасте и социальном положении". Лицо, напротив, почти никогда не бывает ключом; картины могут намекать или даже открыто указывать на характер или настроение, личность же роли не играет.
Поэтому "Разговор" можно сопроводить вторым названием (или даже совсем его переименовать): "Невеста", и можно считать, что это картина о матери, которая дает совет дочери, выходящей замуж; но на самом деле это картина об отношениях белого платья дочери и белого цветочного горшка за ее спиной, об отношениях облаченной в черное матери и только слегка обозначенного черного предмета (покрывало? сброшенное пальто?) на кровати сзади, и о дальнейших отношениях этого белого, этого черного и коричневых — кирпичного, охристого, золотистого, зеленоватого, — которые занимают почти все остальное пространство. Как писал о Вюйаре Жид:
"Он никогда не стремится к эффектности; он целиком поглощен гармонией тона; знание и интуиция совместно помогают располагать на холсте цвета, каждый из которых выставляет своих соседей в новом свете и словно вытягивает из них признание".
Поэтому великолепная "Обнаженная в кресле" (1900), одна из редких картин Вюйара в жанре ню, — это столкновение бежево-розового (тело натурщицы, стена за ней) и каштанового (волосы натурщицы, на голове и в паху, кресло, пол), и единственным барьером между ними служит серо-синий контур.
Непринужденная игривость и художническое остроумие оживляют всегда сосредоточенный взгляд и высокие эстетические принципы Вюйара. Ткань и текстиль, одежда и обои свободно вытекают из своих привычных границ, переплетаются и растворяются друг в друге. На картине, которая сегодня известна как "Интерьер: мать и сестра художника" (хотя в 1909 году в галерее Бернхейм-Жён она выставлялась под названием "Черное платье и зеленое платье"), молодая женщина в платье в крупную клетку прислонилась к пестрым, словно бурно разросшийся цветник, обоям; возникает ощущение, что еще немного — и она провалится в них, оставив снаружи только каблучки. Живописные интерьеры Вюйара едва ли нуждаются в цветочных горшках или подвесных кашпо, пока по ним прогуливаются женщины с городскими садами на голове вроде "Дамы в синем". Или взять, к примеру, картину "Кер-Ксавье Руссель читает газету" (1893): мужчина в черном утреннем пиджаке и светло-коричневых шароварах свободного покроя сидит на низенькой кушетке. Существует эскиз, который совпадает с окончательным вариантом во всем, кроме одной ключевой детали. На эскизе Руссель сидит с широко расставленными ногами и держит газету между ними. В готовой работе Вюйар остроумно располагает падающую газету так, что она закрывает — и замещает собой — правую штанину и пояс брюк Русселя: он как будто изучает шов своих модных двухцветных штанов.
Эдуар Вюйар. Разговор. 1893. Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург.
В период набизма Вюйар был явным лидером; Боннар даже в лучших своих работах, казалось, лишь пытался от него не отстать. Но раннее мастерство обходится высокой ценой (хотя и не такой высокой, как раннее дилетантство). Синьяк побывал у Вюйара в 1898 году и позднее описал этого "чрезвычайно нервного художника" с "неутомимой страстью к искусству" в своем дневнике. Несмотря на то что, по мнению Синьяка, фантазийным картинам Вюйара не хватало реалистичности, он был очень впечатлен. Синьяк, однако, предвидел здесь и проблему:
"В его работах так силен фантазийный элемент, что он вынужден придерживаться небольшого формата; он не может выйти за его пределы… Его законченные картины напоминают наброски. Если он начнет работать в крупном масштабе, ему придется обратиться к большей точности — и что тогда с ним станет?"
Действительно, что? Синьяк, похоже, не знал, что Вюйар к тому моменту — начиная с 1894 года, когда он писал "Городские сады" для Натансонов, — уже работает в крупном, если не гигантском масштабе. Как бы то ни было, именно здесь исследователи Вюйара сталкиваются с настоящими трудностями. Художественный путь Боннара, который был много популярнее Вюйара еще полвека с лишним после их смерти, легче проследить. Он растет вглубь и вширь, но остается все тем же Боннаром; он привлекает и располагает к себе, он впускает нас в изображаемый им мир. Не таков Вюйар: его интерьеры слишком темны, слишком замкнуты и навевают мысли о клаустрофобии. Они привлекательны, но закрыты: мы ощущаем себя в них откровенно лишними. И вдруг — такая разительная перемена. Даже если нам известно, что в 1890-е и 1900-е годы он создал серию декоративных панно, эти работы застают нас врасплох. Джон Рассел в 1971 году, будучи куратором предыдущей крупной выставки Вюйара в Торонто, очень сокрушался, что девять панно из серии "Городские сады" "нельзя больше собрать в одном месте". В последний раз их выставляли как единое произведение в Бернхейм-Жён в 1906 году; почти век спустя пятерых владельцев отдельных панно удалось убедить в том, что работы должны воссоединиться. Стоя перед ними, как и перед серией панно "Площадь Вентимиля" (1911), начинаешь понимать, почему Вюйар считал крупные декоративные полотна формой искусства более совершенной, чем станковая живопись. ("Декоративные полотна" — неудачный термин; он как будто предполагает праздное развлечение для любителей бесцельно шататься по выставкам.) Просто в таких масштабах ставки, как и все остальное, крупнее: появляется, например, проблема пространства между картинами — тишины между нот — и того, как внимание и взгляд поддаются иллюзии цельности и скользят от края одной рамы к краю другой. Эти картины, составляющие единый ансамбль, несут коллективный смысл под стать какому-нибудь алтарному полиптиху.
Перемена происходит не только в масштабе, но и в стиле и в смысловом наполнении. Вюйар вырос — и рос дальше; он, как и предсказывал Синьяк, обратился к большей точности в изображении; он начал писать иной социальный слой. Как-то в юности он сказал: "Можно и из кухарки создать произведение искусства" — и превратил своих домочадцев, а также работников матери в мощную оркестровку красок; к 1928 году он писал на заказ портреты графини де Полиньяк и других представителей haut monde. Отныне личность имеет значение, без нее уже не обойтись, учитывая, кто платит за работу. Некоторые посчитали это трусостью или стремлением к комфорту; в любом случае разочарованием, как если бы Дебюсси принялся писать музыку для голливудских фильмов. На крупной выставке в триста-четыреста работ, где у посетителей, как правило, есть примерно полтора часа, прежде чем у них окончательно разболятся глаза, многие беззаботно пустятся бродить по залам с ранними работами Вюйара, восхищаясь редко выставляемыми декоративными полотнами, а напоследок пробегутся по работам позднего периода. Но это, быть может, тоже своего рода трусость. Если он способен был писать так, как писал в начале своей карьеры, наш долг перед ним — по крайней мере уделить должное внимание и прочим его работам. Феликс Валлоттон известен суровой критикой в адрес большинства современных ему художников (включая себя самого); единственным, кем он неизменно восхищался, был Вюйар, чье творчество всегда оставалось "безупречным и образцовым". Во время Первой мировой войны Валлоттона поглотили тревога и подавленность, и он едва ли видел смысл продолжать писать перед лицом разворачивающейся катастрофы; Боннар пережил войну, делая вид, что ее не существует; из всех троих набидов только Вюйар в полной мере осознавал происходящее и тем не менее сумел взять себя в руки и сосредоточиться на работе.
Его профессиональный рост был длительным, сложным, порой мучительным, его ждали великие успехи и сокрушительные провалы. Пожалуй, начать стоит с техники. Неожиданным побочным эффектом работы Вюйара в театре стало открытие им peinture à la colle — клеевой темперы, использовавшейся для создания декораций. Насколько известно Кожевалю, ни один классический станковист не использовал ее ни до, ни после Вюйара (хотя художники-декораторы XVIII века расписывали клеевыми красками театральные задники и панно). Это был сложный, трудоемкий процесс, для которого клей вываривали в медных котлах, причем число единовременно кипящих красок могло доходить до тридцати; дополнительной проблемой было добиться совпадения свежих оттенков со вчерашними. Клеевой краской можно гораздо быстрее, чем маслом, покрывать крупные поверхности; кроме того, она хорошо сохнет и позволяет сразу же накладывать поверх новые слои; наконец, расписываемую бумагу можно разложить на полу (а позже прикрепить к жесткой поверхности, например к холсту или дереву). Эту технику Вюйар использовал при создании крупных декоративных панно; постепенно клеевая темпера завоевала его симпатию и потеснила масляные краски.
Почему это произошло, точно не известно; в дневниках Вюйара peinture à la colle упоминается всего однажды. Неизменным аргументом в пользу темперы в театре было то, что расписанная поверхность поглощала лучи керосиновых ламп, освещавших сцену. Джон Рассел, описывая технику à la colle, говорит о "приглушенном внутреннем сиянии", о "сдержанной выразительности матовой, будто войлочной текстуры". Но ведь создать матовый, войлочный эффект можно и маслом, как, например, на панно "Пейзаж в Иль-де-Франс", которое написано в 1895 году и размерами не уступает другим декоративным полотнам Вюйара. Если нужного эффекта можно было добиться и масляными, и клеевыми красками, чем руководствовался Вюйар в своем выборе? Причины могли быть главным образом психологическими. Как объяснял он Жаку Саломону, прелесть клеевой темперы заключалась для него именно в сложности ее использования, обуздывавшей его "чрезмерную гибкость" и заставлявшей писать более осмотрительно. Но не было ли тут также эмоциональной связи? Мягкое свечение масла для домашних картин, изображающих его родных, темпера для бомонда, частью которого он стал? Возможно.
Peinture à la colle подтолкнула его к новым масштабам. Как и Боннар, наравне с великим интерьером он начинает изображать великий пейзаж — хотя пейзаж Вюйара нередко оказывается северным, поэтому его палитра остается прохладной. Он также начал выбираться в свет: сначала он стал вхож в те круги, в которых вращались Мизия и Тадеуш Натансон, потом влился в общество, которое собирали вокруг себя Люси и Жозеф Эссель. В чете последних он, судя по всему, занимал место, аналогичное тому, которое Тургенев занимал в семье Виардо: признанный любовник/близкий друг в утонченном и обходительном союзе трех человек. Эсселя, торговца произведениями искусства, больше интересовали работы Вюйара, а не то, чем его жена занималась в постели; художник же, в свою очередь, приходил в ярость, когда кто-нибудь в его присутствии пытался злословить в адрес мужа его любовницы.
Путь, пройденный Вюйаром как на художественном поприще, так и в обществе, можно точно измерить одной из лучших его поздних работ — несомненно, одним из великих портретов XX века. В начале 1890-х годов он писал маслом небольшие картины, посвященные семейному предприятию мадам Вюйар, управлявшей ателье на улице Миромениль в "узком, похожем на коридор помещении, втиснутом между двух этажей старинного дома". Сорок лет спустя он работал клеевой темперой над большим заказным портретом Жанны Ланвен, главы одного из первых домов высокой моды и целой империи по производству предметов роскоши. Как и Вюйар, она начинала с малого и от скромной модистки доросла до позиции власти и влияния: к 1925 году штат Дома Ланвен составлял восемьсот человек, которые трудились в двадцати трех мастерских. Стиль Ланвен привлекал таких клиентов, как Мэри Пикфорд и Ивонн Прентан; что касается ее положения в обществе, то оно окончательно утвердилось, когда ее дочь вышла замуж за графа Жана де Полиньяка.
Вюйар говорил: "Я пишу не портреты; я пишу людей в их домах". В домах и на службе: вот здание на улице Фобур-Сент-Оноре; за столом в непринужденной, но властной позе сидит мадам Ланвен, художник застал ее в разгар рабочего дня. В правой части картины лучи невидимого нам солнца освещают простые инструменты ее ремесла: заточенные карандаши в вазочке и отложенные в сторону очки. Слева примерно на том же уровне — символ того, чего эти инструменты помогли добиться в обществе: гипсовый бюст дочери Ланвен, Маргариты, ныне аристократки по мужу. (Бюст стоит в стеклянной витрине, что, несомненно, соответствует действительности, но также наводит на определенные размышления.) Это картина о труде, мастерстве, самоотдаче, деньгах, успехе и статусе. Традиционное ремесло старых технологий — пера и бумаги — переплетается с современным миром, в котором есть место мебели в стиле ар-деко и телефону. (Вюйар любил телефоны и особенно телефонные провода: в "Портрете Анри и Марселя Капферер" (1912) в глаза бросается разноцветный шнур, который вольготно растянулся поперек ковра, словно какая-нибудь змея с берегов Амазонки.) Это контраст беспорядка творчества — образцов ткани, листов бумаги и прочих вещей, сваленных в кучу в правой части стола, — и абсолютной упорядоченности денег: строгих конторских книг, массивных стальных шкафов позади сидящей. Картина собирается за счет цвета; из левого нижнего угла в правый верхний: зеленоватое стекло витрины с бюстом — пиджак сидящей — уход в серо-зеленую тень; из правого нижнего угла в левый верхний: образцы красной ткани — губы сидящей — корешки книг. Два цвета тонко и, конечно, в полном соответствии с действительностью пересекаются на пиджаке мадам Ланвен: на зеленом лацкане виднеется красная лента ордена Почетного легиона.
Это торжество существенной детали. Совсем не похоже на портреты портних, лица которых едва обозначены, а позы показывают скорее отношение к делу, чем характер. Когда Вюйар писал портрет Анны де Ноай, та сказала служанке: "Ради всего святого, уберите кольдкрем! Вы прекрасно знаете, что мсье Вюйар ничего не упускает из виду" (ничего существенного, если быть точнее). Портрет Жанны Ланвен в этом смысле — совершенно не в духе установок Малларме: он наполнен вещами, а не эффектами, которые эти вещи производят. В нем, однако, присутствует и типичная для Вюйара неоднозначность в виде невозможных отражений: попробуйте разобраться, как корешки книг в левом нижнем углу соотносятся с отражением гипсового бюста рядом с ними; обратите внимание на то, как неестественно отражается рукав (или пиджак) мадам Ланвен. Это также, увы, одна из нескольких картин, чье состояние постепенно ухудшается. Лицо сидящей на первый взгляд изрезано неприглядными морщинами; в действительности это последствия использования peinture à la colle. Вюйар испытывал естественные трудности с изображением лица, клеевая темпера же позволяла переписывать неудавшиеся фрагменты сколько угодно раз; но чем больше слоев, тем недолговечнее результат. Что еще хуже, картины, написанные в этой технике, по словам Кожеваля, не поддаются реставрации.
В 1910 году в "Новостях искусства" вышла статья Сикерта; в ней он разграничил "художников, которые возвышаются над своими заказчиками" и тех, кто, как Жак Эмиль Бланш, в каждом мазке "подчиняется воле хозяев дома". Сикерт (восхищавшийся работами Вюйара) писал далее: "Служение может быть достойным занятием, но свобода имеет свой неповторимый вкус". Променял ли Вюйар в старости свободу на служение, когда за два года до смерти согласился стать членом Академии изящных искусств? Иногда отрицать это невозможно. Когда смотришь на гигантский портрет Марсель Арон, от зевоты сводит челюсть; портрет мадемуазель Жаклин Фонтен откровенно безвкусен. Возвращаясь к терминологии Хаксли, кажется, что художественная добродетель ушла навсегда. Грандиозное полотно "Военные врачи" (1912–1914) и написанный в военное время "Допрос заключенного" (1917) — пожалуй, примеры неудачи иного рода: это насилие над собственным природным гением, картины, написанные исключительно из чувства общественного долга. Но этим работам мы можем справедливо противопоставить знаменитого "Теодора Дюре в своем кабинете" (1912) или восхитительно игривый двойной портрет Саша Гитри и Ивонн Прентан (1919–1921).
В 1938 году куратором последней (до 2003–2004) крупной выставки Вюйара в Париже стал сам Вюйар; он сознательно сделал акцент на поздних работах, полагая, что они представляют для молодежи больший интерес. Это была невозможная надежда; тем более что к тому моменту над ним тяготело проклятие, выражавшееся в любви консервативных критиков, которые видели в нем адепта и защитника "истинной" французской живописи. Но со временем предметная составляющая искусства становится менее значимой; и раз уж последующие поколения перестали видеть в Прусте писателя "буржуазного упадка", нам тоже пора научиться смотреть на поздние работы Вюйара более беспристрастно. В частности — поскольку Вюйар был человеком необычайно умным и глубоко погруженным в историю живописи, — мы можем взглянуть на семь его поздних работ, посвященных искусству как таковому. "Автопортрет в зеркале гардероба" (1923–1924) такой же мрачный и беспощадный, как поздние автопортреты Боннара: отражение в зеркале седобородого старика с провалами вместо глаз, который окружен картинами и как будто сам вот-вот растворится в истории искусства. Есть еще цикл из четырех картин под названием "Анабаптисты" (Боннар, Руссель, Дени и Майоль, 1931–1934), в котором четверо товарищей Вюйара — двое из них к тому моменту уже умерли — представлены ничтожными карликами рядом с их собственными работами. Дени сидит позади огромных ведер из-под краски; перед Русселем лежит палитра размером в четыре его головы; Майоль, плотный человечек в полосатом костюме и соломенной шляпе, суетится у ног гигантской мраморной богини, словно угодливый мастер педикюра. Боннар из всех четырех занимает на картине больше всего места (пожалуй, заслуженно): его высокая фигура изображена в полный рост в центре полотна. Однако цвета говорят сами за себя: художник одет в неприметный серый костюм и носит очки, он сед и отбрасывает глубокую тень, на стене перед ним пламенеет его собственная картина, "Ле-Канне", а позади него еще более губительно пламенеет открытый ящик с красками.
Есть, наконец, цикл декоративных полотен, выполненных Вюйаром по заказу Камиля Бауэра в 1921–1922 годах и посвященных музейному искусству: в частности, два из них изображают зал Кариатид и зал Ла Каза во вновь открытом незадолго до этого Лувре. На первой картине девять десятых пространства занимают огромная ваза Боргезе и другие предметы античного искусства; в самом низу видны лица нескольких зрителей — женщины в синей шляпке (между прочим, племянницы Вюйара, Аннет, но личность вновь отступает здесь на второй план), мужчины в фетровой шляпе, — предельно, до нелепости крохотных перед лицом искусства. На второй живым людям под французскими полотнами XVIII века выделено чуть больше пространства: двое из них — копиисты, занятые своим делом; третий изучает путеводитель по галерее; четвертая, в мехах и шляпке, смотрит за пределы рамы. Эти картины, по мнению составителей каталога выставки 2003–2004 годов, являют собой "торжество человеческого взгляда". В некотором смысле — пожалуй; но следует отметить, что лишь у одного из девяти изображенных взгляд направлен непосредственно на произведение искусства. Вюйар, может, и описывал себя как простого наблюдателя, но мы — те, кто смотрит на его картины, — наблюдатели в еще большей степени: порой лишь копиисты, подражающие чужому искусству, порой внимательные зрители, порой — обыкновенные зеваки. Мы блуждаем по великим галереям, восхищаемся и отвергаем сообразно нашему знанию, натуре, текущим модным тенденциям и тому, что мы съели на обед, заносим картины в свои хит-парады и неисправимо жаждем узнать хоть что-нибудь о личной жизни художника. Но для искусства все это не имеет значения: оно продолжает существовать выше нашего понимания, огромное и безразличное.
Валлоттон Иностранный набид
На заре XX века сестры Кон из Балтимора — доктор Кларибель и мисс Этта — унаследовали состояние, скроенное из хлопка, джинсовой ткани, матрасного тика. Они решили потратить его на искусство. В течение нескольких последующих десятилетий, покупая картины в основном в Париже, руководствуясь собственным вкусом и советами экспертов — включая Лео и Гертруду Стайн, — они собрали коллекцию Матисса плюс работы Пикассо, Сезанна, Ван Гога, Сёра и Гогена. В 1929 году, перед смертью, доктор Кларибель составила одно из самых манипулятивных завещаний в истории искусства. Она оставляла свою часть коллекции сестре и при этом предлагала ("не настаивая и не обязывая") после смерти Этты передать коллекцию в местный Музей искусства, "в том случае, если в Балтиморе научатся ценить современное искусство". Этот поразительный вызов умирающей женщины целому городу был дополнен предложением (или угрозой) в противном случае передать коллекцию в нью-йоркский Метрополитен-музей. Следующие двадцать лет — до смерти мисс Этты в 1949 году — Метрополитен прибегал к разного рода политическим ухищрениям, но маленький стойкий Балтимор в конце концов доказал свою современность и соответствие условиям. В наши дни коллекция сестер Кон — это главная причина посетить Балтиморский музей искусств, расположенный в кампусе Университета Джонса Хопкинса.
Когда я преподавал там в течение одного семестра в середине девяностых, в перерывах между занятиями я иногда заходил в музей. Сначала меня занимал Матисс и другие знаменитости, но все чаще я подолгу стоял перед очень маленьким, ярким холстом кисти швейцарского художника Феликса Валлоттона; картина называлась "Ложь". В музее был еще один "валлоттон", портрет массивной, погруженной в раздумья Гертруды Стайн (1907) — который Вюйар остроумно прозвал "Мадам Бертен"[30] и который, несомненно, стал бы самым известным изображением Стайн, если бы Пикассо не опередил Валлоттона и не написал ее портрет годом раньше. Но меня не отпускала "Ложь"; картина была написана в 1897 году, и тридцать лет спустя в Лозанне Этта Кон купила ее у Поля, брата Феликса, торговавшего картинами. Покупка обошлась ей в 800 швейцарских франков; сущие гроши, если учесть, что в тот же день и у того же продавца она приобрела пастель Дега стоимостью в 20 000 франков.
Феликс Валлоттон. Ложь. 1898. Балтиморский музей искусств, Балтимор. Собрание Кон. Фото: akg-images.
Один из моих студентов, обучавшихся писательскому мастерству, сдал мне рассказ, сюжет которого строился вокруг загадочной лжи, и я внезапно обнаружил, что рассказываю своей группе о Валлоттоне. Мужчина и женщина сидят в интерьере позднего XIX века: обои в желтую и розовую полоску на заднем плане, громоздкая мебель в темно-красных тонах на переднем. Парочка на диване сплелась в объятиях: соблазнительные алые изгибы женщины заключены между двумя черными брючинами мужчины. Она что-то шепчет ему на ухо, его глаза полузакрыты. Очевидно, что лжет женщина, — это подтверждает и удовлетворенная улыбка на лице мужчины, и носок его ботинка, задранный в самодовольном неведении. Мы можем лишь гадать, какую ложь она шепчет ему в ухо. Старое доброе "я люблю тебя"? Или же выпуклость ее платья намекает на другое неизменное уверение: "Конечно, ребенок твой"?
На следующем занятии несколько студентов высказали свое мнение. Одна, канадская писательница Кейт Стернз, вежливо сообщила мне, что картина имеет диаметрально противоположный смысл. Очевидно же, что лжет мужчина: это подтверждает и удовлетворенная улыбка на его лице, и самодовольно задранный носок его ботинка. Вся его поза говорит о том, что он дерзко лжет женщине, а ее — о том, что она послушно обманывается. Нам остается только гадать, какую ложь он нашептывает ей на ухо. Если это не "я люблю тебя", то другая вечная мужская песня — "конечно, я женюсь на тебе". Другие студенты высказывали свои догадки; один остроумно предположил, что название картины не относится ни к какой конкретной лжи, но несет в себе более широкое обобщение — имеется в виду ложь социальных условностей, которая делает невозможными честные отношения между полами. Возможно, об этом говорит и выбор цветов: слева изображена пара в контрастных тонах, справа алое кресло плавно сливается с алой скатертью. Можно заключить, что предметам доступна гармония, а людям — нет.
Валлоттон, как и другие его соотечественники, такие непохожие друг на друга Лиотар, Ле Корбюзье и Годар, владел этим швейцарским искусством казаться окружающему миру французом; на самом деле он пошел еще дальше: в 1899 году он женился на женщине из парижской семьи Бернхейм — торговцев произведениями искусства, — а через год после этого принял французское гражданство. Он входил в группу "Наби", всю жизнь был близким другом Вюйара. Ничто из перечисленного не добавило ему славы в Британии. Только в Балтиморе я впервые столкнулся с этим именем; завсегдатаи галерей из числа моих соотечественников не должны стыдиться, если оно им незнакомо. Стыдиться должны национальные закупщики произведений искусства. В Британии он не столько "забытый набид", сколько "неизвестный набид". В эту страну ни разу не привозили живопись Валлоттона, только гравюры показали однажды на передвижной выставке, организованной в 1976 году Художественным советом. Недавно я навел справки в Фонде Феликса Валлоттона: в общественном достоянии Британии находится лишь одна его картина, "Дорога в Сен-Поль-де-Ванс" (1922), которая принадлежит галерее Тейт только потому, что была пожертвована ей Полем Валлоттоном после смерти брата. Ее нет в экспозиции с 1993 года; с этого же времени ее не предоставляли для выставок. В основном работы Валлоттона находятся в крупных городах Швейцарии и в Музее Орсе; в других местах вам едва ли встретится больше пары его картин, висящих рядом. Многие его работы, включая лучшие, до сих пор в частных коллекциях и не выставляются даже по призыву могущественных музейных кураторов.
Валлоттона часто недооценивали, относились к нему свысока: Гертруда Стайн презрительно называла его "Матиссом для нищих". Но есть и другая причина, почему его обошли вниманием. Он много писал, и я не могу припомнить другого художника, чей диапазон так разительно варьировался бы от высочайшего качества до откровенной чудовищности. Например, два "валлоттона" висят в Музее изящных искусств в Руане, в довольно темном и перенаселенном картинами коридорчике. Одна — театральный этюд: девять крошечных черных голов свешиваются через перила и кажутся точками на фоне огромного желтовато-кремового балкона под ними. В ней нет пестроты импрессионизма, движения света и позолоты, как, например, в театральных этюдах Дега или Сикерта; но эта картина с ее богатой и в то же время сдержанной цветовой палитрой — прекрасный этюд тесноты и отчуждения современной городской жизни. Но на противоположной стене коридора висит обнаженная такой степени уродства, что если бы вы увидели эту картину первой, то специально запомнили бы имя автора, чтобы в будущем любой ценой избегать встречи с его произведениями. Один мой швейцарский друг как-то спросил меня с горькой усмешкой: "Ты когда-нибудь видел, чтоб Валлоттон нормально нарисовал голую женщину?"
Когда я впервые попал на выставку, где было много работ Валлоттона — в цюрихском Кунстхаусе в 2007 году, — первым моим чувством было облегчение: оказалось, что он еще лучше, чем я воображал, и диапазон его шире, чем мне думалось. Я также осознал, что, несмотря на его женитьбу, гражданство, привычку уезжать на лето в Этрета и Онфлёр, несмотря на его официальный парижский статус "иностранного набида", он вовсе не был французским художником; скорее неуклюжим независимым одиночкой, которого трудно вставить в более широкий живописный контекст. В 1888 году, после поездки в Голландию, он написал своему другу, французскому художнику Шарлю Морену: "Моя ненависть к итальянской живописи все растет, и к французской тоже… Да здравствует Север и к черту Италию!" Хотя Валлоттон и был верным набидом, летописцем современной жизни и городской повседневности, он все же инстинктивно тянулся к повествованию и аллегории, к четким контурам и Северу — к Германии и Скандинавии; к безыскусному стилю, временами предвосхищающему Хоппера (который мог видеть картины Валлоттона, когда приезжал в Париж в 1906–1907 годах). Еще в его работах слишком много политики, сатиры, ненависти к власти. Может быть, самым символичным актом солидарности с французскими коллегами был тот момент, когда его, Боннара и Вюйара хотели одновременно наградить орденом Почетного легиона; все трое отказались.
По темпераменту в свои ранние годы он казался французом — ну или почти: жизнь в Париже делала его "дружелюбным, расслабленным, счастливым". Разумеется, у него была модель/любовница, Элен Шатенэ, известная как "малышка", la petite, — разумеется, белошвейка. Он даже подумывал на ней жениться, но его отговорил Морен, который сказал: "Иные из моих друзей были весельчаками до и стали мизантропами после". Портреты позволяли ему оплачивать счета, хотя от семьи он тоже получал финансовую помощь. Его брат Поль, который тогда еще не торговал произведениями искусства, занимался производством шоколада, какао и нуги, и Феликса посылали проверить возможные точки сбыта в Париже. "Пришли какао, пожалуйста", — писал он домой. В 1890-м он постепенно получает известность благодаря своим карикатурам и сатирическим гравюрам; он сотрудничает с "Ревю бланш" и становится художественным директором "Ревю франко-америкен", модного журнала, основанного князем Понятовским, продержавшегося на плаву всего три месяца. Валлоттон официально стал набидом, приняв участие в третьей выставке группы в 1893 году. С Вюйаром он познакомился за несколько лет до этого; он знал Малларме и писателя Жюля Ренара, который писал в своем дневнике в апреле 1894 года: "Валлоттон, спокойный, прямой, утонченный, прямые волосы разделены четким, чистым пробором; сдержанные жесты, несложные теории и несколько эгоистический привкус каждой фразы". Ему было чуть за тридцать, он пробивал себе дорогу, был самодостаточен, на подъеме.
А потом, в 1899 году, Вюйар пишет ему: "Я слышал, свершилась революция". Так оно и было: Валлоттон объявил о своем намерении жениться на Габриэль Родригес-Энрикес, дочери торговца картинами Александра Бернхейма. Они были знакомы уже четыре года; кажется, это был брак, основанный и на любви, и на здравом смысле. Валлоттон, никогда не выражавший бурно своих эмоций, сказал брату Полю: "Это женщина таких превосходных качеств, что я, несомненно, смогу хорошо с ней ладить", все будет устроено "очень разумно", да и семейство Бернхейм "весьма почтенное и богатое". Габриэль было тридцать пять, ему — тридцать три, она была вдовой, ее первый муж покончил с собой, у нее было трое детей возрастом от семи до пятнадцати — "я буду любить их", уверял Валлоттон брата (и самого себя). И в самом деле, настоящая революция: стать мужем, отчимом, переехать с Левого берега на Правый, с улицы рю де Жакоб на рю де Милан; променять независимость, неуверенность в завтрашнем дне и склонность к анархизму на буржуазный комфорт. Тогда же он оставил карьеру журналиста и практически перестал заниматься гравюрой. С этого момента на рубеже веков он посвятит себя живописи и браку. Что может ему помешать?
И в самом деле — что? 24 апреля 1901 года двадцатидевятилетний Поль Леото пришел к Полю Валери на обед, где почетным гостем был Одилон Редон. Художник долго говорил о виноградниках Бордо и вдруг неожиданно сменил тему. Последовала сплетня о Валлоттоне: женился на очень богатой вдове. Теперь не может работать, потому что все время то сам совершает светские визиты, то принимает у себя.
Феликс Валлоттон. Пятеро художников. Фрагмент с изображением Валлоттона (стоит), Боннара (слева) и Вюйара. 1902. Винтертурский художественный музей, Винтертур, Швейцария. Фото: akg-images.
И Валери, и Редон сами были женаты (и обе жены присутствовали на обеде), так что, возможно, тут не обошлось без самодовольства: мы-то знаем, как быть женатыми художниками и при этом работать, а он — нет. На самом деле в этой сплетне, как и в большинстве других, была лишь доля правды. Первые годы нового столетия оказались хорошим временем в живописи Валлоттона, в то время были написаны самые нежные его картины — все они изображают его жену. Габриэль в халате, в спальне, шьет, вяжет, окантовывает, роется в чулане, играет на пианино, стоит перед анфиладой комнат, которые, кажется, ведут еще дальше вглубь счастья: нет никаких сомнений, что их связывала любовь. Но это был еще и буржуазный брак. Габриэль, несмотря на отцовский бизнес, не слишком интересовалась работой мужа, а Феликс обнаружил, что мелкие денежные треволнения представителя богемы сменились более масштабными денежными волнениями буржуа. С 1897 по 1905 год его доход снизился. Кроме того, роскошь, в которой он теперь жил, не соответствовала его темпераменту. В декабре 1905 года он писал брату из Ниццы: "Мы живем на великолепной вилле в окружении пальм и апельсиновых деревьев. Мне от этого не по себе: я бы лучше оказался в хижине в каком-нибудь диком месте". И хотя он по-прежнему поддерживал отношения с Элен Шатенэ, буржуазные условности не позволяли Боннару навещать Валлоттонов со своей "малышкой", Мартой де Мелиньи.
Кое-что из этого Валлоттон странным образом (а может, не таким уж и странным) предвидел в своих картинах, созданных непосредственно перед женитьбой. Это была серия, написанная между 1897 и 1899 годом, известная как "Intimités" ("Сокровенное"), к которой как раз принадлежит "Ложь". Это расцвет его набидовского периода: противопоставление локальных пятен, насыщенные контрастирующие цвета, интерьерные сцены, как правило, сумрачное освещение. Но если для Вюйара и Боннара цвет и цветовая гармония были превыше всего и обитатели их домашнего пространства — скорее сочетание форм, чем живые люди, то Валлоттону всегда были интересны отношения между людьми, которых он изображал. Его фигуры живут своей жизнью за пределами изображающей их картины, они рассказывают историю (и одновременно умалчивают о ней). "Ожидание" изображает мужчину в коричневом костюме: наполовину укрывшись за тяжелой коричневой шторой, он морщится, пытаясь разглядеть что-то сквозь тюль, — предположительно, ждет прихода женщины; что это — робкая надежда или засада хищника? На картине "Визит" другой мужчина (или, быть может, все тот же) встречает в прихожей женщину, одетую в фиолетовое пальто, и силовые линии картины неизбежно притягивают взгляд зрителя к открытой двери спальни на заднем плане слева: но кто из них проявляет инициативу? "Интерьер, красное кресло и фигуры" показывает любовников после ссоры: женщина сидит, подперев подбородок рукой, а мужчина стоит рядом, и его тень падает на ее юбку, как зловещее сексуальное пятно. На других картинах парочка льнет друг к другу, обнимается в полумраке. Даже предметы мебели кажутся их соучастниками. В этих картинах чувствуется беспокойство, тревога, конфликт. Это загадочное повествование о сексуальной жизни: редко можно понять, кто из двоих доминирует, кто платит, какой монетой. Их называют "яростными интерьерами", что может быть несколько чересчур; но это, безусловно, изображение глубокого эмоционального диссонанса. Примерно в это же время Валлоттон делает серию из десяти гравюр, тоже известных как "Intimités" ("Сокровенное"), хотя только один сюжет повторяется там буквально — тот же, что во "Лжи". Гравюры представляют собой более сатирически заостренные — и более прямолинейные — изображения эмоциональной войны. "Триумф" показывает, как безжалостная женщина доводит мужчину до слез; "Собираются в гости" — отчаянно скучающего мужчину, ждущего, пока его жена почистит перышки; "Крайняя мера" — спор за обеденным столом: жена стоит, повернувшись спиной, спрятав лицо в салфетку, мужчина виновато встает, чтобы ее успокоить. Самая выразительная гравюра, "Деньги", изображает парочку, стоящую на балконе у левого края картины; мужчина, одетый в черное, что-то показывает женщине, одетой в белое. Она не может видеть того, что видим мы: позади мужчины черная масса, занимающая две трети картины, захватывающая и поглощающая его тело, так что из черноты высовывается только его левая рука. Это, понимаем мы, деньги, надвигающиеся на пару и их отношения. Все это было вырезано на дереве прямо перед тем, как Валлоттон женился на своей "очень богатой" вдове.
Феликс Валлоттон. Деньги. 1898. Фото: akg-images.
В этих гравюрах, может быть, лучше всего выразилась его игривость, остроумие и острый сардонический взгляд на Париж эпохи fin-de-siècle. Все гравюры контрастные, черно-белые, небольшого размера (обычно семнадцать на двадцать два сантиметра). Однако внутри гравюры он умеет передать тонкие различия материалов и, несмотря на малый размер, изобразить динамичную многолюдную сцену. Демонстранты разбегаются от полицейских; повсюду вздымаются зонтики в попытках укрыться от дождя и ветра, грубые жандармы набрасываются на худого поэтичного анархиста. Этот повествовательный элемент напоминает нам еще об одном обстоятельстве: Валлоттон принадлежал к редкому типу художников, имеющих литературные амбиции. Как многие художники, он вел дневник. Но он также был художественным критиком, написал восемь пьес, две из которых короткое время шли на сцене, и три романа, ни один из которых при его жизни не нашел издателя. Лучший из них, "La Vie meurtrière" ("Смертоносная жизнь"), относится к "яростным интерьерам", более кровавым, чем "Сокровенное", — это история в духе Эдгара По: юрист, впоследствии ставший критиком, с детства знает, что его присутствие несет смерть окружающим. Он стоит рядом, когда его друг падает в реку, когда гравер втыкает в себя резец и умирает от отравления медью, когда натурщица художника падает на печь и получает смертельные ожоги. Виноват ли он в том, что происходит, или эти события не зависят от его воли? Стал ли он жертвой тайного проклятия, и если да, то как ему избежать новых смертей? Повествование Валлоттона — еще одна хорошо организованная загадка.
Он был слишком здравомыслящим человеком, чтобы считать себя жертвой тайного проклятия, но то спасение, которое, как ему казалось, он нашел в Габриэль — в жизни, посвященной живописи, супружескому взаимопониманию и выращиванию детей, — не сработало. "Ужин при свете лампы" (1899) показывает нам затылок (несомненно, швейцарский) за обеденным столом; справа Габриэль в розовом платье смотрит на своего старшего сына Жака, который задумчиво жует фрукты, а маленькая девочка не сводит широко открытых глаз с самозванца напротив. Фактура и гармонии цвета отступают здесь на второй план, выпуская на первый цветовые контрасты и психологическое противостояние. И это предсказание. Отношения Валлоттона с пасынками быстро испортились — "их непредсказуемость его пугала", сказал один из очевидцев, и письма художника усыпаны жалобами. "Все было бы хорошо, если бы Жак не был таким гадким". Он называет Жака и его брата "настоящими кретинами" (Стайн упоминала "буйство его пасынков"). Но главным центром (взаимного) антагонизма всегда оставалась падчерица. "Маделина демонстрирует и навязывает всем свое самомнение, свою тупость и деспотизм". "Она танцует танго, наводняет дом случайными знакомыми, все критикует". "Она целыми днями полирует ногти и словно свысока смотрит на страдания окружающих". Когда-то, в 1897 году, художник Филипп Шарль Блаш, поддразнивая Валлоттона, назвал его в письме "Monsieur le Mélancholique", и теперь скрытая меланхолия его характера стала всплывать на поверхность. Он также был "сверхчувствителен и скуповат" — не самые удачные качества для отчима. Габриэль, разрываясь между эмоциональной лояльностью к мужу и к детям, часто находила убежище в болезни. В ранних письмах он часто обращается к ней "ma bonne Gab" ("моя милая Габ") — но вскоре обращение меняется на "ma pauvre Gab" ("моя бедная Габ") — и таким остается навсегда. В 1911 году Феликс признается брату Полю, что пребывает в "постоянной тоске": "Мне не с кем поговорить, и бездумность окружающих, которые живут только для немедленного удовлетворения своих аппетитов, кажется мне удушающей". В 1918 году он пишет в своем дневнике: "В чем так провинился мужчина, что вечно должен подчиняться этому ужасному "спутнику", именуемому "женщина"?" Кажется, "Ложь" обернулась правдой. Он выражает ужас от "своей фальшивой жизни, на полях жизни реальной, которую я терплю уже двадцать лет и от которой страдаю так же жестоко, как в первый день". Если Вюйар мог с удовлетворением сказать о себе: "Я всегда был только наблюдателем", Валлоттон жалуется: "Всю свою жизнь я смотрел на жизнь из окошка, но не жил сам".
Искусство — единственное, что ему оставалось. В 1919 году в письме к своей новой покровительнице, Хеди Ханлозер (которая жила со своим мужем Артуром на вилле Флора в Винтертуре), он рассуждает:
"Я думаю, что для моих работ характерно желание выразить себя через форму, силуэт, линию и объем; цвет — лишь дополнение, которое призвано подчеркнуть важное, само оставаясь второстепенным. Я ни в коем случае не импрессионист, и хотя я восхищаюсь их живописью, я горжусь тем, что избежал этого сильного влияния. Я склонен к синтезу: тонкости и нюансы не то, чего я хочу, и не то, в чем я силен".
Этот точный самоанализ показывает, как он всегда был далек от своих товарищей-набидов: в 1920-м он отмечает, что они с Боннаром по-прежнему в прекрасных отношениях, "несмотря на то что находимся на разных полюсах живописи". Валлоттон всегда был художником-протестантом: он верил в тяжкий труд, продуманность, сложность исполнения; он ненавидел искусственность, виртуозность и "везение" в живописи. Критики, как правило, с ним соглашались: он представал "сильным и трезвомыслящим" художником; его работы излучали "упрямую искренность"; он был "сосредоточенный, аскетичный, холодно-страстный, лишенный изящества".
Легко понять, что именно критики могли бы поставить ему в вину, если бы захотели. Постепенно так и произошло. Последние пятнадцать лет жизни Валлоттона, с 1910-го по 1925-й, отмечены все большей изоляцией и отстраненностью; он становится все более обидчивым, впадает в депрессию — или, как тогда говорили, в неврастению; в его дневнике появляются размышления о самоубийстве. Его ужасает война, угнетает собственное бездействие; даже совсем не воинственный Вюйар при деле — охраняет мосты. Валлоттон кажется бо́льшим французом, чем все французы, вместе взятые, в своем отвращении к немцам; неменьшее отвращение у него вызывает французское гражданское население — их "развращенность", алкоголизм, ограниченность; сексуальная распущенность женщин, чьи мужья и любовники ушли на фронт. Первые послевоенные годы не приносят облегчения: французские ценности и французский дух переживают упадок; упадок переживает и мораль, что хорошо видно по "массовому онанизму вечеринок с танго". У него мало друзей, он существует в ледяном отчуждении от семьи. Его карьера забуксовала — за несколько месяцев иногда ни единой продажи; картины возвращаются из галерей и загромождают студию; их даже не распаковывают на аукционах, и это вредит его репутации. В 1916 году слух, что одну из своих картин он написал с фотографии (теперь вполне обычная практика), побудил одного швейцарского коллекционера вернуть все картины Валлоттона из опасения, что они упадут в цене.
Кроме всего прочего, мода оборачивалась против него. В 1911-м он замечает: "Кубизм — последний крик моды, те, кто с ним уже знаком, слишком гордятся собой, чтобы обращать внимание на что-то другое". К 1916 году Валлоттон, кажется, охвачен паранойей: "Мои картины выставляются в Гааге, в Христиании, в Базеле, скоро будут в Барселоне. Но из этого ничего не выйдет. Кубисты, футуристы, матиссисты и так далее прилагают невероятные усилия, действуя через представителей, торговцев, брокеров по всей Европе и в Америках. Они исподволь готовят послевоенный переворот".
И еще его картины проваливаются в неправильную ценовую нишу: "Легче продать картину за 50 000 франков, чем за 500; коллекционеры хотят либо "новых художников" по бросовым ценам, либо "ренуаров" за 50 000 франков — мой ценовой уровень никому не нужен". Валлоттон однажды дал Хеди Ханлозер мудрый совет, сказав, что "посредственная картина всегда слишком дорога; хорошая картина может быть дорога, если превышает свою цену, а очень хорошая картина слишком дорогой не бывает". Он писал и писал картины: работал, чтобы сохранить рассудок, и поэтому, возможно, писал слишком много. Он выставлял все больше обнаженных, и критикам это все больше не нравилось. Он упрямо продолжал писать и выставлять еще больше обнаженных. Остальная часть его работ была несправедливо забыта. Он прекрасно писал натюрморты — особенно ему удавался красный перец; его пейзажи просто чудо и на выставках становятся сюрпризом для большинства зрителей. В каждое десятилетие он писал закаты — всегда закаты, никогда не рассветы. Кажется, это соответствует его темпераменту, но закаты Валлоттона — это яркие, броские образы, яростные вспышки; "Закат в Виллервиле" (1917), который кажется почти что галлюцинацией с полосами оранжевого, пурпурного, черного, близок к Мунку.
В свои дневные пейзажи он привнес собственную интерпретацию идеализирующей традиции Пуссена и Рубенса. Пуссен удалял все случайное в природе, его творческое воображение перестраивало окружающий мир так, чтобы он вписался в подобающе высокий стиль. Но Рубенс, по мнению Валлоттона, превзошел даже Пуссена: "На мой взгляд, он величайший мастер пейзажа, потому что у него есть чувство универсального. Его пейзажи — скорее воплощения природы, чем изображения случайностей топографии". Вдохновляясь этими двумя мастерами, Валлоттон, начиная с 1909 года, развивал собственную идею paysage composé, скомпонованного пейзажа. Он выезжал на природу, делал наброски и заметки, а потом возвращался в студию и собирал картину, используя материал нескольких натурных штудий: получался новый, не существующий на самом деле вид, созданный впервые на полотне. Эти картины наследуют выжившие элементы набизма — силуэтность изображений и резкие цветовые контрасты. Есть в них и неброский юмор: так, в картине "Пруд" (1909) одни части исполнены импрессионистично, а другие выписаны с реалистичной четкостью, в то время как мутно-черная вода, по мере того как вы на нее смотрите, кажется, превращается в огромную, зловещую камбалу. И хотя эти поздние пейзажи часто имеют географические названия — "Дордонь в Карренаке" или "Песчаные берега Луары", — они каким-то образом избегают конкретности. Они "воплощения природы", но есть в них и какой-то диссонанс; это своего рода загадочные повествования, как "Сокровенное".
И наконец, неизбежно, обнаженные. "Ты когда-нибудь видел, чтоб Валлоттон нормально нарисовал голую женщину?" Да, несколько раз, в основном это ранние картины. "Étude de Fesses" ("Этюд ягодиц") (ок. 1884) — это всплеск поразительного реализма в жанре "вид сзади", скрупулезное изображение человеческой плоти не слабее Курбе или Корреджо. "Обнаженная в интерьере" (ок. 1890), где женщина с печальным лицом сидит на ворохе сброшенной одежды на диване в студии, — кажется, что это начинающая модель, и ее неловкость физически ощутима. Картина "Купание летним вечером" (1893), на которой женщины разных возрастов и форм раздеваются и идут к воде, дарит ощущение неземного слияния культур: отчасти японская стилизация, отчасти скандинавский миф, отчасти новая интерпретация темы фонтана юности. Когда "Купание" впервые выставили в Салоне независимых, картина произвела фурор, и Таможенник Руссо, стоя перед ней, по-братски сказал автору: "Что ж, Валлоттон, теперь нам по пути". Но Валлоттон всегда следовал своей дорогой, и эта дорога привела ко все увеличивающимся в размерах этюдам обнаженных женщин. Когда я впервые увидел множество его обнаженных вместе, они, казалось, триумфально демонстрировали то, что можно назвать "законом Валлоттона": чем меньше одета женщина на его картине, тем хуже результат. Прелестные ранние этюды Габриэль в халате и длинной ночной рубашке; еще этюд, изображающий модель, которая начинает снимать сорочку; еще парочка сомнительных набросков с намеком на жеманную игру, на которых женщины опускают бретельки; и наконец, полное оголение.
Валлоттон пришел к изображению обнаженной натуры через изучение Энгра, доказав, что великие художники, как великие писатели (известный пример такого рода — Мильтон), могут оказывать пагубное влияние. (Он даже обратился к нескольким известным темам Энгра — "Турецкая баня", "Источник" и "Руджеро, освобождающий Анжелику", — и настолько бессмысленными и явно неудачными были эти попытки, что можно только удивляться, что он смог их выставить и продать.) Но чего у Валлоттона не отнять — он был очень серьезным, можно даже сказать, возвышенным художником, порой остроумным, но никогда — банальным; он скорее слишком много думал, слишком стремился все контролировать, но никогда не был небрежен и ленив. Так что, когда прошел первый шок, я попытался доброжелательно взглянуть на его обнаженных, по крайней мере понять, что он хотел сделать. Эти работы делятся на две группы: обнаженные в интерьере и на природе, неизменно помещенные в пустые миры. Обнаженная женщина, одиноко сидящая в тускло освещенной современной комнате в состоянии безразличия и апатии, неизбежно напоминает нам то, что впоследствии будет гораздо тоньше и сложнее изображать Хоппер. Но проблема не в этом. Проблема в том, что, во-первых, большинство этих обнаженных неприятно инертны, они могли бы с тем же успехом быть написаны с восковых фигур — так мало в них жизни. В них нет ни грана эротики, поскольку они кажутся вовсе лишенными чувств и мыслей. Кроме того, они попросту неубедительны: такое впечатление, что Валлоттон использовал идею скомпонованного пейзажа и создал скомпонованных обнаженных. Так, на картине "Обнаженная на красном ковре" (1909) художник, кажется, посадил голову своей жены на энгровскую шею и к ним присоединил тело натурщицы: эта комбинация сбивает с толку. То, что удается с пейзажем, не работает с человеческой фигурой.
Феликс Валлоттон. Пруд (Онфлёр). 1909. Базельский художественный музей. Фото: akg-images.
И есть еще обнаженные на фоне природы: женщины заходят в море до колен или до бедер; упитанная Европа цепляется за рог очень деревенского на вид быка; современная Андромеда, блондинка с модной прической, прикованная к скале за запястья, всем своим видом показывает, что все это ужасно, ужасно неудобно; Персей убивает "дракона", который слишком сильно напоминает чучело крокодила, с которого Валлоттон его копировал. Сама серьезность и благонамеренность этих мифологических и аллегорических сцен — с годами все увеличивающихся в размере — заставляет качать головой и не верить своим глазам. И все это еще более огорчительно оттого, что в других картинах Валлоттон продемонстрировал, что блестяще умеет присвоить и преобразить миф. "Благочестивая Сусанна" (1922) — его версия мифа о Сусанне и старцах: вместо библейской купальни — розовый диванчик в модном баре или ночном клубе, вместо старцев — лощеные бизнесмены, свет играет на их лысых черепах, пока они обхаживают свою жертву в серебристой шляпке. Атмосфера картины напряженная, угрожающая и в то же время загадочная: кажется — мне, во всяком случае, — жертва явно просчитывает варианты и владеет ситуацией. В современном мире, как бы говорит нам художник, Сусанна сама вполне могла бы шантажировать старцев.
На той выставке в Цюрихе я сбежал от обнаженных и вернулся ко "Лжи", которая приготовила мне еще один сюрприз, особенно впечатляющий после всех этих неуклюжих дирижаблей женской плоти. Картина оказалась крошечной — самой маленькой на всей выставке, тридцать три на двадцать четыре сантиметра. Если бы в те годы, которые разделяли выставки в Балтиморе и Цюрихе, меня спросили, какого она размера, я бы ошибся примерно в четыре раза в сторону увеличения. Удивительно, что́ время и разлука могут сделать с картиной, которой ты восхищаешься и которую, по твоему мнению, хорошо помнишь: так мы возвращаемся в дом своего детства и понимаем, что его пропорции совсем не таковы, как мы воображали. В случае с картинами маленькие обычно запоминаются больше, чем они есть на самом деле, а большие — меньше. Я не знаю, почему так, но я счастлив, что это остается — и в случае Валлоттона это особенно уместно — загадкой.
Брак Сердце живописи
Они были друзьями, товарищами, собратьями по кисти, приверженцами той формы искусства, что на начало XX века была самой новой и провокационной. Брак был чуть младше, но его друг не претендовал на превосходство. Они были соратниками в приключениях и открытиях, они писали бок о бок, нередко один и тот же сюжет, а их работы порой невозможно отличить. Мир был молод, и им только предстояло прожить свои жизни в искусстве.
Отон Фриез, земляк Брака из Гавра, его верный сообщник в фовизме, его прото-Пикассо, заслуживает жалости. В то время как Брак со своим новым испанским другом двигался к величайшему перевороту в западном искусстве за несколько веков и кубизм оттеснял фовизм, как забавное воспоминание, Фриезу оставалось только проживать жизнь и продолжать карьеру. Как ни странно, самая первая их совместная выставка состоялась посмертно, спустя век после того, как они перестали работать вместе. Эта выставка 2005 года в Музее Лодева в Лангедоке получилась без всякого умысла очень жестокой. Все самые притягательные фовистские картины принадлежали Браку; но для него это был только этап в развитии (пусть и дорогой его памяти — пятьдесят лет спустя он выкупит свой "Маленький залив в Ла-Сьота"), а Фриез, как оказалось, ничего лучше не умел. Впоследствии он перепробует разнообразные стили, все больше и больше склоняясь к пустой высокопарной позе художника, который кричит, чтоб его не забыли.
В фовизме главное — жар; и хотя для захватывающих открытий следующего десятилетия главное — это форма и цвет: форма, которая провозглашает себя выше цвета, или, скорее, цвет, который сдерживает себя, служа форме, — все же путешествие к аналитическому, а затем синтетическому кубизму можно мерить по температурной шкале. Фовизм весь розовый и лиловый, с кричащими синими и развеселыми оранжевыми: не важно, какого цвета небо на картинах, — солнце везде яростное. Работы, написанные Браком в Эстаке и Ла-Рош-Гийоне в 1908 году, позволяют почувствовать, как этот жар улетучивается: здесь все насыщенно коричневое, зеленое и серое. Но классический кубизм относится к цвету с подозрением: он ненадежен, болтлив, в нем слишком много информации, он отвлекает от изучения формы. Так что его нужно было сбивать — буквально — до состояния линии: новый виток старого французского спора цвета и линии. К 1910–1911 годам можно было использовать какой угодно цвет, при условии, что это серый, коричневый или охра.
Жорж Брак. Фабрики Рио-Тинто в Эстаке. 1910. Дар Женевьев и Жана Мазурель в 1979. Музей современного искусства метрополии Лилля (ЛАМ). Инв.: 979.4.19. Фото: Muriel Anssens © ADAGP, Paris and DACS, London 2015.
Настоящий перелом в творчестве Брака случился все-таки в Эстаке, не после: сперва его работы впитали всё, чему учил Сезанн, затем он продвинулся дальше и наконец достиг вершины в пейзажах фабрик Рио-Тинто, которые окончательно погружают нас в кубизм. Они так потрясают, что мы едва замечаем другую резкую перемену — смену темы: из ускользающей перспективы скошенных фабричных крыш точно так же складывается провансальский "пейзаж". И с этого момента уже как будто предопределено, что Брак, вернувшись из Эстака, объединится с Пикассо, чтобы дальше разрабатывать открытое. Как сказал Брак, они были "словно скалолазы, связанные одной веревкой"; и слова, которые он нацарапал на визитной карточке, оставленной испанцу, — "в предвкушении воспоминаний" — звучат как уверенное предсказание связи на всю жизнь.
Но в то время какая могла быть уверенность? Кто мог знать, что кубизм, прозванный так насмешливыми критиками, не окажется очередной преходящей фазой? Эти новые художники отличались от своих непосредственных предшественников: те свергали главенствующие живописные устои, утверждали собственные способы ви́дения и более-менее их придерживались. А эти новые непрерывно лихорадочно "меняли обличье", и первый из них — Пикассо. Фовизм оказался чем-то вроде узлового аэропорта со множеством направлений. Несколько лет назад Институт Курто выставил дюжину работ Дерена, написанных в Лондоне в 1906 году. На них город представлен в куда более лестных, даже пугающе ярких цветах, чем когда-либо раньше. Но если первые две картины написаны в стиле яркого неопуантилистского фовизма, то остальные десять отличаются совершенно иной манерой письма, отличаются массивностью форм, плотностью мазков. Как знать, не окажется ли кубизм таким же недолгим этапом? Какая в нем найдется суть?
Это был вопрос не только стиля, но и экипажа. Кто на борту, кто подписался только на круг по заливу, а кто — на все плавание? В Эстаке в 1908-м жил еще Рауль Дюфи, и его живопись была не менее радикальна, чем живопись Брака (его "Аркада" — это чудо, а "Фабрика" и "Лодки" так же остро очерчены, как носы Пикассо). Что случилось с Дюфи, почему он превратился в мастера декоративных спиралек, которые и на открытках выглядят не лучше? А ведь плавание кубизма могло завершиться и иначе. Брака объявили пропавшим на Сомме в мае 1915 года; когда его нашли, он был слеп. А если у трепанировавшего его хирурга дернулась бы рука? Что, если бы он пережил трепанацию только затем, чтобы в 1918 году сгинуть в страшной эпидемии гриппа, как его брат по несчастью Аполлинер? Смог бы Пикассо пройти свой путь, не будь у него дружбы Брака и необходимости с ним соперничать, бороться и побеждать?
История искусства, как правило, не замечает все эти допустимости и вероятности, которые так и не случились. К тому же мы легко забываем, что великое и серьезное художественное приключение все же может поначалу содержать немалую долю веселья: посмотрите хотя бы на Баухаус. Старые художники напускают на себя серьезность, когда их воспевают молодые критики, и могут подзабыть, как они веселились, шутили, рисковали и сомневались в свои более юные и хуже задокументированные годы. Кубизм переосмыслил на глубочайшем уровне, как и что мы видим; как сказал Пикассо Франсуазе Жило, "это было что-то вроде лабораторного эксперимента, из которого исключались любые амбиции и личное тщеславие"; это был безуспешный в конце концов поиск того, что Брак назвал "анонимной личностью", когда картина была бы сама по себе, без подписи и без "я". Все это, вся эта высокая нравственность и есть кубизм. Но кубизм — это еще и личность, и игра, и общение. Это Брак, который дразнит (тому на радость) модника Пикассо, покупая ему сотню шляп на аукционе в Гавре; это Баффало Билл и Пард[31], как подписывался Пикассо; это Брак по кличке Вильбург — так Пикассо писал имя Уилбура Райта, чей летательный аппарат был аналогом (или наоборот) придуманных Браком — и утраченных — уникальных бумажных скульптур 1911–1912 годов. А еще кубизм — это судить о картинах по принципу, попадают ли они в категорию "Лувр" или "Дюфайель" (под "Дюфайелем" подразумевался торговый дом, в котором продавали буфеты в стиле Генриха II). В последнем было больше похвалы, чем может показаться. "Они хотят искусства, — жаловался позднее Пикассо. — Надо уметь быть вульгарным".
Радостная, спонтанная сторона кубизма более заметна у Пикассо, чем у Брака: в его визуальных каламбурах, в его шутливой скульптуре, в этих маленьких фотографиях, на которых художник просто переворачивает холст на подрамнике и работает на оборотной стороне песком; и в том, как он себя ставил: Пикассо за столиком в ресторане с булочками вместо пальцев, открытая мастерская, бесконечные фотографии, игра в великого художника, игра в знаменитость на том банальном уровне, какой понимает публика. Есть соблазн подумать, что со временем в работе Пикассо затмил Брака так же, как тот когда-то затмил Фриеза. Хочется даже посочувствовать Браку — но это зря. Пикассо хотел сделать все и быть всем. Брак знал, что не может сделать всего, и не хотел быть всем. Он рано осознал свои технические ограничения. У него слабый рисунок, у него не получается изобразить фигуру, у него болванистые скульптуры. Слишком много умения — и художник может влюбиться в собственную виртуозность. Слишком мало — и "Вильбург" не оторвется от земли. И, даже сумев определить свои слабые стороны, приходится выбирать: либо, что кажется разумнее, пытаться от них избавиться, либо поступить более радикально, как сделал Брак, и игнорировать их. "Развитие в искусстве, — пишет он, — заключается не в том, чтобы расширять свои границы, а в том, чтобы лучше их осознавать". Проще говоря: я делаю не как хочу, а как могу. Этим он напоминает Редона, который тоже решил превратить свое неумение рисовать человеческую фигуру в своего рода преимущество.
Кроме того, у Брака была удивительная способность не отвлекаться на то искусство, которое не могло пригодиться его собственному. Его мастера — Шарден и Коро; он восхищался Уччелло, любимым художником был Грюневальд. Вот, собственно, и все, если считать западное искусство. Как и многие, он ненавидел "Мону Лизу" за ее знаковость. В поездке по Италии он заявил, что сыт Ренессансом по горло, — хотя до того никаких признаков пресыщения не замечалось. Он не любил музеи и предпочитал сидеть снаружи, а мадам Брак посылал проверить, есть ли там что сто́ящее (и звучит эта инструкция так, будто заранее подразумевается ответ "нет"). Иногда это граничило с притворством: когда в 1946 году в галерее Тейт устроили выставку Брака и Руо, он решил явиться не на открытие, не в любой другой день, а на закрытие.
Он писал. Это была его работа. Он писал рельеф без перспективы. Он писал формы, которые выпирают на зрителя, а не уходят вглубь. Он не писал предметы — он писал пространство, а потом обставлял его. Он был так близок к земле, что двадцать лет не писал небо. Он велел архитектору своего дома в Варанжвиле не использовать высококачественные стекла, потому что хотел, чтобы из закрытого окна вид был другим, чем из открытого. Он избегал всяких символов. Он начинал с безудержного цвета, постепенно отщеплял цвет от формы, а затем, с 1920-х, снова медленно соединял цвет с формой, но уже на своих условиях. Точно так же он начинал с узнаваемых предметов, кубизировал их до неузнаваемости, а потом постепенно делал снова узнаваемыми, но на своих условиях. За долгую карьеру случались у него и периоды послабее, а его большие полотна чаще не монументальны, а как будто разбавлены. Но он никогда не поступался своими принципами и никогда не прекращал поисков — в 1950-х он написал серию совершенно оригинальных, вытянутых по горизонтали пейзажей неожиданно пастозными красками. Пикассо говорил, что Браку "не хватает властности", чтобы написать портрет, — это замечание, пожалуй, больше говорит о самом Пикассо. Брак считал, что идеальным было бы достичь такого положения вещей, когда перед картиной ничего не нужно будет говорить. Он знал, что подделка под Брака подделка потому, что "красива". Пикассо можно поражаться, перед ним можно благоговеть, можно подчиняться и отдаваться его искусству, как многие поддавались силе его личности. Но любить его? Сложно. Брак — это художник и (в значительной степени закрытый) человек, который вызывает восхищение и уважение тут же, а любовь — чуть погодя.
В жизни, как и в искусстве, он был так же непоколебим, верен и целенаправлен и так же сторонился ненужного. Когда немцы вторглись во Францию в 1940-м, Браку было пятьдесят восемь. В годы Второй мировой он служил с тем же незаметным геройством, что и в годы Первой. Немцы умело льстили и подкупали значимых представителей культуры, и требовалась не только нравственная чуткость, но и тактическая смекалка, чтобы этому противостоять. Как-то зимним вечером к Браку в мастерскую пришли два немецких офицера и высказали недоумение, как великий художник может работать в таком холоде. Они хотели почтить гения, прислав ему два грузовика угля. Ответ Брака превосходен: "Нет, спасибо, — сказал он. — Приняв ваше предложение, я больше не смогу хорошо о вас отзываться".
В 1941 году оккупанты уговорили группу французских художников посетить Vaterland. Иногда сомнительность их посулов была очевидна, как в случае с углем; другие обещания, например отпустить французских военнопленных, намеренно ставили приглашенных в затруднительное положение. И тут снова появляется Отон Фриез. Он, как и Дерен, Вламинк, Ван Донген и Дюнуайе де Сегонзак, согласился поехать. От фотографии, где они стоят на Восточном вокзале с торжествующими немецкими офицерами по сторонам, так и несет неуверенностью и изменой. Брак лишь однажды высказался об этой поездке публично и со свойственной ему порядочностью отметил сложность положения: "К счастью, мою живопись не жаловали. Меня не пригласили. Иначе мне бы, пожалуй, пришлось поехать ради обещанных освобождений". После Освобождения Пикассо, хотя и не гражданин Франции, стал председателем Национального фронта искусств (Front National des Arts), который послал властям список коллаборационистов, требуя арестовать и судить их. В июне 1946-го люстрационный трибунал удовлетворил двадцать три запроса, и Фриез, Вламинк, Дерен и Ван Донген на год оказались в опале. Брак дистанцировался от всеобщего энтузиазма по поводу "очищения" (как вообще можно очистить годовой опалой?), но его собственное осуждение оказалось строже и решительнее. Он порвал с Фриезом и Дереном; а когда он встретил в Довиле Ван Донгена, они не обменялись ни словом.
Моральный авторитет был тем больше, чем меньше он афишировался. В спокойствии Брака, в его молчаливости, его творческой непоколебимости было что-то такое, что невольно изобличало людей более мелких. В конечном счете этот авторитет проистекает из самих картин: у чувства формы, гармонии, колорита — у вдумчивой верности природе и верности искусству — есть моральная основа. Со временем Брак стал живым упреком тщеславию, самомнению и шарлатанству. Гертруда Стайн, которая считала, будто кубистами могут быть только испанцы (и она же впоследствии предложила перевести речи Петена[32]), написала словесный портрет Брака в лучших традициях ее заумной чуши. (Наверное, подразумевая, что именно так должна выглядеть кубистическая проза. Но и в этом случае идея была не очень: мазки могут пренебречь изобразительностью, а словам это делать опасно.) Кокто, которому повезло избежать "очищения", снисходительно говорил, что у Брака "безупречный вкус бедного мельника", — замечание сноба и выпендрежника. То же снобство читается в манифесте пуризма Ле Корбюзье: вместе с совыдумщиком Амеде Озанфаном они свысока отвергают "простоватые картины славных художников-декораторов, очарованных формой и цветом". Тут невольно подумаешь, какой еще характеристики желать художнику, как не "очарованный формой и цветом"? Наконец, есть наш Брюс Чатвин, двадцатилетний курьер "Сотби", которого допустили до Брака, когда известный коллекционер хотел подтвердить подлинность рисунка. Каждый раз, когда Чатвин пересказывал этот анекдот, его собственная роль раздувалась до грандиозных масштабов.
Эти побочные свидетельства весьма наглядны и подтверждают, что Брак был моральным эквивалентом северного магнитного полюса (и настоящего Северного полюса тоже, раз уж на то пошло). Но главной всегда была история с Пикассо. Испанец любил говорить, что в 1914 году он отвез Брака на вокзал в Авиньоне и с тех пор его не видел. Но это всего лишь бессильное отрицание очевидной правды: что "в предвкушении воспоминаний" было точным предсказанием, и что оба, связанные вместе на скале, останутся в мыслях и в мастерских друг друга до самой смерти. Иногда поражаешься, как два великих художника, настолько эстетически неотличимых в лучший период кубизма, могли обладать такими разными темпераментами, убеждениями, принципами, личными привычками и тактиками поведения. Когда читаешь о сношениях Пикассо с другими смертными, иногда задумываешься, уместно ли тут говорить о "других смертных": беспощадность вундеркинда сочеталась в нем со своенравием и тщеславием бога. Он напоминает обитателей Олимпа, которые с таким отменным эгоизмом и самодовольным коварством неожиданно вмешиваются в дела людей. Статус любовницы или друга только повышал вас в цене. По словам Франсуазы Жило, "самые низкие трюки он приберегал для самых близких людей". Брак был одним из немногих — к ним же принадлежала и сама Жило, — кому удавалось противостоять Пикассо. Главной тактикой Брака было молчать и уходить в себя, и это, разумеется, только сильнее раздражало Пикассо. Один из ярчайших моментов их взаимодействия не записан: в 1944 году Пикассо неделю пытался уговорить Брака присоединиться к партии коммунистов. Брак отказал ему, и точно так же отказал второй раз не кому иному, как Симоне Синьоре (чувствую, назревает пьеса для троих).
Брак словно за́мок на холме, который Пикассо все время осаждает. Он окружает его, обстреливает, подрывает, нападает, и каждый раз стоит дыму рассеяться — замок стоит, все такой же неприступный. Проиграв, Пикассо объявляет, что эта позиция все равно стратегически невыгодна. У Брака, говорит он, всего лишь есть "шарм"; он вернулся к "французской живописи", стал "Вюйаром от кубизма". Он сообщает Браку, что его картины "хорошо развешаны". Брак отвечает, что керамика Пикассо "хорошо прожарена". Словесные баталии чаще выигрывает лаконичный, а не многословный. Пикассо обычно поднимает голос, когда его не устраивает что-то не связанное с искусством; либо же он говорит, чтобы подзадорить своих сторонников. Слова Брака более продуманны, больше касаются искусства — и потому бьют насмерть. Слова вроде "талант" и "виртуоз" приобретают в его устах особую остроту. Кульминация его ответов — знаменитое замечание: "Пикассо был великим художником. Теперь он только гений". Имеется в виду всеобщее представление о гении: некто многогранный, нечеловечески плодотворный, с цирковым зрелищем вместо личной жизни.
Не они первые, не они последние "парднеры", кто разошелся, обеспечив злобствующим и безразличным приятный денек. Но в отличие от других ссор (Трюффо и Годар, например, разошлись навсегда, озлобленные), разрыв Пикассо и Брака был сложным и длительным, но не окончательным. И пусть кажется, что из этих двоих Пикассо более влиятельный и уж точно более знаменитый, в их отношениях именно он оказывается назойливым просителем. Это Пикассо жаловался, что Брак забыл его и редко навещает; это Пикассо приводил своих новых девушек на одобрение к Браку. Если говорить о работе, то это Пикассо научился у Брака, как растирать краски и как заставить коллажи держаться; это Пикассо воспринимал новые работы Брака как вызов (серия "Менины" спровоцирована "Мастерскими" 1949–1956); это Пикассо в середине 1950-х предложил Браку снова работать вместе, как полжизни назад, — и это приглашение тот тоже отклонил.
Рене Шар назвал их Пикассо и анти-Пикассо. Но чем дольше присматриваешься, тем больше они превращаются в Брака и анти-Брака. Брак — медленный, молчаливый, независимый, властный; анти-Брак — переменчивый, шумный, многословный, виртуозный. Брак следует собственным "ограниченным" путем; анти-Брак неистово видоизменяется. Брак — селянин, домосед и верный муж; анти-Брак — космополит, ненасытный дионисиец. Не "либо… либо", а "и… и". Гением можно быть по-разному, какой смысл ни вкладывай в это слово. И все же полезно изменить традиционный порядок слов и, как это делает Алекс Данчев в прекрасной биографии Брака, написать, что "период Брака" у Пикассо "был самым сосредоточенным и плодотворным за всю карьеру".
Наделять Брака святостью опасно. Жан Полан писал, что Брак был "вдумчив, но жесток". Он был жесток к Хуану Грису, отказавшись висеть с ним в одной комнате; однажды в Отеле Друо он избил своего бывшего дилера — впрочем, на то были основания. Хотя Брак открыто осуждал "период герцогини" в жизни Пикассо, его балы и наряды, он и сам был довольно франтоватый малый, пусть и с бо́льшим чувством меры: изредка бывая в Лондоне, Брак шел не в Национальную галерею, а в обувную лавку господина Лобба. Он знал толк в быстрых дорогих машинах и ездил на них сам и с водителем: как и у Пикассо, у него был шофер в ливрее. Он любил хорошо поесть, хотя иногда впадал в пуританизм: гуляя с художником Умберто Стражиотти по трехзвездочным парижским ресторанам, он совершенно испортил поход своему компаньону, потому что заглатывал все в один присест. Перед своим первым трансатлантическим телефонным звонком Брак причесался. Странная реакция. Что это — тщеславие или скромность? (А может, и не такая странная: я как-то видел, как журналист "Санди таймс" вскочил на ноги, когда оказалось, что на другом конце провода у него лорд Сноудон.)
Эти бытовые мелочи очеловечивают. Людей, встречавших Брака, поражала полнота, цельность его личности и все большее слияние этой личности с его искусством. Франсуаза Жило сказала: "Брак всегда был весь здесь и сейчас". Миро назвал его "примером всего, что есть умение, равновесие и вдумчивость". А молодой Джон Ричардсон, впервые попав в мастерскую художника, "чувствовал, что он оказался в самом сердце живописи". Отсюда — изначально и в конце концов — и происходит его авторитет. Работе Брака не грозит опасность затеряться в тени его жизни, ведь полнее всего такая жизнь проживается за этой самой работой. На существовании Брака не разживешься сплетнями, потому что он не давал им ни повода, ни хода (с Первой мировой он вернулся всего с одной военной байкой). Жорж и Марсель Браки "были всецело преданы друг другу больше пятидесяти лет". Дункан Грант настолько не способен был понять такую верность, что решил, будто она возникла на почве общей страсти к морю. Когда в 1930 году в их доме поселилась шестнадцатилетняя Мариэтт Лашо (ее мать готовила у Браков), можно было подумать, что ее ждал самый банальный путь. Но Алекс Данчев замечает, что она была "столь же целомудренна, сколь и преданна", превратившись из "помощницы по мастерской в ангела-хранителя и личного фотографа, но только не в любовницу".
Ричард Аведон. Жорж Брак, художник, и его жена Марсель. Париж, 27 января 1959. © The Richard Avedon Foundation.
Это, вообще-то, интереснее, чем привычные были и небылицы о любовных похождениях художников. До встречи со мной у моей жены преобладали в сознании два образа супружества: этрусские парные надгробные статуи и портрет пожилой четы Браков Аведона — он сидит и улыбается, а она положила руку ему на плечо. (Интересное совпадение: потолок, расписанный Браком в Лувре — из подобных заказов он взялся только за этот, — находился в Этрусской комнате.) Марсель Брак была еще незаметнее и оставила мало следов. Очевидно, она была "настоящей женщиной из народа", но еще и образованна, религиозна и проницательна. Однажды она предостерегла Николя де Сталя: "Будьте осторожнее: вам удалось избежать бедности, но хватит ли вам сил избежать богатств?" Говорят, она шила саван Модильяни.
"В искусстве ценно то, что не может быть объяснено", — писал Брак. Еще: "Как говорить о цвете?… У кого есть глаза, знают, насколько не соответствуют слова тому, что мы видим". И дальше: "Определить предмет — значит подменить его определением". Точно так же написать биографию — значит подменить прожитую жизнь написанной: дело по меньшей мере неловкое, но выполнимое, если иметь в распоряжении браковскую нравственную истину. К смерти Брак подошел так же, как к жизни: "весь здесь и сейчас", говоря словами Жило. В конце он попросил палитру. Позже критик Жан Гренье записал, какие на ней были цвета: умбра натуральная, умбра жженая, сиена натуральная, сиена жженая, охра желтая, сажа газовая, кость жженая, черная виноградная, ультрамарин, желтая оранжевая и неаполитанская желтая. Брак умер "без страданий, тихо, до последнего момента не отрывая глаз от деревьев в саду, верхние ветки которых виднелись из окон его мастерской".
Магритт От птицы до яйца
У Магритта не могло быть летописца — и, следовательно, защитника — лучше, чем Дэвид Сильвестр (1924–2001), который писал о художнике на протяжении четырех десятилетий и столько же времени потратил на составление каталога-резоне его работ. Расцвет Сильвестра пришелся на эпоху, когда в телевизионных программах по искусству нередко звучали серьезные разговоры об эстетике (а ведущим даже позволялось курить в эфире). Его также прославляли как лучшего организатора экспозиционного пространства, и в 1992 году он представил работы Магритта в залах лондонской галереи "Хейуорд" так же разумно и умело, как делал это в печати. Я никогда не видел выставку, с таким блеском организованную в пространстве. Сильвестр превратил нелепый и скучный интерьер "Хейуорда" в великолепный фон: мрачные бетонные стены, странные коридоры, тесные закоулки и неуместные лестницы преобразились в какое-то монструозное подобие магриттовского мозга. Передвигаясь по запутанным, неопрятным коридорам серого вещества, вы на каждом шагу сталкивались со звездными вспышками блестящих идей.
Столь же образцово Сильвестр писал о Магритте: он был осторожен и дотошен, в высшей степени чувствителен к художественным отсылкам, он с подозрением относился к профессиональному жаргону и всяким теориям, был превосходным знатоком биографии художника и дополнял ее собственными наблюдениями, собранными во время личных встреч. Кроме того, он достойно избегал большой опасности, подстерегающей любого, кто проводит много времени в раздумьях об одном и том же художнике, — а именно чрезмерной уверенности. Я помню, как, бродя по выставке Мантеньи в Королевской академии, я наткнулся на группу студентов-искусствоведов, которых опекал молодой экскурсовод. Они стояли перед "Портретом мужчины" (предположительно Карло де Медичи), и экскурсовод сравнил его с фрейдовским портретом Фрэнсиса Бэкона, убежденно добавив: "Конечно, Мантенья в данном случае не стремился к реализму". На это можно ответить разве что: "Это он сам тебе сказал, дружище?" Сильвестр же, напротив, знал достаточно, чтобы знать, что не все можно знать. Вникая в тонкие и запутанные отношения между самоубийством матери Магритта, утопившейся в реке, тем, как об этом ему сообщили, и тем, как он сообщал это остальным, вникая в воздействие, которое это событие могло оказать, и в последующее появление на его картинах закутанных и обнаженных женских фигур, Сильвестр справедливо предупреждал свои замечания словом "вероятно". Не один раз, постоянно: в одном параграфе шесть идущих подряд предположений предварены шестью последовательными "вероятно". Паунд жаловался Элиоту, что первый вариант "Бесплодной земли" оказался "слишком запредельно вероятностным". Сильвестр демонстрировал похвальную вероятностность, которая так редко встречается в художественной критике.
Поэт, сюрреалист и государственный служащий Луи Скутенер утверждал, что его приятель Магритт "задушил красноречие живописи". Описать это можно и по-другому — реакция Магритта на историю искусства была сродни реакции ландшафтного архитектора, которого приводят в ужас и подавляют возвышенные попытки предшественников подделать природу, подчинить ее собственным целям, любовно сберегая при этом каждый холмик и долину, и который в результате решает следовать принципу максимальной упорядоченности: только гравий, изгороди и цветки герани на ровной горизонтальной поверхности под искусственным освещением. Живопись Магритта — это живопись контроля и исключения лишнего: он использует безыскусно фронтальный ракурс, симметричность и параллельные удаляющиеся плоскости, сознательно ограниченный набор образов-объектов, которые либо сами по себе обыкновенны (занавески, птицы, огонь), либо становятся обыкновенными при помощи повторения (бильбоке, бубенцы); ровные цветовые плоскости и отстраненную методику изображения, так что, например, голубое небо у него всегда пародийно-яркое. Он отвергает фантастику и свободные ассоциации ради точного, объясненного, систематического. Это остроумное, соблазнительное, настороженное искусство, дополненное тем, что Сильвестр называет "вкрадчивостью репрезентации", и снабженное намеренно провокационными названиями. Разве можно быть молодым и не любить Магритта?
Эта живописная манера — сосредоточенная, строгая, схематичная — рассчитана на производство монументальных образов; монументальных вне зависимости от размера холста. Ей точно известно, что именно она делает, и нет смысла жаловаться, если вам, например, вдруг предъявят те же образы, написанные гуашью, и вы обнаружите, что они более теплые, приятные и добрые: холодность и плоскость — ключевые понятия магриттности. А когда художник говорит своему коллеге-сюрреалисту Полю Нуже в ноябре 1928 года, что его цель — создавать "картины, которые заставят глаз думать совершенно иным способом, чем обычный глаз", нет смысла сомневаться в том, что если "заставлять глаз думать", это помешает "заставлять сердце чувствовать". Конечно помешает: самые трогательные работы Магритта, пожалуй, — это серия посткубистских ню, которые он написал в 1922–1923 годах.
Но эта система, эта безжалостная система, произвела несколько работ, которым мы легко можем приписать бессмысленный эпитет "великие": образы, которые лишают зрителя самообладания, покоя, уверенности; работы, в которых, как Магритт писал про де Кирико, "зритель может осознать собственное одиночество и услышать тишину мира". Такие картины, как "Охотники на краю ночи", которая захватывает и возбуждает чистейший страх, или монументальные "Титанические дни" (которые Сильвестр блестяще связывает с храмом Зевса в Олимпии), где самый жуткий образ — крошечная прореха в манжете нападающего мужчины в том месте, где сходятся женские ноги, — знак того, как невытеснимо этот мужчина присутствует в телесном пространстве женщины; или монументальный кондитерский образ "На пороге свободы", или изысканно чувственная картина "Вечно очевидное" (1930) — пять отдельно обрамленных и собранных в вертикальную композицию изображений частей женского обнаженного тела, — которую Сильвестр уместно установил в отдельной комнате "Хейуорда", как какой-нибудь фламандский полиптих в потайном боковом приделе. Такие картины оправдывают метод. Нет смысла в том, чтобы жалеть об ином исходе, о том, что художники тождественны собственному "я", которое они долго искали; нет смысла говорить: "Ну вот если бы только он писал более фактурно или действительно сделал коллаж, был бы не таким хитроумным, вкладывал больше "сердца" в картины" и так далее. Результат был бы не только менее магриттовским, но и более неряшливым; вокруг слишком много художников с индивидуальностью, недостойной выражения, чтобы жаловаться на "чрезмерное выражение" какой-то индивидуальности. И раз уж мы об этом заговорили, давайте разберемся с одним утверждением Магритта: в 1925 году он сказал, что, используя банальный стиль живописи, обращаясь к стандартной продукции, он отказывается от художественного удовлетворения "мелких личных предпочтений". Может быть, он действительно так думал в тот момент, но когда художник предпочитает "объективность" "субъективности", сам способ выбора может привести к такой же плотной и откровенной субъективности. В XX веке ничье наследие не отличается таким индивидуализмом и такой воспроизводимостью, как наследие Магритта, не зависит в той же степени от последовательного воспроизведения знакомых образов.
Когда Магритт объяснял свой творческий процесс в лекции под названием "Линия жизни", он привел знаменитый пример — будто, проснувшись как-то ночью, он в результате "дивной ошибки" представил, что вместо канарейки его жены Жоржетты в клетке оказалось яйцо. Отсюда (хотя "отсюда" — это всегда грубая скоропись) доктрина "избирательного сродства", "новый и удивительный поэтический секрет", переход от сюрреалистического метода сопоставления совершенно несвязанных объектов к магриттовскому противопоставлению тонко (а иногда не очень тонко) связанных. Или если воспользоваться словами самого Магритта:
"Мы знакомы с образом птицы в клетке; интерес усиливается, если птицу заменяет рыба или ботинок; однако хотя эти образы могут быть интересны, они, к сожалению, случайны, произвольны. Но можно найти новый образ, который выдержит экзамен благодаря своей определенности и точности: это изображение яйца в клетке".
Так появилось "Избирательное сродство" 1933 года. Крупным планом изображена птичья клетка, поддерживаемая опорами, напоминающими бильбоке; внутри опор висит проволочный каркас; клетку почти полностью занимает огромное, несуразное яйцо. В картине преобладает серый цвет, с ярким белым отсветом на яйце, возможно, в честь содержащегося в нем будущего. Мы можем, конечно, говорить о настораживающем размере яйца; можем задуматься о том, что и яйцо, и клетка, в сущности, представляют разные "образы заточения", как выразился Нуже; мы можем добавить, что опоры-бильбоке усиливают ощущение заточения (как и серый фон, как и сама рама картины). Безусловно, это неуютный образ, одновременно изысканный и мрачный. Но способен ли он "выдержать экзамен"? В конечном счете первый и последний шаг, сделанный Магриттом в "Избирательном сродстве", заключается в том, что вместо птицы в клетке он написал яйцо в клетке. Нельзя сказать, что это выдающийся концептуальный прорыв. Помимо прочего, он напоминает, что наши блестящие ночные откровения оказываются в нелестном утреннем свете менее выдающимися, чем нам поначалу казалось.
Рене Магритт. Избирательное сродство. Частное собрание. Фото: Scala, Florence © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Схожую картину мы наблюдаем в автопортрете "Ясновидение" (1936). На ней узнаваемый Магритт сидит перед мольбертом с палитрой в руках; он смотрит влево, где на столе, накрытом коричневой скатертью, лежит яйцо, а правой рукой заканчивает изображать птицу с расправленными крыльями, которая триумфально поднимается над бежевым фоном. Это искусный и дерзкий образ, который при первом знакомстве вызывает чистую радость. Но хотя мы можем сделать некоторые выводы из того, что художник смотрит на объект, а не на холст, над которым работает, "Ясновидение" не уводит нас далеко по пути художественной трансформации. Художник может превратить яйцо в птицу; природа делает это каждый день на птицефабриках всего мира. Да, но художнику-то надо только посмотреть на яйцо, чтобы преобразить его. Опять-таки это не бог весть какое умение: я знаю человека, который не может проехать мимо пасущихся на лужайке овец, не пробормотав "ужин" и не вообразив тарелку с бараньими ребрышками, но он утверждает, что им руководит голод, а не Магритт. Проблема с художником "идей", в отличие от, скажем, буржуазного эстета, каких Магритт не выносил на дух, в том, что любая неблестящая идея на холсте выглядит менее защищенной, чем неблестящий "эстетический" набросок.
Если фабрика идей просто выдает готовую продукцию, мы сталкиваемся с проблемой, которую доктор Джонсон ставил в укор "Путешествиям Гулливера": "Когда один раз подумаешь про больших людей и маленьких людей, все остальное придумать очень несложно". Но если отойти чуть в сторону от концептуальных забот Магритта, он оказывается прекрасным комическим художником, способным на отличные шутки и затеи. Ему играючи легко дается "кустарная промышленность" — как это называет Сильвестр — сюрреалистского объекта: причудливые маски и раскрашенные бутылки ("редкий старый выдержанный Пикассо" — это стилистическая издевка над снобизмом, общим для коллекционеров вина и коллекционеров предметов искусства). Названия его картин — да и весь процесс придумывания названий, которые задумчиво изрекали братья-сюрреалисты, — кажутся слишком продуманными, а то и высокопарными, в то время как его серия "Использование речи" (например, "Это не трубка"), его план "находить новые слова для объектов" кажутся недодуманными или по крайней мере неловкими. Основное возражение в том, что это проект скорее литературный, нежели художественный: недолгое удивление вызывает у нас само имя, а не демонстрация неправильно поименованного объекта. Поэтому мы скорее реагируем в духе "А, так он шляпу-котелок называет La Neige", нежели "А, так вот как на самом деле выглядит — или мог бы выглядеть — снег". Но наша реакция может оказаться стертой из-за повсеместного использования магриттовских образов. Фраза "Это не что-нибудь" давно уже превратилась в привычный штамп писателей и рекламщиков. Недавно я получил первые тома английского перевода романов про Мегрэ, написанных соотечественником Магритта, бельгийцем Жоржем Сименоном. На рекламном буклете издательства "Пенгуин" была изображена трубка Магритта-Мегрэ, написано имя Сименона, а ниже красовалась ключевая фраза: "Я не Мегрэ". Что же до раскрашенных винных бутылок, к настоящему времени они уже несколько десятилетий украшают логотип одного лондонского виноторговца[33].
Рене Магритт. Ясновидение. 1936. Частное собрание. Фото: Scala, Florence © ADAGP, Paris and DACS London, 2015.
А есть еще импрессионизм военного периода, который Сильвестр называет "солнечный сюрреализм". Магритт оставил несколько объяснений своего радостного ренуарства. Он говорил, что, если зритель хочет тьмы и паники, сюрреалисты могут сворачивать палатки перед наступлением нацизма; он говорил: "вопреки общему пессимизму я выступаю за поиск радости и удовольствия"; и наконец (в письме Элюару 1941 года) — что он хочет "использовать "светлую сторону" жизни. Под этим я понимаю весь традиционный набор из очаровательных вещей, женщин, цветов, птиц, деревьев, радостной атмосферы и т. д.". Первую часть этой конструкции трудно не счесть неискренней: давайте, мол, изображать угрозу, страх и дезориентацию, пока они не явятся на самом деле, и тогда мы отступим в несуществующий мир. Что касается призыва к "светлой стороне" из Брюсселя военного времени, этот предвестник голгофской песенки из монтипайтоновского "Жития Брайана" — такой же неубедительный ответ на предложенные обстоятельства. Возможно, импрессионистский период может служить образцом художественной мужской менопаузы, вызванной избыточным контролем Магритта над методами работы. Если вы знамениты тем, что никогда не пачкаете одежду краской, может быть, соблазн среднего возраста, призывающий к разнузданному заляпыванию всего подряд, покажется невыносимо привлекательным. А если взглянуть на это более широко — разве художники, как и другие творческие люди, не начинают порой ненавидеть то, что умеют лучше всего? Будену надоело быть художником камерных пляжных сцен с многофигурными группами. Если послевоенный фовистский, или "коровий" период был, как считает Сильвестр, пощечиной парижскому рынку искусства, возможно, импрессионистский период Магритта оказался его пощечиной себе самому. Он был человек саркастичный, с ироническим темпераментом, а такие натуры склонны к самонаказанию или издевательству над собой.
Сильвестр с вниманием относится к обоим этим периодам и справедливо замечает, что, если они и демонстрируют нестандартные колебания стиля (которые коллеги и друзья Магритта ненавидели), они не противоречат "его общему отношению к стилю. Это отношение в его существенных чертах представляло собой сопротивление стилю ради себя самого, стилю как инструменту самоудовлетворения для художника-самодержца". Для любого художника было бы большой удачей найти такого здравого ценителя, как Дэвид Сильвестр. Последняя фраза его монографии 1992 года идеально описывает эффект, который по-прежнему производят на нас самые сильные произведения Магритта: "некий трепет, который испытываешь в момент затмения".
Ольденбург Мягкая шутка
С тех пор как Клас Ольденбург прославился, судьба неоднократно играла с ним шутки — не слишком злые, конечно; скорее, это была мягкая ирония. В 1961 году этот бунтовщик провозгласил в своем манифесте, что искусство не должно "просиживать задницу в музее", — теперь его работы в постоянных экспозициях, а его выставки кочуют из города в город. "На моем искусстве можно сидеть!" — продолжал он, но всякий охваченный ностальгией посетитель, принявший его мешковатые скульптуры за настоящие кресла-мешки в духе 60-х, не избежит общения с охранниками. В прошлом Ольденбург призывал создавать искусство, которое можно "снять и надеть, как штаны… съесть, как пирог, или же выбросить, как мусор", — и это стремление к демистификации и доступности теперь вынуждено конфликтовать с музейными табличками: "Пожалуйста, не трогайте произведения искусства. Среди них много крайне хрупких предметов".
Не вполне честно, конечно, ставить знак равенства между провозглашаемыми художником принципами и реально создаваемым им искусством. Манифесты, скорее, относятся к прошлому — они возражают, протестуют, но не дают обещаний. Большая часть речи 1961 года скорее напоминала поток сознания в духе Гинзберга. Только самый придирчивый и прозаичный критик стал бы после заявления Ольденбурга — "я за искусство, которое помогает старушкам переходить через дорогу!" — искать статистику того, сколько, собственно, старушек помогли переправить через дорогу работы художника. Нет, подобные утверждения должны читаться так же вольно, как они и пишутся: Ольденбург за искусство и за помощь старушкам. Кто будет спорить?
Более ярким и обманчивым оказалось заявление Ольденбурга, что его искусство будет "политически-эротически-мистическим". Маркузе как-то сказал, что если хоть один из фантазийных монументов Ольденбурга будет построен, то станет "бескровным средством совершения переворота" и очевидным признаком того, что "общество пришло в упадок". Однако же несколько десятков забавных гигантов уже воздвигнуто (на деньги немецких банков и других столь же радикальных учреждений), а общество пока что более-менее держится. По правде сказать, в работах Ольденбурга политики примерно столько же, сколько в каком-нибудь хот-доге, а мистицизма не больше, чем в пылесосе. Что же до эротики, то практически во всех его работах начисто отсутствует человеческое начало. Есть мнение (заботливо подпитываемое самим Ольденбургом), что именно отсутствие тела в его скульптурах делает их такими эротичными (ведь там присутствуют массивные и напряженные элементы, а также мягкие и податливые штуки с дырками), но главная цель подобных рассуждений — поднять продажи. Графические "эротические фантазии", которые Ольденбург выставлял в 1975 году, скорее фантазийны, чем эротичны. В них тиражируется образ большегрудой дамы с монструозным метровым членом во рту — другими словами, именно тот "невозможный объект", который он бо́льшую часть жизни пытался воссоздать в трехмерной форме.
Клас Ольденбург. Проект монументальной скульптуры в Центральном парке — плюшевый мишка. 1965. Масляная пастель, акварель. 60,6 × 47,9 см. Собрание Музея американского искусства Уитни, Нью-Йорк. Дар Фонда современного американского искусства, президента Леонарда Лодера. © 1965 Claes Oldenburg.
Давайте заменим "политически-эротически-мистическое" искусство на, скажем, "повседневно-бодро-пластиковое". Звучит не так величественно; с другой стороны, худшее, что можно сделать с поп-артом, — это как раз не пренебречь им, а нагрузить его непомерными подтекстами. Возьмем, к примеру, известный ольденбурговский проект монументальной скульптуры — гигантского игрушечного мишку, который сидит на заднице в Центральном парке Нью-Йорка. Поместить детскую игрушку в центр самого развратного города в мире — изящное решение. Но этого художнику мало, он считает, что мишка будет "воплощением совести белых… таким образом, белому Нью-Йорку уже некуда будет деться от обвиняющего взгляда Гарлема… я выбрал игрушечного мишку, потому что его как бы "обрубленные" лапы символизируют беспомощность общества". Надо ли говорить, что жители Манхэттена восприняли бы это сообщение, только если бы оно было написано огромными буквами на поясняющей табличке? И к тому же совершенно очевидно, что все эти толкования были придуманы задним числом.
Конечно, поначалу Ольденбург был человеком богемы, бунтарем-шестидесятником, организатором хеппенингов; но он замечательно легко трансформировался в музейного художника и городского скульптора, на радость публике. Разглядывая фотографии перформансов (на них продвинутая публика учтиво и храбро восхищается происходящим) или высиживая на хипповских домашних показах "Рождения флага" или околобунюэлевской сюрреалистичной "Фото-смерти", зритель, конечно, был шокирован низким качеством работы (что, безусловно, входило в замысел авторов), но в основном помирал со скуки из-за вторичности происходящего. Эта сторона личности Ольденбурга просуществовала еще некоторое время — хотя он с самого начала понимал, что ей не жить. "Вот бы начисто забыть саму идею искусства, — размышлял он в 1961-м. — Так не победишь. Дюшана ведь тоже в конце концов признали искусством… Возможно, искусство обречено быть буржуазным".
Клас Ольденбург. Гигантский мягкий вентилятор. 1966–1967. Винил, наполненный полиуретановой пеной, холст, дерево, металл, пластиковый вентилятор, примерно 305 × 149 × 157,1 см; провод и штепсель длиной 736,6 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк, собрание Сидни и Харриэт Янис, 1967. Фото: 2014, Digital Image, The Museum of Modern Art, New York / Scala Florence. © 1966–1967 Claes Oldenburg.
Работы Ольденбурга демократичны по своей сути; а демократия — штука крайне буржуазная. В случае с Ольденбургом не требуется разбираться в искусстве, чтобы понять, что вам здесь нравится. В ранних своих проявлениях это были найденные объекты и переделки уличного мусора — искусство преходящего, одноразового, реди-мейда; теории он учился у Дюшана, практике — у Дюбюффе. В те времена в ходу были торопливое потребление и одноразовые шуточки: что характерно, глянец его первым "съедобным" скульптурам придавало то, что они покрыты глазурью с помощью настоящих кондитерских инструментов для украшения тортов.
Постепенно работы его становятся более лощеными, более рассчитанными на успех у публики, привлекая деликатностью отделки (а что может быть буржуазнее и поверхностнее?). Но такое искусство доступно пониманию: мягкое здесь становится твердым, твердое — мягким, обычное — гигантским, колоссальным, монструозным. Художник дразнит наши визуальные ожидания и чувственный опыт: надкушенные леденцы сделаны из искусственного меха или грелок; штепсель — из вишневого дерева, а рядом такой же, но мягкий, виниловый; в свинцово-стальной бейсбольной перчатке зажат деревянный мяч. Выбор материала и подачи порой очень удачен. "Баржа и парусник" (маленькие, тряпочные) болтаются на прищепках, как будто из них вытекает привычная среда обитания, а "Гигантская мягкая ударная установка" — это, собственно, обычная барабанная установка, в которой нет лишь той жесткой упругости, которая делает барабан барабаном.
Если Ольденбург просто увеличивает предметы, результат получается довольно скучный: гигантский "Пылесос" (даже если сюда пристегнуть социоэкономические заявления о необъятности домашней работы) — это всего лишь гигантский пылесос. Его искусство куда лучше работает, если предлагает зрителю какой-либо визуальный парадокс или загадку (тряпочная картошка фри вываливается из очевидно маленького для нее пакета); а интереснее всего, если форма предметов так искажается из-за мягкости их материала, что они превращаются в нечто иное. Телефон-автомат складывается в сумку для клюшек, а трубка напоминает чехол для них; карта метро превращается в костюм фетишиста; "Мягкая соковыжималка" напоминает тонущего в унитазе школьника. Особенно хороши в этом качестве гигантские вентиляторы, выполненные из кремовой холстины и черного винила а-ля садомазо: они напоминают разрушающиеся туши доисторических животных или же колоссальных насекомых после атомного облучения из кинофантастики 50-х, а провод со штепселем становится обвисшими усиками.
Хотя взгляд наш постоянно направляют не туда и провоцируют, нам все же удается не сбиться с пути, а буржуазная табличка в музее подсказывает, что к чему. Пусть икс напоминает игрек, но мы же знаем, что на самом деле это икс. И через некоторое время вы чувствуете, как ограничивает эта иксовость. Почему мягкими стали именно стремянка, молоток, пила и ведро, а не что-то другое? А почему не абстракция? Наименования нужны нам потому, что без поиска отгадок нет удовольствия, нет смысла? Или абстракция была бы чересчур элитарной, антидемократичной для такого искусства?
Монументальные скульптуры — давно задуманные, но возведенные лишь недавно — демократичны донельзя: яркие, веселые и мгновенно узнаваемые. Нам остается только предаться лилипутскому восторгу. Они поют свою заурядность и вместе с тем превосходят ее: вот прищепка, которая никогда не потеряется, вот садовый совок, который никогда не заржавеет (пока поступают деньги от спонсоров). Мы глазеем на них с благоговейным, хотя и не чрезмерным трепетом. В парке Ла-Виллет на севере Парижа дети лазают по забытому каким-то гигантом велосипеду и скатываются с его седла. В наше время не вполне ясно, какую функцию должны выполнять публичные скульптуры, репутация старейшин и героев войны пошатнулась, а в Филадельфии главным соперником "Прищепки" стал "Рокки" (не Сталлоне, а именно Рокки); работы Ольденбурга помогают сделать спор более предметным. И пока этот спор длится, трудно удержаться, чтобы не спросить: не противоречит ли монументальность, неизменность, стабильность скульптур Ольденбурга мимолетной сути его искусства? Возможно, следовало бы подчеркнуть их преходящесть, сделав их передвижными. Почему не сделать пустого изнутри, пригодного для перевозки игрушечного мишку, усадить его, символически безрукого, в Центральном парке (заодно и проверить, увидят ли в нем белые воплощение своей совести), а потом пустить по стране — пусть возвышается посреди прерий, ночует на разделительной полосе какого-нибудь шоссе, плавает вокруг статуи Свободы. Или это был бы опасный намек на то, что многие скульптуры лучше было бы и не возводить, раз сам их замысел и эскизы зачастую оказываются сильнее любого возможного воплощения?
По большей части поп-арт — это искусство в непритязательной, обыденной, вольной форме. Оно как бы околачивается вокруг настоящего искусства, примеряет его наряды, советует нам не слишком-то увлекаться. Уорхол, к примеру, такой же художник, как Сара Фергюсон — монаршая особа. С одной стороны, каждый сам решает, кем ему быть; с другой же — по большому счету все это не имеет значения. Сара отлично провела время и заработала немало денег, пока была членом королевской семьи; то же и с Уорхолом. Возражения возникли бы только у какого-нибудь чванливого чурбана, ну или у налогоплательщика, и только читатель журнала "Hello!" воспринял бы всерьез их претензии на статус. Многие богачи коллекционируют работы Уорхола; а другие коллекционируют членов королевской семьи (можно ввести правило: чем больше богачей собирает работы художника, тем менее он интересен). По большей части поп-арт предполагает веселье, расширение самого предмета искусства и возможного поля деятельности. Это не слишком ново: в искусстве вообще не много свежих идей, чаще появляются новые методы. Но и Ольденбург, и Уорхол выглядят бунтарями-новаторами, когда их ставят рядом с их технически продвинутым последователем Джеффом Кунсом. Кунс недавно заявил, что "искусство не должно что-либо от кого-либо требовать". Так-то!
Какие бы взлеты и падения ни случались с Ольденбургом (а поздние его музейные работы довольно унылы), он всегда оставался настоящим художником поп-арта. И хотя в конечном итоге его искусство все же село на задницу, этого хотя бы нельзя сказать о его ценителях. При столкновении с его работами рассиживаться не приходится: мы оцениваем шутку, выясняем, из чего и как это сделано, любуемся глянцевой поверхностью и идем дальше. А "Чизбургер" вы видели? Круто, да? А бейсбольную перчатку? А оплывший унитаз? Да, да, всё видели. И запомнили. И это уже немало. Трогают ли работы Ольденбурга наши сердца? Провоцируют ли они? Да, провоцируют улыбнуться, хихикнуть, замереть в недоумении, вновь улыбнуться — и в этом нет ничего постыдного.
Каково было бы жить с таким "ольденбургом" и видеть каждый день одно и то же? Сложно себе это представить, но мне ненадолго удалось — я как-то ужинал у балтиморского режиссера Джона Уотерса, который оказался большим поклонником Ольденбурга. ("Спальный ансамбль" последнего отлично смотрелся бы в уотерсовском "Лаке для волос"; а изысканная, ироничная искусственность этого фильма — он кажется одновременно топорным и утонченным — делает его своего рода кинематографическим аналогом работ Ольденбурга.) Уотерс собирает искусственную еду: все поверхности уставлены яичницами, ростбифом, сэндвичами с сыром, вялыми клубками спагетти. Он предпочитает, чтобы фальшивая еда была кричащей, аляповатой, — видно, что лакомства Ольденбурга показались бы ему чересчур изящной выделки. Но есть и параллельный эффект. Каждое утро, натыкаясь на какую-нибудь работу Ольденбурга, можно воскликнуть: вот же чизбургер, только несъедобный! Вот пылесос, только убирать им нельзя! Вот потеха! Тогда вся жизнь может быть размечена курсивом и восклицательными знаками. Такое искусство подкалывает вас, бодрит, подгоняет. В этом смысле оно практично. Старушку через дорогу оно, конечно, не переведет, но зато поможет бодрее взобраться по лестнице.
Становится ли это искусством?
Звездным экспонатом лондонской выставки 1997 года под названием "Сенсация" был "Мертвый отец" Рона Мьюека. Посетители толпились вокруг небольшого обнаженного тела, лежавшего на полу галереи, привлеченные законченностью и гиперреалистической точностью: взгляд художника казался одновременно нежным и безжалостным. Уменьшенный масштаб тоже усиливал воздействие фигуры. Что, так и поступает смерть — всех нас вот так уменьшает? "Мертвый отец" сохранял безмолвие и силу произведения искусства, которое не расстается со своими секретами — особенно в окружении привычной толпы шумных, прямолинейных, алчных Молодых Британских Художников.
Рон Мьюек. Мертвый отец. 1996–1997. Смешанная техника. 20 × 38 × 102 см. Собрание Стефана Т. Эдлиса. С разрешения галереи Саатчи, Лондон © Ron Mueck, 2015.
Почти за сто лет до того французский врач и скульптор Поль Рише (1849–1933) снял слепок с мертвого тела. Получилась фигура обнаженной, худой, преждевременно состарившейся женщины, чье тело было изуродовано страданием. Название или, точнее, пометка указывает, что она умерла от "суставного ревматизма", но подзаголовок — "La Vénus ataxique"("Атаксическая Венера") — гораздо красноречивее. Атаксия — это внешнее проявление сухотки, третичного сифилиса нервной системы. Сухотка вызывает одну из самых мучительных разновидностей боли, какая только встречается в медицине, так что речь идет о теле (или копии тела), знакомом с бесконечной мукой. Левая рука почти вывернута внутрь на суставе, правая ступня повернута на девяносто градусов, левое колено причудливо раздулось. Вполне возможно, что это пример "колена Шарко", классического проявления атаксии. Неудивительно — ведь Рише отвечал за слепки, будучи "главным иллюстратором нервных патологий" в парижской больнице Сальпетриер, руководителем которой был великий невролог Ж. М. Шарко.
Эта истощенная, измученная, почти безгрудая фигура своей реалистичной наготой неизбежно вызывает в памяти деревянные изображения распятого Христа — особенно суровые североевропейские образцы. Писатель Альфонс Доде, страдавший от третичного сифилиса почти ровно во времена "Атаксической Венеры" (она умерла в 1895 году, он — в 1897-м) сравнивал свое страдание — с небогохульственной точностью — со страданием распинаемого Христа: "Распятие — вот на что это было похоже прошлой ночью. Крестная мука: мучительное растяжение рук, ног, колен; нервы, вытянутые до предела". Эжен Каррьер написал в 1893 году портрет Доде. Эдмон де Гонкур увидел его и записал в дневнике: "Доде на кресте, Доде на Голгофе".
Поль Рише. Атаксическая Венера (La Vénus ataxique). 1895. Музей здравоохранения, Париж. © F. Marin / AP-HP.
"Мертвый отец" был создан, чтобы его выставили и продали как произведение искусства; скульптуры мертвого Христа должны были вызывать жалость, ужас и покорность; "Атаксическая Венера" была учебным пособием для учителей и студентов, занимающихся нервными болезнями. Этот мастерский слепок был создан трудом копииста; потом "Венеру" ретушировали, добавили волосы и правдоподобный цвет кожи; отметки инструментов Рише до сих пор видны на ее восковой плоти. В 2001 году ее выставляли в художественной галерее, в Музее Орсе, где семь залов были заняты слепками XIX века, moulages sur nature. Можно ли, нужно ли, необходимо ли теперь называть "Атаксическую Венеру" произведением искусства?
Этот вопрос возник — без лишней шумихи, но с тихим упорством — благодаря выставке, которая разумно приписывала своим экспонатам только объективный интерес, а уж его-то, при всей странности объектов, вполне хватало. Там были представлены слепки, сделанные для каких угодно целей, кроме размещения на художественной выставке. Там были посмертные маски и мемориальные слепки, руки писателей и ноги танцоров, головы маори и исландцев (даже и англичанина), атлетические торсы, изуродованные войной лица, сифилитические носы, эротические женские изгибы, пораженные проказой задницы, обезьяньи головы, рука великана, освежеванные собаки и жизнерадостные грибы, красные перцы и зеленые арбузы. Медицина, антропология, френология, ботаника, архитектура, скульптура и элементарное прямолинейное людское любопытство — все получили свое. Но ремесло создания слепков в XIX веке знало свое место — оно было вторичным, подсобным. Так отчего же оно начало заявлять себя в качестве чего-то, чем не являлось столетие назад и раньше?
С течением времени искусство меняется; меняется и понимание того, что такое искусство. Объекты, предназначенные для религиозного, ритуального или развлекательного применения, получают новые объяснения у пришельцев из иной цивилизации, которым уже неясны их изначальные цели. Как может карикатурист "Нью-йоркера" обойтись без шуток про пещеру Ласко, где один рисующий бизона охотник обращается к другому с анахронистически "художественными" замечаниями? Кроме того, техника и ремесла, которые когда-то считались нехудожественными, подвергаются переоценке. В XIX веке снятие слепков по отношению к скульптуре играло ту же роль, что фотография играла по отношению к живописи, и старшее искусство рассматривало то и другое как обманный и упрощенный прием. Их достоинства — скорость и незыблемый реализм — подразумевали и их слабость: воображению они оставляли очень мало места. В 1821 году некий доктор Антоммарки снял посмертную маску с Наполеона на острове Святой Елены; на протяжении нескольких следующих лет стали появляться копии, сделанные без его разрешения. В 1834 году Антоммарки подал в суд, и его адвокат заявил, что, даже если "не уравнивать снятие слепков со скульптурой и живописью", юридически "посмертная маска Императора является истинным произведением искусства". Защита утверждала, что формовщик — "лишь плагиатор Природы и Смерти" и что "снятие слепков — это чисто ремесленная задача". Суд согласился с этим утверждением и принял решение не в пользу Антоммарки, который не получил права на созданный образ; иными словами, ему отказали в праве называться художником. Многие считали снятие слепков оскорблением для творческого дара скульптора. Роден говорил: "Это происходит быстро и не порождает искусства". Были и те, кто беспокоился, что весь эстетический канон может сбиться с курса: если допустить слишком настойчивое присутствие Природы, она отвлечет Искусство от должного стремления к Идеальному.
Голова англичанина. 1840 (?). Неизвестный автор. Национальный музей естественной истории, Париж. © MNHN — Daniel Ponsard.
Гоген в конце XIX века тревожился о будущем развитии фотографии: если когда-нибудь этот процесс сможет передавать цвет, зачем тогда художнику корпеть над картиной с кисточкой из беличьего хвоста? Но живопись оказалась на удивление стойкой. Фотография, конечно, ее изменила; точно так же роману пришлось переосмысливать нарративные структуры после появления кинематографа. Но разница между старшим и младшим искусством всегда оказывалась меньше, чем представлялось упрямцам. У художников всегда были технические помощники — ассистенты в мастерской, занятые скучной работой, camera lucida, camera obscura; а ремесла — якобы более скромные — требуют огромного мастерства, обдумывания, подготовки, выбора и — в зависимости от того, где мы проводим границу между ремеслом и искусством, — воображения. Снятие слепка с живой натуры — сложная техническая работа, как обнаружил Бенджамин Роберт Хейдон, вылив 250 литров гипса на своего чернокожего натурщика по фамилии Уилсон и чуть не убив его в процессе.
Время меняет наши взгляды и другим способом. Каждое новое художественное направление подразумевает переоценку всего случившегося прежде; сделанное сейчас изменяет сделанное раньше. В некоторых случаях этот процесс преследует лишь корыстные цели, новое искусство использует старое, чтобы утвердиться: посмотрите-ка, как все прежнее ведет ко всему нынешнему, разве мы не молодцы, подхватили и завершили то, что было до нас? Но обычно речь идет о попытке пробуждения чувств, о напоминании нам, чтобы мы ничего не считали само собой разумеющимся; время от времени мы нуждаемся в эстетическом эквиваленте удаления катаракты. На той выставке в Музее Орсе было много экспонатов — невинных поделок второй половины XIX века, — которые сейчас прекрасно разместились бы в коммерческой или государственной галерее. Там был белый гипсовый слепок бальзаковского халата, который причудливым образом стоял сам по себе, словно романист из него выскочил и так оставил вопреки силе притяжения. Многих кураторов, несомненно, привлек бы удивительный слепок руки великана из Барнумовского цирка (французская анонимная работа, созданная около 1889 года, "воск, текстиль, дерево, стекло, 53 × 34 × 19,5 см"). Первое впечатление от увиденного сходно с впечатлением от работы Мьюека — явное противоречие между неожиданным размером и крайней правдоподобностью. Потом включается человеческое: вы замечаете, что под ногтями грязь, что пухлые кончики пальцев гораздо длиннее, чем ногти (и что, этот гигант имел привычку нервно покусывать ногти или гигантизм просто подразумевает, что плоть перерастает размер ногтей?). Потом вы воспринимаете признаки творческого решения, организации в пространстве, искусства, если угодно — аккуратный, плиссированный кусок рукава, застегнутый на пуговицы, который сообщает произведению равновесие и разнообразие фактуры. Это всего лишь отливка руки, но часть полностью заменяет целое, и как выставленный объект она причудливо и тонко напоминает нам о полноразмерном оригинале, которому в свое время точно так же изумлялись. Не такое уж большое расстояние отделяет нас от "Маленькой танцовщицы" Дега (про которую один критик тоже сказал, что ей самое место в музее патологии Дюпюитрена), хотя мы и ближе к современному искусству — тому, которое называется ленивым словом "передовое".
Да, но искусство ли это? Старый, набивший оскомину вопрос, который неизбежно возникает, когда в галерее кладут кирпичи, сминают белье на постели, когда гаснет и зажигается свет. Художник обиженно отвечает: "Это искусство, потому что я художник, и все, что я делаю, — искусство". Галерист говорит на эстетическом жаргоне, и его слова либо тупо повторяют, либо извращают в прессе всякие прохвосты. Мы всегда должны соглашаться с художником, что бы мы ни думали о самой работе. Искусство — это не храм, из которого следует изгнать неподготовленных, шарлатанов, аферистов и охотников за славой; искусство не может быть таким храмом, оно скорее похоже на лагерь для беженцев, где почти все стоят в очереди за водой с пластиковой канистрой в руках. Но что же мы можем сказать в ответ на предложение посмотреть очередной закольцованный видеоролик, посвященный крошечному фрагменту довольно непримечательной жизни художника, или полюбоваться стеной, покрытой коллажем из банальных снимков? Вот что: "Конечно это искусство, конечно ты художник, и твои намерения, несомненно, серьезны. Просто это очень заурядное достижение; постарайся придать ему больше мысли, оригинальности, умения, воображения — короче, сделай его поинтереснее". Великий мастер рассказа писатель Джон Чивер как-то заметил, что первое правило эстетики — это интерес.
Искусство чаще всего, конечно, бывает плохим; огромная доля нынешнего искусства — это нечто очень личное, а хуже плохого личного искусства трудно себе что-нибудь представить. Член жюри поэтического конкурса однажды поделился со мной своим опытом погружения в тысячи и тысячи подростковых стихотворений. "Было такое впечатление, — сказал он, — как будто большинство авторов просто отрезали от себя кусок, руку там или ногу, завернули и послали нам". Не следует сомневаться, что это поэзия; работы Трейси Эмин — тоже искусство. И здесь следует воздать должное поэту Крэгу Рейну за термин "гомеопатия", описывающий произведение, в котором художественное содержание разведено до такой степени, что единственное доступное ему эстетическое действие — это действие плацебо.
Рука великана из цирка Барнума. Ок. 1889. Неизвестный автор. Музей Фрагонара, Национальная школа ветеринарии, Мезон-Альфор, Франция.
Барт объявил о смерти автора, об освобождении текста от авторских намерений, о переходе власти в руки читателя; нужно ли говорить, что объявил он об этом в тексте, написанном с конкретным намерением, чтобы сообщить нечто весьма конкретное читателю с явной надеждой, что тот верно поймет написанное. Но то, что не работает в литературе, гораздо лучше работает в изобразительном искусстве. Картины и вправду ускользают от намерений своих создателей; с течением времени в руках у "читателя" оказывается больше власти. Мало кто из нас может увидеть средневековый алтарь так, как предполагал художник, не говоря уж об африканской скульптуре или прозрачно-ясных кикладских статуэтках, которые служили посмертными дарами. В нас слишком мало веры, слишком много эстетически нагруженного знания; поэтому мы воссоздаем заново, находим в произведении новые категории удовольствия. Отсутствие художественного намерения у Поля Рише и других забытых ремесленников, покрывавших плоть масляной краской, украшавших, отливавших, лепивших, наводивших красоту столетие назад и раньше, тоже не имеет больше никакого значения. Важен только сохранившийся объект и наше живое отношение к нему. Проверочные вопросы несложны: интересует ли он глаз, возбуждает ли мозг, побуждает ли сознание к размышлению, задевает ли сердце; кроме того, вложено ли в его создание достаточное мастерство? Многое из модного ныне искусства задевает только глаз, ненадолго — разум, но никак не вовлекает сознание и сердце. Оно может, если воспользоваться старой дихотомией, быть красивым, но истинным в сколь-нибудь глубоком смысле бывает редко. (Здесь, кстати, нам следует прислушаться не к Китсу, а к Ларкину: "Я всегда считал красоту красотой и правду правдой, и это, вообще-то, не все, что известно вам на земле и что нужно вам знать".) Одно из вечных наслаждений от искусства — это его способность подойти к нам с неожиданной стороны и оставить нас в изумлении. "Атаксическая Венера" отнюдь не превращает "Мертвого отца" Рона Мьюека в менее мощный и трогательный образ, но она становится его спутницей, предшественницей и, ничего не поделаешь, соперницей.
Фрейд — человек эпизода
"Художник в мастерской" Рембрандта (ок. 1629) — небольшая картина с кристально ясным смыслом. На ней — студия в мансарде, со стен осыпается побелка; наблюдатель будто бы сидит на полу в уголке. Справа, в тени, — дверь. В центре, развернутый от нас, возвышается гигантский мольберт с картиной. Слева, едва достигая ростом середины мольберта, стоит художник с кистью и муштабелем в руке, одетый в рабочий халат и шляпу. Свет на него не падает, но мы видим в общих чертах его круглое лицо: он разглядывает картину. Источник света — за границами кадра, слева вверху. Свет падает в основном на дощатый пол, окрашивая его в цвет спелого зерна, и на левый край холста на мольберте, акцентируя его сверкающей вертикальной линией. Но поскольку источник освещения не показан, в нашем сознании происходит подмена: кажется, будто бы сама картина озаряет светом пол (но не художника, застывшего подобно манекену). И нам открывается смысл: источник света — в творчестве; оно само сообщает суть и смысл художнику, а не наоборот.
Люсьену Фрейду принадлежит маленькая блистательная ремарка на ту же тему. Однажды он заметил: для понимания его работ собственные его комментарии дают столько же, сколько вскрик бьющего по мячу игрока — для понимания игры в теннис. Так, за свою жизнь он написал всего одну статью — для журнала "Энкаунтер" в 1954 году, в самом начале своей карьеры, — а в самом конце, в 2004-м, добавив несколько предложений, опубликовал ее вновь в "Татлере" (его взгляды на искусство за эти пятьдесят лет не изменились). Больше он текстов не писал. Не публиковал манифестов, до последних лет жизни не давал интервью. И это в эпоху, когда статьи о художниках замелькали в цветных приложениях к журналам, когда живописец за мольбертом казался уже vieux jeu[34] по сравнению с мастерами коллажей, шелкографий, инсталляций, концептов, видео-арта, перформансов, хеппенингов и реди-мейдов. Тогда ценилось словоблудие на темы искусства, и любому, кто начинал свой путь, полагалось заявлять свое кредо изысканно-туманным языком.
Рембрандт Харменс ван Рейн. Художник в мастерской. Ок. 1628. Масло, доска. 24,8 × 31,7 см. Музей изящных искусств, Бостон. Собрание Зои Оливер Шерман. Дар в память Лилли Оливер Пур. Фото: Bridgeman Images.
Однажды в ответ на вопрос журналиста о его жизни Флобер сказал: "У меня нет биографии". Творчество — все; творец — ничто. Фрейд, который имел привычку читать своим подругам вслух письма Флобера и написал портрет писателя Фрэнсиса Уиндема с потертым, но узнаваемым первым томом гарвардского собрания сочинений Флобера в руке, наверняка бы с этим согласился. Однако "не иметь биографии" невозможно; можно разве что не дожить до публикации своей. Фрейд приблизился к этому достижению ближе, чем другие мастера его масштаба. Впрочем, в 80-е один неавторизованный биограф принялся было копать материал, но тут у него под дверью объявились крепкие ребята, которые вежливо посоветовали ему прекратить. Десять лет спустя Фрейд в конце концов разрешил критику Уильяму Фиверу написать биографию и даже помогал ему в работе; однако, когда он прочитал рукопись и понял, чем это ему грозит, он предпочел откупиться от Фивера. Жил он скрытно, часто переезжал, никогда не оформлял документов (и потому не голосовал), редко кому давал свой телефон. Близкие знали, что эти молчание и тайна — цена знакомства с ним.
На Капри вам покажут скалу, с которой будто бы сбрасывали не угодивших императору Тиберию (хотя островитяне, которые ласково зовут его Тимберио, утверждают, что число жертв раздуто очернителями вроде Светония). Тираническая суровость в наказаниях царила и при дворе Фрейда: если вы не угодили ему — непунктуальность, непрофессионализм, отказ подчиниться его воле, — то вас сбросят со скалы. Мой друг Говард Ходжкин тесно с ним общался, пока Фрейд однажды не заглянул к нему в студию без предупреждения. "Не сейчас, Люсьен, — сказал ему Ходжкин спокойно. — Я работаю". Это была фатальная ошибка. Фрейд ушел расстроенный — "И с тех пор я его не видел". А на картине, где на переднем плане флоберствует Фрэнсис Уиндем, на заднем изначально планировалось изобразить модель Джерри Холл, кормящую грудью своего ребенка. Она позировала в этой позе несколько месяцев, но однажды заболела и не смогла прийти. Ее отсутствие затянулось еще на несколько дней, и в конце концов взбешенный Фрейд закрасил ее лицо и написал на этом месте лицо своего давнего ассистента Дэвида Доусона. Ребенок художника не обидел и поэтому своего места не лишился, так что в результате на картине ребенка кормит обнаженный Доусон, невесть как отрастивший грудь. Американский дилер Фрейда мрачно предположил, что картину продать не удастся, но ее купил первый же клиент, который ее увидел.
Писательница Пенелопа Фицджеральд считала, что мир делится на истребляющих и истребляемых. Во всяком случае, на управляющих и управляемых он точно делится. Я видел Фрейда несколько раз, и меня поражало, что он никогда не улыбался: ни при знакомстве, ни в беседе, когда улыбнулся бы любой "нормальный" человек; это было классическое поведение того, кто управляет, призванное вселять в других неуверенность. Типичный управляемый, в свою очередь, — это человек, рабски влюбленный; Фрейд испытал это один раз и дал себе зарок никогда больше не попадаться. Он всегда управлял — а иногда и истреблял. Рассказы Мартина Гейфорда и Джорди Грейга о поведении Фрейда[35] иногда неожиданным образом напоминали мне о двух писателях: Кингсли Эмисе и Жорже Сименоне. Вторая жена Эмиса, тоже писатель, Элизабет Джейн Ховард, увидела однажды, как он в одиннадцать утра в день, когда ему предстоял ланч в Букингемском дворце, стоял в саду и уничтожал гигантскую порцию виски. Она спросила с тревогой: "Зайчик, тебе обязательно пить?" Он ответил (и этот ответ был бы уместен во многих ситуациях): "Дорогая, видишь ли, я Кингсли Эмис, и я пью когда хочу". Сименон, в свою очередь, до одержимости любил две вещи — писать книги и трахаться. Однажды он заметил в блистательную минуту самоанализа: "Я не совсем сумасшедший, но психопат". Фрейд же признавался Гейфорду в "мании величия" и добавлял, что частичка его "думает: а ведь, может быть, мои картины — лучшие на свете". Важно это или нет, но и у Эмиса, и у Сименона, и у Фрейда были властные и придирчивые матери.
Фрейд всегда жил меж двух миров: с одной стороны — герцоги, герцогини, особы королевской крови, с другой — бандиты и букмекеры. Средний класс он, как правило, презирал или игнорировал. В его поведении тоже сочетались эти два мира: среди аристократов он вел себя невозмутимо и непринужденно, от детей требовал безупречных манер, но с этим сочетались неприкрытая грубость и агрессия. Он делал что хотел и когда хотел, а другие должны были принимать это как данность. Водил он так, что по сравнению с ним мистер Жабб[36] показался бы застенчивым новичком. Он мог наброситься на человека без предупреждения и потом не извиниться. Ребенком привезенный в чужую страну, он бил своих одноклассников-англичан за то, что не понимал их языка; стариком он затевал драки в супермаркетах. Однажды он напал на любовника Фрэнсиса Бэкона за то, что тот побил Бэкона, — но это была неправильная реакция: Бэкон страшно разозлился на Фрейда, потому что он, вообще-то, был мазохист и любил, когда его били. Фрейд имел привычку писать людям "ядовитые открытки" — оскорбительные, злые письма; порой угрожал кому-нибудь устроить "темную". А когда Энтони д’Оффе закрыл выставку Фрейда на два дня раньше срока, ему в почтовый ящик подкинули конверт с дерьмом.
В одной из интерпретаций философии сознания каждый из нас существует в некоей точке на оси от эпизодичности к нарративу. Это противопоставление — сущностное, не этическое. Люди эпизода слабо ощущают связи между разными сторонами своей жизни, у них более фрагментарное чувство своего "я", они менее склонны верить в свободу воли. А люди нарратива осознают и чувствуют постоянную связность всего, осознают неизменность своего "я" и признают свободную волю как средство создания самих себя и своей вовлеченности в жизнь. Люди нарратива чувствуют ответственность за свои поступки и вину за свои ошибки; люди эпизода наблюдают, как происходит нечто одно, а потом нечто другое. Фрейд в своей личной жизни был чистейшим примером человека эпизода. Он всегда действовал по наитию; себя он называл "эгоистом, но совсем не склонным к самоанализу". Когда его спросили, не чувствует ли он вину за то, что вообще не видится со своими многочисленными детьми, он ответил: "Нет, нисколько". А когда его сын Эли, злившийся на отца за его полное отсутствие в своей жизни, затем сам попросил прощения, если вдруг это он своим поведением огорчил того, Фрейд ответил: "Очень мило с твоей стороны, но все совсем не так. Свободной воли нет — люди просто делают, что им приходится делать". Он любил Ницше, который считал, что мы все "фигуры в руках судьбы". Он был человек эпизода во всем, от погоды (он предпочитал ирландскую погоду — каждый день по нескольку непредсказуемых перемен) до скорби ("Ненавижу траур и все эти штуки, никогда этим не занимался"). Мысль о загробной жизни казалась ему "абсолютно чудовищной" — возможно, потому, что такой поворот свидетельствовал бы в пользу нарратива. Неудивительно, что люди нарратива считают людей эпизода безответственными эгоистами, а те их — скучными филистерами. К счастью (или к вящему смятению), большинство из нас сочетают в себе оба полюса.
Хотя любую отдельную картину можно рассматривать как яростный сгусток эпизода, всякий художник может — и должен — быть и человеком нарратива тоже. Он должен видеть, как любой мазок связан с последующим, так что каждый привносит что-то свое; как прошлое связано с настоящим, а настоящее — с будущим; как в любой картине заключена история со всеми ее поворотами, которую строит в первую очередь как раз свободная воля. А еще он должен видеть, как за границами картины живет более общее повествование: история становления, подлинного или воображаемого движения вперед, творческого пути. "Человек в синем шарфе" Мартина Гейфорда — это нарратив, состоящий из одного эпизода, а именно семи месяцев, когда он позировал художнику для одноименной картины. Книга написана в форме дневника, и каждая запись становится как бы мазком кисти; это одна из лучших книг об искусстве и о том, как оно делается, которые мне доводилось читать. В ней Фрейд изучает Гейфорда, а Гейфорд — Фрейда; один портрет возникает на холсте, другой — в тексте. Гейфорд остроумно описывает сам процесс позирования как "нечто между трансцендентной медитацией и визитом к парикмахеру". Однако его цирюльник — требовательнее некуда. Вот художник предлагает модели сесть в кресле поудобнее, тот садится, положив правую ногу на левую, и творческий процесс начинается. Примерно через час объявляется перерыв, на холсте уже чернеет угольный контур головы Гейфорда, и Фрейд опускается на свою знаменитую кучу тряпья; в его студии громоздятся несколько таких куч. Когда Гейфорд снова занимает место в кресле, он спрашивает, нельзя ли теперь положить левую ногу на правую. Ни в коем случае, отвечает Фрейд, потому что тогда чуть изменится наклон головы. И в этом с ним, как-никак, не поспоришь. Гейфорд начал позировать в ноябре, и хотя сеансы затянулись до лета, вынужден был все так же надевать толстый твидовый пиджак и шарф. Фрейд никогда не прибегал к услугам профессиональных натурщиков, однако от любителей он требовал исполнительности профессионалов. Все должно было быть как он скажет, даже если позирует коллега-художник. Так, Дэвид Хокни высчитал, что позировал Фрейду "свыше ста часов в течение четырех месяцев"; Фрейд в ответ уделил ему два вечера.
Гейфорд скрупулезно документирует кропотливый труд, показывает, как создается произведение искусства: в равной доле наитием и усилием воли, глазом и мозгом, из нервов, сомнений и постоянных исправлений. Он описывает, как Фрейд, работая, непрерывно бормочет себе под нос ("Да, может быть… немножко", "Вот так!", "Не-ет, не думаю", "Еще добавить желтого"), вздыхает, останавливается, сердится на свои ошибки и победно взмахивает кистью, положив удачный мазок. Кроме этого, Гейфорд весело и откровенно рассказывает о переживаниях модели: возбуждение, приступы тщеславия (его беспокоит, что у него из уха торчат волоски), неудобство и скука. Вместе с тем позирующий, особенно если он искусствовед, в награду получает не только портрет, но и радость от беседы с Фрейдом в студии или за едой. Фрейд щедро делится историями из жизни, много рассказывает о своих художественных целях и приемах. Говорит о художниках, которыми восхищается (Тициан, Рембрандт, Веласкес, Энгр, Матисс, Гвен Джон), и о тех, кого не любит: Леонардо да Винчи ("Должен же кто-то наконец написать книгу о том, какой это плохой художник!"), Рафаэле, Пикассо. Он предпочитает Шардена Вермееру, а Россетти критикует столь яростно, что его невольно становится жаль: Россетти, видите ли, не просто "наихудший из прерафаэлитов" (Берн-Джонс с облегчением выдохнул); его картины — "ближайший живописный аналог вони изо рта".
Фрейд всегда был художником Великого интерьера. Даже лошадей он пишет в стойлах; и хотя он и был куратором интереснейшей выставки Констебла в Париже в 2003-м, на его собственных работах вся зелень либо в горшках, либо за окном студии. Его темы "полностью автобиографичны". Верди однажды сказал: "Повторять истину — хорошо, но придумывать истину — лучше, много лучше". А Фрейд не придумывал, не играл в аллегории, не признавал ни обобщений, ни общих мест; он писал здесь и сейчас. Он мыслил себя биологом — подобно тому, как своего деда Зигмунда Фрейда он считал крупнейшим зоологом, а не психоаналитиком. Он не любил "чересчур художественное искусство", изящные, "зарифмованные" картины, льстящие то ли модели, то ли зрителю и демонстрирующие "притворные чувства". В своих работах "не стремился к красоте тона" и придерживался "агрессивной антисентиментальности". Если на картине несколько фигур, каждая дана отдельно, изолированно: и когда один читает Флобера, а другой кормит грудью, и когда оба лежат в постели обнаженные. В его картинах существуют лишь пространственные отношения, но нет человеческих. Таким же образом Фрейд восхищался "Молодой учительницей" Шардена, где большинство зрителей видит именно трогательную человеческую привязанность (и неподражаемый колорит); его восхищало главным образом лучшее изображение уха за всю историю искусства. Важным качеством художника он считал "остроумие" и находил его у Гойи, Энгра и Курбе, однако его собственные шутки редко удавались. Несмотря на весь его ум, когда Фрейд пытался вложить в картину "идею", обычно она оказывалась негодной и неуклюжей. Например, обнаженная модель и на переднем плане две половинки крутого яйца (женщина — матка — яйцо, женщина — грудь — соски — желтки) — по-юношески грубо. Или "Художник и модель", на которой одетая Селия Пол указывает кистью на пенис натурщика, а обнаженной правой ногой выдавливает краску из тюбика на пол. По сравнению с этим даже визуальные каламбуры из фильмов о Джеймсе Бонде — высокая поэзия.
Люсьен Фрейд. Комната в отеле. Фрагмент. 1954. Галерея Бивербрук, Фредериктон (провинция Нью-Брансуик, Канада) © The Lucian Freud Archive. Photo: Bridgeman Images (ниже приведена полностью).
В свой ранний период он писал почти как Мемлинг, тщательно прорабатывая каждый волосок и ресничку, предпочитая светлую палитру и (сравнительно) деликатно трактуя натуру. Затем он переключился с соболя на свиную щетину, мазки его кисти стали более размашистыми, тона — буро-зелеными, холсты увеличились в размерах. Прибавили в размере и некоторые его модели: кульминацией стали гигант Ли Боуэри и социальная служащая Сью Тилли — самая знаменитая толстушка со времен Тесси О’Ши по кличке Двухтонка[37]. Фрейд любил подчеркивать свое упрямство и дух противоречия; поэтому в нескольких интервью он объяснял резкую смену манеры тем, что его утомили похвалы за точность рисунка, основы его картин в тот период. Тогда, в могучем порыве сделать назло, он забросил рисунок и стал писать свободнее. Это объяснение едва ли убедительно, ведь он восхищался великими рисовальщиками — Энгром, Рембрандтом. Кроме того, серьезный художник калибра Фрейда, как бы он ни хотел идти всем наперекор, никогда не позволит себе подчинять свой стиль мнению критиков (пусть даже благосклонных). Однако такое объяснение позволяет отвлечь внимание от истинной причины, которую он, впрочем, сам признавал, — влияния Фрэнсиса Бэкона. Фрейд жил инстинктами, но в живописи был предельно собран; Бэкон жил так же, но, как будто перещеголяв Фрейда, писал тоже по наитию, быстро и без предварительных набросков, так что порой картина была готова за одно утро. Некоторым поворот Фрейда показался странным или того хуже: Кеннет Кларк, рано оценивший Фрейда, написал ему лично, упрекнув, что тот специально отказывается от всего самого интересного в своем творчестве. "С ним я больше не виделся", — говорил Фрейд Гейфорду. Что ж, еще одна жертва императора Тиберия.
Однако бо́льшая свобода кисти не способствовала большей скорости работы (Бэкон однажды хлестко заметил: "Вся беда с Люсьеном в том, что он такой скрупулезный"). Но послужила причиной того, что Фрейд стал иначе изображать плоть. Теперь, даже работая с молодой моделью с гладкой кожей, он подчеркивал уязвимость плоти, "ее способность дрябнуть и усыхать", как пишет Гейфорд. Некоторые думали, что эта манера была присуща ему всегда. Например, Кэролайн Блэквуд в статье 1993 года о портретных работах Фрейда в "Нью-Йорк ревью оф букс" называла их "пророчествами", а не "снимками физического облика модели в конкретный момент истории". Она добавляет, что ее собственные портреты кисти Фрейда вызывали у нее "оторопь", а "другие не могли понять, почему ему вздумалось изобразить девушку, которая в то время выглядела еще почти ребенком, такой отталкивающе старой". У Блэквуд, конечно, было много причин для неприязни к бывшему мужу (не последняя из них — он спал с ее дочерью, еще подростком), однако это обвинение кажется надуманным. Если взглянуть на портреты Блэквуд сегодня, то в глаза бросятся ее тревожность и хрупкость, а вовсе не преждевременная состаренность. Гейфорд, в свою очередь, полагает, что второй стиль Фрейда весь зиждется на размышлениях о смертности. Он пишет, что в автопортретах Фрейд "почти злорадно подмечает приметы старения, хода времени", а "к моделям относится в этом смысле так же, как к себе самому". Что ж, возможно; однако мне думается, что это скорее вопрос стиля и манеры письма, чем прозрачный намек на неизбежность грядущей смерти. Такую манеру Фрейд разработал, ища способ выразить характер и внутреннюю сущность модели, будь то обнаженные девушки или полностью одетая пожилая королева Великобритании. Что же до его многочисленных автопортретов, то в них — не столько злорадное упоение тленом, сколько самовосхваление, намек на героическую натуру художника. Самый отъявленный — "Художник, застигнутый обнаженной поклонницей", еще одна картина с "идеей". На ней изображена обнаженная модель на голом полу студии, льнущая к ноге Фрейда, как будто не пуская его к мольберту. Замысел, возможно, был шуточный, но результат проникнут отчего-то одновременно сарказмом и тщеславием. Возможно, картина не трогает еще и потому, что это редкая попытка художника изобразить не пространственные, а человеческие отношения.
Блэквуд права в том, что портреты, которые писал ее бывший муж, не льстят, — но так и задумано. Однако, даже зная это, невозможно не испытать шока, если после долгого разглядывания работ Фрейда перейти к фотографиям его моделей, сделанным Брюсом Бернардом и Дэвидом Доусоном для книги "Фрейд за работой" (2006). Какое же на самом деле человеческое тело гладкое и соблазнительное, скажете вы, да и цвет, выходит, приятный. Сотрудница биржи труда, вообще-то, симпатичная, да и королева неплохо сохранилась — вон как мало морщинок, в ее-то возрасте. Хотя, если подумать, фотография всегда была искусством льстивым — а до нее портретная живопись. В прежние времена (а кое-где и посейчас) между моделью и художником существовал неписаный уговор — потому что платил тот, кого изображают. В наши дни портретируемый платит, только если решил купить картину; да и Фрейд в любом случае проигнорировал бы любой неписаный уговор, даже если бы считал, что таковой имеется.
Художник может заблуждаться по поводу своего творчества: например, Гейфорд сообщает, что Фрейд стремился "писать картины максимально разнообразно, как будто бы их создали разные художники". Это было, видимо, некое необходимое заблуждение — возможно, для того, чтобы не ослабевали внимание к работе и целеустремленность. Но обычно художники осведомлены о своих намерениях лучше нас. Фрейд ставил себе целью не подражать натуре или обслуживать ее, но "концентрировать" ее, пока произведение не достигнет такой силы, что вытеснит собой оригинал. Поэтому "добротное сходство" и "хорошая картина" никак не соотносятся. Фрейд однажды сказал Лоренсу Гоуингу, что его представления о жанре портрета "сложились из-за неудовлетворенности портретами, которые похожи на изображенных. Я хочу писать портреты людей, а не портреты, похожие на людей… На мой взгляд, краска и есть человек". Один из позировавших ему (он пожелал остаться неназванным) рассказал мне, что Фрейд обратился к нему со словами: "Мне было бы интересно написать с вас". Гейфорду о его портрете Фрейд сказал: "Вы посидите, поможете мне", как будто модель — это такой полезный дурачок, который будет сидеть рядом, пока художник идет к своей великой цели.
Люсьен Фрейд. Художник, застигнутый обнаженной поклонницей. Фрагмент. 2004–2005. Частное собрание. © The Lucian Freud Archive. Photo: Bridgeman Images (ниже приведена полностью).
Эта идея может выродиться в нечто притворное или бессмысленно-усложненное. Надо думать, художник сам хочет, чтобы зритель, глядя на портрет знакомого человека, сказал: "Да, это он/она, только еще более похожий/похожая на себя". Значит, "концентрация" образа достигнута. Однако от "сходства" никто не отказывался, да и нельзя, — в конце концов, зачем еще нужно долго и пристально разглядывать модель, чем славился Фрейд, если не чтобы увидеть предмет лучше других? Разве можем мы сказать о картине: "О, здорово, вообще на него не похоже, скорее уж на совсем другого человека, но представьте себе — в этом портрете он весь!" Думаю, все же нет. К тому же этот вопрос начинает смешиваться с другим: в какой степени портрет передает характер портретируемого, насколько он похож глубинно. Гейфорд верно замечает, что мы реагируем на ван Эйка, Тициана или на египетскую статую, "не зная характер изображенного". (А также не зная, достигнуто "сходство" или нет.) Но наше прочтение ван Эйка или Тициана невозможно без образа личности; для нас портрет — не просто сочетание красочных пятен. Чтобы понять картину, нам нужно установить, что эта живописная имитация или подмена человека говорит о самом человеке, давно умершем. Когда мы смотрим на подлинно великий портрет — скажем, "Портрет Луи-Франсуа Бертена" кисти Энгра, — мы принимаем по умолчанию, что сходство здесь есть, и (если опустить чисто эстетические соображения) реагируем на картину так, как если бы перед нами был живой мсье Бертен. В этом смысле — да, краска и есть человек.
Книга Мартина Гейфорда — о художнике, который, так уж вышло, был еще и человеком; книга Джорди Грейга — о человеке, который, так уж вышло, был еще и художником. Страница Википедии о Грейге напоминает, что "члены семьи его отца в течение трех поколений служили при королевском дворе". В прошлом он был главным редактором "Татлера" и "Ивнинг стандард", а сейчас — главред воскресного приложения "Дейли мейл", то есть состоит при дворе виконта Розермера[38]. Но мне кажется, что ему важнее были годы, проведенные при намного более взыскательном дворе Люсьена Фрейда. Он провел много лет в попытках добыть заветный билет к этому двору, собирая дружеские рекомендации других художников на пути к главному трофею, и наконец добился своего, исполнив хитрый трюк. При Фрейде он состоял последние десять лет жизни художника, "завоевав его доверие", как он сам нам говорит. Доверие это было столь глубоким, что фотография на задней стороне обложки книги "Завтрак с Люсьеном" запечатлела Фрейда в состоянии, близком к улыбке, — достижение тем более редкое, что Фрейд давно и твердо выучился принимать гранитно-серьезное выражение лица, как только на него наводили объектив. Однако книга Грейга содержательнее, чем кажется на первый взгляд, — тут не только завтрак, а еще и кофе, и целый небольшой ланч. Когда настанет ужин — то есть полная биография, — ее автору будет за что благодарить Грейга, который добрался до давних подружек Фрейда (сейчас им всем уже за девяносто), до его моделей, любовниц, детей и всех остальных, кому смерть Фрейда развязала язык. Как бы на такое отношение к его "доверию" посмотрел сам Фрейд — другой вопрос. Книга Грейга безусловно нанесет урон репутации Фрейда, но, кажется, она повредит и нашему впечатлению от его картин — по крайней мере, пока не вырастет новое поколение зрителей.
В какой-то момент Грейг высказывает предположение (по-моему, вполне здравое), что обнаженные Фрейда напоминают фигуры Стенли Спенсера; однако Фрейд отвергает эту мысль и проходится по "сентиментальности и ненаблюдательности Спенсера". Будь я на месте Грейга, я бы предложил на роль предтечи Эгона Шиле: те же гинекологические позы, свободная кисть, колорит (взять хотя бы "Автопортрет с обнаженным плечом"). Однако Фрейд отверг бы и эту догадку: он считал Климта и Шиле дешевыми фокусниками, в арсенале которых только притворные чувства. Самого Фрейда едва ли кто-то мог обвинить в притворных чувствах, и вряд ли можно было сомневаться в его искренности, когда он раз за разом утверждал, что художник — провозвестник истины. Но есть здесь и еще кое-что. Как писал Эмис: "Дело поэтов — накачивать сердце насосом / Или давить людские сердца?" Пожалуй, оба ответа неверны. Но если уж Фрейда в чем-то и обвинять, так это в том, что он давит людские сердца, и особенно в своих самых спорных работах — изображениях обнаженных женщин. Эти картины с гордостью, буквально бросая вам в лицо некую истину, демонстрируют женские половые органы. Женщины Фрейда лежат, как препарат под микроскопом: так, Селия Пол — как она сама признавалась, "очень, очень застенчивая женщина" — говорила, что в позировании (тут — скорее, просто лежании) у Фрейда было "что-то медицинское, как будто лежишь в операционной". Мужчины у Фрейда, как правило, одеты и демонстрируют лицо; женщины у Фрейда, как правило, раздеты — иногда самим художником — и демонстрируют то, что ниже пояса. Лучше всего животным, которым дозволяется не показывать гениталии, — но ведь Фрейд и говорил, что чувствует "связь с лошадьми, со всеми животными едва ли не больше, чем с людьми".
Здесь возникает два вопроса. Первый — вопрос техники, физиологии. Гениталии у людей выглядят по-разному, но эти различия невыразительны, они никуда не ведут. Поэтому портретисты обычно уделяют больше внимания лицу — "великому холсту сердца", по выражению Лорри Мур, — которое выразительно и ведет нас куда-то: к представлению о личности человека, о его сути, пусть даже изменчивой. Второй — вопрос интерпретации, и в нее может просочиться и оставить свой след биография художника, если от нее сознательно не абстрагироваться. Вообще можно говорить о мужском взгляде в изобразительном искусстве; здесь же — еще и о взгляде Фрейда. Его обнаженные женщины ничуть не порнографичны, даже не эротичны. Только очень проблемный подросток смог бы мастурбировать на альбом ню Люсьена Фрейда. По сравнению с этими картинами "Происхождение мира" Курбе выглядит аппетитно. Вопрос лишь в том, в какой мере они автобиографичны — с учетом того, что Фрейд всегда автобиографичен, — и здесь не обойтись без деталей его жизни.
Об отношениях Фрейда с женщинами ходит множество давно всем известных слухов. Женщин у него было много, браков — два, детей — буквально несчетное количество: он признал четырнадцать, но на самом деле их может оказаться и в два раза больше (любую контрацепцию он называл "невероятной мерзостью"). Как правило, его женщины были из высшего общества, и, как правило, на момент встречи им не было еще двадцати. Он всегда вел себя как звезда — интересный, загадочный, знаменитый, страстный, полный жизни. Одна из его подруг сказала Грейгу: "Он был как сама жизнь". Другая говорила: "Когда его не было рядом, как будто тушили свет. И наоборот, любой, кто был с ним рядом, чувствовал себя ярче, живее, интереснее". Пока все понятно: опасно притягательный художник, завлекающий женщин в свое магнитное поле, — образ старый как мир. Более того, иногда стремление Фрейда жить только по своим правилам, и пусть другие подстраиваются, оказывается довольно анекдотичным; так, он рассказывал и Гейфорду, и Грейгу почти слово в слово: "Например, я люблю шпинат без масла. И тем не менее я не исключаю, что если женщина, которую я люблю, приготовит шпинат на масле, то мне понравится. И еще мне будет приятно, что в этом есть немножко героизма: я буду есть, хотя вообще я так не люблю".
Если он так себе представлял героический компромисс между мужчиной и его любимой женщиной, то неудивительно, что хозяйки лондонских салонов не желали видеть в нем потенциального зятя.
Однако Фрейд, который ни в чем не знал ограничений, был не просто очаровательным гулякой. Он был стихийной половой силой — обретя одну женщину, искал новую, ожидая при этом, что первая никуда не денется. Кэролайн Блэквуд, его вторая жена, называла его "слишком мрачным, властным и неисправимо неверным мужем" (как будто это понятие — "супружеская верность" — вообще для него существовало). Если это кого-то обижает, тем хуже для них; женщины просто должны смиряться с этим. В сексе он был еще и садистом: две бывшие подруги независимо друг от друга описывают, как он бил и щипал им грудь. Однако самый веский свидетель обвинения в книге Грейга — Виктор Чандлер, букмекер, отучившийся в аристократической школе и, таким образом, счастливо сочетавший в себе любимые Фрейдом высший свет и низы общества. Он "обожал" Фрейда, но именно он рассказывает два самых ужасных эпизода с его участием. В первом они с Фрейдом, уже пьяным, пошли ужинать в кафе "Ривер". Перед ними в зал вошли две пары, на вид лондонские евреи. "Люсьен иногда бывал страшным антисемитом, что само по себе странно", — вспоминает Чандлер. В этот раз он оскорбился запахом духов этих женщин и заорал: "Ненавижу духи! От женщин должно пахнуть только их дыркой! Давно пора придумать духи "Дырка"!"
В другой раз они разговорились о женщинах:
"Мы говорили о том, что ему нужен секс, чтобы жить. Так он видел жизнь, ему надо было выпускать пар. Мне кажется, ему было нужно утверждать свою власть над женщинами. Он говорил обо всем этом. Однажды вечером мы долго обсуждали анальный секс, и он сказал, что если у тебя не было с девушкой анального секса, то, значит, она тебе не подчинилась по-настоящему".
Что это? Просто полоскание грязного белья, как на страницах воскресного приложения "Мейл", чтобы запятнать репутацию великого художника? Думаю, что не все так просто. Как бы мы ни шарахались от трактовки произведений через биографию художника, но как только мы услышали эти две истории, забыть их уже нельзя, и они меняют — а для кого-то подкрепляют — нашу точку зрения на его портреты обнаженных женщин. Некоторым мужчинам, да и многим женщинам, от них не по себе, их прямо тошнит. Эти картины холодны и безжалостны, они изображают плоть, а не женщин. И если перевести взгляд с распростертых конечностей на лица, то какое выражение у этих лиц? Даже в ранних портретах, до смены стиля, женщины выглядят встревоженными; позже они в лучшем случае инертны, пассивны и обескровлены, а в худшем — испуганы, в панике. Трудно не спросить себя: быть может, это лицо и тело женщины, которую художник грубо подчинил себе сначала в постели, а потом на холсте? Когда Фрейда спросили, почему он так не любит Рафаэля, он сказал, что, пусть тот и написал чудесные картины, "я думаю, что не переношу его характер".
О патологически неверных мужчинах иногда говорят, что они ищут приключений с женщинами, потому что не могут найти с ними счастья. (Впервые я встретил этот афоризм в биографии столь же ненасытного Яна Флеминга, который знал Фрейда и горячо его ненавидел — а тот отвечал взаимностью.) Франсуа Мориак в своем великом романе о литературной зависти "Все, что утеряно" выразил эту мысль точнее и тоньше: "Чем больше женщин познает мужчина, тем примитивнее его представление о женщинах вообще". Сказано в 1930 году, но актуально и по сей день. Фрейд работал очень медленно, но он писал круглосуточно и таким образом успел создать много; поэтому он неизбежно повторялся, и особенно в изображении женщин. Хотя художник обычно не реагировал на письма поклонников, однажды он получил письмо от одной женщины-адвоката (чернокожей) с вопросом, почему у него нет ни одной картины с изображением чернокожих? Он ответил на это письмо, принял вызов и написал ее. Нетрудно угадать, в какой позе: обнаженная, бедра раздвинуты на всеобщее обозрение, голова неудобным движением запрокинута далеко назад. Это слабая картина. Фрейд назвал ее "Обнаженный адвокат".
Биография заражает собой и другие картины, а вернее, корректирует наше первое прочтение. Например, я всегда воображал, будто портреты старой матери художника в платье, украшенном узором "турецкий огурец", — картины нежные и трогательные, наподобие портретов собственных стариков-родителей у Хокни. Но биография вносит свои коррективы. На самом деле Фрейда с ранних лет злило внимание матери (она делала просто ужасные вещи — например, приносила ему еду, когда он бедствовал), и всю жизнь он старался держать ее на расстоянии. Когда умер его отец, мать попыталась отравиться таблетками; ее откачали, но здоровья было уже не вернуть, и она превратилась в бледную тень самой себя. И только тогда — когда, можно сказать, жизнь грубо прошлась по ней — он стал изображать ее на своих картинах. Как он сам говорил, она стала "хорошей моделью", потому что перестала замечать его. Его двоюродная сестра Карола Зентнер говорила, что это "отвратительно и ненормально — писать портреты того, кто уже утратил свою личность… потому что, в сущности, она была жива физически, но ее сознание не жило". Но не все ли равно? Художники немилосердны, они берут те темы, которые им попадаются, и так далее. Думаю, что в этом случае разница есть, потому что эти картины выглядят портретами дорогой старушки-мамы, написанными любящей рукой, и тем самым выражают то, что Фрейд презирал, — притворное чувство.
Люсьен Фрейд. Два японских борца у раковины. 1983–1987. Чикагский институт искусств. © The Lucian Freud Archive. Фото: Bridgeman Images.
Возможно, со временем все это потеряет значение. Искусство обычно рано или поздно освобождается от пут биографии. То, что одному поколению кажется грубым, мерзким, нехудожественным, холодным, другое сочтет правдивым и даже прекрасным, жизнью, как ее и следует изображать — или, скорее, концентрировать. Два-три поколения назад многих шокировали ню Стенли Спенсера: маленький человечек позирует обнаженным рядом с пышнотелыми женщинами, чьи груди подчиняются лишь законам тяготения. А теперь эти картины выглядят, да-да, нежными и трогательными, правдивыми образами игривой и страстной любви. Призна́ют ли Фрейда величайшим портретистом XX века? Будут ли следующие поколения смотреть на его обнаженных, как мы на героинь Спенсера? Или вместе с Кеннетом Кларком будут сожалеть о его резкой перемене стиля? Как по мне, то крошечный портрет Фрэнсиса Бэкона превосходит монументальный образ Ли Боуэри. А еще было бы хорошо, если бы он писал больше кухонных раковин, больше цветов в горшках, больше листьев и больше деревьев. Больше пустырей и улиц. Нет, конечно, художники таковы, каковы есть, они не могут и не должны быть иными. Но все-таки жаль, что он так редко покидал свою студию.
Ходжкин Пара слов о Г. Г
Генри Джеймс писал: "Художники не доверяют тем, кто пишет о живописи". Флобер писал: "Объяснять одну форму художественного выражения с помощью другой — это чудовищная глупость. Ни в едином музее мира нет ни единой хорошей картины, требующей пояснений. Чем длиннее комментарий, тем хуже картина". Дега считал, что "слова излишни: можно просто сказать "эээ", "ооо!" или "м-да" — и все будет ясно". Матисс утверждал, что "художникам следовало бы повырывать языки".
Однако сам Генри Джеймс много писал о живописи. Флобер часто писал о ней в своих письмах и дневниках. Он знал французские коллекции не хуже Стендаля, а европейские — куда лучше Гонкуров или Бодлера. В его записях поражает практически полное отсутствие оценочных суждений. Вернее сказать, он отмечает и описывает понравившиеся ему картины — и это само по себе и есть оценка.
Гордон Говард Ходжкин — художник для писателей. Он привлекает больше людей пишущих, объясняющих, интерпретирующих, чем любой другой современный британский художник. Названия его картин зачастую подразумевают наличие некоего сюжета. Но вот что странно: в самих его работах увидеть или прочесть сюжет практически невозможно. Порой он словно бы дразнит нас. А писатели любят, когда их дразнят. И завидуют всем прочим видам искусства.
Как правило, писатели завидуют прямолинейности. Привлекательнее всего в этом смысле музыка — самое абстрактное и при этом самое непосредственное искусство: душа говорит здесь с душой без натужного вмешательства слов. Драматурги должны завидовать авторам опер, поскольку те могут обходиться без прелюдий: кульминацию, которой следовало бы случиться в пятом акте, они могут устроить в первом, втором и так далее — да хоть в каждой сцене. Художникам завидуют, поскольку для них выразительные средства и есть само выражение; эта концентрация добавляет мощи. Писатели редко задумываются над тем, что им тоже может кто-то завидовать: что художник, чьей работе праздный посетитель уделит секунд пять, может лишь мечтать о безраздельном внимании, которое читатель готов уделить писателю. Редон называл литературу "величайшим искусством".
Работы Г. Г. — не нарративы. В основном это воспоминания. Но не безмятежное воспоминание о пережитой эмоции, а интенсивное ее переживание. В этом смысле его работы подобны оперным ариям.
Флоберу нравилось передразнивать людей. Одним из любимых его "номеров" была пародия на малоизвестного руанского художника Мелотта, который, произнося священное слово "artistique", имел привычку выделывать руками некую арабеску, наподобие двойной буквы S.
Эдинбург, сентябрь 2002-го: слова, которые не были услышаны. К семидесятилетию Г. Г. в Шотландской галерее современного искусства открылась его выставка. Стены галереи выкрасили в синий. На первом этаже крутили двадцатиминутный фильм, в котором художник говорил о своих работах, а сами картины располагались в двух залах на втором этаже. Эти залы разделял широкий лестничный проем, по которому снизу доносился голос — он следовал за вами, пока вы поднимались по лестнице, и растекался по залам. Но эхо и динамики делали речь художника совершенно неразборчивой. Голос Г. Г. был не только бесплотен, но и бессловесен: от него остались лишь интонации. И в какой-то момент начинало казаться, что так и надо.
Романы Флобера, особенно "Мадам Бовари", часто сравнивали с работами художников-реалистов вроде Курбе. На самом же деле Флобер не переносил Курбе за его догматичность, склонность теоретизировать и толковать свои работы, дополнять их словами. А также потому, что Курбе "не испытывал священного трепета перед формой". Искусство рождается на грани любви и страха.
Королевская академия, сентябрь 2002-го. На несколько недель Академия открывает свои двери для ряда коммерческих галерей. Большинство выставляет самых юных своих звезд, что приводит к неизбежной визуальной какофонии. Однако таким образом удается пошатнуть хотя бы некоторые удушающие догматы последних лет. Кто-то из начинающих художников даже пытается писать — кистью, или чем-то подобным, причем на плоской поверхности (или на чем-то подобном), и краской — или чем-то подобным; хотя многие, возможно опасаясь быть непонятыми, заботливо снабдили свои немые художества словесными пояснениями. Там я столкнулся с критиком Эндрю Грэмом-Диксоном, и мы обсудили это робкое возрождение. Казалось бы, сказал я, эта молодежь могла бы заметить, что подобная форма искусства не нова, — честно говоря, ей уже несколько веков. Грэм-Диксон посмеялся над моей наивностью: "Этих прошлое ничему не учит".
В самом сердце Академии есть восьмигранный зал, стены которого выкрасили в тот же ослепительно-синий цвет, что на выставке Ходжкина в Эдинбурге. Там висели восемь небольших работ Г. Г. — средоточие безмятежного, сияющего спокойствия посреди окружающего безумия. Моя знакомая писательница поделилась своими впечатлениями: "Эти работы словно обратились ко мне и сказали: вот так и должно выглядеть искусство".
В Академии я сказал Г. Г.:
— Это ведь та же самая синяя краска, что и в Эдинбурге.
— Нет, не та же самая, — ответил он.
За многие годы, что я знаком с Г. Г., он не раз упоминал, что быть художником в наше время и на наших островах очень одиноко. Другие художники, например Люсьен Фрейд, тоже говорили, что им приходится идти против потока и против моды, — но Фрейду это положение дел, очевидно, было по душе. Единственный крупный британский художник, кто, кажется, ни разу не жаловался на маргинализацию живописи, — это бесконечно жизнерадостный (и бесконечно популярный) Дэвид Хокни. Но сейчас эта маргинализация кажется временной. И когда будущее оглянется на вторую половину XX века в Британии, ему предстанет время художников: Бэкона, Фрейда, Хокни, Ходжкина, Райли (а также Колфилда, Ауэрбаха, Хитченса, Эйтчисона, Аглоу и так далее).
Путешествия с Г. Г. Мы вчетвером — Г. Г., его партнер Энтони, моя жена Пат и я — вместе побывали в Марокко, Индии и несколько лет подряд ездили по маленьким итальянским городкам с хорошими художественными музеями. Я выступал в роли организатора, Энтони переводил, Г. Г. был нашим штабным художником, а Пат — музой; роли свои мы не воспринимали слишком серьезно. Я также вел дневник:
"Таранто, апрель 1989 г. Г. Г. приметил в витрине старомодной галантереи черное полотенце. Мы зашли. Продавец предложил нам черное полотенце. Нет, сказал Говард, оно недостаточно черное. Продавец вынимает другое, оно тоже оказывается отвергнуто, затем следующее и следующее. Это Италия, торговля ведется медленно, все настроены крайне благодушно; продавец не проявляет ни малейших признаков нетерпения, чего нельзя сказать обо мне. Черт подери, Г. Г. уже отверг семь или восемь полотенец и теперь просит принести ему то самое, с витрины. Продавец отправляется за ним лично. Когда он выкладывает его на прилавок, я мгновенно вижу то, чего не заметил бы, не будь рядом Г. Г.: это полотенце действительно слегка, чуть-чуть чернее остальных. Сделка совершена".
Цвета стен на выставках работ Г. Г.: белый, серо-голубой, сизый, зеленый, золотой, ультрамариновый.
Синий. Болонья, ноябрь 2002-го. Мы в поисках ужина идем по площади, окруженной аркадами. По пути нам попадается небольшой малярный магазинчик: кисти, валики, поддоны для краски и банки с эмульсиями — всё вместе словно пародирует студию художника. Г. Г. заявляет: "Я открыл новую краску. Кобальтовая синяя". Когда он описывает чистоту и яркость цвета, глаза его плотоядно сверкают.
Иногда Г. Г. называют колористом. Так снисходительно называют Боннара. (Вспомним, как Делакруа жаловался, что это определение "скорее помеха, чем похвала", а Ле Корбюзье упрекал Брака за то, что тот "очарован цветом и формой".) Возможно, это было бы справедливо, будь цвет всего лишь покрытием, отделкой, приманкой, служи он лишь для окраски — не будь он самой сутью живописи. Литературные сравнения мне ближе. Назвать художника "колористом" все равно что назвать писателя "стилистом". Для некоторых критиков "неплохо пишет" — это определение неумелого писателя. Гарвардский профессор литературной критики решительно отметает роман великого Джона Апдайка: "Конечно, Апдайк неплохо пишет; к его роману следует подходить со всей строгостью именно из-за его таланта. Но Апдайк… пишет не настолько хорошо, чтобы это было простительно". В поэме Одена Время "прощает" Поля Клоделя: прощает именно за его талант. Так профессор взял на себя право самого Времени — даровать прощение или лишать его.
Обычно Г. Г. определяют как последователя интимизма, в особенности Вюйара. Это справедливо и подтверждается его оммажем Вюйару. Но интимизм — это теплое направление, а работы Ходжкина раскаленно-горячи: даже его "Альпийский снег" обжигает. Так что будем учитывать и других художников, которым он посвящал оммажи: Коро, Дега, Элсуорта Келли, Матисса, Моранди, Сэмюэла Палмера, Альберта Пинкхема Райдера, Сёра. А ведь есть еще овал Брака "Cartes et dés", испещренный совершенно ходжкиновскими точками, который тоже выглядит как предтеча.
Говард Ходжкин. Альпийский снег. 1997. Дерево, масло. 33,6 × 39,4 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
Флобер запрещал иллюстрировать свои романы. Подобная "ущербная достоверность" шла вразрез с задуманным впечатлением от текста. Он говорил, что цель искусства — это вначале заставить вас видеть (faire voir), а затем — мечтать (faire rêver).
Дело не только в том, что изображено, но и в том, что присутствует здесь изначально (например, текстура доски, виднеющаяся сквозь краску), что закрашено, закрыто, что существует лишь временно для достижения какой-то другой цели. Флобер, отвечая на вопросы Тэна о творческом воображении, объяснял, что, воображая описываемые сцены, часто представляет детали, которые впоследствии не попадают на бумагу. Например, лицо аптекаря Оме из "Мадам Бовари" было покрыто легкими оспинами. Но читателю об этом не сообщают. Когда-нибудь работы Г. Г. будут изучать в поисках предварительного рисунка, набросков, подмалевка, изначальных замыслов. Это будет интересно, но вряд ли продуктивно.
Флобер как колорист. Он сказал Гонкурам, что при написании романа сюжет для него менее важен, чем желание передать цвет, оттенок. "Саламбо" был для него лиловым, тогда как в случае с "Мадам Бовари" он "стремился передать серый цвет, плесневелый цвет жизни мокрицы". Художник же, возможно, делает нечто противоположное: он передает эмоции и препятствия, легко воспроизводимые в тексте, с помощью цвета, тона, плотности, фокусировки, компоновки, направления, насыщенности, энергии.
Говард Ходжкин. Посвящение Дега. 1993. Дерево, масло. 66 × 76 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
И Флобер, и Г. Г. не любили, когда их фотографируют, жили неподалеку от Руана и интересовались пальмами. В Египте Флобер описывал полыхающий закат: полосы киновари в небе, бледно-зеленые озера, растворяющиеся в небесной синеве, розовеющие горы. А на переднем плане пальмы, "подобные фонтанам". Он продолжает: "Вообразите лес, в котором пальмы были бы белыми, словно перья страуса". Он также замечает, что вечерний свет преобразует природу в подобие сцены. В этот момент она становится "иной природой", и пальма перестает походить на себя и становится похожа на… "пальму, написанную на холсте". Искусство как вторая природа.
Флобер восхищался "изумительными" и "невероятными" красками росписей в гробницах; и тем, что стены гробниц были "расписаны сверху донизу", — впоследствии он говорил, что именно такой хотел бы видеть свою прозу. Виденные во Франции изображения Египта не подготовили его к свету или цветам этого места. Художников явно сковывала робость и необходимость следовать традициям — они боялись передать истинные оттенки Красного моря, опасаясь, что их обвинят в преувеличении. "Художники — болваны", — заключает Флобер.
Я всегда отказывался брать интервью у Г. Г. или писать о нем, поскольку слишком хорошо его знаю, а также не понимаю, как передать его картины словами. Как-то раз немецкий "Вог" предложил записать нашу беседу об искусстве, литературе и других общекультурных вопросах. Разговор состоялся у меня в саду. Им руководил модератор, а фотограф вел репортаж. У модератора было чересчур много своих представлений о том, что мы могли бы сказать друг другу. Фотографии остались; запись беседы журнал отверг.
У Г. Г. всегда было непросто брать интервью — не в последнюю очередь потому, что он в принципе не хочет говорить о своих работах, не то что "объяснять" их. В последние годы он и вовсе отказывается участвовать в этой игре. Интервьюерам достаются односложные ответы и длинные паузы; а как-то раз на книжном фестивале на сцене с Саймоном Шамой это и вовсе вылилось в катастрофу. Помню какую-то радиопередачу, в которой старательный журналист все больше злился на кажущуюся несговорчивость Г. Г. и принужден был высказывать собственные предположения о его творческом процессе и источниках вдохновения. Г. Г. пресек одну из таких попыток решительным: "Но это бы значило, что я сам понимаю, что делаю".
Верьте искусству, а не художнику; истории, а не рассказчику. Художник забывает, но искусство помнит все. Когда Флобер писал Тэну о "Мадам Бовари", он упустил из памяти, что на самом деле сообщил читателю о "рябоватом" лице аптекаря Оме.
Флобер ненавидел живописность — особенно в дневниках путешественников начала XIX века, не переносил иллюстрированные "Живописные путешествия по старой Франции" Тейлора и Нодье. Г. Г. не любит путеводители любого цвета — зеленые, голубые, красные, — не говоря уж о самой идее рейтинга достопримечательностей. "Что говорит по этому поводу ваш путеводитель?" Ответ на этот вопрос всегда оказывается неудачным. "И зачем мы здесь?" — вежливо интересовался он, оглядывая какую-нибудь совершенно неинтересную ему церковь. Я указывал на якобы впечатляющую гробницу кардинала во втором приделе северного нефа. Скользнув по ней равнодушным взглядом, он указывает мне на странный вытертый мраморный ромб, не упомянутый ни в едином путеводителе. И он всегда прав. И все равно я настаиваю, что зеленое пятно справа от центра на картине "Когда мы были в Марокко?" — это я, спрятавшийся за мишленовским зеленым путеводителем; хотя когда мы были в Марокко, мишленовский зеленый путеводитель по этой стране еще не вышел.
Флобера мучило дурное искусство, неверные слова, речевые клише. Помню какую-то огромную, но заштатную итальянскую галерею — в Парме, кажется, — которую некий современный архитектор попытался оживить жизнерадостным деревянным декором. Мы с Пат еще прилежно бродили по самым первым залам с вялыми, провинциальными работами, когда Г. Г. в первые же десять минут обежал весь музей и примчался к нам, пышащий негодованием: хватит тратить время на эту хрень, не ломайте глаза, там дальше, залов через пятнадцать, есть пара-тройка приличных работ. После чего погнал нас на встречу с прекрасным.
Дели, февраль 1992 года, презентация фрески Г. Г. на фасаде британского консульства. Офицер консульства мучительно подыскивает верные слова и наконец указывает на местных рабочих, которые как раз завершают отделку:
— Надеюсь, они воплотили ваш замысел?
Позже, на приеме по случаю открытия, одна местная дама говорит Г. Г., что благодаря его фреске по-новому взглянула на британское искусство, и он разражается рыданиями.
Говард Ходжкин. Любовники. 1984–1992. Доска, масло. 171,5 × 185,4 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
Во время путешествий мы любим повторять одну присказку. Когда мы сидим в баре и любуемся площадью или коротаем время в ресторане, Г. Г. сообщает, полусерьезно, полунасмешливо: "Грядет картина". На что я обычно отвечаю: "Грядет роман". Он говорит правду (я, как правило, нет), и я часто думаю: что же творится у него в мозгу, когда он вот так сидит, выпятив подбородок, полуприкрыв глаза, заготавливая на будущее воспоминания? Путешествуя по Египту с Флобером, Максим Дюкан беспрестанно делал заметки и впоследствии наигранно возмущался, что писатель "вроде бы ни на что не смотрел, но все запомнил". Г. Г. всегда смотрит на мир внимательно, но когда он говорит, что предчувствует появление картины, он словно бы смотрит по-другому — в этот момент он поглощает мир, пережевывает его. И я знаю, что он запомнит все — вернее, все, что ему нужно.
Я уже три десятка лет разглядываю работы Г. Г., и это одна из радостей моей жизни — когда его произведения, словно стайка знакомых со всего света, встречаются на выставках то в одной, то в другой стране. Когда я вновь, спустя несколько лет, стою перед знакомой картиной, я частенько ловлю себя на том, что бормочу: "Ну да, разумеется", "Хорошо", "Ясно" или иногда: "Теперь понятно". Все эти банальности редко складываются в осмысленные реплики — они лишь показывают, что дружба с этими работами и постепенное проникновение в них не прерывались. Разумеется, я способен обсуждать названия и строить предположения о происхождении этих картин, находить в них сходства и отличия с другими; я могу описать то, что вижу, — подобно путешественнику, ведущему дневник. Эти работы обращаются к моему взгляду, сердцу и сознанию — но не той его части, где формулируются мысли. Как правило, я общаюсь с ними в идеальной браковской тишине. Они не поддаются словам — по крайней мере тем, что могли бы передать, что происходит со мной при встрече. И мне кажется, что слова не важны — по крайней мере, для меня лично. Важно лишь то, что происходит и повторяется, и все эти годы стремится повторяться вновь и вновь.
И довольно слов.
Слова благодарности
Эта книга обязана своим существованием моему другу, датскому издателю Клаусу Клаусену. Когда он в первый раз предложил выпустить сборник моих заметок об искусстве, я решил, что он шутит; когда он повторил свое предложение, я решил, что он просто продолжает проявлять вежливость. Клаус убедил меня в обратном, и двенадцать этих заметок были опубликованы в виде книги "Som jeg ser det" ("Как я это вижу". "Тидерне скифтер", 2011).
Все собранные здесь эссе — кроме текста о Жерико — были написаны на заказ, и я благодарен всем редакторам, которые были готовы поверить моим глазам. Я особенно признателен Карен Райт, опубликовавшей семь из них в журнале "Модерн пейнтерс". Я не единственный писатель или поэт, кому повезло уместиться в ее широкое представление о людях, способных писать про искусство.
Пат Кавана смотрела вместе со мной на бо́льшую часть описанных картин, и в тексте она тоже присутствует.
Первые версии этих заметок появлялись в следующих изданиях:
Жерико: "История мира в 10 1/2 главах" (1989)
Делакруа: "Таймс литерари саплмент", 7 мая 2010
Курбе: "Нью-Йорк ревью оф букс", 22 октября 1992
Мане: а) "Гардиан", 16 апреля 2011
б) "Нью-Йорк ревью оф букс", 22 апреля 1993
Фантен-Латур: "Лондон ревью оф букс", 11 апреля 2013
Сезанн: "Таймс литерари саплмент", 21/28 декабря 2012
Дега: "Модерн пейнтерс", осень 1996
Редон: "Модерн пейнтерс", зима 1994
Боннар: "Модерн пейнтерс", лето 1998
Вюйар: "Модерн пейнтерс", осень 2003
Валлоттон: "Гардиан", 3 ноября 2007
Брак: "Лондон ревью оф букс", 15 декабря 2005
Магритт: "Модерн пейнтерс", осень 1992
Ольденбург: "Модерн пейнтерс", зима 1995
Слепки: "Модерн пейнтерс", зима 2001
Фрейд: "Лондон ревью оф букс", 5 декабря 2013
Ходжкин: "Писатели о Говарде Ходжкине". Ирландский музей современного искусства / "Тейт паблишинг" (2006)
Список иллюстраций
Открытка. Кемперле (Финистер). Пон-Флери (Цветущий мост) (Editions d’Art "Yvon").
Теодор Жерико. Каннибализм. Эскиз к картине "Плот "Медузы"". Ок. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage.
Теодор Жерико. Плот "Медузы". Фрагмент. 1818–1819. Лувр, Париж. Фото Эриха Лессинга / akg-images.
Анри Фантен-Латур. Памяти Делакруа. Фрагмент. 1864. Музей Орсе, Париж. Фото: DeA Picture Library / The Art Archive.
Эжен Делакруа. Неубранная постель. Ок. 1827. Музей Эжена Делакруа, Париж. Фото © RMN — Grand Palais (Musée du Louvre) / Michèle Bellot.
Гюстав Курбе. Средиземноморье. 1857. Собрание Филлипс, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
Гюстав Курбе. Встреча. Фрагмент. 1854. Музей Фабра, Монпелье. Фото: Bridgeman Images.
Гюстав Курбе. Мастерская художника. Фрагмент. 1854–1855. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
Анри Фантен-Латур. Мастерская в квартале Батиньоль. Фрагмент. 1870. Музей Орсе, Париж. Фото: Collection Dagli Orti / The Art Archive.
Эдуар Мане. Букет сирени. 1882. Старая Национальная галерея, Берлин. Фото: Jörg P. Anders. © 2015 Photo Scala, Florence/BPK, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin.
Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. Фрагмент. 1867–1868. Кунстхалле, Манхейм. Фото: The Art Archive.
Слева: Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. Фрагмент. 1867–1868. Национальная галерея, Лондон. Фото: akg — images; справа: Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. 1868. Кунстхалле, Манхейм. Фото: The Art Archive.
Анри Фантен-Латур. Угол стола. Фрагмент. 1872. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
Анри Фантен-Латур. Памяти Делакруа. Фрагмент. 1864. Музей Орсе, Париж. Фото: DeA Picture Library / The Art Archive.
Анри Фантен-Латур. Семья Дюбур. 1878. Музей Орсе, Париж. Фото: Bridgeman Images.
Морис Дени. Оммаж Сезанну. Фрагмент. 1900. Музей Орсе, Париж. Фото: Erich Lessing / akg-images.
Поль Сезанн. Игроки в карты. 1893–1895. Галерея Института Курто, Лондон. Фото: Bridgeman Images.
Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном кресле. Ок. 1877. Холст, масло. 72,4 × 55,9. Музей изящных искусств, Бостон. Дар Роберта Трит Пэйна II. Фото: Bridgeman Images.
Эдгар Дега и Уолтер Барнс. Апофеоз Дега. 1885. Альбуминовая серебряная печать. Музей Гетти, Лос-Анджелес. Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.
Эдгар Дега. Расчесывание волос. Ок. 1896. Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, Осло. Фото: Børre Høstland.
Эдгар Дега. Урок танцев. Фрагмент. Ок. 1879. Национальная галерея искусства, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
Одилон Редон. Мадам Камилла Редон за чтением. Частное собрание. Christie’s Images. Photo: Bridgeman Images.
Одилон Редон. Химера (Фантастическое чудовище). 1883. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.
Одилон Редон. Циклопы. Ок. 1914. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.
Эдуар Вюйар. Пьер Боннар. Из цикла "Анабаптисты". 1930–1934. Музей современного искусства, Париж. Photo: Roger-Viollet / Bridgeman Images.
Пьер Боннар. Обнаженная в ванне. 1925. Галерея Тейт, Лондон. Фото: Tate, London 2015 © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Пьер Боннар. Угол стола. 1935. Центр Помпиду, Париж. Фото: Bridgeman Images © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Эдуар Вюйар. Женщина, метущая пол. Ок. 1899–1900. Собрание Филлипс, Вашингтон. Фото: Bridgeman Images.
Эдуар Вюйар. Затылок Мизии. 1897–1899. Частное собрание.
Эдуар Вюйар. Разговор. 1893. Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург.
Феликс Валлоттон. Ложь. 1898. Балтиморский музей искусств, Балтимор. Собрание Кон. Фото: akg-images.
Феликс Валлоттон. Пятеро художников. Фрагмент. 1902. Винтертурский художественный музей, Винтертур, Швейцария. Фото: akg-images.
Феликс Валлоттон. Деньги. 1898. Фото: akg-images.
Феликс Валлоттон. Пруд (Онфлёр). 1909. Базельский художественный музей. Фото: akg-images.
Жорж Брак. Фабрики Рио-Тинто в Эстаке. 1910. Дар Женевьев и Жана Мазурель в 1979. Музей современного искусства метрополии Лилля (ЛАМ). Инв.: 979.4.19. Фото: Muriel Anssens © ADAGP, Paris and DACS, London 2015.
Ричард Аведон. Жорж Брак, художник, и его жена Марсель. Париж, 27 января 1959. © The Richard Avedon Foundation.
Рене Магритт. Избирательное сродство. Частное собрание. Фото: Scala, Florence © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.
Рене Магритт. Ясновидение. 1936. Частное собрание. Фото: Scala, Florence © ADAGP, Paris and DACS London, 2015.
Клас Ольденбург. Проект монументальной скульптуры в Центральном парке — плюшевый мишка. 1965. Масляная пастель, акварель. 60,6 × 47,9 см. Собрание Музея американского искусства Уитни, Нью-Йорк. Дар Фонда современного американского искусства, президента Леонарда Лодера. © 1965 Claes Oldenburg.
Клас Ольденбург. Гигантский мягкий вентилятор. 1966–1967. Винил, наполненный полиуретановой пеной, холст, дерево, металл, пластиковый вентилятор, примерно 305 × 149 × 157,1 см; провод и штепсель длиной 736,6 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк, собрание Сидни и Харриэт Янис, 1967. Фото: 2014, Digital Image, The Museum of Modern Art, New York / Scala Florence. © 1966–1967 Claes Oldenburg.
Рон Мьюек. Мертвый отец. 1996–1997. Смешанная техника. 20 × 38 × 102 см. Собрание Стефана Т. Эдлиса. С разрешения галереи Саатчи, Лондон © Ron Mueck, 2015.
Поль Рише. Атаксическая Венера (La Vénus ataxique). 1895. Музей здравоохранения, Париж. © F. Marin / AP-HP.
Голова англичанина. 1840 (?). Неизвестный автор. Национальный музей естественной истории, Париж. © MNHN — Daniel Ponsard.
Рука великана из цирка Барнума. Ок. 1889. Неизвестный автор. Музей Фрагонара, Национальная школа ветеринарии, Мезон-Альфор, Франция.
Рембрандт Харменс ван Рейн. Художник в мастерской. Ок. 1628. Масло, доска. 24,8 × 31,7 см. Музей изящных искусств, Бостон. Собрание Зои Оливер Шерман. Дар в память Лилли Оливер Пур. Фото: Bridgeman Images.
Люсьен Фрейд. Комната в отеле. Фрагмент. 1954. Галерея Бивербрук, Фредериктон (провинция Нью-Брансуик, Канада) © The Lucian Freud Archive. Photo: Bridgeman Images (ниже приведена полностью).
Люсьен Фрейд. Художник, застигнутый обнаженной поклонницей. Фрагмент. 2004–2005. Частное собрание. © The Lucian Freud Archive. Photo: Bridgeman Images (ниже приведена полностью).
Люсьен Фрейд. Два японских борца у раковины. 1983–1987. Чикагский институт искусств. © The Lucian Freud Archive. Фото: Bridgeman Images.
Говард Ходжкин. Альпийский снег. 1997. Дерево, масло. 33,6 × 39,4 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
Говард Ходжкин. Посвящение Дега. 1993. Дерево, масло. 66 × 76 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
Говард Ходжкин. Любовники. 1984–1992. Доска, масло. 171,5 × 185,4 см. © Howard Hodgkin. С разрешения галереи Гагосяна.
Примечания
1
"Да здравствует король!" (фр.)
(обратно)2
"А, виньетка!" (фр.)
(обратно)3
Даниэль Обер — композитор, придворный капельмейстер при Наполеоне III. (Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика).
(обратно)4
Это могла быть двоюродная племянница Наполеона III принцесса Августа, которой в 1859 г. было двадцать три года, или ее младшая сестра принцесса Батильда-Алоиза, которой было девятнадцать.
(обратно)5
Здесь и далее цитаты из "Дневника" Делакруа приводятся в переводе Т. Пахомовой, если не указано иное.
(обратно)6
Личные записи (фр.).
(обратно)7
Перевод наш. — И. М.
(обратно)8
Маркантонио Раймонди — итальянский первопечатник XVI в., создал множество гравюр по знаменитым картинам.
(обратно)9
Перевод наш. — И. М.
(обратно)10
Институт Франции, объединяющий Академии наук и искусств, существует под этим названием с 1806 г.; Делакруа был избран, конечно, в Академию изящных искусств.
(обратно)11
Перевод наш. — И. М.
(обратно)12
Жан Жувене — художник-классицист, автор картин на исторические и евангельские сюжеты.
(обратно)13
Теперь ее довольно легко увидеть в Музее Орсе. Джон Апдайк отметил ее поступление в коллекцию стихотворением с характерным названием "Две манды в Париже" ("Американа и другие стихотворения", 2001) — Примеч. автора.
(обратно)14
Перевод с фр. Н. Любимова.
(обратно)15
Лодке-мастерской (фр.).
(обратно)16
Случайных свидетельств (лат.).
(обратно)17
Завершающий смертельный удар (фр.).
(обратно)18
Помни о смерти (лат.).
(обратно)19
Bridget Alsdorf. Fellow Men: Fantin-Latour and the Problem of the Group in 19th-Century French Painting. Princeton, 2012. — Примеч. автора.
(обратно)20
Группа "Наби" (о которой будет сказано позднее) — это художественная группа с одним из наименее привлекательных и информативных названий в истории. Лучшими крестными зачастую становятся злостные критики: взять хотя бы импрессионизм и кубизм. Термин "набизм" (описывающий творчество Боннара, Вюйара, Валлоттона, Мориса Дени, Кер-Ксавье Русселя и скульптора Майоля) предложил поэт Анри Казалис. "Наби" на древнееврейском и арабском значит "пророк", и предполагалось, что набиды возродят живопись — подобно тому, как ветхозаветные пророки возродили религию. Однако ни в их картинах (сценках из современной городской жизни), ни в скромном поведении не было ничего пророческого. Кто-то язвительно предположил, что они получили свое имя за то, что "большинство носило бороды, среди них были евреи, и все поголовно были убийственно серьезны". — Примеч. автора.
(обратно)21
Право следования (фр.) — право, по которому художник получает определенный процент с суммы перепродажи своего произведения.
(обратно)22
Цит. по: Алекс Данчев. Сезанн. Жизнь. 2016.
(обратно)23
Буквально: "знающий идиот" (фр.), умственно отсталый человек, проявляющий незаурядные способности в какой-либо одной области.
(обратно)24
Грязного буржуя (фр.).
(обратно)25
Из стихотворения У. Х. Одена "Как-то вечером", перевод М. Немцова.
(обратно)26
Отсылка к строчке из "Баллады Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда, которая в переводе В. Топорова звучит так: "Любимых убивают все".
(обратно)27
Анри Руссо (по прозвищу Таможенник) — французский художник-постимпрессионист, крупный представитель примитивизма. Известен экзотическими пейзажами, на которых часто изображал джунгли.
(обратно)28
Афоризм Анри де Монтерлана, французского писателя, более известен в сокращенном виде: "Счастье пишет белым".
(обратно)29
Фамилия Рене — Monchaty (фр., букв.: "здесь мой кот").
(обратно)30
Отсылка к портрету Луи-Франсуа Бертена кисти Энгра.
(обратно)31
Клички, взятые из комиксов и историй о ковбое Баффало Билле, которыми увлекались Пикассо и Брак. Pard (сленг; сокращение от "партнер") — приятель.
(обратно)32
Анри Филипп Петен (1856–1951) — видный участник Первой мировой войны, маршал Франции, победитель Вердена; в 1940–1944 гг. — глава режима Виши. В 1945 г. приговорен к расстрелу за государственную измену и военные преступления (приговор заменили на пожизненное заключение).
(обратно)33
Поскольку владелец компании также является совладельцем футбольного клуба "Кристал Пэлас", болельщикам на трибуне Селхерст-парка достаточно посмотреть вниз, чтобы увидеть магриттовские винные бутылки, украшающие крыши скамеек запасных для гостей и хозяев поля. Это небольшое смещение, и, глядя на него, трудно избавиться от мысли, что художник бы его одобрил. — Примеч. автора.
(обратно)34
Наскучившим развлечением (фр.).
(обратно)35
"Человек в синем шарфе" М. Гейфорда (2010) и "Завтрак с Люсьеном" Дж. Грейга (2013). — Примеч. автора.
(обратно)36
Герой сказки К. Грэма "Ветер в ивах", пародия на взбалмошного аристократа.
(обратно)37
Ли Боуэри — артист варьете, продюсер, дизайнер; Сью Тилли — его близкая знакомая и впоследствии биограф. Оба позировали Фрейду в 1990-е для знаменитых картин ню. Тесси О’Ши — британская артистка варьете 1960-х.
(обратно)38
Джонатан Хармсворт, 4-й виконт Розермер, владеет медиахолдингом, в который входит и "Дейли мейл".
(обратно)



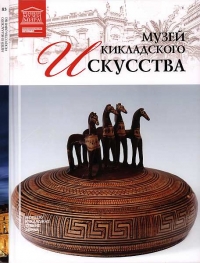






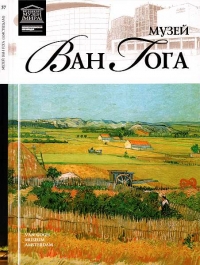
Комментарии к книге «Открой глаза (сборник)», Джулиан Патрик Барнс
Всего 0 комментариев