Михаил Вострышев Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи
Державный град
Мы – москвичи. Что делать, милый друг! Кинь нас судьба на север иль на юг, — У нас везде, со всей своею славой, В душе – Москва и Кремль золотоглавый; В нас заповедь великая жива, И вера в нас досель не извелася, На коих древле создалась Москва И чрез нее – Россия создалася. Аполлон МайковИсполинским амфитеатром нависают над центром столицы Воробьевы горы. Прямо под ними, на пойменном левом берегу Москвы-реки, раскинулся самый крупный в России стадион «Лужники». А еще каких-нибудь сто лет назад там, в Лужнецкой слободе, были лишь огороды да знаменитый Вавилон-колодец – морское ухо, которое, по местному преданию, со временем затопит весь город. Чуть левее – Новодевичий монастырь, чья история тесно связана с возвышением Московского государства и превращением его в мощную империю. На дальнем плане дугою встали высотные дома середины XX века, а среди облаков парит шпиль Останкинской телебашни.
А вот и Кремль – золотая корона города на Боровицком холме, сверкающая куполами старинных соборов. Здесь под балдахином, в порфире и короне, со скипетром и державой в руках, присягали на верность Отечеству российские цари. Здесь, облаченные в одежды святых предшественников, принимали символы патриаршей власти первоиерархи Русской Церкви. Здесь были собраны величайшие православные святыни… Старец Филофей, живший в начале XVI столетия, сравнивая Москву с Римом и Контантинополем, назвал богоспасаемый русский град Третьим Римом: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Другие называли первопрестольную столицу: Дом Пресвятой Богородицы, Второй Иерусалим, Новый Сион, Небесный град, Алтарь России.
Стрельцы XVII века
Множество московских окрестностей имеет свой неповторимый, милый сердцу отпечаток. На правом, низком берегу Москвы-реки, в ее излучине, напротив древнейшего центра города раскинулось Замоскворечье со своими невысокими причудливыми домиками, выстроенными купцами и мещанами, со знаменитой Третьяковской галереей, множеством торжественных храмов в тихих переулочках. Здесь особая страна, как выразился уроженец Замоскворечья А.Н. Островский. Коренной москвич поведет вас в Кремль, на Соборную площадь, и будет вспоминать, что на этом месте стоял когда-то его предок с другими стрельцами, а с Красного крыльца с криками «Любо вам, братья?!», раскачав, бросали им первых царских советников. «Любо!» – ревели в ответ стрельцы, подхватывая на пики очередного боярина. Другой москвич укажет из окон своего дома на Сретенке место, где стояла Сухарева башня, построенная Петром Великим в честь стрелецкого полковника, не изменившего в трудную для царя минуту. Третий, двуперстно крестясь, расскажет о благолепии староверческих часовен, где казненные Петром-крокодилом стрельцы почитаются за святых. Мученическую приняли они смерть и после нее не нашли успокоения, ибо головы их понатыкали на стенах Белого и Земляного города. «Что ни зубец, то стрелец», – сложил печальную поговорку народ и, затаив лютую обиду на власть, жаждал вновь услышать набатный гул колоколов, созывающий московский люд на мятеж…
Москва со своими парками и бульварами, прудами и речками, дворянскими особняками и дворами жилых домов создает самобытную, живописную, ни с чем не сравнимую панораму. Кусково, Останкино, Измайлово, Ховрино, Косино, Арбат, Крутицы. Нет, невозможно перечесть все городские окрестности, в которых сохраняется дух славного прошлого России. Русскую историю здесь можно изучать, прохаживаясь по переулкам, разглядывая старинные дома и храмы, вникая в смысл названий улиц и площадей.
У Москвы нет правильной и строгой красоты европейского города. Ее красота – это красота усадьбы, монастыря, переулка, базара. Все в ней смешано, перепутано; каждый уголок имеет свое особенное очарование, свои предания и тайны.
Два века назад составитель «Географического словаря Российского государства» Афанасий Щекатов утверждал: «Москва – первопрестольная столица всея России, известная своей древностью и пространством, знаменитая многолюдством и великолепнейшими зданиями, славная достопамятными происшествиями, в разные времена в ней случившимися, и рождением в стенах ее великих государей, незабвенных патриотов и мужей бессмертных, по справедливости почитающаяся в числе главнейших городов Европы».
У Никольских отвечают: «Славен Киев!» – говорят. И у Троицких не спят: «Славен Новгород!» – кричат. «Славен Псков!» – у Боровицких. «Славен Суздаль!» – у Тайницких. И гремят в ночи слова: «Славен, славен град Москва!» Славен город наших дедов, В жизни многое изведав, Сколько войн и сколько бед, Сколько радостей побед! И над всеми временами Древний Кремль, хранимый нами, Нас хранит из года в год — Наша гордость и оплот! Ну-ка снимем шапки, братцы, Да поклонимся Кремлю, Это он помог собраться Городам в одну семью. Это он нам всем на славу Создал Русскую державу. И стоит она века Нерушима и крепка. А преданья старины Забывать мы не должны. Слава русской старине! Слава нашей стороне!«Кто был в Москве, знает Россию» – эти слова Н.М. Карамзина не легковесное хвастовство старого московского жителя, а зрелое умозаключение знаменитого историографа.
Как-то быстро и невозвратно этот небольшой городок Суздальской земли стал центром обширного государства, собрал вокруг себя и удержал большинство исконных русских земель. Хотя в начале XVIII века белокаменная кружевница и потеряла блеск царского двора, переселившегося в северную столицу, но навсегда осталась средоточением народной жизни и религиозным центром.
Девятнадцатый век принес в Москву особый дух крупного предпринимательства, щедрого меценатства, искренней благотворительности. Проницательный А.С. Пушкин отметил: «Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развивалась с необыкновенной силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством». Каждый год был отмечен появлением новых заводов и фабрик, театров и музеев, богаделен и больниц, домов дешевых квартир и приютов. Москвичи строили добротно – на века. И главным человеком в городе, несмотря на обилие праздных людей, был человек труда.
Замоскворечье.
Рисунок А.А. Мартынова
Двадцатый век во многом изменил облик и быт Москвы. Одним горожанам перемены нравились, другие жалели безвозвратно ушедший старинный уклад жизни. Ничего не поделаешь – всем не угодишь. Москва слезам не верит, она кому мать, кому мачеха. Москва веками строилась, и душу ее уничтожить ни у кого не хватит сил. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта.
Собиратели Русской Земли
Юная Москва
На месте Святого озера в Косине жили когда-то старец-священник и пустынник Букал. У них была маленькая церковь, в которой они молились. Потом Букал ушел отсюда и поселился на высоком берегу реки Москвы. Здесь ему было откровение во сне, что на месте его нового жилища возникнет большой город, вынесет много испытаний от врагов, но потом будет знаменитее всех городов русских.
Отправился Букал рассказать о своем видении старцу-священнику. Когда рассказ был окончен, оба стали молиться за судьбу будущего города, и во время совершения священником литургии их церковь стала медленно погружаться в воду, а на ее месте образовалось озеро.
Достойным верующим, добавляет предание, и теперь слышны молитвы, которые возносят за Москву пустынник Букал и старец-священник.
Это было много лет тому назад. Святая Русь держалась сильными князьями, сидевшими на своих удельных престолах. Одно за другим разрастались и крепли княжества, а потом слабели и беднели.
В Суздальском княжестве, на перевале от Москвы-реки к Клязьме и Яузе, посредине Кучкова поля стояла большая усадьба князей Долгоруких. Здесь в 1147 году князь Юрий Долгорукий давал пир своему союзнику князю Северскому Святославу Ольговичу. Да такой пир, что о нем пронесся слух по всей Руси. Много народа съехалось тогда на московские и клязьминские берега. Но потом княжеская усадьба опять опустела. Однако ненадолго.
Весной 1156 года пришла гроза на московские леса – рать княжеских дружинников напала на них с острыми топорами. Крепкие березы, клены, сосны, дубы падали сотнями. Скрипели колеса и оглобли тяжелых телег, ржали кони. Голоса работников сливались в дружный гул. Что же творилось в Москве-усадьбе?
В келье схимника.
Художник К.В. Лебедев
На московских холмах рубили крепкий городок, чтобы было где обороняться от вражеских набегов. Как по щучьему велению, вырастали бревенчатые срубы, на зеленых лугах чернели валы да рвы. Под удалую песню бодро и дружно работали суздальцы. Жаркий весенний день парил солнышком. Быстрые речные струи журчали и пенились под крутыми берегами.
– Ишь ты, как в лесу валежник трещит! – говорил рыжий дюжий суздалец, отирая пот с покрасневшего лица. – Уж не медведь ли к нам на потеху идет?
– Какой тебе медведь! – отозвался другой работник. – Мы тут такой шум подняли, весь зверь разбежался.
Но вот сучья затрещали сильнее, и на прогалину из леса вышли двое. Оба седые, но крепкие телом. Одежда из лохмотьев на них едва держалась.
– Отколь вы? – малость струхнув, спросил рыжий.
– Из леса, – степенно отвечали пришельцы в один голос. – Вы нас не пугайтесь. Мы издавна в приклязьминских лесах живем. Смолу гоним, грибы сушим да молимся за свои грешные души.
– Чего ж вам надо?
– А вот присядьте-ка, братцы. Мы вам чудное дело поведаем.
Все расселись на свежих пнях.
– Ушли мы смолоду с братом от мирской суеты в уединение. Мы словно иноки-пустынники, только без пострига. И ладно жилось нам в лесу, не чаяли и выходить к людям. В одиночестве-то и грешишь меньше, и на душе покой да мир. Но как-то ночью приснился нам с братом вещий сон. Явился нам светозарный старец и сказал: «Идите, рабы Божьи, к людям суздальским и помогайте им ставить новый великий град. От того града на святой Руси вечная слава будет – на нем почиет благословение Господне». Вот мы и пришли, братцы, к вам на подмогу.
– Что ж, милости просим, – молвил десятник. – Потрудитесь вместе с нами.
– Дадим-ка им, ребята, рубахи и порты, – сказал один из суздальцев. – Не от себя ведь пришли, от Бога.
Живо одели княжеские ратники пришельцев, дали им хлеба, обласкали, приветили. Чист был в те времена душой и верой русский люд. Никто в словах не усомнился. И принялись лесные пустынники за работу. Тут уж все суздальцы на них воззрились: с чисто медвежьей силой рубили они столетние стволы, бревна, которые троим лишь под силу, в одиночку таскали к срубам. Глядя на них, быстрее заработали и суздальцы. Дивились десятники да сотники: почитай, в одно утро был срублен и слажен целый угол кремлевского острога.
Основание Москвы. Постройка стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году.
Художник А.В. Васнецов
От усадебных хором показались конники. Ехали они шибко, поспевая за седым боярином. Золотая пряжка на боярской шапке далеко светилась, конская сбруя отливала серебром. Подъехал боярин Дружина Святославич к работникам, снял шапку и молвил:
– Бог в помощь!
– Милости просим! Добро пожаловать! – сотнями голосов загудела толпа.
– Ай да работники! Лихо у вас дело спорится, – дивился боярин, оглядывая сруб. – Спасибо!
Поглядели на боярина дружинники, помолчали, почесали в затылках. Наконец один набрался смелости:
– Не нам спасибо, честной боярин, а вот новым работничкам, что из лесу пришли.
– Как из лесу? – удивился боярин, глядя на пустынников, которых подвели к его коню.
Десятник, переминаясь с ноги на ногу, рассказал о чудном появлении неведомых людей и вещем их сне. Долго боярин Дружина Святославович глядел на пришельцев. От глубокой думы чело его пошло морщинами.
– Верно ли? – спросил их.
– Истинно так, боярин, – промолвил старший. – Только не все поведал я твоим работникам, не все вещие слова святого старца пересказал. Великое от него сияние исходило. Пославши нас на работу, он еще молвил такие слова: «От града новосозидаемого пойдет слава по белу свету, как от Царьграда. Будет он больше и краше всех городов русских. Сядут в нем на престол могучие московские цари, святители православной церкви утвердят в нем христианское благочестие. И будет в великом граде Москве множество Божьих храмов, и державы иноземные понесут ему честь и поклоны. От моря до моря раскинется Московское царство, великое, неразделимое, необоримое. Будет оно крепко силой воинской, единым духом народа русского. Слава, слава, слава граду Москве – великому, вечному!» Вот что вещал нам святой старец, представший в сновидении.
И осенил себя говоривший широким крестом. Перекрестился и боярин.
– Чудны дела Твои, Господи! – молвил он, вздыхая. – Ну, стройте, братцы, великий град Москву с помощью Господней!
Иван Калита
«Вообще Москва заставила меня переселиться в другой мир – мир древности… Знаете что, я был космополит, а теперь какое-то перерождение, мне становится близким все русское».
Модест МусоргскийИздали видны на высокой круче крепкие стены со стрельницами, заборолами (защищенными бревенчатым бруствером площадки, идущим по верху крепостной стены), с тяжелыми, окованными железом воротами. За ними тесно скучились строения княжеского города. Почти посередине поднимается на высоких подклетях терем самого князя. Он срублен из толстых дубовых бревен, изукрашен резьбой и пестрой росписью. Высокое крыльцо с широкими лестницами и узорчатыми колонками ведет к терему со двора. Вокруг в беспорядке разместились княжеские амбары, закрома, погреба, конюшни, хлева, поварня, избы слуг, дворовых людей и холопов. Среди них стоят и хоромы кое-кого из бояр, к ним жмутся их службы.
Над темными крышами жилых и хозяйственных построек блестят золотые кресты московских церквей. Много их воздвигнуто в городе усердием князя Ивана и его благочестивых предков. В западной части, почти у Боровицких ворот, стоит самая древняя московская святыня – церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она поставлена еще при князе Юрии Долгоруком и срублена, говорят, из сосен того самого бора, который покрывал тогда весь Боровицкий холм и от которого теперь лишь кое-где средь строек да за стеною уцелели отдельные деревья.
Освящение Успенского собора в Московском Кремле в 1327 году.
Художник И.А. Заборовский
Возле самого княжьего терема стоит другая старая церковь – Спаса на Бору. При церкви – монастырь. Старый град князя Юрия Долгорукого был гораздо меньше теперешнего, и монастырь тогда находился за воротами, в бору. Теперь он оказался почти посередине Кремля. Любит князь Иван эту монашескую обитель, часто заходит послушать наставления старцев и жертвует богатые вклады в монастырскую казну.
Но гораздо дороже древних святынь для него только что освященный собор во имя Успения Божьей Матери – единственное каменное здание во всем городе. Его белые стены красиво выделяются среди темной массы других строений. С небольшим год тому назад заложил собор князь Иван вместе с покойным митрополитом Петром. Не дожил владыка до окончания постройки, и по завещанию его похоронили под новой церковью, а над его гробом князь Иван повесил лампаду, которая горит день и ночь. Там же, под храмом, похоронил московский князь и своего старшего брата Юрия, погибшего в Орде от руки тверского князя Дмитрия.
На Подоле, у Москвы-реки, под охраной кремлевских стен раскинулся торг. У пристани останавливаются ладьи с товарами, пробирающиеся к Смоленску, Новгороду, в стольный Владимир-на-Клязьме, Рязань-на-Оке, и дальше Волгою – в Сарай, к самому великому хану. Мытники со всех проезжающих купцов берут два алтына с ладьи и один алтын со струга.
Через реку устроен мост, от него через широкий пойменный луг, на котором пасутся княжеские табуны, бежит серой лентой большая Ордынская дорога на Рязань и дальше – в Орду. Навстречу Ордынской из-под восточной стены города подходит большая Смоленская дорога, которая ведет в Смоленск и к Волоку-на-Ламе (Волоколамску), где купцы переволакивают свои лодки из Ламы в Шошу, чтобы плыть к Волге. С каждого купеческого воза, проезжающего этими дорогами, и с каждого человека тоже берут мыт. Если же кто из купцов хочет поторговать на московском торгу, тот платит особую пошлину.
На торгу видны лавки и амбары московских купцов, в базарные дни сюда съезжаются окрестные крестьяне с деревенскими товарами, приносят свои изделия ремесленники из пригородных слобод и посада, и начинается бойкая торговля. Конечно, далеко еще здешнему торгу до новгородского, но и отсюда немало денег благодаря мытам попадает в казну князя Ивана.
Уже несколько дней на Москве необычные хлопоты и суета. Пришла весть, что тверичане, не стерпев обид ханского посла Чолхана, убили и его самого, и почти всех его воинов. Тверской князь Александр не сумел остановить своих буйных подданных и защитить ханских посланников. Князь Иван, посоветовавшись с боярами, решил ехать в Орду, чтобы, воспользовавшись гневом хана, вернуть Москве великое княжение.
Иван Данилович Калита раздает милостыню
Третий день холопы и княжьи люди грузят все необходимое в лодки на Клязьме у места, где выходит к ней волок из Яузы (село Болшево). Князь приедет сюда с боярами и слугами на конях и сядет в ладью.
Перед отъездом князь Иван подолгу толкует у себя в сенях с остающимися боярами, как беречь им княгиню с детьми и управлять княжеством в его отсутствие. Путь в Орду опасен, как встретит хан, неизвестно, и диктует князь дьяку «грамоту душевную»: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Се аз грешный худый раб Божий Иван пишу душевную грамоту, идя в Орду, никем не нужен[1], целым своим умом, в своем здоровии».
Кроме Москвы у князя Ивана пять городов. Много еще сел, слобод и волостей. Живут в них бортники, бобровники, рыболовы, пашенные смерды, с которых княжьи тиуны собирают оброк. Покидая Москву, князь Иван оставляет старшему сыну Семену Можайск и Коломну, Ивану – Звенигород и Рузу, Андрею – Серпухов. Зовет Иван боярина-казначея, велит ему отпереть сундуки, вынимает накопленные им и его предками богатства и делит между сыновьями. Каждому достаются и чаши золотые, и цепи драгоценные, и златотканные пояса, и драгоценное платье. Обо всем позаботился князь, каждой вещи нашел хозяина, недаром же за скопидомство прозвали его Калитой, что значит «мешок с деньгами».
Назавтра, отстояв до зари обедню в Успенском соборе, отслужив молебен Божьей Матери и панихиду у гробниц святителя Петра и брата Юрия, попрощавшись с княгиней, детьми и домочадцами, трогается князь в путь. До Клязьмы с ним едут множество бояр и слуг, дальше будут сопровождать двое бояр и небольшой отряд. Княгиня с детьми восходит на кремлевскую стену и долго смотрит вслед отъезжающим, пока те, переехав моховым болотом за рекою Неглинною, не скрываются из глаз за холмом у Кучкова поля.
В Орду князь Иван, как всегда, явился не с пустыми руками, он поднес богатые дары хану, ханшам и всем мурзам. Хан был с ним ласков, но ярлык на великое княжение пока не дал, а велел наказать буйных тверичей и их князя Александра.
Ранней зимою по первому снегу двинулся Иван обратно. С ним шел татарский отряд в пятьдесят тысяч всадников под командой пяти темников. Пройдя покорную хану Рязань, войско вступило в Суздальское княжество. Тут к татарам присоединились воины Ивана и суздальского князя. Как грозная лавина прошли они по тверской земле. Князь Александр не осмелился выйти им навстречу и бежал в Новгород. Однако новгородцы его не приняли, боясь, что Москва закроет путь их купцам и оставит без хлеба. Пришлось укрываться Александру в Пскове.
Татары разграбили тверские и новгородские земли, разорили Тверь, Кашин и Торжок, грабили и боярские палаты, и бедные хижины, многих увели в полон. Только в Москве и во всей вотчине князя Ивана не пострадал ни один холоп. В середине зимы он вновь побывал в Орде и получил от хана Узбека ярлык на великое княжение.
В Московской земле наступили времена тишины и спокойствия, из опустошенных татарами русских земель шли сюда крестьяне и посадские люди. Князь Иван и бояре принимали их с радостью, отводили земли в своих волостях и селах, давали льготы и подмогу. Даже бояре из других городов бросали своих князей и шли на службу в Москву. Возвращаясь из Орды, князь Иван каждый раз приводил толпы выкупленных им русских пленников и селил их в пустынных местах своего княжества, помогая обзавестись хозяйством и не беря оброка в течение нескольких лет. Зато потом от обустроенных и расчищенных пашен начинал получать изрядные капиталы в свою казну.
Москва богатела и становилась самым сильным городом на Руси.
Божьей силой
С 1353 года до своей смерти в 1359 году Москвой правил великий князь Иван Красный. При нем митрополитом всея Руси в 1354 году стал святитель Алексий. Он взялся за воспитание сына Ивана Красного, будущего великого князя Дмитрия Донского, и отстоял право девятилетнего мальчика Дмитрия на московский престол после смерти его отца, несмотря на несогласие многих князей.
Уже давно московские колокола отзвонили к вечерне. Богомольцы уже давно разошлись из церкви по домам. Город приготовился к ночному отдыху. В конце улиц протянуты поперек цепи. Мелькают огоньки перед иконами в божницах на углах улиц и на площадях. Странен вид этих огоньков в заледеневших, густо покрытых снегом божницах – огонь, светящийся изо льда и снега.
По кремлевским стенам ходят дозорные, и в тихом морозном воздухе раздаются их оклики:
– Славен город Москва! – начинает один.
– Славен город Киев! – подхватывает другой.
– Славен город Смоленск! – несется дальше.
– Славен город Новгород!
И, как из туго набитого мешка, сыпятся одно за другим в тишину московских улиц имена рассеянных по лицу широкой земли Русской городов: они в эти часы, как и молодая Москва, отдыхают от тяжелой жизненной страды.
А вечер все углубляется, становится все таинственнее. И чуткая душа чувствует присутствие в воздухе невидимых теней былого.
Временами, взрезая тяжелые пласты снега, вразвалку проедет по улицам возок запоздавшей боярыни, или протрусит рысцой, со слугами на верховых конях, знатный человек, или, словно крадучись, проберется вдоль стен домов незаметный обыватель.
И не слышно уже более грохота отмыкаемой уличной цепи, и лая встревоженных собак, и опять с кремлевских стен падают в воздух имена старых русских городов.
И над Москвою загадочно, таинственно, тихо-тихо…
Ночные призраки наполнили и дом боярина Федора Бяконта. Выходец из черниговской земли, человек сильный, богатый, боярин Феодор имеет завидное положение при княжеском дворе.
Разумен не по летам и через своего отца блестящую будущность должен иметь старший сын Федора Елевферий. Любит он игры с товарищами, любит поскакать по полям на быстрой лошадке, половить весною птиц в силки. Но более всего любит рассказы старых людей о том, как жилось прежде, что делалось раньше на Руси.
В бою.
Художник Н.Н. Каразин
В жарко натопленной горнице у печи из цветастых изразцов сидит древний старик, которого призревает по милосердию своему боярин Федор. Неспешно ведет он свой рассказ. Маленький Елевферий углубился в тяжелое резное сиденье с подушками и замер – не шелохнется.
При тусклом освещении оплывающей в медном заморском шандале свечи все же можно различить блеск умных глаз ребенка, выражение напряженного внимания, сменяющееся чувство страха, боли, восторга. Одною ручонкой мальчик схватился за поясок, перехватывающий шелковую голубую рубашку, другую уронил на ручку сиденья, и пальцы этой руки часто, судорожно сжимаются. А речь старика мерная, нет страсти в усталом сердце. Не без ужаса рассказывает он о разгроме русских городов при Батые, о страшных пожарах, о семьях княжеских, задохнувшихся в дыму сжигаемых соборов, тонувших в крови; о стоне, которым стонала тогда Русская земля. Стонала и стонет еще…
Без страсти рассказывает старик об удальцах-князьях Мстиславовых и внуке их, прогремевшем по миру благоверном великом князе Александре Ярославиче Невском.
Чего не доскажет старик, то восполняет богатое воображение мальчика. Он слышит грохот битв, он видит князя, как Божий гнев несущегося по полю битвы, под сенью еле поспевающего за ним стяга.
И маленькое сердце, уставшее страдать унижениями родины, утешается славными победами князя Александра.
А старик ведет все дальше свою неспешную речь. Он говорит о том, как киевскому богатырю пришлось склонять свою вольную голову перед ханом, изъявлять ему покорство, чтобы своим унижением покоить родную землю. И маленький Елевферий едет за князем Александром в глубь степей и пустынь к великому хану. Он видит кости умерших по дороге русских путников. И разные чувства смешиваются в детской груди. Хочется, как князь Александр, носиться по полю битвы с поднятым разящим мечом, хочется страдать за народ, исходить за него кровью. И молиться, молиться за скорбную Русь.
* * *
Пятнадцати лет Елевферий поступил в один из московских монастырей и там был пострижен с таинственно нареченным ему именем Алексий.
Шел год за годом. Сверстники бывшего Елевферия возвышались при дворе, а он восходил все выше и выше в тайнах божественной любви.
Двадцать лет прожил он в Богоявленском монастыре, где в то время было много добрых иноков. Тогдашний московский митрополит святой Феогност часто беседовал с Алексием. Чтила его и великокняжеская семья. В течение двенадцати лет он был помощником святителя Феогноста, который, умирая, указал на него как на своего преемника.
Митрополит Алексий принял и свято хранил завет святителя Петра и его преемников: укреплять Москву и сплачивать вокруг себя все еще слабую и неустроенную Русскую землю.
Не дала судьба сбыться мечтам его детства, не сверкал меч в его руках на полях жаркой битвы во славу родины. Но и без меча в руках он был ее защитник и оборонитель. Условия того времени требовали всячески избегать столкновений с Ордой, копить мало-помалу силы и исподволь готовиться к тому, чтобы вступить в открытую борьбу и свергнуть унизительное, тяжкое иго.
Татары оставляли неприкосновенным главное сокровище русских – их веру. С самого начала ига они охранными грамотами предоставляли епископам и духовенству обширные права, и многие из духовных лиц пользовались особым уважением татар. Так, по словам летописи, «имя святителя Алексия промеж дальних, неверных, безбожных татар обносилось как святыня».
Церковная утварь.
Художник И. Глухов
В 1357 году от хана Джанибека, жена которого Тайдула уже три года лежала слепой, пришла великому князю грамота: «Слыхал я про вашего главного попа, что, когда просит он чего у Бога, Бог слушает его. Если его молитвами исцелится царица моя, будете в миру со мною. А не пустишь его – пленю землю твою».
* * *
По Москве из дворцового терема быстро пронеслась весть о грамоте, полученной великим князем Иваном Ивановичем Красным от Джанибека. От бояр, проговорившихся в семейном кругу, весть была подхвачена их слугами, пронеслась в народ. О письме уже судили и рядили на площадях и торжищах, сошедшиеся у колодца хозяйки, прихожане, остановившиеся у паперти после службы.
Боялись, трепетали, гадали, надеялись.
И среди поднявшегося по всей Москве гомона ничего не знал о том только тот, кого больше всего касалось это дело.
Наконец великий князь послал к митрополиту боярина с вестью, что придет говорить с ним о важном деле.
От поздней обедни великий князь пожаловал к святителю.
Они остались говорить наедине.
Казалось, смятение, волной разлившееся по Москве, не коснулось ликами только митрополичьей кельи. Бесстрастно теплились лампады перед старых икон, бесстрастен был вид величавого святителя с печатью неземного мира и ясности на выразительном лице.
Спокойно слушал Алексий взволнованный рассказ князя, который, держа в руках татарскую грамоту, наизусть читал затверженный перевод придворных толмачей.
Князь умолк. Святитель тоже молчал. Потом встал, помолился на иконы. И все тем же спокойствием святились ясные глаза. Наконец он произнес:
– Прошение и дело выше моей меры. Но я верую, что Бог, даровавший прозрение слепорожденному, не презрит того, кто с верою Его просит…
* * *
По Кремлю несся гул колоколов.
В Успенском соборе по случаю отъезда святителя Алексия собрались служить напутственный молебен.
Во все кремлевские ворота валом валил народ. Соборная площадь казалась морем колыхающихся голов. Рослые вершники с трудом охраняли узкий проход, оставленный для следования в собор великокняжеской семьи.
Митрополит прибыл раньше, воздавал поклонение гробам предшественников своих, московских святителей, облачался. Под трезвон колоколов из терема прошел великий князь с супругой и вдовствующей княгиней Серпуховской, а перед ними, взявшись за руки, шли малолетний княжич Дмитрий, будущий победитель Мамая, и двоюродный брат его малолетний Владимир Андреевич, будущий сподвижник Дмитрия на Куликовом поле.
Начался торжественный чин истового молебного пения.
Привычно внимал святитель Алексий знакомым словам, и в то же время много мыслей проносилось в голове его, много чувств волновалось в груди: рассказы старика о скорбях Русской земли, желание помочь, послужить, принести жертву родине, дальнее утро на подмосковных лугах и таинственный голос, первые подвиги, труды для родного края, взваленная на плечи непосильная ноша – требование хана.
Митрополит Алексий в Орде у больной Тайдуллы.
Художник А.Е. Земцов
Душа как бы отделилась от тела, унеслась из Успенского собора, вступила там, в высоком небе, в ряды отстрадавших, прославленных строителей Русской земли, и требовала чуда…
Вставали картины, с детства поразившие святителя. Неужели опять нашествие, избиваемый народ, дымящиеся развалины городов?..
И вознесшаяся в небо, и в то же время присутствовавшая в Успенском соборе душа требовала чуда.
Медленно совершался обряд молебного пения. В слезах, трепеща за свою участь, молилась в храме и вокруг него толпа многонародной Москвы. В один протяжный вопль сливались мольбы к Богу московских жителей.
И громче всех там, в недостижимом небе, вопила душа Алексия-митрополита, требуя чуда.
Вдруг в церкви поднялось движение. Свеча у раки московского первосвятителя Петра, стоявшая по ошибке незажженной, зажглась сама собою.
И в этом чуде было как бы уже обещание и совершение требуемого Джанибеком чуда.
Русские летописи рассказывают о том, как святитель Алексий с этой чудесной свечой прибыл в Орду; как между тем Тайдула видела во сне святителя и заказала для него облачение, подробно описав его по сновидению; как в Орде святитель, отслужив молебен, зажегши Петрову свечу и окропив Тайдулу святой водой, дал слепой ханше прозрение; как Джанибек подарил святителю медный перстень с изображением дракона, а в Москве – землю, где митрополит основал Чудов монастырь, в который упокоились его святые мощи.
Под великокняжеским стягом
После очередного пожара в 1367 году великий князь Дмитрий Иванович приказал вместо деревянного выстроить каменный город. При нем возвели белокаменные стены и башни городской крепости, которая с этого времени стала называться в летописях Кремлем.
Бракосочетание великого князя Дмитрия Ивановича с Евдокией совершено было в 1366 году, января месяца в 18-й день. Князю исполнилось восемнадцать лет, и он княжил уже шестой год. Брачное торжество прошло в Коломне со всем великолепием и пышными обрядами того времени. По словам летописца, это событие преисполнило невыразимой радостью сердца всех русских и тем более виновников торжества. Но недолго суждено было молодой княгине наслаждаться безмятежной жизнью счастливого супружества. В самый год бракосочетания ужасная моровая язва поразила Москву. Затем следовали городские пожары, нашествие Ольгерда, поездка Дмитрия в Орду. Евдокия с твердостью переносила эти бедствия, являясь, сколько было в ее силах, помощницей своего супруга.
Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия Ивановича перед Куликовской битвой
Узнав о Мамаевом нашествии, Дмитрий Иванович по благочестивому обычаю предков прежде всего поспешил в Успенский собор с молитвой о подании небесной помощи против врагов и потом уже разослал гонцов для сбора воинства. Тогда все вдруг пришло в движение, каждый горел желанием принять участие в предстоящей борьбе. Кто не мог служить отечеству оружием, тот служил ему молитвами и делами христианского благочестия. В этом последнем деле Евдокия подавала первый и лучший пример.
Великий князь между тем, устроив полки, отправился в Троицкий монастырь, чтобы принять благословение преподобного Сергия и просить его молитв. Возвратившись в Москву, он велел войскам выходить, а сам пошел в Архангельский собор. Укрепившись там молитвой и поклонившись праху предков, Дмитрий Иванович вышел из церкви. Тут встретила его Евдокия, окруженная женами князей и воевод, множеством народа, собравшегося провожать великого князя.
– Оставь слезы, – сказал ей князь. – Бог нам будет заступником, и мы не убоимся врага.
Скоро получено было известие, что великий князь со всем войском переправился через Оку в Рязанскую землю и пошел на бой против татар. И стали все скорбеть за князя и за землю Русскую. Не в одной Москве, но и во всех других городах, по словам летописца, раздавались стоны, плач, рыдания.
Утром 8 сентября 1380 года, в субботу, на Рождество Пресвятой Богородицы, русские полки перешли Дон и смело ударили на татар, несметною силою обложивших противоположный берег.
– Княже, дозволь слово вымолвить! – обратился к Дмитрию Ивановичу любимец его боярин Михаил Андреевич Бренко.
– Говори, Михайло Андреевич, – ласково ответил великий князь.
– Разреши, княже, мне твои доспехи княжеские надеть и стяг твой великокняжеский на свои рамена принять! Дмитрий с изумлением взглянул на говорившего. Татары знают хорошо твои бранные доспехи, будут пытаться тебя в полон взять или убить… Погибнет пастырь – разбегутся овцы его, и снова святая Русь попадет под ярмо татарское!
– Верный ты раб, Михайло, растроганно произнес Дмитрий Иванович, – говоришь правду.
Князь и боярин поменялись доспехами и конями. Бренко взял благоговейно черный великокняжеский стяг и поместил его в особый поставец у правого стремени.
Хан Мамай во время Куликовской битвы
– Да хранит тебя Бог, Михайло Андреевич! – сказал великий князь, прислонился к иконе Пресвятой Богородицы, лежащей на бывших доспехах, перекрестился истово, широко и поскакал в самую сечу.
Русские двинули на врага почти всю свою рать, оставив в засаде только полки князя Владимира Андреевича и воеводы Дмитрия Михайловича Боброка.
На невысоком кургане остался с несколькими дружинниками боярин Бренко, твердо держа в стремени великокняжеский стяг. Запели, завизжали над его головою татарские стрелы; заметили зоркие вражеские очи на холме доспехи Дмитрия Ивановича и стяг. Так и рвутся до кургана добраться. Но держатся дружинники и разят врагов длинными своими копьями.
Все больше и больше разгорается бой, все сильнее наседают на русские полчища татарские! «Посечены многие князья, бояре и воеводы русские, мечами булатными о шеломы хановские», – говорит летописец. Дрогнули русские полки и отступили, татары с гиком за ними погнались.
Увидел из засады князь Владимир Андреевич, как побежала рать православная, заплакал горько и сказал боярину Волынскому-Боброку:
– Пропала Русская земля! Пойдем с нашими полками, хоть честь свою сохраним, костьми ляжем!
– Не время, князь, – ответил спокойно воевода, – ветер прямо на нас дует, подождем.
Ждать долго не пришлось; ветер переменился, и воевода Боброк вместе с князем Владимиром Андреевичем бросились на татар. Последние, не ожидая встретить неприятеля, дрогнули и побежали. Русские, видя беспорядок в татарских полчищах, дружно надвинулись на них и погнались за врагом. Гнали до самой реки Мечи, людская кровь лилась на десять верст, лошади ступали по трупам. Многие полегли в том бою.
Победа русских была полная. Медленно собирались на звуки труб измученные ратники.
– Где же Ольгердовичи? – спросил князь Владимир Андреевич.
– Посечены, – был ответ дружинников.
– А брат мой, великий князь Дмитрий Иванович?
– Видел я, как на него насели четыре татарина, – ответил седой дружинник, залитый кровью. – Я не мог ему помочь.
– Великий князь ранен, – заметил другой ратник, – у него на лице была кровь.
– Ступайте ищите великого князя! – обезумев от горести, приказал Владимир Андреевич. – Живого или мертвого, но найдите мне брата.
Все бросились на поиски.
Дмитрий Донской, сопровождаемый князьями и боярами, объезжает Куликово поле после битвы.
Художник А.И. Шарлеман
– Убит великий князь! – с ужасом воскликнул воевода Боброк, заметив на кургане доспехи Дмитрия Ивановича с иконой Богоматери на груди.
Белый конь, пораженный вражеской стрелой, был тут же.
Убитый ратник лежал лицом к земле. Великокняжеский стяг закрывал его голову.
Дружинники осторожно перевернули тело.
– Это не брат Дмитрий, это боярин Бренко! – вскричал Владимир Андреевич. – Ищите, ищите!
Наконец наткнулись на Дмитрия Ивановича. Он лежал, израненный, без чувств, под ветвями срубленного дерева.
– Жив! – плача от радости, сказал Владимир Андреевич.
– Жив великий князь! – эхом пронеслось между полками.
Скоро Дмитрий пришел в себя и тихо спросил:
– Где я?
Ему было передано известие о победе и о потерях русских. Услышав о смерти боярина Бренко, Дмитрий Иванович перекрестился и прошептал:
– Помяни, Господи, раба твоего боярина Михаила, положившего душу ради моего спасения!
Великая княгиня Евдокия у ложа умирающего мужа.
Художник В.В. Муйжель
Поход имел благоприятный исход, ярко блеснула заря свободы от татарского ига в русских душах.
22 мая 1389 года, не достигнув еще сорока лет, умер великий князь Дмитрий Иванович Донской.
Потеря супруга была для Евдокии несчастьем, ничем не вознаградимым, последним испытанием, разорвавшим все связи с земным. Она отреклась от мира, изнуряя тело свое постом и молитвой и посвятив себя всецело на дела благочестия и благотворения.
Владимирская икона Божьей Матери
Владимирский образ Божьей Матери – одна из самых древних икон Пресвятой Богородицы; по преданию, написана она святым евангелистом Лукой. В 1331 году образ был прислан константинопольским патриархом киевскому князю Мстиславу и поставлен в Вышгороде. Князь Андрей Боголюбский перенес ее во Владимир, где для нее выстроили Успенский собор, и тогда же она получила название «Владимирская».
С 1395 года и по сей день чудотворная Владимирская икона Божьей Матери пребывает в Москве.
Печален был для России конец XIV века. Едва Русь стала понемногу оправляться от бедствий, причиненных грозным войском хана Мамая, как в Орде воцарился Тохтамыш, и в Москве была получена тревожная весть, что татары захватили в земле болгарской всех русских купцов и на их судах стали переправляться через Волгу. Этого нападения не ожидали и потому не успели приготовиться к отпору.
Вторгшись в русские пределы в 1395 году, Тохтамыш нигде не встречал сопротивления, взял уже Серпухов и быстро шел к Москве. Столица Русского царства была беззащитна. Только незначительная горсть храбрецов затворилась в Кремле, дав торжественную клятву биться до последней капли крови с неверными. Но им недолго пришлось стоять на защите русской твердыни. Хитростью вызванные из Кремля, все они были изрублены татарскими саблями и истоптаны лошадьми. Это была не битва, а дикая бойня. Не удерживаемые теперь никем, татары ворвались в Кремль, разбили церковные двери и вломились в алтари. Церковные сосуды, облачения, княжеское имущество, пожитки бояр, товары купцов, снесенные в Кремль, – все было разграблено или истреблено пожаром.
Татары, пирующие после битвы.
Художник Н.А. Кошелев
Разрушив Москву, татары стали рыскать по всей великокняжеской области и опустошили волости: Юрьева, Звенигорода, Дмитрова, Можайска… При неожиданном натиске Тохтамыша почти все русские князья растерялись. Только Владимир Андреевич, князь Серпуховский обрушил удар на грозный татарский отряд и разбил его. Это внезапное поражение и разнесшийся слух о том, что великому князю Василию удалось собрать под Костромой сильную рать, смутили Тохтамыша, и он отступил.
Снова на Руси настало затишье, но и на этот раз недолгое.
В Средней Азии явился новый могучий завоеватель, подобный Чингисхану, страшный своей силой и жестокостью. Это был Тимур, или Тамерлан.
Явившись «с восточной страны, от Синей орды, от Шамахинской земли, от Заяицких татар», Тамерлан «велику брань сотвори и многе мятеж воздвиже во Орде и России своим приходом».
По преданию он не был ни царского, ни княжеского, ни боярского рода.
Сплотив в единое целое грозные орды татар, он привел в трепет всю Азию. Все земли от Аральского моря до Персидского залива, от Кавказских гор до пустынной Аравии скоро подпали под его власть.
– Друзья и сподвижники, – говорил он своим эмирам, собираясь напасть на Индию, – счастье благоприятствует мне и призывает нас к новым победам. Мое имя привело в ужас вселенную; движением перста потрясаю землю. Царства Индии для нас открыты. Сокрушу все, что дерзнет мне противиться.
И в этих словах Тамерлана действительно была правда: страшная сила его диких орд давила все встречавшееся на пути. Могучий турецкий султан Баязет попробовал было сдержать завоевательное устремление этого «владыки мира», но был раздавлен на Ангорских полях. На местах побоищ по приказанию Тамерлана складывались целые горы из черепов погибших, чтобы служить доказательствами его грозного шествия.
С этим-то ужасным «истребителем людей», державшим в своих руках судьбу Азии и Европы, отважился бороться памятный для России хан Кипчацкой орды – Тохтамыш. В 1395 году на берегах Терека он был разбит и решил спасаться бегством. В погоне за ним Тамерлан перешел Волгу и вступил в наши юго-восточные пределы Руси. Страшная весть о приближении Тамерлана о его несметных полках, свирепости и постоянных победах ужасала всех.
Довольно скоро подошел Тамерлан со своими грозными полчищами к пределам рязанским, взял город Елец, пленил князя елецкого, избил многих христиан и устремился к Москве.
Но великий князь, однако, не растерялся: он немедля велел собираться войску и во главе многочисленной рати сам стал на берегу Оки, на границе своих владений, готовясь дать отпор приближавшемуся врагу. Вместе с тем благочестивый князь усердно молился Богу и Пресвятой Богородице об избавлении Руси от надвигавшейся угрозы; он призывал на помощь великих угодников Божьих – Петра, Алексия и Сергия; писал митрополиту Киприану, чтобы наступивший Успенский пост посвящен был самым усердным молитвам и подвигам покаяния.
Со своей стороны, и народ шел навстречу благочестивому усердию великого князя. В храмах Божьих с утра до вечера совершались молебствия о князе и православном воинстве. Митрополит почти не выходил из храма, утешая оставшихся в столице и горячо молясь за идущих на брань святую.
В то же время великий князь распорядился, чтобы в Москву была принесена из Владимира икона Божьей Матери, при чудодейственной помощи которой князь Андрей Боголюбский победил болгар. Во Владимир было отправлено духовенство московского Успенского собора и в день Успения после литургии и молебствия приняло на свои руки чудотворную икону. Народ при этом умилительно восклицал:
– Куда Ты отходишь от нас, Владычица? Для чего оставляешь нас сирыми и отвращаешь от нас лицо Свое?
Встреча Владимирской иконы Божьей Матери на Кучковом поле
Через десять дней священное шествие с иконой приблизилось к стенам Москвы. Бесчисленные толпы народа собирались по пути несения святыни и, преклоняя колени, с усердием и слезами молились:
– Матерь Божья, спаси землю Русскую!
Московское духовенство, члены великокняжеского семейства, бояре и простые жители Москвы встретили святыню далеко за городом и торжественным крестным ходом сопровождали ее до Успенского собора, с теплой верой взывая к заступничеству Царицы Небесной.
Воистину вера, благоговение и моления православных не были напрасны.
В тот самый день час, когда москвичи встречали икону Богоматери, Тамерлан дремал в своем шатре и увидел пред собой великую гору. С ее вершины спускались по направленно к нему святители с золотыми жезлами и бесчисленные тьмы Ангелов с пламенными мечами. Над святыми же мужами и Ангелами в лучезарном сиянии Тамерлан увидел жену неизреченного величия, которая и повелела ему оставить пределы России.
Грозный хан пришел в ужас от этого видения и, проснувшись, созвал к себе старейшин, чтобы те разъяснили ему значение таинственного видения.
– Виденная тобой Дева есть Матерь Бога христианского и Защитница русских, – отвечали хану старейшины.
– Тогда мы не одолеем их, – сказал хан и, к великому удивлению русских и всех его окружавших, немедленно приказал полчищам своим двинуться вспять.
Православные были поражены чудодейственной помощью Небесной Заступницы и в умилении взывали:
– Не наши войска прогнали его; не наши вожди победили его, но сила Твоя, Мати Божья!
В память этого чудесного события на месте встречи чудотворной иконы, на Кучковом поле, был воздвигнут Сретенский мужской монастырь, а самый день встречи, 26 августа, стали торжественно праздновать во всей России.
В Москве в этот день совершается крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь.
Москва белокаменная
Белокаменные соборы и многие крепостные стены Владимиро-Суздальской Руси построены из подмосковного известняка, добывавшегося в подземных каменоломнях по берегам реки Пахры в районе деревень Старое Сьяново, Новлинское и Киселиха, близ Горок и железнодорожной станции Домодедово, где древние каменотесы, вырубили обширные пещеры из многочисленных штолен, залов, коридоров. Известные ходы Сьяновских пещер тянутся на семнадцать километров, образуя сложный запутанный лабиринт. Огромные залы с многочисленными ответвлениями и просторные галереи сменяют узкие лазы и тупики, заваленные глыбами известняка.
О том, как высоко ценилось народом и в течение веков не падало в цене точное, меткое и выразительное слово, говорит существование в фольклоре так называемых постоянных эпитетов: красная девица, добрый молодец, алая заря, чистое поле…
Эпитет в паре со своим постоянным существительным воспринимается слушателем или читателем в гораздо более глубоком и широком значении, чем сам по себе, без него. В их сочетании заложена многовековая народная эстетическая традиция и исторические воспоминания, которые вошли уже в сущность народного характера, народной души. Поэтому-то постоянные эпитеты и создаваемые ими образы не выцветают, не гаснут и не становятся штампами с течением времени.
Былое.
Художник К.С. Высоцкий
Эпитет «белокаменная», приложенный к Москве, как раз такого рода.
А. С. Пушкин пишет:
Но вот уж близко. Перед нами Уж белокаменной Москвы, Как жар, крестами золотыми Горят старинные главы.Ф. Н. Глинка в своем известнейшем стихотворении «Москва» («Город чудный, город древний…..») дает один эпитет, без существительного: свидетельствуя, что этот эпитет уже давно общеизвестен и соотносим только с Москвой и что он в каких-то случаях может быть даже заменою самого слова «Москва».
Ты, как мученик, горела, Белокаменная!Почти точно определяется время, когда Москва стала называться белокаменной.
Юрий Долгорукий, сообщает летопись, основав Москву, уже в 1156 году повелел ставить «град мал, деревян». В последующие два столетия стены города перестраивались, укреплялись, но оставались деревянными. Иван Калита в 1339–1340 годах возвел очень крепкую по тому времени крепость – «град дубов». Деревянной было и вся застройка города. Но с начала XIV века в Москве стали строить церкви из «белого камня» – известняка, который добывали в Подмосковье по берегам Москвы-реки. Наиболее известны каменоломни возле села Мячкова при устье реки Пахры. К середине XIV века над дубовыми стенами Москвы среди сплошных деревянных хором и изб возвышались каменные храмы: Успенский собор, собор Архангела Михаила, церкви Иоанна Лествичника и Спаса на Бору.
С течением времени военное дело совершенствовалось, появилось огнестрельное оружие, и деревянные стены уже не представляли такой защиты, как прежде.
В 1366 году юный князь Дмитрий Иванович (еще не Донской, до Куликовской битвы оставалось четырнадцать лет), как сообщает летопись, «со всеми бояры старейшими сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Тое же зимы повезоша камение к городу». Добывали, или ломали, камень в каменоломнях летом, а доставляли на место зимой, по санному пути, что было и разумно, и удобно.
Современные исследователи-историки А. М. Викторов и Л. И. Звягинцев подсчитали, что на строительство кремлевской стены было израсходовано 14 370 кубометров тесаного камня и около 40 000 кубометров забутовки; чтобы выломать такое количество камня, нужно затратить 41 500 человеко-дней с продолжительностью рабочего дня 10 часов ежедневно; для доставки такого количества камня в Москву необходимо 230 000 ездок, а, чтобы доставить его за одну зиму, 4 500 возчиков должны были каждый день возить камень, образовав непрерывную цепочку от Мячкова до Кремля.
Летом 1367 года, когда материал для строительства был приготовлен, строители «заложи Москву камен и начаша делати беспрестани».
В том же году строительство было закончено. Крепостная стена с девятью башнями, длиною около двух километров, высотою в три метра, толщиною в два-три метра, была возведена за один строительный сезон. Таких огромных строительных работ Русь еще не знала.
Уже год спустя новые стены спасли город от разорения: в 1368 году литовский князь Ольгерд пришел с сильной дружиной к Москве, но не смог ее взять; неприступной оказалась она и в 1370 году, когда Ольгерд вторично привел свое войско под ее стены.
Часовой в Кремле.
Художник И. Панов
В 1382 году, когда на Москву напал хан Тохтамыш, москвичи решили обороняться. «Имеем бо град камен тверд и врата железны», – сказали они. Три дня штурмовали татары стены, теряя много воинов, но безуспешно. «Видя неудачу, – пишет Н. М. Карамзин, – Тохтамыш употребил коварство, достойное варвара». На четвертый день хан вступил в переговоры, он сказал, что он враг не горожанам, а великому князю (которого в то время в городе не было), что он не будет разорять город, а лишь возьмет дары, осмотрит Москву и удалится. Поручителями истинности намерений Тохтамыша выступили пришедшие с ним сыновья нижегородского князя Дмитрия. Москвичи поверили их клятвам, поскольку те были «россияне и христиане», и открыли ворота. Татары разорили и сожгли город, побили жителей и ушли, увозя награбленное, уводя пленников.
Об этом горестном событии рассказывает «Повесть о Московском взятии от царя Тохтамыша». Описывая разорение Москвы, автор повести вспоминает, какова была Москва до нашествия: «Бяше бо дотоле видети град Москва велик и чуден, и много людий в нем и всякого узорочия».
После разорения Тохтамышева Москва не сразу, но восстала из пепла: москвичи восстановили сгоревшие церкви, построили новые, а крепостные стены и так оставались нерушимы. Целое столетие они служили верной защитой городу, больше ни одно вражеское войско не смогло их преодолеть: хан Едигей в 1409 году подошел, постоял, а на штурм не решился. «Пристроения ради градного, – сообщает летопись, – и стреляния со града». В 1439 году безуспешно осаждал Москву хан Махмет, в 1451 году – царевич Ордынский Мазовша.
Белокаменный Кремль был гордостью Руси. В «Задонщине», поэме о Куликовском сражении, подчеркивается, что войска выступили на битву «из каменного града Москвы»; и в «Сказании о Мамаевом побоище» обращается внимание на это же: «Князь же великий Дмитрий Иванович… выехоша из города каменного Москвы во все трои ворота: во Фроловские, и в Никольские, и в Костянтиновские». В одной из летописей конца XIV века помещен список русских городов: «А се имена градам русским дальним и ближним». Здесь перечисляются лишь названия городов, и только в одном случае, при имени Москвы, дано слово, характеризующее город: «Москва камен».
Таким образом, появился ставший постоянным эпитет Москвы – каменная, белокаменная. Белокаменные стены Кремля в конце XV века в царствование Ивана III, были заменены кирпичными. Но эпитет «белокаменная» не только оставался за Москвой, но с годами и веками еще более укреплялся.
Московский Кремль в XVII веке.
Художник О. Майкалит
Было это вызвано и народным воспоминанием о белокаменном Кремле Дмитрия Донского. Он был не только могучей крепостью, но и прекрасным памятником древнерусского зодчества. В серии картин А. М. Васнецова, посвященных старой Москве, одна из самых красивых – «Московский Кремль при Дмитрии Донском». Поддерживало эпитет также то, что в Москве и в более позднее время широко использовался белый камень как для строительства храмов, так и в светском зодчестве. Немало белокаменных построек сохранилось до настоящего времени: Грановитая палата в Кремле, Спасский собор Андроникова монастыря, колоннада Градских больниц, военного госпиталя в Лефортове, больницы имени Склифосовского близ Сухаревской площади; многие здания декорированы белым камнем; его использовали для фундаментов, из него сложен цоколь храма Василия Блаженного; между прочим, из мячковского камня сделаны львы на воротах, бывшего Английского клуба на Тверской. А как выглядела белокаменная стена Кремля, можно увидеть в подземном переходе на Варварской площади: там оставлены незакрытыми облицовкой несколько белокаменных блоков нижней части башни Китайгородской стены – Варварской, сложенной из того же мячковского камня.
И вообще, светлый, белый цвет характерен для Москвы. Краснокирпичную кремлевскую стену Ивана III почти четыре века белили, такова была традиция, безусловно рожденная не только заботой о сохранности кирпича, но и памятью о белокаменном Кремле Дмитрия Ивановича; таким, белым, изображен Московский Кремль на живописных полотнах конца XVIII века, например на широко известных картинах Ж. Делабарта: побеленной представлена кремлевская стена и на картине П.
П. Верещагина «Вид на Кремль», написанной в 1860 году. Белить Кремль перестали в самом конце XIX века: на картине А. М. Васнецова «Московский Кремль» 1894 года стена еще светлая, а на этюде М. В. Нестерова 1897 года – уже красноватая. Это дало Маяковскому представить дореволюционную и послереволюционную Москву таким поэтическим образом:
Москва белокаменная, Москва камнекрасная…И все же достаточно взглянуть на город с какой-нибудь возвышенной точки, чтобы убедиться, что главный цвет его застройки светлый, белый.
Проклятые грамоты
Церковный собор русских иерархов 15 декабря 1448 года поставил в московские митрополиты без согласия константинопольского патриарха рязанского епископа Иону. Это было началом фактической самостоятельности Русской митрополии.
Ранней весною 1446 года Москва, а за нею и все северные области Московского государства были испуганы, переполошены и смущены ужасной вестью. Случилось то, чего никто ожидать не мог: был ослеплен царь и великий князь московский сосуд Василий Васильевич. Лишила его зрения, этого великого дара Божия человеку, рука его ближайшего родственника по плоти, князя Дмитрия Юрьевича Шемяки.
Много-много лет шла ожесточенная борьба московского князя со звенигородскими Юрьевичами. Пошла она с того злосчастного дня, когда на брачном пиру юного Василия его мать, пылкая и смелая литовчанка, царица Софья Витовтовна, сорвала со старшего Юрьевича, князя Василия Косого, драгоценный пояс, по праву принадлежавший ее сыну. Оба старших Юрьевича, Василий и Дмитрий, были люди грубые, своевольные, жестокие. Один только младший брат их, Дмитрий Красный, обладал мягким, добрым характером и любил справедливость. Самым же лютым из братьев, самым алчным был Дмитрий Шемяка. Василий Косой был удалец, воин, огрубевший в многочисленных жарких сечах. На высоту царского престола он не стремился. Но Дмитрий Шемяка, не столько храбрый, сколько пронырливый, хитрый, злобно жестокий, спал и видел себя на московском великокняжеском столе, который начали уже величать и царским.
Пир у князя
Шемяка повел борьбу с Василием на свой страх и риск. Государевы дружины неоднократно рассеивали его приверженцев, но он собирал их вновь, и снова лилась русская кровь из-за княжеских усобиц. Наконец судьба предала великого князя Василия в руки Шемяки. Злобный Юрьевич, не осмелившись поднять преступной руки на старшего, ограничился тем, что ослепил его и сослал в Углич на кормление.
Весть об этом преступлении как гром поразила русских людей. Московский князь, стремившийся к единовластию, уже успел показать свои преимущества перед разорившей народ удельной системой, и теперь наиболее благоразумные страшились за будущее.
– Ахти, последние времена настали! – говорили, и даже совсем не тихо, на Москве. – Какое дело совершилось!
– Злодей Шемяка! И чего от него, кроме сущего злодейства, ожидать?
– А чего добился он, зверь лютый, злодеянием своим? Не усидеть ему, окаянному, на столе, волку смердящему.
Ропот рос, с каждым днем, все усиливаясь и усиливаясь. Рассказы о народном негодовании дошли и до Шемяки. Алчный Юрьевич испугался. На его стороне было ничтожное количество своевольников да буйной молодежи, а все лучшие люди оказались на стороне Василия. За слепца было и духовенство, всегда хранившее заветы справедливости и законной власти. Особенно видным сторонником ослепленного Шемякой Василия считался игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон – суровый инок, на все глядевший с точки зрения высшей законности.
Великий князь Василий Васильевич перед воинами Шемяки.
Художник С. Караулов
Летом того несчастного года, когда был ослеплен великий князь московский, в Кирилло-Белозерский монастырь прискакал молодой боярский сын Савва Трегубов и приказал провести себя прямо к игумену.
– Что скажешь, чадо? – спросил его Трифон после обычного уставного приветствия. – Какие вести принес ты нам? Добро или худо?
– Не говори, отче святый, о добре. Перевелось оно на Руси! – отвечал Савва.
– Того не может быть! – возразил инок.
– Ан нет, может! Вывел все добро Шемяка окаянный!
– Будто так? Или что новое, горшее прежнего, учинил он нашему великому князю?
– Изничтожил он его…
– Как?! Убить осмелился?
– Хуже. Телом-то жив великий князь Василий Васильевич. Да уж и не знаю, можно ли его теперь великим величать.
– Говори, Саввушка, толком, без присловий своих: что приключилось? – строго произнес Трифон. – Помни, приставлен от нас твой отец глазом быть при великом князе и через тебя мне все поведать.
– Он-то и послал меня к тебе, отче, с докладом. А случилось вот что: дал на себя Василий Васильевич проклятые грамоты.
Трифон побледнел при этих словах гонца.
– Как дал? – пролепетал он. – Великий князь?.. На себя?..
– Выходит, отче, что так.
– Да как же это могло выйти?
– Прослышал окаянный Шемяка, что много людей всякого чина и звания за великого князя стоят, а против него, зверя лютого, пылают. И тогда решил всех отвратить от мученика неповинного. А жил, как тебе известно, великий князь в Угличе. В угнетении, отче, жил он, слепец несчастный, и сыновья его в руках Шемяки находятся. Что только он ни перестрадал за эти дни! Как перемучился! Худо жилось ему. Углицкие кормы весьма скудны, и всего великому князю перетерпеть пришлось. Вдруг с большим отрядом Шемяка и жалует к нему. Словно и впрямь князь великий. Бояре-изменщики с ним, епископы, архимандриты, игумены тоже.
Тяжелый вздох вырвался из груди Трифона. Глазами, полными слез, взглянул он на образ, завешанный убрусом, потупился и тихо, словно стыдясь чего-то, проговорил:
– А что же они?
– Приступили все они к великому князю с уговорами.
– А Василий что? – перебил Савву Трифон.
Кирилло-Белозерский монастырь в XVII веке
– Сперва тверд был. А потом склоняться стал… После духовной-то бояре приступили и на все лады пужать его начали. Некуда-де ему, слепцу, уйти теперь. Слепой-де князь и народу не нужен, теперь-де ему только и думать, как пропитаться до конца живота своего. Великий князь все еще тверд был. А потом сам Шемяка явился. Да не просто, а с поклонами. В ноги, вишь, кланялся, каялся и прощения просил. Тут против Шемякина добра и не устоял великий князь, сам себя грешником признал и проклятые грамоты на себя дал. Слышь ты, отче, запомнил я, что говорил он, от слова до слова запомнил. «И не так мне надобно было пострадать за грехи свои, – великий князь говорил, – и клятвопреступление перед вами, старшими братьями моими, и пред всем православным христианством. Достоин я был и смертной казни, но ты, государь, – это Шемяка-то! – выказал ко мне милосердие, не погубил меня с беззакониями моими, дал мне время покаяться!» И когда говорил это Василий Васильевич, слезы в три ручья из его глаз текли.
– И проклятые грамоты дал? – быстро спросил Трифон.
– Дал, отче!
– Не он дал, а горе его. Иди, Саввушка, отдохни с пути-дороги. А я тут помолюсь. Да просветит меня Господь! – отпустил гонца Трифон.
Долго он, оставшись один, стоял на молитве и, когда кончил ее, будто просветлел весь.
Всю ночь до рассвета писал Трифон грамоту слепцу Василию. Иногда, прерывая писание, задумчиво говорил сам себе:
– Погибнет Русь в руках Шемяки. А ежели народ узнает о его злодействе, отвратится от князя своего.
Игумен Трифон и великий князь Василий Васильевич Темный
На рассвете Трифон призвал к себе Савву Трегубова и, вручая ему свиток, приказал стрелою лететь обратно и передать отцу, чтобы он прочел грамоту слепому великому князю.
* * *
Прошло с месяц времени, и к воротам Кирилло-Белозерского монастыря подъехал поезд, огромный по количеству провожавших. Это бывший великий князь Василий Васильевич приехал в святую обитель из отданной ему «на кормление» Вологды. Радостным звоном колоколов встретил его монастырь. Двое ближних бояр под руки ввели в соборный храм несчастного слепца. Там уже ждал его суровый игумен Трифон со всей братией.
– Гряди, князь великий московский и всея Руси, – приветствовал его Трифон.
– Святый отче! – взволнованно заговорил слепец. – По голосу узнал я тебя, но приблизиться не смею. Проклял я себя…
– Смело гряди, сын мой! – загремел голос Трифона. – Клятвы твои поневоле даны, не принимает Господь таких клятв. И дабы душа твоя была спокойна, я, инок недостойный, снимаю твои клятвы на себя. Нет на тебе их. Иди княжить и восстанови спокойствие на Руси.
Громадная толпа народа слушала отважного инока. Быстро разнеслась повсюду весть, что свободен великий князь от клятв, и повалил на его защиту народ русский. Шемяка был низвергнут, и снова вступил на великокняжеский стол московский великий князь Василий Васильевич, которого народ прозвал Темным.
Княжья милость
Со смертью в 1453 году Дмитрия Шемяки отошла в прошлое эпоха постоянных раздоров между князьями в Московском государстве. В 1454 году войска великого князя взяли Можайск, присоединив к Москве удельное Можайское княжество. Бывший враг Василия Темного Иван Можайский бежал в Литву. Там же нашел прибежище и сын Шемяки Иван.
Великий князь московский Василий Васильевич, по прозванию Темный, хотя и считался старшим между всеми другими удельными князьями, но не был самодержавным государем. Все удельные князья считали себя во всем равными великому князю.
В то время главным, стольным градом всей Руси была Москва. Но и Москва не красовалась еще своими богатыми теремами, хоромами и церквами. Столица Русской земли более походила на обширное, многолюдное село, защищенное от вражеских набегов высокими каменными стенами. Далее, за Москвою, по берегам Москвы-реки и Яузы, росли дремучие леса и лежали топкие болота. В те старинные, давно минувшие времена, все срединные и восточные области Русской земли были суровым и малонаселенным краем…
Тихо и безлюдно было на улицах Москвы 31 августа, в канун Нового года[2]. Все, и стар, и млад, готовились встретить великий праздник – Новолетие. В древние времена в Москве встречали Новый год с особым торжеством, общенародной молитвой.
Ждут москвичи не дождутся: скоро ли грянет вестовая пушка и раздастся в церквах радостный, громкий благовест к заутрени?
Настала полночь, грянул со стен Кремля призывный выстрел, загудели колокола московских храмов, и разом оживились и наполнились народом московские улицы. Толпы горожан в праздничных нарядах заспешили в Кремль, в Успенский собор, чтобы встретить Новый год вместе с любимым великим князем. Пробирался туда и хилый старик со своим малым внуком, и знатный боярин в шапке, опушенной дорогим соболем, и ратник с топором за поясом. Богомольцы, которые не поместились в храме, толпились на широкой площади перед Успенским собором, близ княжеского терема.
Кремлевская площадь
Взошло солнце и осветило золотые кресты и главы церквей и соборов московских…
Многолюдная толпа, на площади перед княжеским теремом, завидя крестный ход от церковных врат Успенского собора, заколыхалась, осеняя себя крестным знамением. За митрополитом вслед вышел из храма и сам великий князь-слепец Василий Васильевич Темный со своим молодым статным сыном Иваном. Крестный ход остановился на площади, у аналоя с иконою святого Симеона Столпника[3]. Стих народный шум и говор, и при всеобщей, благоговейной тишине началось торжественное молебствие с водосвятием. Молится православный народ, чтобы Господь благословил и осенил святою благодатью наступающий новый год, чтобы спас Русь православную от всех нежданных бед и напастей.
Много усердных богомольцев толпится вокруг аналоя, стараясь вслушаться в тихие, молитвенные возгласы старца-митрополита. Много любопытных теснится также и у крыльца княжеского терема. Там, на особом, возвышенном месте, великий князь по старому, дедовскому обычаю после молебна будет всенародно принимать поздравления от бояр, митрополита и торговых людей. Знают все, что великий князь обратится также и к народу с милостивым словом и ласковым приветом. Оттого-то и теснится у княжеского терема шумная толпа народная. Каждому люб привет князя Василия Васильевича.
– С Новым годом, православные! – раздался звучный голос великого князя, и вся толпа единодушно ответила ему приветом: «На многие лета, надежа-государь!»
– Думал я вчера с моими боярами, чем бы порадовать мой народ в первый день нового года, – продолжал великий князь. – Если бы не посетил меня праведный гнев Божий, если б не был я слеп, так я и сам мог бы все высмотреть, узнать, в чем нуждается мой народ. Облегчил бы я тогда все его тяготы, все кровные его нужды. Да не под силу мне это, злодеи лишили меня очей! – Великий князь на минуту поник головою. – Но если Господь судил мне лишиться зрения, – продолжал князь Василий Васильевич, – так, видно, взамен того даровал он мне доброго и разумного сына. Он за меня блюдет народ мой, и ему я во всем доверяю. Сын мой Иван хотя и молод годами, да стар разумом. Вот и вчера он первый подал совет: отменить поплужную подать, чтобы этой милостью порадовать народ в первый день наступающего года.
– Да здравствует наш надежа-государь! Спасибо тебе, милостивец!.. – радостно восклицал народ, с любовью глядя на несчастного князя-слепца и на его молодого разумного сына.
Великий князь Василий Васильевич Темный и его сын Иван
Князь Василий вошел в свой терем. Но долго еще не расходились с площади толпы народа, толкуя о княжеской милости. Уже солнце высоко поднялось на небе, все сильнее и сильнее пригревало оно сырую землю… Кончилась и литургия в Успенском соборе. Пора москвичам вернуться с площади домой; каждого ждет в семье привет и ласковое слово.
Завещание Василия Темного
Уже наступил вечер; замигали звездочки в ясном небе, выплыла из-за садов и рощ полная луна и осветила своим бледным серебристым светом улицы и переулки заснувшей, притихшей Москвы. Князь Иван вошел в свою опочивальню и, помолясь, лег на постель. Но долго не мог он заснуть. Словно наяву виделось ему бледное, болезненное лицо стари-ка-юродивого, слышался плач голодных детей, благодарная молитва обрадованной матери, дрожащий, испуганный голос скупого Власа. Князь Иван лежал не смыкая глаз и пристально глядел в темный, не освещенный луною угол опочивальни. Мало-помалу веки его стали смыкаться, и он задремал…
Перед битвой.
Художник Н. Адамович
Привиделся ему вещий сон: как будто стоит он на верху высокой, крутой горы, а вокруг раскинулась Москва златоглавая, во всей красе своей, с башнями и многоглавыми соборами. До князя доходил шум разноголосой народной толпы, слышал он и звон колоколов… Но вот с юга надвинулась на Москву черная, густая туча. Глядит князь Иван и с удивлением видит, что это не туча, а несметная рать татарская. Весь народ московский в ужасе толпился у подошвы горы, на которой стоял князь. Но взмахнул князь своим острым мечом, и, по его мановению, откуда ни возьмись, налетели на татар русские всадники, и словно дым, разлетелась без следа вся татарская сила. Вновь прояснилось небо, и еще ярче, еще радостнее осветило солнце златоглавую Москву, еще громче раздался святой благовест церковный. А весь народ с любовью и умилением глядит не налюбуется своим державным главою, князем Иваном Васильевичем. Ликование народа слилось в общий гул с благодарным благовестом церковным.
Проснулся князь Иван и, приподнявшись с постели, осмотрелся вокруг. Уже было утро; в окно его опочивальни светила ясная утренняя заря; слышен был громкий благовест: в Успенском соборе звонили к заутрени.
Сон, который привиделся князю Ивану, был ему пророческим. Господь и впрямь судил ему, впоследствии великому князю Ивану III Васильевичу, первому самодержцу России, возвеличить Русь православную и избавить ее от страшного бедствия – от тяжкого ига татар.
В марте 1462 года пошел по всей Москве слух, что великому князю худо. Настал Великий пост, первая неделя стояла, подходила уже пятница.
В ночь на пятницу из палат великокняжеских посланы были гонцы к двум старшим советникам и близким людям князя Василия Васильевича. Скоро прибыли воевода князь Стрига-Оболенский и боярин Федор Басенок. Оба тревожны были. Встретил их на красном крыльце ключник великого князя, молча поклонился и повел в горницу.
В ту пору палаты князей московских еще не блистали пышностью, были строены из дерева и не украшались разным письмом многоцветным. В тесной горнице великого князя было темновато, только большая лампада висячая горела ярким пламенем перед древней иконой Донской Божьей Матери. Та икона досталась великому князю от славного предка его Дмитрия Ивановича, который брал ее с собой, отправляясь на кровавую битву Куликовскую, где в первый раз дрогнули татары перед силой русскою.
Духовное завещание великого князя Василия Васильевича Темного.
Художник Н. Заборовский
Великий князь лежал на одре болезни; белая повязка покрывала черные глазные впадины, лишенные зрения. Услышал князь Василий Васильевич, что пришли бояре.
– Пойдите сюда, слуги мои верные и друзья добрые, – молвил он слабым голосом. – Последней услуги прошу от вас. Помогите слепцу злосчастному.
– Готовы служить тебе, господин наш и великий князь, до самой смерти, – в один голос отвечали бояре.
Велел великий князь, чтобы сели они у стола близ ложа его. Потом пощупал он у себя под изголовьем небольшой ларец окованный, вынул его и отпер. Оттуда достал слепец свиток, мелко исписанный.
– Было мне видение, что скоро оставлю я сей мир грешный. Для того просил я святого митрополита написать здесь мою волю последнюю. Вот-вот покинет меня память и муки телесные отнимут силу у меня… Вот для чего позвал я вас: подпишите имена свои под сей грамотой и снесите ее тот же час митрополиту – пусть и он приложит руку к ней и сохранит ее до смерти моей. Когда же скончаюсь я, пусть святой отец прочтет мою волю всенародно, и да будет она исполнена. Вы же стойте крепко за нее и поддержите моих детей малых.
– Исполним волю твою, господин и великий князь! – сказали в один голос князь и боярин.
Протянул великий князь свое завещание верным слугам. Придвинув к себе чернильницу медную, оба начертали имена свои на свитке. Князь Оболенский первым подписался, Федор Басенок вторым. А сверху оставили они место для подписи митрополита.
– Готово, государь! – сказал князь Оболенский.
Великий князь улыбнулся слабой улыбкой радостной, даже повязку сдвинул с глаз своих. Но ничего не увидел он: по-прежнему царила вокруг него беспросветная черная мгла.
– Спасибо вам, слуги мои верные, – молвил он. – А теперь, боярин Федор, прочти мне сии строки последние. Прочти там, где разделяю я владения свои между сынами моими…
Взял боярин грамоту и стал читать:
«А сына своего старейшего Ивана благословляю своей отчиною великим княженьем и даю ему треть в Москве и с путьми с моими жеребьи, Володимером, Переяславлем, Кострома, Галич с путьми и с солью, Устюг, землю Вятскую, Суздаль, Новгород, Нижний, Муром, Боровеск и Суходон да Калугу и с Олексиным. А сына своего Юрья благословляю третью в Москве княжею Володимеровскою, с сыном своим с Ондреем по половинам, а держать по годам; да Юрью же сыну придаю год в Москве княж Костянтиновской Дмитреевича, Дмитров, Можаеск и с Медынью, да Серпухов, да Хотунь. А сына своего Ондрея благословляю, даю ему Углече и с Устюжною, и с Ражановым, и с Велетовым, и с Кистмою, и со всеми теми, как было за князем за Дмитреем за Шемякою, Бежицкий Верх, а у Москвы село Сущевское, и с дворы с городскими, а чем его благословила баба его, Вытелысом, ино то его и есть. А сына своего Бориса благословляю в Москве годом княжить Ивановым-Можайского, да в городе на посаде дворы около святого Егорья, каменные церкви, Марь-инские-Федоровы; да даю ему Ржеву, Волок, Рузу, да луг на реке Москве под Крутицею, да что ему дала Марья и двор свой внутри города на Москве, ино то его и есть. А сына своего Ондрея меньшого благословляю в Москве садом княжим Петровым Дмитреевича; да у Москвы село Тапинское, да Ясеневское, даю ему Вологду и с Кубеною и с Заозерьем, а княгине своей даю Ростов, до ее живота; а князья ростовские, что ведали при мне, ино по тому держат и при моей княгине, а княгиня моя у них в то не вступается. А возьмет Бог мою княгиню, и княгиня моя даст Ростов моему сыну Юрию, а он держит по тому же, как держала его мати».
Благословение
Великий князь слушал волю свою последнюю и головою кивал. От лампады падал свет на его лицо бледное, на черные незрячие впадины под бровями седыми.
– Прочти еще мне, боярин Федор, мой завет детям и ближним моим…
Отыскал боярин нужные строки и стал опять читать:
«А вы, дети мои, чтите и слушайте своего брата старейшего Ивана в мое место своего отца; а сын мой Иван держит своего брата Юрья, и свою братью меньшую, в братстве без обиды. А хто моих бояр имеет служите моей княгине, а живут в уделах детей моих, и тех бояр дети мои блюдут с единого. А хто будет моих казначеев, или хто моих дьяков прибыток мой от мене вдали, или посельских, или тиунов, или хто женился у тех, ино те все не надобны моей княгине и моим детям; а хто сию мою грамоту переступит, ино по евангельскому словеси: хто преслушается отца и матери, и заповеди их не хранит, смертью да умрет».
– Истинно христианская воля твоя, господин и великий князь! – сказал старый Стрига-Оболенский.
Но великий князь уже не слышал его. Утомился он и впал в забытье тяжелое. Перекрестились оба на икону, взяли грамоту и вышли из горницы. Князь Оболенский только промолвил старому ключнику:
– Пошли за духовником великокняжеским, за архимандритом Спасским Трифоном.
Москва – Третий Рим
Великокняжеский выбор
После завершения строительства Успенского собора великий князь Иван III продолжил преобразования Московского Кремля. Под руководством итальянских архитекторов Пьетро Солари и Марка Фрязина русские мастера вместо обветшавших белокаменных кремлевских стен возвели стены и башни из хорошо обожженного кирпича. С тех пор площадь территории Кремля почти не менялась. В самом Кремле псковские мастера перестроили Благовещенский собор, который считался домовой церковью великих князей. Была возведена Грановитая палата – зал для торжественных собраний и приема послов, – получившая свое имя по отделке с внешней стороны гранитом.
К августу 1479 года в Москве стольной был готов новый чудный собор Успения Пресвятой Богородицы. Много потрудился над этой постройкой искусный зодчий венецейский Аристотель Фиораванти, что был великим князем, государем-царем Иваном III за большие деньги из чужой земли вызван. Ученый иноземец дал меру кирпича для постройки, научил каменщиков московских, как лучше растворять известь, указал кирпичникам хорошую глину за Андроньевым монастырем, чертежи составил на славу – и явился на Москве такой храм благолепный, какого москвичи, да и других городов русские люди, и не видали никогда…
Веселился великий князь Иван Васильевич, видя велелепие храма нового. За иными заботами государственными не забывал он о еще большем украшении столицы. Лучших живописцев собрали в Москву, чтобы изготовить иконы древнего письма православного, чтобы изукрасить стены, простенки и своды церковного купола. Бояре да архимандриты на свой кошт сооружали образа в окладах дорогих и челом били великому князю для храма нового.
Закладка храма.
Художник В.П. Верещагин
В праздничный день, после обедни, митрополит московский Геронтий, что к царской трапезе позван был, обрадовал великого князя хорошей весточкой.
Великий князь Иван III.
Титулярник. XVII век
– Боголюбивый царь и великий князь, – молвил он, вставая от трапезы, – молим тебя пожаловать в наши палаты митрополичьи. Ко времени окончили иконописцы мои две иконы святые для храма нового. Какая тебе, государь, полюбится, ту повели в опись церковную вписать. Истово написаны те иконы, по образцам древнегреческим, и оклады на них не скупо сработаны. Пожалуй богомольца твоего, государь великий!..
Просияли суровые очи великого князя, от гневного взора которых трепетали бояре и воеводы. Повелел он дворецкому-боярину снарядить колымагу царскую и с собою взять соизволил двух своих братьев младших – князей Андрея и Бориса Васильевичей – да еще ближнего боярина Вельяминова Василия Федоровича и дьяка думного Василия Далматова. Как по птичьему велению исполнился приказ великокняжеский…
Митрополит Геронтий вперед великого князя уехал, чтобы успеть встретить в палатах своих высокого гостя. В иконной избе митрополичьей, особняком стоявшей, все уж готово было: на поставах высоких сияли дорогими окладами новые иконы; дети-сироты, коих благой сердцем митрополит из милости привечал при дворе своем, вычистили, вымыли пол дощатый, приубрали краски в углы дальние… Два иконописца митрополичьих со страхом ждали судбища государева о деле их кисти искусной. Один мирянин был, родом из новгородской пятины, звался Лукой Дорофеевым. Другой в иноческом чине состоял и кистью благочестиво славил Бога и святых, как словами молитвы горячей. Бледные стояли иконописцы.
Вошел, наконец, в избу иконную великий князь Иван Васильевич с ближними своими поспешно ступил в горницу. Схоронились за поставцы иконные послушники и отроки-сироты, что при избе на послугах были…
Иконописец.
Художник К.В. Лебедев
Уставщик и наказчик иконописцев митрополичьих, разодевшийся в ферязь алого сукна, земно поклонился великому князю и подвел потом его к первой иконе, что писана была иноком.
– Изволь воззреть, государь великий!.. Сия икона кисти инока Евфимия… Написан образ Пресвятой Богородицы с Младенцем на руках; предстоят перед Богоматерью чудотворцы ростовские, молят ее о нас, грешных… Подложена икона камкою черевчатой, оклад серебряный, золоченый, гладкий; венец жемчугом обнизан, в нем – четыре изумруда в золоте да яхонт большой лазоревый. На ризе – запоны золотые, двенадцать алмазов малых да шесть яхонтов черевчатых. Ризы у святителей серебряные, прорезные, жемчугом саженные. Застенок у образа низан жемчугом мелким по камке таусинной, каймы волоченым золотом шиты. В средине, по красной камке, выведены золотом слова святые… На краски да на кисти, на клей, киноварь и кость слоновую пошло у инока Евфимия тридцать четыре рублевика, тридцать три алтына; а на золото, серебро, камни самоцветные и жемчуг из сокровищницы митрополичьей тридцать рублев взято…
Молча слушал великий князь Иван Васильевич плавную речь уставщика; зоркими глазами глядел он на искусно писанный образ, и все милостивее и светлее становился важный, суровый лик его. Перевел царь очи на инока-иконописца, и без слов понял тот, что по душе государю и письмо его благочестивое, и украшение иконы. Наконец вдосталь насмотрелся великий князь. Поклонился ему в пояс уставщик речистый и повел к другой иконе.
– Воззри, государь великий! Сия икона писана мирянином-иконо-писцем, выходцем из пятины новгородской Лукой Дорофеевым. Написал тот Лука образ Благовещения Пресвятой Богородицы по образам древних иконописцев, по чину древнему… Иждивением богомольца твоего, государь великий, благочестивого митрополита московского Геронтия, к сему образу сооружен оклад драгоценный… Венцы на иконе – сканные, серебряные, золоченые; ризы чеканного золота. На венцах и на ризах шесть изумрудов средних да малых алмазов десять. Застенок жемчугом низан, жемчугом же по серединной камке слова вышиты… Пошло у Луки Дорофеева на ту икону всякого прикладу иконописного тридцать рублевиков да четырнадцать алтын. Яри венецейской на три рублевика, восемь алтын, шесть денег; сурику на двадцать три алтына, четыре деньги; на кисти щетинные, хорьковые да беличьи – один рублевик, шесть алтын, семь денег… На золото сусальное пошло двадцать пять алтын…
Махнул рукой великий князь Иван Васильевич: нечего-де всякую деньгу пересчитывать. В пояс поклонился уставщик, оробел малость и добавил тихим голосом:
– Яхонтов да алмазов, да жемчугу, да золота, да серебра пошло из казны-кладовой митрополичьей на двести пять рублевиков.
Великий князь осматривает работы иконописцев
Так же безмолвно глядел великий князь всея Руси и на другую икону. Ближние бояре, привыкшие к лику государеву, приметили, что сильно радостен был царь. Видно, угодил его душеньке благочестивой своими иконами митрополит Геронтий. Обратил очи государь на мирянина-иконописца и ласково вымолвил:
– Изрядно, изрядно!..
Не взвидел света от радости Лука Дорофеев. А что после было, тому он поверить и не помыслил. Протянул ему царь руку свою белую для лобызания. Не всякому и боярину-то такая честь выпадала; а тут, нате-ка, иконописцу простому!..
– Изрядно! – еще повторил великий князь.
Стали тут князья и бояре хвалу за хвалой новым иконам и иконописцам искусным сыпать…
Меж тем великий князь снова по очереди обошел оба образа, любуясь письмом и окладами…
– А ну, братья любезные да бояре верные, дайте-ка совет государю вашему. Любы мне обе иконы… Которую же мне для храма Успенского взять?..
Смутились князья да бояре – нелегко владыке многоумному, могучему советы давать. Помявшись, отозвались братья великокняжеские в один голос:
– Ту икону бери, государь Иван Васильевич, что инок писал… Сдается, что так святее да благочестивее будет…
Ничего не сказал им царь; на бояр очи вскинул:
– Вы что скажете, советники думные, приспешники мои?
Ближний боярин Василий Вельяминов поясной поклон государю отвесил и вымолвил степенно, тягуче:
– По моему разумению, великий государь, надобно ту икону взять, что мирянином писана… То и иным мирским людям в пример и повадку будет: начнут многие изощряться в иконописании благочестивом, и благо будет для веры православной…
Словно усмешка легкая тронула уста великого князя.
– Ты что скажешь, дьяк мой думный?
– Взять бы тебе, государь великий, ту икону, что инок писал. Обе иконы истовы, обе с благочестием писаны. А только в этой оклад ценнее будет, и через то новому храму блеску и богачества прибудет.
Не таясь уже, усмехнулся великий князь на речь Далматова.
– Каков твой совет, отче митрополит?..
– Мой совет, государь великий князь – взять тебе обе иконы, благо полюбились. Не оскудеет казна митрополичья от жертвы на храм Божий. Обе иконы прими от богомольца твоего, государь… Крепко о том молю!..
Просветлел лицом царь.
– Благой пример подал ты всем, отче митрополит. С благоговением приемлю дар твой, щедроту твою, для благолепия храма нового… Благослови меня, отче…
Приняв благословение митрополичье и выходя из избы, великий князь молвил боярину Вельяминову:
– Иконописцам по гривне серебряной да по сукну аглицкому выдать вели.
Стояние на Угре
Отступление Ахмата произошло 11 ноября 1480 года. Летописцы объясняли это морозами и стужей: «Были же татары наги и босы, ободрались». По существу, наступил конец Большой Орде. Ахмат вскоре был убит ногайским ханом Иваком. Сын Ахмата, хан Муртоза, признал суверенитет Руси и обращался к Ивану III как к равноправному правителю.
Прошло сто лет с победы Дмитрия Донского над ханом Мамаем на Куликовом поле, но татарское иго все еще продолжало тяготеть над Русью. Нередко в Москву приезжали ханские послы за данью. При въезде посла в Кремль великий князь выходил к нему навстречу, с низким поклоном подносил кубок с кумысом и, стоя на коленях с непокрытой головой, выслушивал ханскую грамоту. Но все чаще князья, затаив в душе горькую обиду, сказывались больными, чтобы избавить себя от унижения.
Иван III и татарские послы.
Художник К.Е. Маковский
Особенно часто так поступал великий князь Иван III, в руках которого уже собрались почти все русские земли. После женитьбы на греческой царевне Софье он твердо решил сбросить позорное иго. Жена то и дело ему говорила: «Отец мой и я захотели лучше своей отчизны лишиться, чем платить дань турецкому султану». Она гордо заявляла, что не хочет с детьми быть данниками степной Орды, и спрашивала мужа: «Разве у тебя мало войска? Зачем слушаешься рабов своих и не хочешь постоять за свою честь и веру святую?» Эти слова заставляли задуматься гордого московского князя.
В Золотой Орде в это время происходили непрерывные смуты. От нее отделилось Крымское ханство, установившее дружеские отношения с Москвою. Иван III уже девять лет не платил дани, и хан Ахмат отправил в Москву грозное предостережение. Но московский князь растоптал ногами грамоту с ханской печатью, умертвил его послов и пригрозил Ахмату, что поступит и с ним так же, если он не оставит в покое Московское государство.
Ахмат не смог стерпеть позорного оскорбления и решил проучить «непокорного раба», напомнить русским о временах Батыя. Он рассчитывал на помощь польского короля Казимира, непримиримого врага Москвы.
Летом 1480 года татарские полчища двинулись в поход. Но по Оке, по всей южной степной границе Московского государства уже с ранней весны стояли русские войска. Ахмат думал под Калугой соединиться с Казимиром и вместе нагрянуть на Русь, переправившись через реку Угру. Казимир не сдержал слова и не пришел – ему пришлось защищать свои владения от крымского хана Менгли-Гирея. На Угре татары встретили сильное войско под начальством князя холмского. Несколько месяцев простояли противники, не вступая в битву. Хан дожидался зимы, когда реки покроются льдом и станут хорошими дорогами на Русь.
Иван III приказал готовить Москву к осаде. Боясь за жену и детей, он отправил их далеко на север, а сам с небольшим отрядом двинулся к Угре.
В Москве с нетерпением ждали вестей о победе, но время шло, а битва не начиналась. Вдруг москвичи, к своему ужасу, увидели, что великий князь возвращается в столицу, и решили, что все кончено и татары уже близко. Народ заволновался, обступил Ивана III, в толпе переговаривались: «Государь оставляет войско, робеет, спасает только себя и детей, не смеет выступить против врага». Великий князь оправдывался, что приехал посоветоваться с матерью, боярами и духовенством.
Дьяк на докладе у великого князя.
Художник В. Викторов
«Теперь не время советоваться, – говорили в народе, – а надо сражаться. Раньше ты с нас собирал дань, но не отдавал ее хану, а теперь сам же разгневал его и выдаешь нас татарам».
Особенно сильно негодовал старый ростовский епископ Вассиан. Он называл великого князя бегуном и восклицал: «Дай мне, старику, войско, увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами!»
Волнение в народе было так сильно, что Иван III не решился даже оставаться в Кремле и перебрался на житье в подмосковное Красное село. Но вскоре он решился вернуться к войску. К хану было отправлено посольство для переговоров, но Ахмат гордо заявил: «Пусть сам Иван придет бить челом, как отцы его к нашим отцам ездили в Орду».
Иван не пошел на новое унижение, прервал переговоры, однако и в битву вступать не решался. Трусливые шептуны убеждали князя отступить от Угры, боясь, что с наступлением морозов татары по льду переберутся через реку. Войску велено было отступать к Боровску. Но и Ахмат был охвачен страхом, он думал, что притворным отступлением им готовят засаду. К тому же его войска успели обноситься, их одежонка не могла выдержать русской зимы, и помощи было ждать неоткуда. Татары решили отступить, что более походило на бегство. Всем стало ясно, что ослабела некогда грозная Золотая Орда. На обратном пути Ахмат был убит одним из татарских князьков, с его смертью Орда окончательно распалась и перестало существовать иго, тяготевшее над Русью в течение двух с лишним веков.
Первая коронация
Старший сын Ивана III Иван Молодой командовал русскими войсками на реке Угре и не дал переправиться хану Ахмату на другой берег. Но в 1490 году Иван Молодой неожиданно умер. Младшему сыну Василию в это время было одиннадцать лет, многие думали, что именно его великий князь объявит наследником. Но Иван III очень любил старшего сына и короновал в 1498 году своего внука Дмитрия, сына Ивана Молодого. Год спустя он разгневался на мать Дмитрия Ивановича, и в 1500 году наследником был назван Василий.
Кругом Кремля раскинулись улицы торгового города, посада, тянулись ремесленные слободы, а дальше шли подмосковные села Зубово, Кудрино и другие. Каменные здания строились лишь в Кремле, но и здесь преобладали деревянные хоромы, в которых жили не только бояре, но и сам великий князь.
Посол Иван Фрязин вручает Ивану III портрет его невесты Софьи Палеолог.
Художник В.В. Муйжель
Город к концу XV века очень изменился. Над кривыми улицами и улочками поднялись к небу новые каменные Спасская и Боровицкая башни, выстроенные приезжими итальянцами. Вместо развалившегося Успенского собора выстроили новый каменный, выросла Грановитая палата с гранеными стенами, как у дворцов флорентийской знати. Начали строить и для великого князя каменные хоромы, но пожар во время сильной бури истребил чуть ли не весь город. Дабы избежать новых пожаров, многие деревянные избы перенесли из Кремля за его пределы, и впредь на его территории, как и вблизи Кремлевской стены, разрешили возводить только каменные постройки. За Москвой-рекой, против Кремля разбили сад, позже названный «Царицын луг».
Новшества стали появляться с приездом в Москву наследницы цареградских кесарей Софьи Палеолог, ставшей супругой великого князя Ивана III. Вместе с ней прибыло множество греков и итальянцев, которые потеснили у московского трона старозаветных бояр.
Бояре возненавидели греческую царевну, оговаривали ее перед мужем, и великий князь все более отдалял от себя супругу, а тринадцатилетнего сына Василия посадил под стражу. Бояре торжествовали: все опять пойдет по-старому, как повелось от предков.
Великая княгиня Софья Фоминична сидела у себя в тереме, не смея показываться на глаза супругу, а бояре готовились пышно отпраздновать свою победу. По их наущению 4 февраля 1498 года великий князь должен был объявить своим наследником и торжественно венчать на царство внука Дмитрия от рано умершего своего старшего сына Ивана Молодого.
Много толков на Москве ходило по случаю предстоящего торжества. Говорили, как выросла и окрепла за последние годы власть московского государя. За тридцать лет княжения Ивана Васильевича его владения увеличились в несколько раз, даже мятежный Новгород покорился ему, а их вечевой колокол давно висит на одной из московских колоколен. Игу татарскому после противостояния на Угре пришел конец. А самого великого князя все чаще называют по-новому – царем и самодержцем, как в старые годы именовали только цареградских императоров.
Многих занимал обряд венчания на царство, неизвестный дотоле в Москве. Греки-монахи с Афона, хорошо знавшие, как подобное торжество происходило в Царьграде, охотно рассказывали о нем. Отыскали в великокняжеских закромах присланные в разное время из Византии шапку Мономаха, трон из слоновой кости, герб в виде двуглавого орла. Поговаривали, что недаром великий князь женился на дочери последнего византийского императора, теперь он сам стал царем, а Москва – все равно что новый Рим. Первый Рим покорил себе все народы, но осквернился латинской ересью, вторым был Царьград, но пал под натиском магометанской веры, ныне Москва стала третьим Римом, и четвертому не бывать.
Иван III с митрополитом и дочерью Еленой
Художник В.В. Муйжель
Четвертого февраля москвичи стекались в Кремль посмотреть на первую коронацию на Руси. В Успенском соборе воздвигли дощатое возвышение и на нем три стула – для великого князя, его внука Дмитрия и митрополита Симона. Рядом поставили налой и на него положили шапку Мономаха и бармы. Все духовенство – митрополит, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены – в священных облачениях ожидал начала церемонии. Когда в назначенное время в храм вошел великий князь с внуком, дьяки по обычаю пропели многолетие Ивану Васильевичу, и духовенство отслужило молебен Пресвятой Богородице и московскому чудотворцу Петру.
– Отче митрополит, – обратился великий князь к владыке Симону, – Божьим соизволением отцы наши, великие князья, сынам своим первым давали великое княжение. Так повелось от прародителей наших. И отец мой меня благословил великим княжеством. И я своего сына первого Ивана благословил великим княжением. По Божьей воле сына моего Ивана не стало, а у него остался сын первый, Дмитрий, и я его ныне благословляю после себя великим княжеством управлять. И ты его, отче, благослови.
Митрополит велел Дмитрию взойти на возвышение, где стоял сам рядом с Иваном III, и благословил его крестом. Дьяконы прочитали положенные молитвы, Дмитрий преклонил главу, и великий князь возложил шапку Мономаха и бармы на внука. Все, присутствовавшие в соборе поклонились обоим великим князьям и поздравили их.
– Господин и великий князь Дмитрий, – поучал митрополит отрока, – имей страх Божий в сердце твоем, люби правду, и милость, и суд правый. Имей послушание к своему государю-деду и попечение от всего сердца обо всем православном христианстве. А мы тебя, господина и сына своего, благословляем и Бога молим о твоем здравии.
Но недолго пришлось Дмитрию носить новый титул. Прошло меньше года, как Софья Фоминична вернула себе место в сердце великого князя. С сына Василия сняли опалу и провозгласили его государем Новгорода и Пскова, наследником отца. Многим боярам, клеветавшим на великую княгиню, отрубили головы. Первого венчанного на царство московского князя Дмитрия посадили «в камень», то есть в каменную темницу. Еще тяжелее пришлось ему, когда по смерти Ивана III великим князем стал Василий III. Дмитрия заковали в цепи, и он умер «в нужде и тюрьме, не увидев более свободы, в 1509 году». Тело его, впрочем, было погребено в Архангельском соборе, где похоронены первые московские государи.
Кончина Василия III
От брака с Соломонией Сабуровой у Василия III не было детей. Тогда он совершил невиданное прежде: насильно постриг жену в монашество, а себе выбрал новую супругу – княжну Елену Глинскую. Вместе с молодой женой он объезжал монастыри, где молился о даровании ему наследника. Наконец он появился. Василию же оставалось жить всего три года.
В сентябре 1533 года великий князь, побывав в Троице-Сергиевой обители, поехал со своей семьей в Волоколамск, чтобы там «тешиться осенней охотой». В дороге на левой ноге у государя появился небольшой, но злокачественный нарыв. Несмотря на это, после Покрова великий князь был в Волоколамске на пиру своего любимца Шигоны Поджогина и, не утерпев, поехал с собаками и ловчими в поле. Но с охоты в Волоколамск его принесли дети боярские на носилках. Вызванные из Москвы придворные врачи немец Николай Булев и Феофил прикладывали к нарыву пшеничную муку с медом и луком и какую-то мазь, от которой пошел гной. Больному становилось хуже, и он делал предсмертные распоряжения. Дьяк Меньшой Путятин со стряпчим Мансуровым привезли прежнюю духовную государя, которая по его распоряжению была сожжена. Все это было сделано тайком от братьев государевых и бояр.
Начали составлять новую духовную. Посоветовавшись со своими любимцами, Василий III призвал в послухи, или в свидетели, находившихся при нем князей: Бельского, Шуйского, Глинского, Кубенского и Шигону. Из Москвы вызвали еще Михаила Юрьевича Захарьина-Кошкина. Государь хотел умереть в Москве, но заехал в Иосифов монастырь, где, лежа на одре, слушал литургию. Подле него стояли великая княгиня с детьми, проливая слезы.
В Москву больного, уже недвижимого, везли в каптане, или возке, и в нем переворачивали его князья Палецкой и Шкурлятов. В селе Воробьеве, куда явились митрополит и бояре, была двухдневная остановка. Против Новодевичьего монастыря навели через реку мост. Но четверка лошадей, везшая возок, провалилась. Дети боярские подхватили возок и обрезали гужи у оглобель. Государь покручинился на городничих (Волынского и Хохрикова), переправился под Дорогомиловым на пароме и въехал в Кремль рано утром, чтобы не оглашалось его безнадежное состояние.
Окончив духовное завещание и открыв митрополиту и своему духовнику желание постричься в монахи и принять схиму, государь обратился со следующими словами к боярам: «Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское, Новгородское и Московское. И вы, братие, постойте крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем. Была бы в земле правда, и в вас бы розни не было бы никоторой. Да приказываю вам Михаила Львовича Глинского, он человек к нам приезжий, но вы не называйте его приезжим, а держите за здешнего урожденца, зане он мой прямой слуга. И были бы вы все сообща, земское дело и дела сына моего зело берегли и делали за один. А ты бы, князь Михайло Глинский, за моего сына князя Ивана, за мою великую княгиню Елену и за моего сына князя Юрия, кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал».
Василий III диктует свое духовное завещание.
Художник В. Зейденберг
Третьего декабря умирающий государь вторично причастился Святых Тайн и назначил правительницей государства жену Елену. Летописец изображает трогательное прощание государя с трехлетним сыном Иваном, которого принесли на руках, и с великой княгиней, которую держали под руки, а она вопила и билась. Ивана он благословил на государство крестом Петра-чудотворца, коим благословлен был Иван Калита. Отпуская сына, государь сказал его няне, боярыне Челядниной: «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступи ни пяди». Затем Василий благословил и годовалого сына Юрия.
Василий III благословляет своего сына Ивана
Художник В.В. Муйжель
Чувствуя приближение смерти, великий князь приказал митрополиту начать постриг и посвящение в схиму. Тут вдруг выступили брат его Андрей, Михайло Воронцов и сам Шигона с возражениями, что Владимир Киевский не чернецом умер, а сподобился быть праведным, и другие князья также. Поднялся спор. Но умирающий, лишившийся уже языка и рук, взором просил пострига. Митрополит совершил пострижение, возложил на него парамонатку, ряску, мантию, наконец, схиму и Евангелие на грудь и нарек его иноческим именем Варлаам. «Царственная книга» говорит: «Стоящи же близ него Шигона, как положили Евангелие на грудех, вид дух его отшедший, аки дымец мал».
Дворец огласился рыданием. Митрополит тотчас стал приводить находившихся во дворце к присяге, а иноки Троицкого и Иосифова монастырей, отослав стряпчих, овладели телом великого князя и стали приготовлять его к погребению.
Последние Рюриковичи на троне
Два временщика
При правлении Елены Глинской под наблюдением зодчего Петрока Малого были выстроены каменные стены по земляному валу Китай-города, частично сохранившиеся до наших дней. Также была проведена на Руси денежная реформа, благодаря которой деньги во всей стране стали одинаковыми, и чеканились монеты исключительно в Москве, на основанных великой княгиней первых государственных монетных дворах. На московских монетах изображали святого Георгия Победоносца с копьем в руке. Отсюда и родилось слово «копейка».
В просторной, разубранной с причудливой восточно-азиатской роскошью боковой Крылечной пристройке недавно возведенного царского дворца в Московском Кремле под вечер весеннего дня, в начале апреля 1538 года, не громко, но с большим оживлением беседовали между собою двое бояр: один – пожилой, другой – молодой и очень красивый.
Молодой красавец был сильно набелен и нарумянен, как того требовала своеобразная мода, господствовавшая на Москве в те времена, но борода и усы его были сняты, что уже являлось и новшеством, и редкостью. Он говорил горячо, порывисто, даже страстно, словно стремясь как можно скорее высказать свои мысли, соображения и услышать одобрение или порицание. Пожилой боярин, с тонкими, указывавшими на родовитость, чертами лица, слушал его ни то чтобы без внимания, но несколько небрежно, то снисходительно улыбаясь, то вставляя в пылкую речь своего собеседника односложные, ровно ничего не выражавшие замечания.
Молодой боярин был знаменитый временщик князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, любимец вдовой царицы Елены; его собеседник – сподвижник покойного царя Василия Ивановича в делах и войны, и правления князь Василий Васильевич Шуйский, муж большого государственного ума и многолетнего опыта.
Московский Кремль.
Художник В.П. Овсяников
– Уж больно спешите-то вы, князь Иван Федорович, – с легкой усмешкой произнес он, воспользовавшись тем, что Телепнев-Оболенский на мгновение прервал свою речь.
– Как спешим? – так и вспыхнул тот, услышав замечание Шуйского.
– Да так. Не ко времени новшества заводите. Нестроение на Руси великое, царь-то наш Иван Васильевич только-только из пеленок выбрался, а вы его именем такие дела вершите, какие народу нашему ой как не по сердцу.
– Не по сердцу! – с гневом воскликнул, ударяя кулаком по столу, Телепнев-Оболенский. – Не по сердцу, сказал ты, князь Василий Васильевич? Спасибо на слове прямом, неувертливом… Редки такие слова у вас, бояр-то!
– Метки зато слова-то эти у нас, – вставил замечание Шуйский, – по поднебесью не летают, а вниз, на грешную землю, к самой сути тянутся.
Телепнев-Оболенский нахмурился.
– Пусть так пока будет, князь Василий Васильевич, – произнес он, – куда опытнее ты меня в делах царских и советом мудр…
– Куда уж нам, воронам, с ясными соколами тягаться, – с явной иронией, но в то же время и с наружной скромностью произнес Шуйский.
– Оставь препирательства! – остановил его князь Иван. – Ты мудр опытом, годами зрел, научи же меня, малого, неразумного: что мы такого худого для народа и Руси с царицею делаем? В чем вина наша пред православными? А, в чем?
– Да на себя взгляни, – усмехнулся Шуйский. – Ишь ведь, оскоблился как… Поглядеть – ни мужик, ни баба…
– Пустое говоришь, князь, – перебил его Телепнев, – и обидно, что сам знаешь, какие пустяки мелешь… Князь-просветитель Владимир Красное Солнышко без бороды и усов был, а к лику святых причтен, равноапостольным величается… Давно, скажешь ты, было это, быльем поросло. Так я тебе еще напомню: покойный царь Василий Иванович разве не снял бороды да усов? А?
– Так ведь ты, князь Иван Федорович, – и зло, и добродушно в одно и то же время усмехнулся Шуйский, – не святой и не царь, поди…
Телепнев смешался.
– Их примеру следую! – пробормотал он.
– А ты не следуй… Орлы, вон, в поднебесье парят, на солнце, не мигая, смотрят. Так то орлы, а не… – Шуйский оборвал фразу на полуслове и продолжил: – Прости, Ваня, ежели не ласково молвил, люблю я тебя, затем и говорю… Залетел-то ты высоко, чую я, дух у тебя на твоей высоте захватывает, голова кружится, а под ногами-то у тебя пропасть бездонная, и ты ее не видишь… О, сверзишься! Ой как сверзишься!.. И жалко мне тебя, Ваня, будет. Ты вот спросил меня, что вы такого с царицею худого творите… Так хочешь, я скажу тебе, а?
– Скажи, – глухо проговорил Иван Федорович, – от тебя все выслушаю…
– Ладно, не сердись только. Что худого вы с царицей делаете? – спрашиваешь меня, так вот я и отвечу, по совести отвечу, как перед истинным…
Шуйский взглянул в застенок в передний угол, уставленный весь образами, прикрытыми убрусцами с дорогими пеленами.
– Ничего вы с царицею Еленою Васильевною худого не делаете, – проговорил он, – одно только хорошее, разумное, народу полезное…
– Ты насмехаешься, что ли, надо мною, князь Василий Васильевич! – так и загорелся гневом Телепнев. – Ой поостерегись… Могу позабыть я и дружбу нашу…
– Ой молодо-зелено! В чем дело – не знает, а уже во все стороны так и пылит! – совершенно покойно заметил ему Василий Васильевич. – Не смеюсь я, а дело говорю. Слушай! Вы вон Средний город поставили, каменную стену о четырех башнях вывели…
– По слову царя покойного, – перебил Шуйского Телепнев. – Он задумал от Неглинной вокруг Купеческого посада да Судного дворца на Троицкой площади стену построить и Васильевский луг в нее включить…
Помилование князя Василия Шуйского перед казнью.
Художник А.Е. Земцов
– Знаю я про это, – возразил Василий Васильевич, – и бояре знают; мы-то, кто к престолу близок, всё знаем и видим… Вот еще, – много ли времени со дня блаженной кончины государя-царя прошло, а вы уже из Литвы триста семей на государево слово выехавших поселили.
– Опять царево дело продолжается, и новшества нет никакого…
– Верно! – согласился Шуйский. – И от второй стены вокруг Кремля, и от литовских выселенцев только польза для царства великая, да больно спешите вы с этою пользою, не даете уразуметь ее народу… Гомонит он и на улицах, и на площадях, и в кружалах, что стену новую около храмов Божьих чужак Петрок Малый Фрязин ставил; так не будет на его дело Господнего благословения.
– Перекрестился Петрок-то, православным стал.
– А кто знает? Народ-то о новокрещенце и не ведает. Папист он, не православный – вот это помнят. Ишь мои доверенные по Москве шныряют, так все мне доносят, где какая муха жужжит. Про литовских выселенцев говорят, будто царица Елена Васильевна своих земляков себе в охрану и на подмогу против народа русского выводит… Не забыли ведь на Москве, князь Иван Федорович, – перегнулся к Телепневу-Оболенскому Шуйский и заговорил совсем тихим шепотом, – не забыли, что русскую жену, царицу Соломонию несчастную, царь в монастырь отослал на великое страдание. Никто, кроме нас, ближних людей, не видал, как царь Василий Иванович горючими слезами заливался, бесплодную жену отсылая, а все, людишки ничтожные, твердят, что непраздною царица Соломония в Суздаль отправлена, все говорят, что угрозами да побоями о дитяти будущем замолчать заставили…
Василий III вводит во дворец свою невесту Елену Глинскую.
Художник К.В. Лебедев
А когда покойный Василий Иванович на место Соломонии литвинянку, дочку литовского изменника, поставил, о как сильно заговорили! Да, любит народ русский царей своих… Государь для него – что солнце на небе! Не поговорили даже, друг другу пошушукались только, да на том и покончилось, а когда литовчанка царю сына первого, Ивана-наследника, принесла да и второй, Юрий, за ним явился, так и Соломонию забыли. А вот умер царь, так вы и напомнили народу обо всем, что он на вас насчитывал… И теперь всякое ваше добро для себя злом дьявольским почитает. Вы Средний-то город новый «Китаем» назвали, а народ на Москве кричит, что вы татар в нем посадите.
– Глуп твой народ! – воскликнул вне себя от гнева Телепнев. – Показать ему батожье – вот все и замолчат.
– Не глуп, а темен, как дитя малое, неразумен, – поправил его Шуйский. – А вы с Еленой Васильевной вразрез с ним идете, да его же дурные мысли подтверждаете.
– Это еще чем? – грубо спросил Иван Федорович.
– А вот хоть тем. Народ кричит, что вы в Китай-город татар насажаете. А вы Шиг-Алея Казанского, которого покойный царь за измену Москве на Белом озере со всей его семейкой заточил, на Москву привезли, милостями осыпали, на Кучумовское царство поставили. Вот народ темный и видит, что как ему смутьяны твердят, так и на деле выходит.
– Слушай, князь Василий Васильевич, – едва сдерживая гнев, заговорил Телепнев-Оболенский, – говори то, что я сейчас слышал, кто другой, а не ты, быть бы ему в узилище… А ты… ты… ты просто рехнулся. Ведь сам ты был, когда Шиг-Алей пред светлые царские очи был впущен. Бок о бок мы с тобою стояли, когда могущественный хан Казанский, земли Русской свирепый разоритель, пред нашим царем-мало-летком во прах пал, сапожки его целовал, щенком себя смердящим и холопом назвал. Это ли не возвеличило Русь! Это ли не торжество Москвы было!.. Враг древний сокрушен и уничижен, против Сафы-Гирея Крымского, что Казанью завладел, любимый казанцами хан поставлен. Так что ж ты, старый, брешешь? Что меня негодниками московскими пугаешь? Ну, говори, что они там, по-твоему, за мной да за Еленой Васильевной считают? Много я слушал, дай еще послушаю напоследях…
– Напоследях! – прищурился Шуйский.
– Да… Много слушал я и много выслушал. Больше не хочу! А длинные языки есть, кому на Москве укорачивать…
Шуйский, несмотря на угрозы, оставался спокойным.
– Когда Шиг-Алей Казанский от порога через покой весь к ногам царя нашего Ивана Васильевича полз, – проговорил он, – это куда как хорошо было. Да опять я скажу: ты князь, да я, князь, при том были, и еще царица Елена Васильевна, да еще княгиня Анастасия, да Елена Ивановна, жена Челеднина, да Аграфена Васильевна, да из бояр немногие. А народ ханского унижения не видал…
Шуйский остановился и стал к чему-то прислушиваться. Вошедший в это мгновение дворцовый слуга с низкими поклонами сперва Телепневу, а потом уж и Шуйскому подал последнему запечатанную восковой печатью грамоту.
Шуйский взглянул только на нее.
– Позвал бы ты, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, – сказал он, – стражу. Обмолвился ты, что напоследях мы говорим, так вот и я обмолвлюсь. Никогда не простит и не забудет народ православный тебе, щенку, да Еленке.
– Как! – заревел Телепнев, вскакивая и хватаясь за нож.
– А так, не простит, говорю, народ-то, что на чужеземный лад вы зажили. Что на Литве да у ляхов водится, то на Москве у русских грех смертный…
– Эй, гей! – неистово крикнул князь Иван. – Стражу сюда!
Но прежде чем явилась стража, в покой ворвалась средних лет боярыня с перекошенным от ужаса лицом.
Это была сестра всемогущего временщика, воспитательница царя Ивана, боярыня Аграфена Челеднина.
– Государь, мой братец милостивый! – неистово завопила она. – Закатилось солнце красное! Извели злые вороги… Померла в единую минуточку царица Елена Васильевна!
Она ударилась об пол, мотаясь в порыве отчаяния. Телепнев стоял остолбенелый. Вбежало несколько дворцовых стражников.
– Взять их за приставы, – указал на брата и сестру Шуйский.
Скоропостижно скончавшаяся царица-вдова Елена Васильевна Глинская в день своей смерти была похоронена в Вознесенском монастыре. Историк говорит, что бояре и народ не изъявили даже притворной горести. Нигде не сказано, чтобы усопшую отпевал митрополит. Князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский спустя немного времени умер в темнице от недостатка пищи и тяжести оков. Сестра его Аграфена Челеднина была сослана в Каргополь. Князь Василий Шуйский за малолетством царя Ивана стал правителем государства и закончил все то, что пылко, но с излишней быстротой начали Елена и несчастный Телепнев.
Победа над Казанью
«Казанское взятие» явилось событием огромной важности. Впервые Москва присоединила к себе целое государство, населенное народами, чуждыми русским и по языку, и по вере. Так был сделан первый шаг к созданию Российской империи. Следствием присоединения Казани стало и продвижение России в Сибирь. В 1556 году в состав России вошло Астраханское ханство. Территория государства увеличилась почти в полтора раза.
В конце октября 1552 года Иван IV Васильевич Грозный с великой победой возвращался в столицу – впервые в состав России вошло не удельное княжество, а целое государство – Казанское ханство. Торжественная встреча царя описана в Никоновской летописи:
«И отправился государь к Москве, и ночевал в селе своем, в Тайнинском, и встретил его тут брат его, князь Юрий Васильевич, и бояре государевы, которые в Москве были… И пришел государь к царствующему граду Москве, и встречало государя множество народа – такое множество, что и поле не вмещало их: от реки Яузы и до Посада, и до самого Кремля по обе стороны дороги бесчисленное множество народа стояло, старые и молодые, и восклицали громкими голосами, так что ничего не было слышно, кроме: «Многие лета царю благочестивому, победителю варваров, избавителю христиан!» И встретил благочестивого царя и государя митрополит Макарий с крестами и с чудотворными иконами, с архиепископами и с епископами и со всем священническим чином у Сретения. И подошел государь к чудотворным иконам, и, перекрестившись, принял благословение от отца своего и богомольца митрополита Макария и от всего освященного собора. И Макарий, митрополит всея Руси, со всем собором и со всем православным народом падают пред царем на землю и от радости сердечной слезы проливают. И тут благочестивый царь переменил свою воинскую одежду, и облачился в царское одеяние, повесил на шею и на грудь свою животворящий крест, а на голову свою шапку Мономахову, то есть венец царский, а на плечи – диадему. И пошел пешим вслед за крестами и за чудотворными иконами с митрополитом в град, и пришел в соборную апостольскую церковь Пречистой Богородицы честного Ее Успения, и припал с любовью к чудотворному образу Богородицы, который написал Божественный апостол евангелист Лука, и к многоцелебным мощам Петра, чудотворца и Ионы-чудотворца, и много молитв благодарственных со слезами изрек…»
Речь Ивана IV на Лобном месте в 1550 году.
Художник А.И. Шарлеман
Покорение Казани.
Художник Г.И. Угрюмов
Памятником Казанской победы стал возведенный на Красной площади Покровский собор «что на Рву», ныне более известный как храм Василия Блаженного (назван так по одному из приделов собора – во имя блаженного Василия, Христа ради юродивого). Первоначально на этом месте заложили деревянную Троицкую церковь, рядом с ней 1 октября 1554 года освятили Покровскую церковь (взятие Казани пришлось на 1 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы). Название «на рву» связано с тем, что через всю площадь, вдоль кремлевской стены, шел глубокий и широкий ров. Его засыпали в 1813 году. В 1552 году у стен Троицкого храма похоронили известного московского юродивого Василия Блаженного.
Красная площадь с Покровским собором (храмом Василия Блаженного).
Художник К.О. Брож
В 1555–1559 годы возвели уже каменный собор, существующий и поныне. Его создатели – русские мастера Посник и Барма (может быть, оба имени принадлежат одному человеку). По преданию, зодчих после постройки собора ослепили. Их судьбе посвятил свою поэму «Зодчие» Дмитрий Кедрин.
Государь приказал. И в субботу на Вербной неделе, Покрестясь на восход, Ремешками схватив волоса, Государевы зодчие Фартуки наспех надели, На широких плечах Кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали Узоры из каменных кружев, Выводили столбы И, работой своею горды, Купол золотом жгли, Кровли крыли лазурью снаружи И в свинцовые рамы Вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись Стрельчатые башенки кверху. Переходы, Балкончики, Луковки да купола. И дивились ученые люди, Зане эта церковь Краше вилл италийских И пагод индийских была! Был диковинный храм Богомазами весь размалеван, В алтаре, И при входах, И в царском притворе самом. Живописной артелью Монаха Андрея Рублева Изукрашен зело Византийским суровым письмом… А в ногах у постройки Торговая площадь жужжала, Торовато кричала купцам: «Покажи, чем живешь!» Ночью подлый народ До креста пропивался в кружалах, А утрами истошно вопил, Становясь на правеж. Тать, засеченный плетью, У плахи лежал бездыханно, Прямо в небо уставя Очесок седой бороды, И в московской неволе Томились татарские ханы, Посланцы Золотой, Переметчики Черной Орды. А над всем этим срамом Та церковь была — Как невеста! И с рогожкой своей, С бирюзовым колечком во рту, — Непотребная девка Стояла у Лобного места И, дивясь, Как на сказку, Глядела на ту красоту… А как храм освятили, То с посохом, В шапке монашьей, Обошел его царь — От подвалов и служб До креста. И, окинувши взором Его узорчатые башни, «Лепота!» – молвил царь. И ответили все: «Лепота!» И спросил благодетель: «А можете ль сделать пригожей, Благолепнее этого храма Другой, говорю?» И, тряхнув волосами, Ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. И тогда государь Повелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его Церковь Стояла одна такова, Чтобы в Суздальских землях И в землях Рязанских И прочих Не поставили лучшего храма, Чем храм Покрова!Богомольцы на ступенях храма Василия Блаженного
Художник И. Земцов
Первопечатник
Уже бежав из Москвы и живя во Львове, Иван Федоров выпустил еще несколько книг для русских людей и первый русский букварь. Теперь его звали Иван Федоров Московитин. А когда он скончался в 1583 году, на его могиле почитатели поместили надпись: «Печатник книг доселе невиданных».
В XVI веке докторов, художников, мастеровых и ремесленников все чаще приглашали из-за границы. Правда, москвичи считали их погаными еретиками и старались держаться от их жилищ подальше. При царе Иване IV для иноземцев отвели особое место, названное Немецкой слободой.
Первопечатник Иван Федоров (около 1520–1583)
Дьякон Николо-Гостунской церкви Иван Федоров часто заглядывал в Немецкую слободу послушать рассказы, какие быстрые успехи делает на Западе просвещение благодаря тому, что Иоанн Гуттенберг сто лет назад изобрел типографский станок и подвижные буквы. Изобретение книгопечатания очень удешевило книги и сделало их доступнее. Иван Федоров уже слышал об этом дивном изобретении от своего приятеля Петра Мстиславца, выходца из Западной Руси. Теперь ему захотелось самому попробовать изготовить печатный станок. В свободное от церковной службы время он стал запираться у себя в доме и упорно работать. Готовил формы, отливал металлические буквы, делал первые опыты печатания. Опыты удались, но не было средств, чтобы расширить дело. И тут помог случай.
Прослышал Иван Федоров, что царь ищет человека, который мог бы печатать книги, и добился приема у него.
В присутствии митрополита и бояр он показал Ивану Васильевичу отлитые буквы и свои первые опыты печатания, подробно рассказал о своей работе и заверил в успехе и пользе печатного дела. Царь остался доволен, ободрил Федорова и дал денег на постройку печатного двора. Это произошло в 1553 году.
Но отпущенные деньги были вскоре израсходованы, постройка остановилась, и московский люд стал смеяться над печатником, называя его за дружбу с иноземцами басурманом.
Только через десять лет сбылась мечта Ивана Федорова, и на Никольской улице, наконец, достроили большое деревянное здание со слюдяными окнами, украшенными искусной резьбой.
Летом 1564 года в царской печатной палате был большой переполох. Казалось бы, ничего особенного в Москве не приключилось: и царь Иван Васильевич здравствовал, и недруги ниотколе не грозили… А царские печатники суетой суетились, палату убирали, свинцовую пыль стряхивали, литеры ровней укладывали, рамы печатные, станки да тиски порядком устанавливали.
Печатных дел мастера Иван Федоров да Петр Мстиславец в праздничные охабни оделись, волосы расчесали, намаслили. Умылись, приубрались и ученики их, младшие печатники Никифор Тарасьев да Андроник Тимофеев по прозвищу Невежа.
Солнышко весело глядело в широкие окна. Перед образом празднично блестела лампада. Пахло в палате печатной краской; всюду были сложены столбцами листы, испещренные черными строками с яркими киноварными заставками.
– Живей, братцы! – говорил Федоров. – Того и гляди, пожалует царь Иван Васильевич. День-то у нас праздничный: отпечатали мы Апостол во славу Божью. Первой книгой печати московской будет она и останется таковой во веки вечные.
– Царь жалует! – крикнул Мстиславец, и все бросились из палаты навстречу государю.
Скоро полным-полна народу стала печатня. С государем приехали новые царские любимцы: Скуратов, Басманов, Вяземский, Грязной да архимандрит Левкий и много других. Царь Иван Васильевич сел посреди палаты, у печатных станков, окинул орлиным оком печатников и речь к ним повел витиеватую, красноглаголивую:
– Зрел я труды ваши и плод стараний ваших, мастерства нового, хитрости неизреченной. И возвеселился я сердцем ради того, что земля Русская к иноземной науке приобщилась. Служите вы прославлению имени Божья, словеса Его святые во многократном образе леповидно и красноуставно тисненью предаете. Медом мудрости и благочестия преисполнилась душа моя, егда читал я в печати вашей Деяния святых апостолов. За сие жалую вас хвалой царской и дарами из казны моей.
Иван Грозный на Печатном дворе
В землю поклонились царю печатных дел мастера и юные ученики-печатники. Царские провожатые всё в палате с любопытством оглядывали. Кто набор готовый из литер прочесть пытался, кто станок пробовал, кто листы глядел оттиснутые.
– А помните ль наказ мой царский вы – Иван да Петр? – спросил погодя царь Иван. – Наказал я с Божьей помощью ко второму труду немедля приступить…
– Благословясь, приступили к нему, царь-государь, – ответил Иван Федоров. – Не изволишь ли поглядеть?.. Два листа уже из Часовника натискать успели. Дайте-ка, молодцы, свежие листы его пресветлому царскому величеству. Не хуже Апостола книга выйдет, царь-государь московской печатне на славу.
– А что, исправно ль ученики твои работают, Никешка да Андрошка? – спросил царь, кивая на молодых печатников. – Батогов не дать ли им для науки? Чай, для такого дела дюже еще молоды?
Никифор да Андроник от царского опроса не смутились. Они были парни сметливые и в работе ловкие. Да тут же за них заступился и старший печатник Иван Федоров.
– Нет, надёжа-государь, не могу похулить молодцов. Послушливы, старательны оба. Не одно лишь печатное да наборное дело знают, а еще и справщиками изрядными учинились. По свитку писаному неукоснительно следят и сразу зорким глазом подметят, где вместо «аза» или «буки» иная литера стоит, где заставка покривится, где строка неровно пойдет. Мигом все справят, так что нам с Петром Мстиславцем, почитай, и глядеть нечего. Достойны сии парни не менее нас твоей царской ласки.
– Похваляю вас, Никешка да Андрошка, – ласково вымолвил царь Иван Васильевич, просветлев взглядом.
Молодые печатники в ноги царю поклонились, а потом снова встали перед его царским величеством, держа тяжелую доску с четкими, ровными рядами литер, в медные рамы заключенных. И государь Иван Васильевич стал любоваться умелой работой своих печатников. А Иван Федоров продолжил свой рассказ:
– Будем мы, царь государь, печатать Часовник на клееной бумаге, на листах малой меры, литерами письма полууставного, ровными, красовитыми. Оглавки мы, царь-государь, оттиснем не черной краской, а яркой киноварью, чтобы далеко было видно и чтецу к передышке служило. Такой же киноварью отпечатаем титловые литеры и конечные, малые строки. Глянь, надёжа-государь, на сей лист, для начала тиснутый. Вишь, как киноварь рдеет промежду строк да черных литер?.. Чистая краса, глазу утешение!
Полюбовался царь Иван Васильевич на лист, красовито отпечатанный.
– Изрядно, – молвил. – Не всуе хвалишь работу свою. И краски, и литеры зело добры суть. Изрядно!
Ободренный царской похвалой, далее повел речь Иван Федоров. Душа его горела к любимому мастерству, и сам он дивовался делом рук своих.
– А в каждом листе, царь-государь, будет у нас двадесять да пять строчек, ровных, четких, единообразных. Строка же наша вниз все меньше идет, и печать углом до конца доходит – точкой киноварной кончается. Заставки и числа в новом Часовнике тоже краскою тиснуты будут… А святые лики мы тискаем с резных досок и с таких же досок – углы и ободы для заглавных страниц.
– Хвалю! – опять молвил ласково царь Иван Васильевич. – Отрадно сердцу моему царскому, что в Русской земле мастерство новое столь славно и крепко делается. Впрок пошла тебе выучка датского печатника. Недаром он и мзду приял.
– Великий искусник был сей датский печатник, – подхватил похвалу царскую Иван Федоров. – И того государя мудрость велика, что нам, рабам недостойным, в сию выучку вступить повелел. Того царя мудрого, светлоумного не забудет Русь православная до скончания своего.
– Слышали? – грозно повернулся царь Иван Васильевич к своим спутникам. – Слышали? Уразумели? Сей человек мне, царю, истинную хвалу воздал, а не по-вашему, лестью и наговорами, сердце омрачил.
Скуратов, Вяземский да Басманов потупились, но потом искоса бросили недобрый взор на печатника.
Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584)
– Чай, у нас скоро книги-то не хуже заморских будут? – спросил царь Ивана Федорова. – В зарубежных-то краях сие мастерство давно живет. Слыхал я, что в Польше раньше нас печатни завели?
– Истинно так, надёжа-государь. У князя Николая Радзивилла в Литве в прошлом году Библию зело хорошо напечатали. В городе Несвиже два года назад стали на русинском языке книги печатать. В Кракове же, царь-государь, более восьми десятков лет печатня изрядная работает. Только там всё латинскими литерами печатают, а славянских, почитай, и не знают вовсе. В чешских землях, царь-государь, книжная печать с прошлого века живет. Был там славный мастер-печатник, именем Феол, и напечатал он святую книгу Октоих древней кириллицей. А потом, надёжа-царь, тот печатник чешский еще святые книги кириллицей печатал: Часослов, Триодь цветную, Триодь постную. И в тех книгах о русских святых упомянуто. То прежде было в Кракове. Ныне же, как я твоему царскому величеству молвил, верх взяла латынщина, а кириллицу забросили. Давно тоже в Черных горах, во граде Ободе, словенская печатня работает. Там инок Макарий тому делу основу положил. И еще была в Венеции-граде словенская печатня, где печатник Андрей Терезанский работал. Там давно уже Часослов кириллицей напечатали. А в начале нынешнего века в Праге полочанин некий Скорино завел русскую печатню, до пятнадцати святых книг напечатал, и среди них Библия…
– Памятлив ты, Иван! – молвил царь Иван Васильевич. – Однако пора и во дворец. Помолимся во храме Божьем, а там и за трапезу. Сбирайтесь вы, надоедники мои! Чай, вам от разумной беседы невмоготу стало? Все бы вам бражничать да буйствовать!.. Хвалю вас, Иван, Петр, Никешка да Андрошка! Трудитесь во славу Божью, на пользу и честь земли родной. Покажите, что Русь мастерством, разумом и умением твердо стоит. А когда напечатаете Часовник, еще пожалую вас милостью и беседой царской.
Начало опричнины
О том, как выглядел государев Опричный двор, рассказывает немецкий авантюрист Генрих Штаден, живший в России в 1564–1576 годах и состоявший в числе опричников: «Когда была учреждены опричнина, все те, кто жил на западном берегу речки Неглинной, безо всякого снисхождения должны были покинуть свои дворы и бежать в окрестные слободы… Великий князь велел разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад от Кремля, на самом высоком месте, в расстоянии ружейного выстрела; очистить четырехугольную площадь и обвести эту площадь стеной; на одну сажень от земли выложить ее из тесаного камня, а еще на две сажени верх – из обожженных кирпичей. Наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц; протянулись они приблизительно на сто тридцать саженей в длину и на столько же в ширину; с тремя воротами: одни выходили на восток, другие – на юг, третьи – на север».
То был страшный для Руси день – народ пришел к своему царю с повинной головой, и заключил с ним Иван Васильевич Грозный кровавый уговор!.. С того дня рекою полилась кровь русская, все чаще и чаще летела с могучих плеч удалая головушка. Январь того страшного 1565 года стал началом опричнины…
Привела к ней царя вся его тяжелая, поистине страдальческая жизнь. С ранних лет почувствовал на себе властолюбивый и грозный государь опеку бояр и духовенства. Эта опека воспитала в нем дурные наклонности, пробудила зверя лютого, разожгла страсти кровожадные. Не дав ничего царской душе, окружавшие его зорко следили за каждым его шагом, старались прибрать власть к своим рукам. Они не замечали, что их опека горькой обидой засела в душу государя, что эта обида с каждым днем становится все острее и острее, все ближе и ближе к тому, чтобы прорваться неудержимым потоком мести. Пока была жива первая жена Ивана Васильевича, кроткая царица Анастасия, она, как могла, сдерживала своего супруга. Но с ее смертью будто разом спали все оковы с гневной царской души. Он обвинил в смерти кроткой царицы бояр, припомнил все нанесенные ими обиды, и наступил час расплаты.
Один за другим бояре подвергались опалам и казням. Москва захлебнулась в крови и слезах, оцепенела в ужасе. Темницы полнились узниками, монастыри – ссыльными. Но с каждой новой жертвой царского гнева росло и число недовольных его деяниями. Царь видел это, и злоба его росла пуще прежнего. Ему стало казаться, что вокруг него повсюду таится страшная измена, и, кроме злобы, страх начал овладевать его сердцем. Он уже боялся оставаться в одиночестве. А тут еще обнаружились явные измены князей Вишневского и Курбского. Измена последнего, на которого он надеялся, как на каменную гору, вконец сразила Ивана Грозного. Он стал бояться жить в Москве, и внезапно рано утром 3 декабря 1564 года оставил ее, переехав в Александровскую слободу.
Таинственный отъезд царя из столицы не предвещал ничего доброго, и это почувствовали все. А царь не подавал из своей слободы никаких вестей.
Наконец 3 января были присланы в Москву две царские грамоты: одна – к митрополиту, боярам и начальным людям, другая – ко всему народу. В первой царь указывал на измены бояр и на их крамольные намерения. «Царь и государь и великий князь, – говорилось в ней, – от великой жалости сердца не желая их многих изменных дел терпеть, покинул свое государство и поехал, чтобы поселиться там, где ему, государю, Бог укажет». В грамоте же к простому народу царь являл полную свою милость.
Иван Грозный за синодиком.
Художник И. Земцов
Грамоты были получены, когда шла война с Литвой, а с юга грозили крымские татары. И в такое тяжелое время государство осталось без своей главы, по уверению грамот, из-за боярской крамолы! Московский люд оцепенел в ужасе, все пришли в смятение. Народ, обласканный в грамоте царем, озлобился против бояр. Бояре же во всем винили духовенство, духовенство – бояр. Но все были согласны в том, что нужно немедленно отправить депутацию из почетных людей всех сословий в Александровскую слободу, чтобы те слезно и неотступно просили Ивана Васильевича вернуться на царство…
И вот выбранные от московского населения пришли в царскую слободу, где их уже давно поджидали. Здесь все дышало жаждой мести, каждый день вынашивались новые планы, один другого кровавее. Окружали царя Алексей Басманов, Малюта Скуратов, молодой красавец-князь Афанасий, которого попросту кликали Афонькой Вяземским, князь Михаил Темрюкович Черкасский и многие другие любимцы. Все они одно напевали Грозному, все толкали его на кровавый путь.
А он застучал об пол острым посохом:
– Зачем явились?
Посланники снова пали наземь и завопили:
– Милостивец-государь, не покидай нас, погибаем! Кто спасет нас от врагов иноземных? Остались, как овцы, без пастыря.
В нестройном гуле голосов они несказанно восхваляли царя, слезно умоляли его смилостивиться над ними, не оставлять царства, карать по своему разумению тех, за кем знает вину.
Слезные долгие мольбы смягчили Грозного, в глазах его за тенью злорадства проскользнул свет любви.
– А коли так, – проговорил он, – слушайте же меня.
В длинной речи он исчислил неправды, крамолы и измены боярские и поставил условия, на которых соглашался вернуться на царство. Припомнил он и свои детские годы, самочинство бояр над ним и его близкими. Все больше и больше распалялся царь. И вдруг, как бы уставши, стал говорить умиротворенно, что править государством без жестокостей и строгости никак невозможно, что царь носит меч злодеям в устрашение и в защиту добродетельным.
– И коли вы пришли звать меня вновь на государство, – опять возвысил голос Иван Васильевич, выпрямившись во весь рост и стуча об пол посохом, – то вот вам мой сказ! Вижу я ныне единое великое дело – извести крамолу из земли Русской. А потому да вольно мне будет без докуки и печалований духовных отцов казнить изменников и налагать на них опалу. Для сего дела решил поделить я мое государство на две части: опричнину и земщину. Хочу окружить себя верными людьми, которые помогут мне искоренить крамолу. Много людей понадобится мне для великого и славного дела. А потому часть городов на них и на себя отписываю. Другие – на земщину. Пусть ею старейшие из вас управляют, часть государства забот на себя возьмут. Мне бы поменьше докуки, ведь на великой трудности дело иду!
Монахи
Царь умолк. Московские посланцы безмолвствовали.
– Аль не слышали?! – загремел своим посохом грозный царь.
– Твоя воля, государь, казнить и миловать виновных и все исправлять твоими мудрыми законами, – отвечали посланцы.
– А за подъем наш в Александровскую слободу, – закончил Грозный, собираясь уходить, – прислать вам следует сто тысяч рублей из Земского приказа.
– Упреждены мы о том, великий государь, слугой твоим верным Малютой и принесли их, – отвечали посланцы, кланяясь на прощание своему царю…
Иван Грозный на охоте
А между тем, покуда Иван IV вел разговор с москвичами, Афонька Вяземский заканчивал в одной из дальних царских палат особый разговор с царским охотником Ерошкой Кулычевым.
Пир опричников.
Художник В.Г. Шварц
– Так и говори царю, – наставлял Афонька Ерошку.
Давно Вяземский с Малютой задумали это дело. Хотели они царским опричникам, что измену будут выводить из земли Русской, знаки внешние придать, чтобы страху к ним больше было. Говорили и царю об этом. Долго думали, раскидывали умом и наконец придумали…
– Устал, милостивец? – заботливо склонился Вяземский к царю. – Чай, замучили тебя супостаты?
– И на их долю достанется, – мрачно усмехнулся Грозный.
– А у нас дело к тебе.
– Аль на деньги позарился? – проговорил, усмехаясь, царь, глядя на золото, оставленное москвичами. – Дай-ка лучше ларец и положи их туда.
– Не то, милостивец, – Вяземский покорно подал ларец. – Сказывал ты, что знак нужен твоим телохранителям. Так вот охотник Ерошка Кулычев ожидает предстать пред твои светлые очи.
– Аль придумал что холоп?.. Зови, зови.
Ерошка упал в ноги царю и, когда поднялся по царскому зову, положил у ног Грозного мешок.
– Ну, раскрывай, показывай.
Из мешка выкатилась собачья голова и выпала метла. Увидев свеже-отсеченую собачью голову, царь отшатнулся и с удивлением взглянул на Ерошку. Тот поспешил объяснить.
– Великий государь, голова пса с оскаленными зубами – знак, что опричники твои, как псы, будут грызть царских лиходеев. А метлой будут выметать крамолу из земли Русской.
– Лукьяныч! – крикнул царь Малюте, который ждал зова в соседней палате. – Гляди-ка, как хитро придумано. Лучше и не выдумаешь… Награди его, Лукьяныч, да, пожалуй, в опричники засчитай. Такой пригодится для нашего великого дела.
И через месяц великое дело началось: снова полилась боярская и холопская кровь.
Горбатые-Шуйские
Когда в феврале 1565 года Иван Грозный вернулся в Москву, вид его был ужасен, у него выпали все волосы и взгляд почти всегда оставался безумен. Он решил всем доказать, что «жаловать есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же».
Ужаснулась Москва, увидев царя Ивана…
Недавно был он стройный, высокий ростом, с ясным взглядом серых, полных огня глаз. Его умное лицо украшали борода и усы, а на голове росли густые волосы.
Не узнала столица в сгорбленном старце, с искаженными злобой чертами, с совершенно вылезшими волосами на голове и бороде, потухшим взором, лишь изредка вспыхивавшем гневом и яростью, того Ивана Васильевича, который победоносно водил русские войска под стены Казани и Астрахани, друга Сильвестра и Адашева.
Точно туча нависла над столицей, когда Иван Васильевич 3 декабря 1564 года, после обедни в церкви Успения, уехал из Москвы вместе с царицей Марией Темрюковной, с сыновьями, со своими любимцами Алексеем Басмановым, князем Афанасием Вяземским, Михайлом Салтыковым и другими, с целым полком вооруженных хранителей, забрав с собою множество дворцовой утвари, драгоценностей, денег, икон и крестов. Но еще большее смущение овладело всеми, когда после продолжительного путешествия по разным монастырям царь из Александровской слободы прислал с чиновником Константином Поливановым письмо митрополиту Афанасию, а другое, с дьяками Путилой Михайловым и Андреем Васильевым, к гостям, купцам и мещанам московским.
Царские рынды
Вся столица пришла в ужас, узнав, что царь в этих письмах заявил о желании оставить престол. Грозен был Иван, страшен гнев его, но безначалие и правление боярское, столь памятное во время малолетства царя, показалось людям московским страшнее правления царского…
Встревоженный народ требовал возвращения царя. «Государь оставил нас, мы погибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными?! Как могут быть овцы без пастыря?!» – кричали все.
Под влиянием этих требований благословил митрополит святителя Новгородского Пимена и архимандрита Гдовского Левкия послами к царю, а с ними отправились в слободу Александровскую многие епископы, бояре, князья, окольничие, дворяне, приказные, купцы, мещане и другие люди просить царя вернуться в Москву и царствовать, как будет ему, царю, угодно.
Иван не ошибся. Недолго заставил он себя уговаривать и согласился «паки взять свои государства для отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов».
В Сретенье той же зимы торжественно въехал государь в Москву, окруженный любимцами, телохранителями с мечами, ружьями, дрекольями.
Навел страх на москвичей отъезд царя, а еще больший – его возвращение. Был царь грозным владыкой, не знавшим ни жалости, ни пощады, а вернулся еще страшнее. Поняли люди московские, что сами на себя беду накликали, и в ужасе притихла Москва, ожидая гнева царского.
Не заставил он себя долго ждать.
На другой же день, 3 февраля, по Москве пронеслась зловещая весть – завтра суд царский.
И все знали, что это значит.
Этот суд не ведал ни милости, ни сострадания, ни правды. Ничто не спасало от царских подозрений. Иоанн не давал себе труда даже проверять домыслы, посылая несчастных на казнь. В свирепом гневе своем не знал он ни правого, ни виноватого и без содрогания не раз убивал своей рукой.
Хорошо, если обреченному на смерть удавалось перейти в ее холодные объятия без мук, без пыток, придумываемых с особенным старанием самим царем и его любимцами. Но не многим это удавалось. Царь не только казнил своих мнимых врагов, но и старался отравить всевозможными мучениями их последние предсмертные часы.
С трепетом ожидали московский люд, на кого в этот раз падет тяжелый жребий гнева царского.
Рано утром 4 февраля вся столица устремилась на площадь. Взошло солнце, чтобы видеть новое кровавое дело, одну из черных страниц истории, несмываемое пятно с царствования Ивана Грозного. Видеть, как славный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый участник покорения ханства Казанского, муж ума глубокого, искусный в делах ратных, ревностный друг отечества и христиан, станет первой жертвой нового безумия царя.
Спокойно, с глубокой думой на челе старый русский князь шел на заклание об руку со своим семнадцатилетним сыном Петром Александровичем…
Тяжело было старому боярину, всю жизнь служившему и на полях ратных, и в иных делах дорогой ему Руси, не щадившему ни своих сил, ни здоровья. Тяжело и обидно было, но не за себя сжималось его сердце от страшной боли – от сознания, что с собой на плаху он ведет юного сына. Растил, лелеял он его, воспитывал в страхе Божьем, готовил на службу родине, вселял ему с малолетства любовь к ней, знал, что не посрамит отца и предков Петр, будет достойным носителем имени Горбатых-Шуйских. И вот этому сыну судил Господь сложить голову на плахе под ударом палача.
Не к жизни привел он, отец, своего сына, не на широкий путь служения родине указал ему, а на жестокую смерть. Если он, старый князь, умирал за сознание, что Иван не царь Руси, Богом поставленный, не помазанник Божий, а мучитель лютый, утративший образ и подобие Божие, то ведь Петр, чистый сердцем и помыслами, умирал лишь за то, что чтил отца, исполняя завет Христов.
Покорно шел молодой князь Петр об руку с отцом. Не судил ему Господь пути жизни, не судил ему быть утешителем старости отца, а судил принять венец мученичества, принять смерть вместе с тем, кто дал ему жизнь.
В немом ужасе смотрела толпа, как взошел на плаху старый князь, сын любимого народом воеводы Василия Ивановича Горбатого-Шуйско-го, наместника в Новгороде и Пскове, члена Верховной боярской думы в пору малолетства царя. И поняла толпа, кого она возвратила на царство, поняла, что за этим страшным днем наступит и другой, и будут новые жертвы. Безумию Ивана Грозного дали силу.
Княжич подошел к отцу и склонил перед ним в последний раз колени. Долго крепился старый боярин, но не выдержал, и покатились из глаз его на седую бороду тяжелые, редкие слезы. Благословил он сына на смерть земную, а следом за ней – на жизнь вечную. Обнял его и трижды поцеловал. Князь Петр склонился на плаху.
– Нет, сын мой, – остановил его отец, – окажи мне милость великую, не дай видеть отцу смерть сына. Я первым предстану перед Всевышним.
Выдача головою.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Старик подошел к плахе, палач замахнулся мечом и разом отсек голову. Князь Петр, на минуту осиротелый, взял в руки отрубленную голову отца и с благоговением ее поцеловал. Затем, сотворив крестное знамение, с веселым лицом взглянул на небо и, ожидая радостного свидания с отцом в царстве Христовом, подошел к плахе, и палач тем же мечом совершил и над ним свое дело…
Так погибли последние князья Горбатые-Шуйские, отец и брат Евдокии Романовой – жены деда первого царя из дома Романовых Михаила.
Святой Филипп
Святитель Филипп принял мученическую кончину 23 декабря 1569 года. Тело его с поспешностью было захоронено в Тверском Отрочем монастыре. 9 июля 1652 года святые мощи были доставлены в Москву. На том месте, где у городской черты духовенство и народ встречали святыню, был воздвигнут крест, от которого получила свое наименование Крестовская застава. Мощи святителя Филиппа были положены в серебряной раке в Успенском соборе Кремля, где почивают и до сего дня.
Осенью 1537 года, перед закрытием навигации, на пристани Соловецкого монастыря высадился богомолец. С виду ему было лет тридцать. Исхудалое загорелое лицо, покрытые мозолями руки, казалось, обличали в нем простолюдина. По одежде он тоже не выделялся из толпы. Согласно монастырскому обычаю, его не спрашивали: кто он, откуда, зачем? Товарищи по путешествию могли только рассказать, что в последнее время он пас стада у одного крестьянина прионежской деревни Хижи.
Прямо с пристани таинственный богомолец пошел искупаться в Святое озеро, а оттуда – поклониться гробам преподобных соловецких угодников. Явившись потом к отцу настоятелю, богомолец объявил свое намерение навсегда отказаться от мира и просил в виде искуса назначить ему послушание.
Впоследствии узнали о пришельце, что был он сыном известного боярина Степана Ивановича Колычева и звали его Федором. Его отец был любимцем великого князя Василия Ивановича. Дядя его, Иван Колычев, был наместником в Новгороде, послом у крымского хана Менгли-Гирея.
Дом бояр Колычевых отличался широким русским гостеприимством. Мать Федора Колычева считала самым большим для себя удовольствием и отрадою пригревать бесприютных сирот, больных и убогих. Федор выучился читать по церковным книгам, знал не только Священное Писание, но и сочинения святых отцов Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и многих других. При врожденной тихости нрава, равнодушии к забавам товарищей он всею душою был предан книгам. Как дворянин знатного рода, Федор должен был готовить себя к государевой воинской службе. К нему были приставлены особые дядьки, которые учили его верховой езде, стрельбе в цель, умению владеть копьем и саблей, без чего нельзя было обойтись дворянину.
Юродивые в боярском доме.
Художник М.К. Клодт
С ранних лет в Федоре Колычеве под влиянием родителей развилось необыкновенное благородство в характере. Кроткий, обходительный в обращении, он выделялся среди товарищей чистой душой, степенностью и благоразумием не по летам. Отец его заседал в Боярской думе, и, естественно, когда сын подрос, он был взят ко двору. Но после смерти великого князя Василия Ивановича его вдова царица Елена завела ссору с дядей малолетнего государя Ивана Васильевича, Андреем Старицким. Бояре Колычевы приняли сторону последнего, и за это по обычаю того времени их подвергли жестоким пыткам, заковали в цепи и заключили в одной из мрачных кремлевских башен.
Несчастие родных произвело сильное впечатление на юношу. Он сделался задумчив, чаще стал ходить в церковь, усерднее молиться. Однажды, слушая Евангелие от Матфея, он был поражен словами: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне».
Церковный сторож.
Художник М. Андреев
Федор Колычев очень скоро приобрел расположение монашествующей братии. Полтора года провел он в строгом послушании, исполняя самые черные работы. Он рубил дрова, копал огородные гряды, таскал камни, занимался рыболовством, работал на монастырских мельницах и кузницах, а после утомительного трудового дня почти всю ночь простаивал на молитве.
Наконец Федор был пострижен в иноки с именем Филипп. Девять лет он провел на Соловках в совершенном уединении и строгой подвижнической жизни. Но тут случилось неожиданное. Престарелый игумен Алексий, человек болезненный, решил отказаться от настоятельства и предложил братии назначить на свое место Филиппа. Долго отказывался благочестивый инок от предложенной ему чести. Наконец, покоряясь воле Божьей, управляющей всеми делами человека, он дал свое согласие и поехал в Новгород за благословением к архиепископу Феодосию, который и посвятил его в игумены.
В Соловецкой обители нетерпеливо ждали возвращения Филиппа. Как только вдали показалось судно, на котором ехал новый игумен, вся братия поспешила на пристань с крестом и святою водою. Хор певчих огласил воздух пением молитв. Когда Филипп поступил на землю, начался благодарственный молебен с водосвятием. Затем последовало торжественное шествие в монастырский собор, где во всеуслышание была прочитана грамота новгородского архиепископа, возводившего Филиппа во игумена монастыря.
Аскет и труженик, став во главе соловецкой паствы, выказал поистине гениальную способность управления, которой недоставало многим светским людям, стоявшим в то время у подножия московского престола. Молва о его деятельности распространилась по всему северному краю и достигла Москвы. Богомольцы теперь толпами стекались в Соловки. Царь Иван Грозный пожаловал игумену Филиппу грамоты на право владения многими селами и угодьями, подарил богатые ризы и тысячу рублей на построение Преображенского собора.
В 1555 году по случаю церковного собора Филипп вместе с прочими настоятелями знатнейших монастырей был ненадолго вызван в Москву.
* * *
Прошло несколько лет после посещения Москвы, как вдруг в жизни Филиппа произошел неожиданный поворот. В Соловки от царя Ивана IV прибыл гонец с грамотой к игумену, в которой говорилось, что митрополит Московский Афанасий отказывается от своего сана и на его месте царь желает видеть Филиппа.
Собрав монастырскую братию, игумен объявил о царской воле и своем отъезде. Глубокой скорбью поразила иноков эта весть. В обители жил в ссылке священник Сильвестр, советчик царя Ивана Васильевича в юные годы. По наветам злых людей старец из Кириллова монастыря был изгнан на Соловки. Его рассказы о том, какое злодейство творит царское войско, названное опричниной, наполняли ужасом сердца иноков, трепетавших за жизнь своего любимого пастыря. Но Филипп сохранил твердость духа и безмолвно покорился воле государя. Совершив торжественную литургию, он последний раз присутствовал за монастырской трапезой и после краткого наставления братии вступил на борт судна, чтобы навеки покинуть соловецкие берега. Громкие рыданья осиротелой братии сопровождали отъезд игумена.
Не доезжая трех верст до Новгорода, Филипп был встречен многочисленной толпой новгородцев.
– Отче! – молили они, обступив Филиппа. – Будь ходатаем за нас и за город наш!
Слухи о царском гневе на Великий Новгород за его дружеские сношения с Литвою и Польшей все чаще стали долетать до вольных граждан. Страх и трепет объял новгородских жителей, и они слезно просили Филиппа смягчить сердце царя.
Милостиво принял Филиппа Иван Грозный. Он объявил, что назначает соловецкого игумена митрополитом Московским и всея Руси. Долго отказывался Филипп от столь высокого сана и смиренно молил царя отпустить его назад, в Соловки. Но царь оставался непреклонен.
– Повинуюсь твоей воле, государь, – склонил голову Филипп. – Но только отмени опричнину. Иначе быть митрополитом не могу.
Иван Грозный вспылил. Казалось, что дело не сладится. Но епископы стали умолять царя не гневаться, а Филиппа – покориться царской воле. Филипп уступил и даже согласился дать письменное обещание не вмешиваться ни в дела опричнины, ни в обиход царской домашней жизни, мысленно надеясь, что все равно ему удастся принести много пользы родной земле.
В Успенском соборе Московского Кремля 25 июля 1566 года в присутствии царя, его многочисленной свиты, духовенства и горожан совершилось торжественное поставление Филиппа в митрополиты.
На некоторое время в Москве наступило затишье. Казалось, что царь забыл о жестокости. Но это только казалось… Опричники доносили ему, что москвичи стали избегать их, словно язвы, что повсюду на улицах стихает разговор, лишь только завидят их. Ивану Грозному любы были эти доносы, они подтверждали укоренившуюся в его больной голове мысль, что против него готовится большой заговор и верные слуги предохраняют его от опасности. Перехваченные в 1568 году грамоты польского короля ко многим знатным боярам с предложением вступить на польскую службу подали повод к новым казням. Царь уверился, что бояре Иван Челяднин, Щенятев и Турунтай-Пронский замышляют свергнуть его с престола, и всех троих казнили, а имения их сожгли дотла. Неслыханные злодейства опричников вновь наполнили ужасом сердца москвичей.
Смерть шута Гвоздева
Наконец бояре и народ решили обратиться со слезным прошением к митрополиту, чтобы он воспользовался своим старинным правом печаловаться за опальных. И когда в трепете перед страшной царской грозой все на Руси притихли, неожиданно раздался смелый голос святителя Филиппа, громко осудившего непомерную жестокость Ивана IV. Сначала он попытался восстановить мир и порядок, призывая к действию духовенство на собрании епископов.
– На то ли, братие, существуем мы, – с юношеским жаром восклицал шестидесятидвухлетний старец, – чтобы молчать, страшась открыть истину царю?! Разве не видите, что молчанием своим мы вводим царя в грех, а свою душу в погибель? Желаем ли мы славы тленной? Мы не должны забывать, что наш сан не избавит нас от вечных мук, что наш долг – заботиться о мире и благоденствии людей. Нам нечего смотреть на безмолвных бояр – они связаны житейскими заботами. Мы же отреклись от мира, нам щадить себя не для чего и не для кого…
Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана Грозного
Так говорил Филипп, этот «пастырь добрый, готовый положить душу свою за овца свои». Но не нашлось тогда никого среди московского духовенства, кто был бы так же великодушен, как он, кто решился бы подвергнуть себя опасности. К великому прискорбию русских людей, оказались среди духовенства и предатели, которые явились злейшими врагами митрополита и сторонниками опричников. Более всех злословил Филиппа царский духовник, незадолго до того подвергшийся церковному отлучению за важные проступки.
Но Филипп не устрашился и в одиночестве вступил в борьбу с царем, считая себя вправе давать ему пастырские советы и ходатайствовать, чтобы без суда не лилась безвинная кровь. Святитель отправился к Ивану Васильевичу и сначала вел с ним беседу наедине. В чем она состояла – неизвестно. Но очевидно, что убеждения митрополита не подействовали на царя, кровь продолжала литься по-прежнему. Тогда Филипп решил начать открытое, всенародное обличение царя. В Успенском соборе 29 марта 1568 года владыка стал убеждать государя не увлекаться гневом и держаться святой правды. Царь вспылил и приказал ему молчать. Митрополит кротко напомнил, что он, как пастырь церкви, обязан блюсти мир и спокойствие среди православных христиан.
– Тебе, государь, – говорил Филипп, – доносят одну неправду. Приблизь к себе людей, желающих советовать тебе доброе, а не льстить, прогони тех, кто ложью только волнует и раздражает тебя…
Царь угрожал митрополиту покарать его за дерзкие речи и в другой раз приказал молчать или сложить с себя сан. Филипп, в свою очередь, напомнил государю, что никогда не стремился занять первосвятительский престол и счел бы себя счастливым, если бы царь разрешил ему вернуться в Соловецкую обитель.
Царь ушел в свои покои в большом раздумье и в гневе на святителя.
Враги Филиппа не дремали. Началось повальное гонение на его родственников. Многих их них пытали, имения их жгли, имущество забирали в казну. Святитель терпеливо сносил все испытания, касавшиеся лично его и его близких. Но один случай погубил его.
Царь с боярами участвовал в крестном ходе из Новодевичьего монастыря. Обходя с крестами стены обители, митрополит остановился у ворот, чтобы читать Евангелие. Но, оглянувшись, заметил, что один из опричников надел тафью (высокую ермолку) на голову.
– Державный царь! – воскликнул Филипп. – Прилично ли такое беззаконие?
– Что такое? – изумился царь.
– Один из твоих людей пришел сюда в сатанинском образе.
Царь осмотрел всех, но ничего не увидел – опричник уже спрятал тафью. На допросе все опричники единодушно отвечали, что митрополит затеял это дело по злобе на царя. Ивана Грозного оскорбило в первую очередь то, что обличение было сделано всенародно, и решил осудить митрополита. Для этого вызвали из Соловецкого монастыря игумена Паисия, который, желая выслужиться, согласился стать главным обвинителем на соборе, составленным из светских и духовных лиц. Выслушав обвинение, Филипп ответил Паисию одно: «Что посеешь, то и пожнешь».
* * *
В восьмой день ноября святитель Филипп, облаченный в светлые ризы, стоял пред алтарем Божьим. Смиренномудрый старец, исполненный любви и кротости, возносил горячие моления к престолу Всевышнего.
«Боже правый и многомилостивый! Вложи благость в сердце царево! Спаси святую Русь!» – эта мысль как луч солнечный проникала во все молитвы святителя.
Вдруг на паперти раздался необычный шум, нарушивший благоговейную тишину, прерывавшуюся доселе только пением церковного клира да возгласами священнослужителей.
Толпа молящихся раздвинулась, и к алтарю прошел, шумно потрясая оружием, отряд опричников во главе с царевым боярином и любимцем Алексеем Басмановым. Он передал дьяку грамоту и приказал читать.
Изумленный народ не верил ушам своим: во всеуслышание от имени великого государя объявлялось, что митрополит, осужденный синклитом духовенства, лишается сана святительского и пастырского.
Под сводами древнего храма раздались сдержанные народные рыдания.
Между тем опричники по знаку Басманова ворвались в алтарь. Со старца были сорваны святительские одежды. Двое опричников, подхватив Филиппа под руки, повели его к выходу из собора. На паперти их встретили другие приспешники Басманова, и, к великому соблазну и смятению народа, началось еще большее бесчинство. Святителя подгоняли метлами, осыпая градом ругательств, бросили в сани-розвальни и с хохотом повезли.
– Народ московский! – кричали весело опричники. – Смотри, как жалует великий государь наш Иван Васильевич волков стада царева, ослушников слова царского!
* * *
Небольшая темная келья Отроча монастыря в Твери. Перед образом на коленях молится великий подвижник, смиренно склонив свою седую голову. Он молится за мир, за родину и за гонителя своего.
Тесна келья, но гроб еще теснее. Гроб, в котором скоро придется лежать святителю…
Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. Художник Н.В. Неврев
В келью вошел Малюта Скуратов – безжалостный палач, замаравший свои руки и душу множеством козней и казней. Злобой сверкают его глаза, злобой искажено лицо. Но не вздрогнул Филипп, хотя и предвидел цель его прихода.
– Владыка святый, – приняв смиренный вид, заговорил палач, – преподай благословение царю на поход в Новгород.
– Делай то, зачем послан, – ответил святитель и, встав на колени, стал произносить свою последнюю земную молитву.
Нетерпеливо ждал Малюта окончания молитвы. Наконец не выдержал, бросился на святителя и задушил его подушкой.
Русский посольский обычай
Прибыв на русскую границу, посол давал знать о себе в ближайший русский город. Местные власти сносились с Москвой и, получив соответствующие инструкции, сопровождали посольство до самой столицы. При общении с иностранцами от русских требовалось не уронить честь своего государя. Например, ни в коем случае не слезать первым с коня и первым обнажать голову. При всяком упоминании имени государя надо было следить, чтобы полностью произносился его длинный титул.
Торжественные приемы иноземных послов в Грановитой палате – обряд довольно редкий и потому обставляемый с чрезвычайным блеском и великолепием. Грановитая палата убиралась дорогими коврами и уставлялась по стенам и возле среднего стола громадным запасом золотой и серебряной посуды. Все лестницы, сени, переходы и дворцовые покои, по которым проходило посольство, украшались по стенам особым «шатерным нарядом», то есть дорогими цветными материями.
Непрерывный ряд царедворцев различных чинов стоял во всех дворцовых покоях на пути посольства и поражал иноземцев блеском и роскошью своих парчовых и бархатных кафтанов. Но, вступив в Грановитую палату и увидев царя, сидевшего на троне в большом наряде, окруженного важнейшими сановниками и символами его державной мощи, иноземцы во сто крат больше прежнего были изумлены необычайным богатством царской казны. Не только шапка, бармы и прочие одежды государя горели большими драгоценными камнями, но и царский трон, иконы над ним и по бокам также блистали золотом, рубинами, алмазами, изумрудами и яхонтами. Юноши в белых атласных кафтанах, с золотыми цепями на груди, с позолоченными топориками на плечах стояли по сторонам от трона в виде почетной стражи. Бояре и духовенство сидели и стояли вдоль стен и возле трона в глубоком и почтительном молчании. Недалеко от трона стояли и государевы стряпчие – чиновники, которые носили за государем и подавали ему в случае надобности посох, платок, коврик под ноги, складной стул и т. п.
Среди стряпчих иноземцы в Грановитой палате выделили одного, который держал на серебряном блюде полотенце. Он по данному знаку подносил государю серебряный рукомойник и такую же лоханку, в которой царь мыл руки, а потом вытирал их лежащим на блюде полотенцем. Этот обряд омовения совершался государем каждый раз, когда ему приходилось принимать из рук иноземцев привезенные ими грамоты или допускать их к руке. Вероятно, при этом имелся в виду подобный же обычай византийского придворного этикета. Но не следует исключать и предрассудок против всего иноземного, как нечистого и басурманского, который был силен в Московской Руси. Он стал исчезать только со времен Петра Великого, который близко общался с иноземцами и приучал к тому же своих приближенных.
Омовение рук царем после приема иноземных послов
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Обычай омовения рук производил тяжелое впечатление на послов. Они осязательно убеждались в том, как пренебрежительно смотрят русские на иностранцев.
Живший в то время в России английский путешественник Джером Горсей оставил свои воспоминания о жизни царского двора.
Вот как Иван IV принимал английского посла: «Как было назначено, около девяти часов в этот день улицы заполнились народом и тысяча выстроенных в ряды стрельцов в красных, желтых и голубых одеждах, с блестящими самопалами и пищалями в руках, стояли на всем пути до дворца царя. Князь Иван Сицкий в богатом наряде, верхом на прекрасной лошади, богато убранной и украшенной, выехал в сопровождении трехсот всадников из дворян, перед ним вели отменного жеребца, также богато убранного, предназначенного для посла. Но тот, недовольный тем, что его конь хуже, чем у князя, отказался ехать верхом и отправился пешком, сопровождаемый своими слугами, одетыми в ливреи из стамета[4], хорошо сидевшие на них. Каждый из слуг нес один из подарков (в основном блюда). У дворца их встретил другой князь, который сказал, что царь ждет его. Баус отвечал, что идет так быстро, как может. <…> Переходы, крыльцо и комнаты, через которые вели Бауса, были заполнены купцами и дворянами в латотканых одеждах. В палату, где сидел царь, вначале вошли слуги посла с подарками и разместились по одну сторону. Царь сидел в полном своем великолепии, в богатой одежде, перед ним находились три его короны, по обе стороны царя стояли четверо молодых слуг из знати, называемых рынды, в блестящих кафтанах из серебряной парчи с четырьмя серебряными топориками. Наследник, и другие великие князья, и прочие знатнейшие из вельмож сидели вокруг него. Царь встал, посол сделал свои поклоны, произнес речь, предъявил письма королевы. Принимая их, царь снял шапку, осведомился о здоровье своей сестры, королевы Елизаветы. Посол ответил, затем сел на указанное ему место, покрытое ковром. После короткой паузы, во время которой они присматривались друг к другу, он был отпущен в том же порядке, как и пришел».
Затем Джером Горсей был очевидцем приема крымского посла: «Его великий враг <…> послал ему своего посла в сопровождении других мурз. По их обычаю так называли знать. Все они были на хороших конях, одеты в подпоясанные меховые одежды с черными шапками из меха, вооруженные луками и стрелами и невиданными богатыми саблями на боку. К ним была приставлена стража, караулившая их в темных комнатах, лучшей пищей для них было вонючее конское мясо и вода. Им не давали ни хлеба, ни пива, ни постелей.
Прогулка посла по двору Посольского дома.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Когда пришло время представить посла царю, все они подверглись еще и другим обидам и оскорблениям, но перенесли это с равнодушием и презрением. Царь принял их во всем великолепии своего величия, три венца стояли перед ним, он сидел в окружении своих князей и бояр. По его приказанию с посла сняли тулуп и шапку и надели одежду, затканную золотом, и дорогую шапку. Посол был очень доволен, его ввели к царю, но сопровождавших его оставили за железной решеткой, отделявшей их от царя. Это сильно раздражало посла, который протестовал своим резким, злобным голосом, с яростным выражением лица. Четыре стражника подвели его к царю. Тогда это безобразное существо безо всякого приветствия сказало, что его господин… великий царь всех земель и ханств, да осветит солнце его дни, послал к нему, Ивану Васильевичу, его вассалу и великому князю всея Руси, с его дозволения узнать, как ему пришлось по душе наказание мечом, огнем и голодом, от которого он посылает ему избавление. Тут посол вытащил грязный острый нож: “Этим ножом пусть царь перережет себе горло”
Его торопливо вытолкали из палаты без ответа, и попытались было отнять дорогую шапку и одежду, но он и сопровождавшие его боролись так ожесточенно, что этого не удалось сделать. Их отвели в то же место, откуда привели, а царь впал в сильный приступ ярости, послал за своим духовником, рвал на себе волосы и бороду как безумный».
Московская царица
Боярин Федор Нагой много лет прожил в ссылке и неожиданно для самого себя получил царский указ немедленно вернуться в столицу. Нагой не мог объяснить для себя, благодаря чему с него сняли опалу. Между тем дело обстояло очень просто. В вотчине опального боярина случайно, проездом, был князь Одоевский – один из послов, постоянно ездивший из Москвы к польскому королю. Вернувшись в Москву, князь, выполнивший свою дипломатическую миссию очень неудачно, придумал способ расположить к себе царя. Он в ярких красках описал ему красоту боярышни Марии Нагой. Иван так увлекся этим описанием, что немедленно приказал вернуть в Москву Федора Нагого со всем его семейством.
Мария Нагая действительно была идеалом русской красавицы. Высокая, статная, с большими выразительными глазами и густой косой ниже пояса, она пленяла всех, кому приходилось ее видеть.
На другой день после приезда Нагого царь вызвал его к себе, обласкал, пожаловал подмосковной вотчиной и в знак особой милости объявил, что на днях посетит его.
Действительно, через два дня возле дома Нагого, находившегося на окраине Москвы, появился царский поезд. Государь приехал верхом. К этому времени он уже настолько одряхлел, что ему трудно было держаться в седле, но все равно без посторонней помощи слез с коня. Свита, соблюдая обычай, спешилась у ворот.
Боярин встретил царя на крыльце глубокими поклонами. В обширной, богато убранной стольной горнице высокого гостя ждала боярыня с подносом, на котором стояли две золотые чарки: для царя и хозяина. Иван вошел, оглянулся, поморщился и, не отвечая на поклон боярыни, сказал:
– Не ладно принимаешь, боярин. Я к тебе со всеми милостями, а ты меня обижать задумал.
– Помилуй, великий государь, – растерялся Нагой. – Можно ли мне и помыслить чинить тебе обиду? В чем ее усмотреть изволил?
– А в том, – ответил Иван, – что не кажешь мне свою дочь. А она, сказывают, красоты неописуемой.
Боярышня.
Художник Н. Лоренц
Эти слова объяснили Нагому, чему он обязан снятием опалы. Его дочь Мария была просватана за одного из бояр, жившего по соседству с вотчиной, в которой Нагой провел более десяти лет. Поэтому боярышня не приехала со всем семейством в Москву. Несколько секунд боярин раздумывал, потом решительно заявил, что Мария хворает и потому не может покинуть своей светелки. Но государь не любил менять своих намерений. Он приехал к Нагому, чтобы увидеть его дочь, и должен был ее увидеть во чтобы то ни стало.
– Ничего, боярин, – весело сказал он. – Хоть и недужна боярышня, а видеть ее я хочу. Веди меня к ней.
Боярыня настолько испугалась, что уронила поднос. Чарки со звоном покатились по полу, вино разлилось. Момент бы критический. Боярин упал царю в ноги и покаялся, что обманул его и Марии нет в Москве.
Против ожидания царь не разгневался. Добродушно усмехнувшись, сказал:
– То-то, Федор! Нелегко провести меня. А теперь посылай за боярышней. Послезавтра опять приду к тебе. И если и тогда ее здесь не будет, не прогневайся…
Царь уехал. Нагой тотчас поскакал в свою вотчину и вернулся в Москву с дочерью. Мария плакала, умоляла убить ее, но не разлучать с женихом. Тщетно, честолюбивый боярин решил выполнить царский приказ.
В назначенное время Иван приехал к Нагому. На этот раз вино поднесла ему Мария. Она произвела на царя сильное впечатление. Вопреки всем обычаям он при ней сказал Федору:
– Ну, боярин, сам я у тебя сватом буду. Полюбилась мне твоя дочь, быть ей московской царицей.
Мария упала в обморок. Нагой низко поклонился.
Царь усмехнулся и, взглянув на лежащую без чувств девушку, сказал:
– Видно, не по нраву пришелся я боярышне. Да ничего, стерпится – слюбится.
Через неделю отпраздновали свадьбу. Конечно, и на этот раз церковный обряд совершался без участия архиереев. Царя венчал все тот же священник Никита. Зато свадебный стол был обставлен очень торжественно. Подавались «сахарные кремли», вино лилось рекой. Посажёным отцом государя был его сын Федор, дружкой со стороны жениха – князь Василий Иванович Шуйский, со стороны невесты – Борис Федорович Годунов. Все – будущие московские цари.
На другой день после царской свадьбы его сын Федор женился на Ирине Годуновой.
Царица Мария покорилась своей участи и относилась к Ивану хорошо. Царь был доволен своей новой женой. Одно лишь в ней ему не нравилась: она часто без видимой причины начинала плакать. Это его раздражало. Однажды, застав ее в слезах, он до того рассердился, что обещал «отдать ее псам», если она не станет веселой. Мария не стала от этого веселее, и между ней и царем установились холодные отношения.
Боярыня на побывке в монастыре
Художник С.С. Соломко
Началось повторение прежнего. Снова дворец ночью оглашался пьяными песнями, опять в нем воцарился дикий разгул. Но у царя уже не было прежних сил. Случалось, что посреди оргии он вдруг засыпал. Он забывал имена своих любимцев, иногда называл Годунова Басмановым, удивлялся, почему за столом нет Вяземского, забыв, что казнил его много лет назад, и прочее.
Иван Грозный и Басмановы.
Художник В. Поляков
За несколько месяцев до кончины царь почти лишился сил, так что его приходилось переносить на руках. Все понимали, что дело близится к концу. Не понимал этого только сам Иван.
Царю сообщили, что у английской королевы есть красивая родственница – Мария Гастингс, графиня Гонтингтонская. Иван не скрывал своего равнодушия к Марии Нагой, хотя она в это время готовилась стать матерью. Он послал в Лондон дворянина Федора Писемского, который должен был вступить в переговоры с королевой о предполагаемом браке. Царь предвидел, что королева Елизавета может возразить, что он женат, и велел передать ей условия, при которых может состояться новый брак. Писемский должен был объяснить, что последний брак Ивана недействителен, ибо не признан архипастырями. «И сказать ее королевскому величеству, – писал царь Писемскому, – что Мария Нагая не царица и будет пострижена в монахини». Он ставил условие, чтобы Мария Гастингс и все лица ее свиты приняли греческую веру. Детям будущей царицы он обещал «особые уделы, как издревле велось на Руси». Кроме того, Писемский должен был обещать Елизавете тесный союз Англии с Россией.
Королева приняла московского посла с большими почестями, но относительно сватовства дала уклончивый ответ. По ее словам, Мария Гастингс больна и видеть ее нельзя. Между тем Елизавета отправила к московскому царю посла Джерома Боуса с письмом, в котором предлагала Ивану жениться на своей двоюродной племяннице Анне Гамильтон, незадолго до того овдовевшей. Анна отличалась красотой и твердым характером. Когда Елизавета спросила ее, не побоится ли она стать женой Ивана Грозного, Анна рассмеялась и ответила:
– Я в жизни боюсь только одного – старости. А московского царя сумею укротить.
Боус привез царю портрет Анны в декольтированном платье. Его специально написали для Ивана IV, чтобы подчеркнуть пышный бюст предполагаемой невесты. Царь пришел в восторг. Боус имел у него несколько аудиенций, во время которых подробно обсуждались условия брака и вырабатывался план сближения с Англией. Английский посол затронул и вопросы интимного характера. Елизавета требовала, чтобы ко дню приезда невесты в кремлевском дворце не оставалось ни одной русской женщины и прежде всего была удалена Мария Нагая. Боус добавил, что леди Гамильтон уже выехала из Лондона.
Смотрины царской невесты русским послом в Англии
Художник С.С. Соломко
Убрать из дворца женщин, которыми окружил себя царь, было не трудно. Сложнее представлялось удалить Марию Нагую, которая только что родила сына Дмитрия. Иван хотел повременить выгонять царицу, еще не оправившуюся от родов. Об этом он сообщил английскому послу.
Боус, избалованный уступчивостью царя, немедленно заявил, что королева требует исполнения всех условий до последних мелочей. В противном случае она приказала прервать переговоры. Это заявление передал царю Годунов. Иван вспылил и велел передать англичанину, что если он немедленно не выедет из Москвы, его вывезут на кляче. После этого Боусу ничего не оставалось, как срочно покинуть русскую столицу. С леди Гамильтон он встретился в Польше и уговорил ее вернуться в Лондон.
Накануне своей смерти царь решил посвататься за родственницу шведского короля, для чего отправил к нему Шуйского. Но на следующий день боярина догнал курьер с сообщением, что царь Иван IV Грозный умер.
Государевы врачи
В решениях Стоглавого собора 1551 года впервые была провозглашена необходимость государственной заботы о больных и увечных, и для них стали устраивать богадельни. Для царя же и его окружения, за неимением своих ученых лекарей, приглашали иностранцев. Первые иноземные доктора известны в Москве со времен царствования Ивана III, то есть со второй половины XV века. Из Италии вместе с архитекторами приезжали в столицу Русского государства и врачи. Однако участь их не всегда была удачна. Леон Жидовин, неудачно лечивший великого князя Ивана Ивановича, был казнен через шесть недель после смерти государя. Антон Немчин, также неудачно лечивший татарского царевича Каракача, был выдан головой его сыну, отведен на Москву-реку и зарезан под мостом. Но это не остановило предприимчивых иностранцев, и при Василии III их число увеличилось. К тому же бояре стали заводить у себя лекарей-самоучек.
В царствование Ивана IV в Россию из Западной Европы было приглашено немало врачей, аптекарей и цирюльников. Большинство лиц врачебного персонала по просьбе русского царя присылались английским королем Филиппом и английской королевой Марией.
Так, в 1557 году вместе с послом Дженкинсоном в Россию прибыл доктор Стандишь, получивший от царя «соболью шубу, крытую травчатым бархатом, и семьдесят рублей». Его неоднократно приглашали к царскому столу.
Иноземные врачи
В 1581 году английская королева Елизавета прислала с Горсеем доктора Роберта Якоби (его в русских документах того времени именуют то Романом, то Романом Елизарьевичем) с аптекарем и фельдшерами. Этот человек пользовался у себя на родине хорошей репутацией. Весьма тепло отзывалась о нем в письме Ивану IV от 19 мая 1581 года и королева Елизавета: «Упование на него положи и надейся на него».
Королева и после отъезда врачей в Россию не переставала заботиться о них. В мае 1582 года в памятной записке, о чем королева должна спросить при приеме русских послов, замечено: «Спросить о здоровье царя и его сыновей. На это будет отвечено, что один из них умер. Благоволит ее величество воспользоваться случаем спросить при этом, где был во время болезни этого сына доктор Якоби, ее лекарь, которого она рекомендовала царю, и как могло случиться, что он не был ранее допущен в присутствии царя, так как по великому его искусству в его науке можно предполагать, что он спас бы сказанного царского сына».
Еще раз Елизавета вспомнила о докторе Роберте Якоби в письме Ивану IV от 8 июня 1583 года: «Сверх того, так как посланный нами к вам в прошлом году врач Роберт Якоби весьма нами любим, мы просим вас обходиться с ним как добрые государи обходятся с лицом испытанным и стяжавшим чрезвычайные похвалы за многие свои добрые качества. Никогда бы мы не отпустили его от себя, если бы не жертвовали многим ради нашей дружбы и желания угодить вашему величеству. Пребывая в этом доброжелательстве к вашему величеству, мы можем лишь ожидать всего лучшего от вашего благорасположения к сказанному Якобию».
Каждая просьба Елизаветы о Якоби совпадала с периодом, когда в Московском государстве усиливались казни и пытки и все окружавшие Ивана Грозного трепетали за свою жизнь. Якоби, вероятно, не раз писал в Англию, прося высокого покровительства королевы, чтобы иметь хоть малую гарантию за целость своей головы.
Иван IV относился к врачам очень хорошо, о чем свидетельствуют слова князя Курбского, что «аще убо дохтору своему, именем Арнольфу-итальянину, великую любовь всегда показываше».
Арнольф Линзей был превосходным врачом и математиком, он всю свою жизнь пользовался особым расположением царя и погиб в 1571 году во время московского пожара.
До чего простиралось расположение Ивана IV к Роберту Якоби, видно из того, что последний играл довольно видную роль в сватовстве Грозного к леди Мэри Гастингс – дочери графа Гунтингтона и племяннице королевы Елизаветы. Он по этому поводу неоднократно беседовал с царем, который даже поручил Богдану Бельскому, Афанасию Нагому и Андрею Щелканову «по тою девку дохтора Романа расспросить подлинно». Якоби устроил даже аудиенцию у царя послу Иерониму Боусу, которого Иван IV не желал принимать ввиду нарушения этим установленного этикета.
Доктор Якоби не только играл немалую политическую роль, но и вмешивался в религиозные вопросы. Он вместе с проповедником Колем изложил письменно тезисы английской веры, и «царь, наградив щедро авторов, приказал прочесть тезисы публично пред многими из своей Думы и знати».
Несмотря на все это, Иван IV лекарства из рук врачей не принимал. Оно подносилось ему ближним боярином, и это считалось гарантией, что оно не заключает в себе отравы.
Иноземные врачи, как чуждые русским по религиозным воззрениям и обычаям, не пользовались расположением бояр и народа. В эпоху казней им приписывалось дурное влияние на царя. Особенно худую славу по себе оставил доктор Елисей Бомелий (Бомелиус), про которого говорили, что он занимается волхвованием и виноват в религиозном вольнодумстве царя.
Бомелий родом был голландец и, по свидетельству иностранцев, побывавших в Москве, был негодяем, подговорившим царя к убийствам и составлявшим отраву, от которой погибали несчастные, прогневившие Ивана Грозного. Но и его настигла злая участь: по обвинению в сношениях с польским королем Стефаном Баторием его всенародно сожгли в Москве.
Другие современники доказывают, что Бомелий был весьма образованным человеком, учился медицине в Кембридже и слыл там за искусного астролога и математика. В Лондоне народ стекался к нему, считая колдуном. Были у него почитатели и среди английской знати. Обвиненный в богохульстве, он по распоряжению архиепископа Мешью Паркера был заточен в тюрьму, откуда его освободили при условии, что он немедленно покинет Англию. Бомелия привез в Москву в 1570 году русский посол Савин. Царь приблизил его к себе и занимался с ним астрологией и алхимией.
Иван Грозный в монашеском одеянии.
Художник И.А. Пелевин
Иван IV часто болел. Однажды он слег с тифом, и врачи прописали ему мешок блох. Но как это «лекарство» должны были применить неизвестно. Москвичи же за то, что не сумели вовремя собрать нужное количество блох, были обложены денежной пеней в семь тысяч рублей.
Иван Грозный и призраки.
Художник И.А. Пелевин
В последние годы жизни Иван IV страдал «какой-то страшной болезнью». От него исходил отвратительный запах, тело покрылось волдырями и ранами. Царь мучился как физически, так и душевно. Он искал спасения в делах благотворения и молитве, у знахарей и заморских врачей. Но тщетно – не только исцеления, но и облегчения не было.
Особенно ухаживал за царем в это время его врач Эйлофф, который, согласно официальным документам, «ежедневно видел царские очи». Ходили слухи, что Эйлофф и отравил Грозного.
Доктора должны были сами приготовлять медикаменты. Лекарственные же вещества приобретались в семенных, зеленных и медовых торговых рядах. С приездом в Москву в 1581 году Джеймса Фрейгама была устроена первая в России аптека – исключительно для нужд царского дома. Ею заведовал один из ближних бояр.
Первое достоверное известие о русском враче относится к той эпохе. Это был пермский торговый человек Строганов, считавшийся «искусным в лечении недугов». Он залечивал раны, нанесенные Грозным своему любимцу Борису Годунову. Царь, лично осматривая «завороты», сделанные Строгановым на ранах своего пациента, одобрил его искусство, и в воздаяние за него пожаловал Строганова званием гостя, разрешив ему писать свое отчество с окончанием «вич», что в то время считалось большим отличием.
Смерть Ивана Грозного
Под конец жизни Иван Грозный, упившийся сверх всякой меры кровью правых и виноватых, стал страшен не только боярам, служилому люду и народу, но и самому себе. «Ум мой покрылся струпьями, – пишет он в духовном завещании, – тело изнемогло, телесные и духовные струпья умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Хотя я еще и жив, но Богу своими скаредными делами я смраднее мертвеца. Всех людей от Адама я превзошел беззакониями, потому я всеми и ненавидим».
Мрачно и тяжело было на сердце Грозного, душа утратила покой, воспоминания о казненных по его царскому приказу и об убитых им самолично в пылу гнева подданных невольно посещали государя в часы ночного покоя и лишали сна. Раскаяние и злоба, искренние слезы и гримасы гнева, слова любви и проклятия, сменяя друг друга, сопровождали его до конца жизни.
Тени казненных людей, являющиеся Ивану Грозному.
Художник П.Е. Коверзнеев
С гниющими внутренностями, с пухнущим, покрытым струпьями телом, он был дряхл, и не сегодня-завтра готов оставить обильно обагренную его руками землю. И как утопающий хватается за соломинку, так умирающий царь хватался за все, что, казалось, могло его спасти. Со всех концов земли Русской были свезены в Москву волхвы и кудесники, из заморских стран выписаны лекаря – фряжины и немчины, по мановению царской руки тюрьмы пустели, монастыри и церкви получали богатые вклады… Но все было напрасно.
* * *
– Тревожишь ты себя понапрасну мрачными думами, царица-дитятко. Вот и видится тебя все неподобное, – ласково, по-отечески, по-родственному заговорил Никита. – От Бога все. Ни волхвов, ни фряжинов али немчинов не надо, а только молиться Богу милосердному. Заходил я намедни к Ивану в опочивальню, спит спокойно, дышит ровно. Авось, даст Бог, к здоровью.
– А коли и волхвов спросить, одно доброе скажут, – вкрадчиво, мягко вступился Мстиславский.
По лицу Годунова только усмешка прошла, коварная, ехидная усмешка, которая потерялась в полутьме.
Мария ничего не ответила на слова бояр, и в наступившей сразу тишине ничего не было слышно, кроме дыхания окружающих да гулкого сторожевого стука где-то на краю Кремля, за Иваном Великим.
– Огня бы нам, что-то жутко так-то, – отозвалась наконец царица.
Но палата вдруг наполнилась странным, необычным светом.
– Никак, пожар? – тревожно вымолвил Мстиславский, вместе с другими бросившийся к окнам.
Но там всех ожидало невиданное зрелище. В небе, со стороны Замоскворечья, повисла крупная блестящая звезда, за которой кверху тянулся большой блестящий, как бы пушистый, хвост.
– Не к добру это! – вскричала Мария. – Чует мое сердце, не к добру. Вот он, меч, сошедший с неба.
– Полно, царица-дитятко, – заговорил Никита Романович, сам весь побледневший. – Никто, как Бог… А вы бы, – прибавил он, обращаясь к Мстиславскому и Годунову, – позаботились, чтобы сна царева понапрасну не тревожили. Да упредили загодя Фридриха-мастера, чтобы к добру говорил, когда царь о знамении его спросит.
Через несколько времени, несмотря на то, что в терему стояла полнейшая тишина, царь сам проснулся, словно его подняла невидимая сила. Заметив необычный свет, он быстро подошел к окну – и весь затрясся от ужаса. Затем кликнул Мстиславского и Годунова и вместе с ними вышел на крыльцо. Долго он пристально смотрел на неподвижный хвост кометы и затем резко обратился к Годунову:
– Что, Борюшка, скажешь?
– Небесное знамение, государь, – уклончиво ответил Годунов.
– Не то говоришь, Борис, – застучал царь жезлом о выступ крыльца. – К добру, спрашиваю, аль к худу?
– Должно, к добру. Все от Бога, говорит твой родич Никита Романович.
Царь пристально уставился глазами в своего любимца. Но в это время вмешался Мстиславский:
– Фридриха бы мастера спросить. Он в небесных делах горазд.
– И то правда, – согласился Грозный. – Зови его сюда.
Через несколько минут звездочет-немчин, уже подготовленный ко всему, стоял возле царя и, указывая рукой на комету, говорил своим вкрадчивым, слащавым голосом. Сначала он говорил о том, как вообще происходят такие небесные явления, каковы их причины, их место в общем течении мировых светил. Затем, казалось, незаметно для царя перешел к тому, что данное небесное явление пророчит царю быстрое выздоровление и еще длинное благополучное царствование.
Иван Грозный смотрит на комету.
Художник В.И. Навозов
Грозный молча и внимательно слушал звездочета, и все это время печать какой-то глубоко скорбной мысли не сходила с его изможденного, усталого лица. Потом обернулся к боярам с грустной и вместе с тем злой усмешкой.
– Лукавит немчин. Вижу ясно, что это знамение моей смерти.
– Что ты, что ты, царь-батюшка, ты долго еще будешь жить, – воскликнули в один голос Годунов и Мстиславский. – Звездочет же зело науке своей научен и правду вещает.
– Лукавит, говорю, – возвысил царь свой голос и затем, остановившись на миг, прибавил: – Позвать сюда немедленно волхвов!
Мстиславский, не ожидавший этого, быстро бросился внутрь дворца, чтобы вовремя подготовить бесхитростных, прямодушных волхвов. Но это ему не удалось. Обросшие волосами, полуодетые, с глазами, горевшими каким-то диким, лихорадочным огнем, взошли кудесники гурьбою к царю на крыльцо. Он указал им на комету и не успел еще выговорить своего вопроса, как они все разом упали на колени.
– Великий царь-государь, – начал за других седовласый старик-волхв, – не приказывай нам вещать волю судьбы. А коли прикажешь, не вели казнить за правду.
– Говори всю правду!
И тогда, подняв к небу руку, вдохновенным пророческим голосом вновь заговорил седовласый кудесник:
– Еще два раза луна родится и умрет на небе, и земля все это время будет держать тебя на себе. Но третья смерть луны уже не увидит тебя. В восемнадцатый день третьего месяца исполнится над тобой воля неба, пославшего тебе это знамение: ты умрешь в тот день…
Грозный весь скорчился, сжался на своем месте и потом вдруг, выпрямившись во весь рост, сверкая зло глазами, топоча, стуча посохом, бешено прохрипел:
– Связать их. В тюрьму бросить. И в тот день к вечеру напомнить мне!
Настал канун рокового дня. Царь, все время следовавший указаниям и советам лекарей, чувствовал себя в этот день вполне хорошо и, хотя ему никто не напоминал, сам вспомнил о волхвах.
– Ну что, кудесники? Ведь завтра близко, – проговорил он, глядя смеющимися глазами вокруг себя, но больше ничего не прибавил.
Государь приказал перенести себя в кресле в комнату, где хранились его несметные сокровища. За ним последовали царевич Федор и приближенные бояре.
Иван Грозный в сокровищнице.
Художник С. Вяткин
Любуясь своими сокровищами, государь стал показывать царевичу и боярам драгоценности, объясняя их свойства, вдруг почувствовал себя дурно и сказал:
– Ох, худо мне… Унесите меня… Мы придем сюда в другой раз.
На другой день царю стало лучше. К вечеру, сидя бодрый в постели после ухода лекарей, он позвал боярина Бельского и велел ему подать шахматы.
– Темнеет уже, государь, – промолвил Бельский, придвигая к царской постели шахматный столик. – Пойду огня добуду.
Судорога пробежала по лицу Грозного при словах боярина.
– Пойди, пойди, да и Борюшку сюда позови. А я тем временем расставлю шахматы… Борис, ты сам сюда идешь?
– Да, царь-государь, – проговорил каким-то необычным, глухим голосом вошедший Годунов. – Я пришел по твоему повелению напомнить тебе о волхвах. Они.
– Молчи, Борис, – злорадно перебил Иван. – Затем я и позвал тебя. Их предсказание и без тебя я помню. Но день уже к вечеру склонился. Уже Бельский за огнем пошел, а я все жив. А я все жив. Так вот тебе приказ: наутро площадь всю перед моей опочивальней укрыть кострами. Жаровни накалить добела, и на жаровни эти волхвов поставить. А я смотреть на них, лжецов безумных, отсюда буду. Что, Борюшка, хорошо придумал я?
Грозный от радостного волнения даже поднялся почти во весь рост на постели. Но Годунов молчал, глядя на царя каким-то загадочным взглядом. Они – злорадный кровожадный царь и лукавый царедворец – были одни в пустой опочивальне.
– Борис, что же ты молчишь?!
В голосе Грозного чувствовался жуткий страх.
– Государь, – проговорил Годунов, по-прежнему загадочно глядя на царя, – день, правда, уже к вечеру склонился, но не прошел еще.
– Что хочешь ты сказать? – быстро приходя в бешенство, воскликнул Иван.
– Что еще рано нам судить о предсказании волхвов.
– Люди! – вскрикнул царь диким голосом, и уже рука его потянулась за костылем.
Но миг. И Грозный, бездыханный, навзничь упал на постель.
Опочивальня стала быстро наполняться боярами и холопами. Годунов первый с рыданьями бросился к трупу Грозного.
Высшее духовенство и бояре собрались во дворце. «День этот был для них днем торжества и избавления, – замечает Горсей, – все наперерыв теснились к Евангелию и кресту присягать на верность новому царю Федору Ивановичу». Все это совершилось быстро, в течение нескольких часов.
Иван Грозный перед смертью.
Художник РФ. Штейн
На третий день московские люди с большой торжественностью, с наружной печалью и тайной радостью в душе, похоронили в кремлевском Архангельском соборе умершего царя… Суровая эпоха Ивана Грозного отошла в прошлое, стала достоянием истории.
Первый Патриарх Московский и всея Руси
Когда Константинополь был покорен турками и здешние патриархи попали в зависимость от турецкого султана, в Москве появилось желание уравнять права Русской церкви с древними восточными церквами.
В 1586 году в Москву прибыл Антиохийский патриарх Иоаким для сбора пожертвований в пользу своей церкви. Царь Федор Иванович объявил ему о желании почтить митрополита Московского саном патриарха. Иоаким обещал со своей стороны предложить это дело на рассмотрение собору восточных патриархов. Через два года в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия II с соборным определением об открытии патриаршества в России. В это время митрополитом в Москве был Иов, пользовавшийся особенной любовью царя как человек доброй и святой жизни, и царю хотелось видеть именно его на патриаршем престоле. Но среди царского окружения нашлись такие, кто считал необходимым предложить всероссийский патриарший престол самому Иеремии II. На это добросердечный государь Федор Иванович ответил боярам:
– Велел нам Бог видеть пришествие к себе патриарха Цареградского, и мы о том размыслили, чтобы в нашем государстве учинить патриарха, кого Господь Бог благословит. Если захочет быть в нашем государстве Цареградский патриарх Иеремия, то ему быть патриархом в начальном городе Владимире, а на Москве быть митрополиту по-прежнему. Если же не захочет Цареградский патриарх быть во Владимире, то на Москве поставить патриарха из московского собора.
Патриарх Иов (1525–1607)
Иеремия II не прочь был остаться в России, но, когда ему сообщили о решении государя, он ответил:
– Будет на то воля великого государя, чтобы мне быть в его государстве, – я не отрекаюсь. Только мне во Владимире быть невозможно, потому что патриархи бывают всегда при государе. А то что это за патриаршество, чтобы жить не при государе?..
Царь выслушал от Годунова ответ патриарха, созвал бояр и объявил им:
– Патриарх Иеремия Вселенский на Владимирском и всея Руси патриаршестве быть не хочет. А если мы позволим ему быть в своем государстве на Москве, на патриаршестве, где теперь отец наш и богомолец митрополит Иов, то он согласен. Но это дело не статочное, как нам такого сопрестольника великих чудотворцев и достохвального жития мужа, святого и преподобного отца нашего и богомольца Иова от Пречистой Богородицы и от великих чудотворцев изгнать и сделать греческого закона патриарха. Но он здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о каких делах духовных нам с ним говорить невозможно…
Следствием этого было то, что на патриарший престол собором архиереев было представлено три кандидата: митрополит Московский Иов, архиепископ Новгородский Александр и архиепископ Ростовский Варлаам. Выбор из них предоставили царю. Федор Иванович избрал Иова, который и был 26 января 1589 года в Успенском соборе Московского Кремля торжественно поставлен первым патриархом Московским и всея Руси. Царь передал ему посох митрополита всея Руси святителя Петра.
Иов любил царя Федора, как, впрочем, любил и Бориса Годунова. Он оставил после себя их жизнеописания. Этот добрый и мягкий сердцем патриарх в Смутное время показал силу своей воли и непоколебимую любовь к отечеству. Он смело обличал Лжедмитрия и посылал послов со своими грамотами к польскому и литовскому духовенству, в которых уверял, что самозванный царь – расстрига и бродяга Григорий Отрепьев.
Вручение посоха патриарху Иову.
Художник А. Макеев
Когда Лжедмитрий появился в Москве, патриарх совершал в Успенском соборе литургию. Сторонники самозванца ворвались в алтарь и сорвали с первосвятителя патриаршее одеяние. Иов, встав перед Владимирской иконой Божьей Матери, снял с себя панагию, положил ее возле иконы и во всеуслышание сказал:
– Перед сей чудотворной иконой я был удостоен сана архиерейского и много лет хранил целость веры. Ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божья! Спаси православие!
На опального патриарха надели простую монашескую одежду и потащили его на площадь, откуда в телеге отправили в Старицкий монастырь.
Успенский собор
На место Иова Лжедмитрий поставил патриархом грека, архиепископа Рязанского Игнатия. Для приличия ему приказано было просить у Иова благословения. Но Иов не дал его, сказав:
– По ватаге – атаман, по овцам – пастух.
Когда воцарился Василий Шуйский, он, заключив Игнатия в Чудов монастырь, предложил Иову возвратиться на патриарший престол. Но патриарх был уже слишком слаб и немощен, чтобы вернуться в Москву. На патриаршество он благословил Казанского митрополита Гермогена. 19 июня 1607 года святитель Иов мирно скончался и был погребен в Старицком монастыре, у западных врат Успенского собора. Впоследствии над его могилой воздвигли часовню.
В 1652 году, при патриархе Иосифе, нетленные мощи святителя Иова, источавшие дивное благоухание, были перенесены в Москву и положены в Успенском соборе, где почивают и доныне.
Царь и патриарх в день Новолетия
В Европе Новый год (Новолетие) в разных христианских государствах отмечали в разные дни (1 марта, 25 марта, 1 сентября, 23 сентября, 25 декабря). В 1594 году французский король Карл IX повелел отсчитывать новый год с 1 января, и постепенно эта праздничная дата распространилась почти на весь мир. На Руси же наступление нового года отмечали первоначально 1 марта, затем, с середины XIV века, 1 сентября. Петр I своим указом от 19 декабря 7208 года (1700 год по европейскому календарю) повелел начинать отсчет нового года с 1 января, и не от «создания мира», а от «Рождества Христова».
Первого сентября 1589 года с самого раннего утра вся Москва стеклась необозримыми толпами на кремлевскую Соборную площадь. Ожидали москвичи пышного царского выхода к молебному пению «о начатии нового лета», иначе именуемому «летопровождением» или «действом многолетнего здравия»…
Рад был всякий москвич узреть снова кроткий лик богобоязненного, боголюбивого царя Федора Ивановича, но еще более хотели московские люди полюбоваться новопоставленным царствующего града Москвы и всея Руси патриархом Иовом, являющимся в пышности, равной первосвятителям византийским.
– Наш-то патриарх третьим стоит, – толковал соседу степенный москвич-старожил в синем зипуне суконном. – Первым теперь патриарх Царьградский поставлен, вторым – Александрийский, а за ним – и наш Иов Московский…
– Пышно ездит владыка, – поддакивал сосед. – На шести конях; и митра-то у него, у владыки, с крестом и короною.
Оба пробились сквозь густую толпу к Архангельскому собору… Красивое зрелище представляло собою многолюдное церковное торжество…
Для действа на Соборной площади, против северных дверей Архангельского собора, перед самым Красным крыльцом, устроен был обширный помост, огражденный красивыми точеными решетками, расписанными разными красками, местами с позолотою. Сам помост покрыт был турецкими и персидскими разноцветными коврами.
Архангельский собор
С восточной стороны, к свободному пространству между Архангельским собором и колокольней Ивана Великого, на помосте поставили три аналоя: два – для двух Евангелий и один – для иконы Симеона Столпника Летопроводца. Перед аналоями красовались большие свечи в серебряных подсвечниках, виднелся столец и на нем – серебряная чаша для освящения воды. С западной стороны перед этой святыней возвышались рядом два места – патриаршее слева и царское справа, патриаршее – с ковром мелкотравным со зверьми, а царское – обитое червчатым бархатом, серебряным участком да парчою…
Гулко ударил на Иване Великом большой колокол «Реут», распахнулись западные врата Успенского собора, вышел, сияя ризами икон, праздничными облачениями, многолюдный крестный ход. Богомольные москвичи с умилением и радостью встречали выносимые из храма особо чтимые всей Москвой иконы…
– Вон, Матушку-Богородицу несут! – слышалось в толпе. – Исконная наша Заступница. Писал ту икону святитель Петр, митрополит Московский, подвижник и чудотворец… Ишь как сияет каменями!
– А вот Богородица «О народе моление»… Старее этого образца у нас в городе нет…
– Гляньте-ка, с благовещенской паперти царский ход пошел! Бояр-то сколько! В золоте все!
Разбежались глаза у москвичей. С одной стороны идет-светится в большом наряде парчовом царь Федор Иванович, окруженный боярами, стольниками, стряпчими, окольничими и иным чином дворцовым. С другой – патриарх царствующего града и всея Руси, митрополиты, епископы суздальский, смоленский, сарский, тверской, архимандриты, игумены, певчие…
Вступили оба шествия на помост перед собором Архангельским. Приложился боголюбивый царь и великий князь Федор Иванович к Евангелию, ко кресту, навстречу патриарху Иову пошел. А патриарх царя с сияющим ликом ждет, животворящий крест держит… Благословляет царя земли Русской и тем крестом, и рукою…
– Сейчас владыка царя о здравии спросит, – шепчет соседу старый москвич, протискавшийся в первые ряды, к стрельцам.
И ясно, отчетливо, звонко проносится по площади кремлевской благостный, любвеобильный вопрос первосвятителя Московского:
– А великий государь, царь и великий князь Федор Иванович, всея Руси самодержец! Сметь ли, государь, о твоем царском здравии спросить, как тебя, великого государя нашего, Бог милует?
И слышится в ответ слабый, добрый голос любимого Москвою благочестивого, кроткого, милостивого царя, ясно владыке отвечающего:
– Божиею милостью и Пречистой Богородицы и великих чудотворцев русских молитвами и твоим, отца нашего и богомольца, благословением дал Бог, жив…
Благословивши государя, поклонился ему патриарх Иов в землю. Засверкал, засиял помост праздничный; вокруг царского места да вокруг патриаршего стола по чину духовные власти и бояре встали… Вся площадь Соборная зрелище великолепное, очам ослепительное, являла…
Патриарх благословляет царя в день Новолетия на Лобном месте
Голландская гравюра XVII века
– Красота-то какая! Что народушка-то, что бояр, стрельцов! – шептал старый москвич, вытягиваясь повыше, чтобы видеть торжество…
На помосте – от Благовещенского и до Архангельского соборов – стояли стольники, стряпчие и дворяне, а от них поодаль гости, все в золотах, то есть в золотых кафтанах. На рундуке между Благовещенским и Успенским соборами – стольники младших разрядов. Дальше – дьяки всех приказов, от рундука по площади – полковники, головы и полуголовы стрелецкие в ферезеях и в кафтанах турских, в бархатных и в объяринных цветных.
На паперти Архангельского собора, откуда виднее было, стояли иноземные послы, посольские чиновники и приезжие иностранцы, а также приезжие посланцы из русских областей.
На рундуке между Архангельским и Успенским соборами – полковники и иных чинов начальные люди и иноземцы. В задних рядах по рундукам, также на соборных папертях, стояли стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы и всяких чинов ратные и приказные люди, которые были не в золотах.
Соборная площадь Московского Кремля. Слева, в подклете, – Казенный двор.
Миниатюра 1672–1673 года
Между рундуков и за рундуками на площади стояли полуголовы и стольники, и стрельцы ратным строем со знаменами, с барабанами и с ружьем, в цветном платье. На Архангельской и на Благовещенской церквах (на кровлях), и на Ивановской колокольне, и по Красному крыльцу, и по лестницам, и по всей площади стояли всяких чинов люди…
Истово и чинно протекла служба новолетняя. И встал опять патриарх Иов с места своего, и царя Федора Ивановича крестом осенил, и здравствовал ему словом долгим, трогательным… Восхвалял святитель государево благочестие, государеву мудрость и благость… Далеко по площади над толпами народа неисчислимого разносились слова первосвятителя Иова. Вся Москва только и смотрела на них двоих – на светлого, милостивого царя да на кроткого владыку в пышном облачении патриаршем…
Венецианские послы
Стояло ясное морозное утро. Деревья, дома, заборы, главы церквей – все было покрыто пушистым снегом, выпавшим за ночь. Воздух свеж и прозрачен. Баюкая нежными переливами, звонко поют колокола московских церквей. У церкви Андронья большая толпа нищих, убогих, калек. Все они ждут выхода после богослужения царя Федора Ивановича.
– Добр и благостен свет государь наш батюшка, – шамкал какой-то беззубый старик своему молодому внуку. – Авось, и нам на бедность пожалует…
– Ишь, конь-то царский в какой попоне! – перебивает дедову речь внук.
Его больше всего интересует убранство царского коня и блестящие кафтаны конюхов.
На соседней улице раздался звон бубна. Внук живо повернулся в ту сторону. Из-за угла показалась небольшая группа людей верхом на лошадях. В отдалении медленно ехал широкоплечий человек с орлиным взглядом. Одет он был проще других. Народ почтительно расступался перед ним и кланялся.
– Дед, а дед, – затормошил внук. – Кто это?
– Не знаю, – ответил старик.
– Не знаю, – насмешливо подхватил сосед. – Эх ты, лапоть берестовый, даром что на тебе годов сто. Это шурин царя, боярин Годунов.
– Так, так, – закивал дед. – Глух я на ухо, да понимаю.
Годунов сошел с коня и направился в церковь.
Царь Федор Иванович усердно молился. Когда он поднимал свое лицо вверх, глаза светились чистой детской верой и особенной добротой. Голубой кафтан, вытканный золотом, с золотым оплечьем, нежно оттенял лицо царя и белокурые волосы.
– Царь! Гонец прискакал. Говорит, заморские гости близко.
Федор Иванович повернул лицо к Годунову и ласково ответил:
– Встреть их, шурин, а я помолюсь еще.
Когда Годунов вышел на паперть, к нему подскочил ратник и, запыхавшись, несвязно выкрикнул:
– Едут!.. Едут!.. Скоро у заставы!..
– Бояре, – обратился Годунов к спутникам. – Поезжайте к заставе и встретьте с честью гостей заморских. Князь Мстиславский, ты будешь за старшего.
Стоявший рядом с Мстиславским князь Василий Шуйский, недовольный, попробовал возразить:
– Молод Мстиславский еще, невместно…
Но смущенно прервал речь, заметив пристальный взгляд Годунова. У заставы встречавшие бояре остановились. Невдалеке перед ними, в белоснежном пространстве виднелись черные движущиеся точки. Это были венецийские послы.
Наконец очертания послов стали резче, и бояре увидели странно одетых людей. На головах у них были шляпы диковинного покроя с перьями, на плечах – бархатные плащи, на ногах – высокие сапоги со шпорами в виде звездочек. Таких сапог никто не носил в Московском государстве.
Царь Федор Иоаннович.
Титулярник. XVII век
Приехавшие любезно улыбались боярам, а те исподлобья, с любопытством разглядывали гостей. Толмач переводил приветственные слова.
Двинулись в город. Застучали копыта лошадей по бревенчатому мосту. Послов повсюду встречали любопытные взгляды москвичей, которым казался странным и наряд послов, и их шпаги. Со всех сторон неслись шутки, остроты, прибаутки.
* * *
Послы жили в Москве уже вторую неделю. Все поражало их: и дома, и церкви, и колокольный звон с утра до вечера. Глава посольства Джузеппе Маджи целые дни проводил с Годуновым, в котором нашел острый и глубокий ум, тонкое понимание политики. Маджи был в восторге и от Федора Ивановича, но как истый дипломат чувствовал, что все государственные дела лежат на Годунове.
Иногда по вечерам в царские покои приглашали венецианцев. Играл на гуслях какой-нибудь древний старик, пели слепцы. Маджи рассказывал о далекой Венеции. Толмач переводил его слова царю, Годунову и самым приближенным боярам. Меджи говорил о своей родине, о красивых мраморных дворцах, о соборе Святого Марка, о бирюзовом нежном небе Венеции, которое смотрится в волны лагун и отражается в зеркале каналов. Описывал своих ученых, народных героев, и слушатели задумывались. Им грезилась страна, о которой рассказывал этот черноглазый венецианец, она им казалась нежной и прекрасной, как весеннее утро.
На вечерах в царском тереме бывал и юный сын Мстиславского Дмитрий. Он забирался в дальний угол и внимательно вслушивался в речи Маджи. В голове молодого князя теснились неизведанные мысли, новые чудные образы. Его тянуло в страну, из которой явились послы. Дмитрий во время рассказов Маджи переносился мыслями в Венецию… Он плавал по каналам, слушал дивные песни, вместе с другими бросал цветы победителю турок, слушал тихий плеск Адриатического моря.
Возвратясь домой, Дмитрий передавал рассказы Маджи своей сестре. Иногда во время горячей, возбужденной речи он мгновенно затихал и говорил особенным голосом:
– Туда бы поехать.
И его глаза мечтательно глядели в пространство.
Несколько вечеров подряд у царя не было собраний. Когда же вновь собрались, Маджи отсутствовал. Годунов сказал, что посол занемог.
На другой день утром Дмитрий потихоньку от отца убежал со двора и постучал в посольский дом. Венецианец, которого молодой Мстиславский уже встречал раньше, жестом предложил войти. Через несколько минут Дмитрий стоял у постели посла. За несколько дней болезни Маджи осунулся. Вокруг глаз обозначились резкие синие круги, щеки впали. Видно было, что посол сильно страдает. Маджи слабо улыбнулся при виде Дмитрия и что-то сказал на своем языке.
Вечером Дмитрий узнал, что больного посла увозят домой.
– Батюшка, отпусти меня с ними!
– Куда? – не разобрал князь Мстиславский.
– На венецианскую сторону.
– Да ты, никак, ошалел?
– Отпусти, батюшка! – со слезами в голосе продолжал просить сын.
– Поберегись, Дмитрий! Чего задумал: к басурманам захотел!
В Посольской избе.
Художник В.Г. Шварц
Сын продолжал просить и вывел отца из терпения. Мстиславский запер его в чулан и пригрозил, что не выпустит до тех пор, «пока дурь из головы не выйдет».
Спустя некоторое время к Мстиславскому заехал Годунов и заметил, что хозяин чем-то встревожен.
– Что с тобой приключилось, князь? – спросил Годунов.
– Уж и не знаю, как и сказать, боярин, – развел руками Мстиславский. – Сынок мой на венецийскую сторону запросился.
Глаза Годунова блеснули любопытством.
– Покажи мне его.
Хозяин вышел и вернулся с Дмитрием.
– Это ты собрался от нас в Венецию?
– Я, – едва слышным голосом ответил Дмитрий.
Годунов с минуту не спускал пристального взгляда со смущенного юноши, а потом медленно сказал:
– Хорошо надумал… Только рано – молод еще. Надо нам ездить на чужую сторону, поучиться у чужих людей надо. Руси великое строение не может идти старым руслом.
Дмитрий с благодарным волнением, а его отец с удивлением смотрели на Годунова.
– Не езди теперь, – продолжал Годунов. – Когда подрастешь и в разум войдешь, я сам попрошу князя отпустить тебя. А пока повремени.
Прощаясь, Годунов тихо сказал Мстиславскому:
– Завтра, князь, провожать послов возьми с собой и Митю… Да заглядывай с сыном ко мне. Голова у него молодая, хорошая.
Предсказание астролога
По повелению, отданному от имени царя Федора Ивановича, под непосредственным наблюдением Бориса Годунова в Москве были возведены две линии укреплений – каменный Белый город и деревянный Скородом.
В 1584 году начал работать Приказ каменных дел, который стал ведать всем каменным строительством в государстве. В его ведении находились строители: горододельцы – военные инженеры, каменных дел подмастерья – архитекторы, а также квалифицированные каменщики и плотники. Приказ контролировал производство строительных материалов – «кирпича ожиганного» и извести, ведал заготовкой камня. По указанию Приказа каменных дел в 1586–1593 годах были построены укрепления Белого города. Руководил строительством известный горододелец Федор Конь.
Ближний царев боярин Борис Федорович Годунов вот уже несколько дней все ходит задумавшись. Ни милостивые слова царя-шурина, ни ласка сестры-царицы – ничто не может развеять его думы…
Справит все государственные бумаги, снесет их для царского рукоприкладства к царю, прихлопнет их боярин Луп-Клешнин печатью, и снова Борис уйдет в свои думы. Должно быть, не легко ему от них! Наедине в своей опочивальне вздохнет не раз могущественный боярин, уставившийся куда-то взглядом, и молча думает думу потайную. Ни словечка из той думы не проронит! Велики и дерзки тайные мысли Бориса Федоровича.
– Что, боярин, свой взор туманишь: недуг, что ли, одолел тебя? – вкрадчиво спросил Годунова Луп-Клешнин, когда они вместе возвращались из царских покоев. – Кажись, все тебя радовать должно: враги твои исчезли по слову царскому, как вешний снег; нет больше Шуйского, с ним пропали и все его сторонники и близкие…
– Эх, не о том, боярин, я томлюсь, – ответил Борис, – не о том помышляю! Хочу только знать, сбудется ли задуманное мною!
По лицу дородного Клешнина проползла еле заметная улыбка.
– Мерекаю, боярин Борис Федорович, о чем скорбит душа твоя; ты хочешь знать, что с тобою будет? – почти шепотом произнес Луп. – Ой пособлю тебе, боярин, пособлю…
Годунов уставил на говорившего пристально свои проницательные глаза, точно желая прочитать, что таится в душе его пронырливого пособника.
Клешнин не сморгнул даже от его пристального взора и смело произнес:
– Коли, боярин, желаешь, сегодня ввечеру, попозже, приведу я к тебе фрязина Романа. Ты его знаешь. Еще покойный царь Иван Васильевич, когда фрязин из-за моря приехал, работу ему наказал – малевать новую пристройку к царским покоям. После кончины царя Ивана хотел было фрязин этот в свою страну ехать, да я про его искусное малевание царю Федору Ивановичу рассказал (он, кажись, тебе об этом говорил), – царь и оставил Романа для новых работ на Москве…
Борис внимательно слушал Луп-Клешнина.
– Что же дальше? – сдержанно спросил он.
– Так вот, не во гнев твоей милости сказать, искусен этот фрязин в волхвовании, по звездам каждому человеку его жизнь, как по книге, объяснит… Привести его, что ль, к тебе?
– Веди его! – последовал суровый ответ Годунова.
Клешнин низко поклонился ближнему цареву боярину, и они расстались.
Царь и ближний боярин. XVII век
Поздно вечером, когда ярко-красная заря потонула за кремлевскими стенами и в чистом зимнем небе зажглись яркими бриллиантами горящие звездочки, Борис Федорович, скрывая свое нетерпение и сгорая от любопытства, начал ожидать таинственного гостя.
Он нетерпеливо ходил по горнице, смотрел на циферблат затейливых курантов, помещавшихся в башне на слоне. Часы эти привезли ему аглицкие люди в подарок, когда явились упрашивать о льготах для аглицких торговых гостей, привозивших свои товары в Архангельск.
Целую массу диковинок заключало в себе устройство этих курантов. Сидящий на голове слона персиянин в полдень звонил в колокол, помещенный на повозке, припряженной к слону. Из башен появлялись через каждые три часа рыцари, вооруженные алебардами, выскакивала в шесть часов из башенки птичка… Одним словом, часы очень заинтересовали Годунова, и, облегчив льготы аглицким гостям, он был в восхищении от их подарка. Но сегодня он сердился и на эти куранты: ему казалось, что стрелки еле двигаются, между тем было всего шесть часов.
В обитую красным сукном дверцу постучали, Годунов вздрогнул и взволнованным голосом сказал:
– Кто там? Входи!
Первым в узком проходе показался Луп-Клешнин; за ним в горницу ступил мужчина средних лет, в заморской одежде, с таинственным инструментом в виде треугольника и еще каким-то предметом в руках.
Фрязин Роман (Ромуальд) с достоинством поклонился всесильному временщику и молча встал у стола.
– Наслышан я, Роман, что тебе, как книга, открыта человеческая судьба. Правда ли это? – спросил Годунов.
– Великий боярин, – ответил ему Роман, – завеса будущего тщательно закрыта от людского взора.
На лице Бориса показалось разочарование.
– Но временами звезды дают возможность узнать судьбу вопрошающего их человека, – продолжал Роман.
Годунов пристально посмотрел на говорившего.
– Ты не веришь мне, боярин? – точно уловив мысль Бориса, спросил его фрязин.
Пораженный Годунов молчал.
– Великий Гиппократ в давние еще века уверовал во влияние плеяд, Сириуса и Арктура, на здоровье человека… Нострадамус, недавно умерший, пошел дальше: он всю жизнь человека признавал зависящей вполне от созвездий.
– Довольно, я верю, – решительно сказал Борис. – Я верю тебе. Говори, что меня ожидает! Только помни, Роман, все, что ты мне здесь скажешь, все должно здесь умереть! Иначе сам умрешь!
Роман спокойно выслушал боярина, задумчиво провел рукою по своей подстриженной седеющей бородке и, подняв правую руку, с достоинством проговорил:
– Клянусь тебе в этом всем, чем ты хочешь, боярин!
Годунов успокоился.
– Начинай! – тихо сказал астрологу Луп-Клешнин.
– Авл Геллий замечает, – начал ровным голосом астролог, – что все то, что делает человек, совершается не по его произволу, а под влиянием светил. Мировые события – голод, мор, чума, войны… все заранее предрешено, все ясно написано в великой звездной книге. Болезни человеческие находятся под влиянием луны. Смотри, боярин, вон там небольшая звездочка в созвездии Кассиопеи… Видишь?
Годунов пристально взглянул в окно.
– Вижу, – прошептал он подавленно.
– Это твоя звезда! Незаметная вначале, она разгорается все больше и больше… ты будешь велик, ты будешь царем!
Борис Годунов и астролог.
Художник Н. Неврев
Удивленно вскрикнул Луп-Клешнин и невольно вырвалось радостное восклицание у самого Бориса. Он сурово взглянул на боярина, и снова водворилось молчание.
– Дальше, дальше! – чуть не шепотом сказал Годунов астрологу.
– Царствование твое, вначале блестящее, все тускнеет, тускнеет и… и…
– Говори, говори! – нетерпеливо шептал Борис.
– И кончится горем… Род твой не останется на престоле!
Годунов, подавленный слышанным, молчал. Его широко раскрытые глаза вперились в таинственную звезду, предвозвещавшую ему царство.
– Сколько времени я буду царствовать? – снова спросил он Романа.
Астролог задумался.
– Семь лет! – уверенно сказал он.
Борис поднялся во весь рост со своего седалища; лицо его блистало мужественной отвагой, дышало сознанием силы.
– Хотя бы только семь дней! – радостно проговорил он и наклоном головы поблагодарил астролога.
– Возьми! – Годунов кинул на стол кису с золотыми монетами. – Помни, что ничего ты мне сегодня не говорил… Понял?.. Ступай!
Астролог, низко поклонившись боярину, взял подарок и направился к двери.
– Проводи его, боярин, – сказал Борис Луп-Клешнину. – Потом вернись ко мне сюда!
Честолюбивые думы овладели Борисом Федоровичем. Он верил, что будет царем…
Смутное время
Царь Борис
Вечером на праздник Крещения Господня 1598 года скончался царь Федор, уже давно недомогавший, и с его смертью пресекся царский род. Наследника не оставил он. Когда лежал на смертном одре, патриарх и бояре, озабоченные судьбой престола, спрашивали его, кому вручает бразды власти. Федор Иванович отвечал тихим голосом: «Во всем царстве и в вас волен Бог. Как Ему угодно, так и будет».
Бояре и патриарх просили царствовать вдову Федора царицу Ирину. Это казалось удобным, потому что при ней по-прежнему будет правителем ее брат Борис Годунов. Но царица от престола отказалась, уехала в Новодевичий монастырь и постриглась в монахини. Тогда решили просить на престол самого Бориса, ходили к нему в Новодевичий, куда он переехал вслед за сестрой, но он упорно отказывался принять царский венец, понимая, что его власть не будет прочной, если не будет избран всенародно.
Через сорок дней в Москве состоялось торжественное собрание для избрания царя, на которое съехались со всех концов Русской земли представители городов, провинциальные дворяне, высшее духовенство и вся Боярская дума. Заседание земского собора открыл патриарх вопросом: «Кому на великом православном государстве царем быть?» Патриарх сам и ответил: «У меня, и прочих духовных лиц, и всех вообще людей, живущих в Москве, одна общая мысль, что, помимо Бориса Федоровича, никого не выбирать». Все собравшиеся одобрительными криками приветствовали это предложение, и только несколько бояр с недовольными лицами шептались о чем-то с Шуйскими.
Патриарх Иов и московский народ просят Бориса Годунова стать царем
Борис Годунов и юродивый.
Художник А. Земцов
Избрав Бориса, все бывшие на Соборе во главе с патриархом пошли в Новодевичий монастырь и объявили Годунову об его избрании. Но и на этот раз он отказался от престола. Тогда 21 февраля при торжественном звоне колоколов двинулась к нему процессия в третий раз. Впереди несли хоругви, иконы. В крестном ходу шли патриарх, духовенство, бояре и чины земского собора, следом за ними – огромная толпа народа. Люди заполнили весь монастырский двор и расположились за стенами обители. Вся Москва была здесь. Даже недруги Годунова явились. Борис вышел навстречу крестному ходу, и патриарх обратился к нему:
– Это Пречистая Богородица со Своим Предвечным Младенцем и великими чудотворцами возлюбили тебя. Устыдись пришествия Ее и ослушанием не наводи на себя праведного гнева Божья.
Но Борис по-прежнему отказывался. После обедни духовенство вновь упрашивало его и на коленях молило царицу Ирину уговорить брата. Со двора стоном неслись просьбы народа, чтобы Борис принял царский венец. Наконец Годунов согласился. Спустя несколько дней Москва торжественно встречала новоизбранного царя.
Прошло шесть лет. Тринадцатого апреля 1604 года в Москве стоял теплый весенний день. Голубое небо и радостное сияние солнца манили из тесных и душных комнат на чистый воздух. В Кремле на вышке терема после обеда сидел царь Борис. Лицо его утратило прежнюю красоту и носило печать тяжелых дум и тревожных забот. Перед Годуновым широко раскинулась освещенная солнцем Москва, но он, погруженный в раздумья, не замечал красот столицы.
Он вспоминал, как шесть лет тому назад стоял в Успенском соборе и, принимая от патриарха царский венец, клялся, что на Руси не будет более бедных и он разделит с неимущим даже последнюю рубашку. Все эти годы он помнил и старался исполнять свой обет. Ради этого не вел войн ни с Польшей, ни со Швецией, понимая, что даже удачная война – бедствие для народа. Он сбавлял и прощал недоимки, целые области на несколько лет освобождал от податей. Он благотворил щедрой рукой и всегда был защитником сирых. Но судьба словно смеялась над ним – два года подряд русские земли преследовали неурожаи, и наступил страшный голод, а за ним явились и болезни, уносившие в могилы ежедневно тысячи своих жертв. Всем нуждавшимся Годунов выдавал хлеб из казны, а чтобы дать людям работу, начал строить в Кремле колокольню Ивана Великого. Но ропот нарастал, и во всех бедствиях народ винил своего царя.
С болью в сердце вспоминал Борис, что нигде его добрые намерения не увенчались успехом. Даже в горячо любимой семье не нашел он счастья. Ему, казалось, уже удалось устроить брак дочери с датским королевичем, но жених по приезде в Москву заболел и умер.
Везде несчастья, и нужны деятельные люди, а он, самодержавный царь, один, потому что на бояр нельзя положиться. При воспоминании о них горькие чувства сменились гневом. С первого же года его правления они стали плести сети интриг. Отовсюду шли доносы о злых замыслах бояр. Наиболее опасных он отправил в ссылку, но в Москве оставалось еще много его тайных врагов. Теперь они распространяют в народе нелепые толки, будто царевич Димитрий жив и идет отнимать у него царский престол. Правда, верный воевода Басманов одержал над дерзким самозванцем победу, но тот из толпы недовольных скоро собрал новое войско. Уже несколько городов перешли на его сторону и войско приближается к Москве.
Смерть Бориса Годунова
Горькие воспоминания, гнев на бояр и страх перед грозным движением народа во главе с самозванцем взволновали Бориса. Он и раньше хворал, а в этот день силы вовсе изменили ему. Внезапно хлынула из носа кровь, и царь стал терять сознание. Не помогли старания иноземных докторов – он умирал. Над ним, по обычаю того времени, успели совершить обряд пострижения в монашество. Этим отречением от всего мирского и закончилась жизнь Бориса Годунова.
Гибель Годуновых
Убийство Федора Годунова и его матери произошло 10 июня 1605 года. Судьба же Ксении Годуновой была иной. После прихода в Москву Лжедмитрий надругался над ней, а затем повелел постричь в монахини и сослал на Белоозеро в Горицкий Воскресенский монастырь.
Москва волновалась. Из Замоскворечья, из Неглинного, со всех концов и околиц широкой волнующейся лентой тянулся люд московский на Красную площадь. А оттуда, с колокольни Василия Блаженного, непрерывно, один за другим раздавались призывные удары колокола.
Звонари на колокольне
– Почто звонят у Василия, будоражат народ православный? – переговаривались на ходу москвичи. – Аль Отрепьев уж под Москвой объявился?
– От царя Дмитрия Ивановича послы с грамотой пришли, – заметил из толпы ражий детина, – Пушкин да Плещеев, чтоб покорились, значит, ему, царю московскому.
– От царя?! – грозно отозвались в толпе. – Ты, парень, ври, да меру знай. Какой он царь? Отрепьев Гришка, расстрига беглый, вор он. Царь у нас истинный в
Кремле сидит, Бориса сын, Феодор… А ты: «Царь…..» Аль в застенке не бывал?
Толпа была готова наброситься на неосторожного говоруна, но в этот миг неистовые крики с Красной площади отвлекли внимание всех.
– На Лобное их! – раздавалось оттуда. – На Лобное! Пускай там покажут всему народу православному, с чем приехали!
И вот на Лобном месте показались Пушкин с Плещеевым. Когда воцарилось молчание, сановитый Пушкин, бледный, трясущийся, начал свою речь. Вскоре он овладел собой, и слова его зазвучали в наступившей тишине отчетливо и твердо.
– Бояре, дьяки, торговый люд и весь народ московский! – начал Пушкин. – Прислал нас к вам царь Дмитрий Иванович объявить, что он идет в свою родную Москву занять отеческий престол, который захватили Годуновы.
На площади зашумели, но потом сразу стихли, когда увидели, что Пушкин вынул свиток с привешенной печатью и стал читать:
– «Вы думали, что изменники убили нас. И когда по всей Руси разнесся слух, что мы идем занимать отеческий престол, вы по неведению встали против нас, законного, Богом данного великого государя. Но я, государь христианский, по своему милосердному обычаю гнева за то на вас не держу, ибо вы так учинили по неведению и из страха…»
Князь Василий Шуйский на Лобном месте.
Художник А. Земцов
Невообразимый шум, хаос самых разнообразных восклицаний покрыли слова Пушкина.
– Какой он царь, да еще христианский?! – кричали одни. – Расстрига он беглый, изменник царю истинному Феодору Борисовичу!
– Здрав буди, царь Дмитрий Иванович! – кричали другие. – Не надо нам Годуновых! Разве мало Борис пролил крови народной? За ним и щенок его пошел: еще не высохла кровь на плахах да в застенках московских!
Напоминание о недавних жестокостях Годуновых охладило их защитников. А Пушкин между тем продолжал чтение грамоты, где говорилось, что все города русские уже сдались своему царю.
– «А не добьете челом нашему царскому величеству, – закончил Пушкин громко и угрожающе, – и не пришлете к нам просить милости, то дадите ответ в день праведного суда, и не избыть вам от суда Бога и от нашей царской руки».
В толпе воцарилось унылое, жуткое молчание. Вдруг его нарушил чей-то выкрик:
– Шуйского, Шуйского! Он ездил в Углич расследовать дело. Пускай он скажет нам прямо: убили царевича или жив он.
Толпа тысячами голосов подхватила этот выкрик, и на Лобном месте появился Шуйский. Лукавый огонек играл в глазах этого народного любимца, когда он, поклонившись в пояс на все стороны, начал свою речь.
– Народ московский православный! Поистине скажу вам то, что доселе таил на дне своей души. Ездил я тогда в Углич и все доподлинно узнал, увидел. Борис посылал убить царевича Дмитрия, а только рука Всевышнего спасла семя царя Ивана Грозного. Убит и погребен был не Дмитрий, а похожий на него сын поповский. Царевич жив и к вам теперь с помилованием идет…
– Да здравствует царь Дмитрий Иванович! – заревела толпа. – Долой щенка Борисова! Истребить всех Годуновых! Вязать, рубить их!
И разъяренная толпа бросилась к кремлевским палатам.
А до Годуновых уже долетела весть о том, что творится на Красной площади. Бледные, дрожащие стояли царица-мать и царевна Ксения в молельной перед освещенной тихим светом лампады иконой Богоматери. Уста их шептали горячую молитву. Юный царь ходил быстрыми, торопливыми шагами по палате, окнами выходившей на кремлевскую площадь. Он то подходил к решетчатым окошкам и через них всматривался вдаль, то вновь начинал шагать, и уста его что-то грозно, гневно шептали. Белолицый, черноокий, кудрявый – чем не под стать был юноша московскому престолу!.. Но на нем уже лежало заклятье: он был сын Годунова.
Царевна Ксения Борисовна Годунова (1582–1622)
Последние минуты Годуновых. Художник К.Б. Вениг
Убийство царя Федора Годунова. Художник К.Е. Маковский
Вдруг юноша метнулся вновь к окну, припал к нему и долго не отрывался, пока в палату не вбежали мать и сестра. Они услышали страшный гул, который становился все ближе и ближе.
– Федор, сын мой, ужель пришла погибель наша?
Юноша бросился к матери.
– Успокойся, матушка, и ты, Ксения. Идите к себе. Стрельцы – наша верная защита.
Шум между тем слышался уже на самом кремлевском дворе, у Красного крыльца. Потом все на мгновение как будто стихло. Федор быстро подошел к окну и с криком ужаса, бледный, отпрянул от него.
– Стрельцы за них, склонили перед ними свои секиры. Вот поднимаются все по крыльцу, сейчас войдут за нашей жизнью… Пойдем все в тронную, там я сяду на отеческом престоле, и тогда, может быть, ни один из злодеев не решится сразить своего царя.
Трон всегда был незыблемой святыней в глазах русского народа.
Через миг Годуновы были в тронной палате. Еще мгновение – и туда ворвались разъяренные стрельцы, а за ними и бояре.
– Как вы осмелились, холопы, беспокоить своего государя?! – грозно крикнул Федор.
– Молчи, щенок! – со злорадным хохотом заметил один из бояр. – Не царь ты, а Федька, и царство твое воровское.
– Не вы ли клялись, – раздался голос царицы-матери, – на верность мне и сыну моему, что к Гришке беглому не приставать, с ним и его советниками не ссылаться ни на какое лихо? Побойтесь же Бога!
– А ну, Вавила! – крикнул боярин рыжему стрельцу. – Заткни ей рот! А с Борисовым щенком мы сами расправимся.
Федор не сразу отдал себя в руки убийцам. Собрав все свои молодецкие силы, он вступил с ними в яростную борьбу. Она продолжалась недолго.
Самозванец на троне
Восстание москвичей против Лжедмитрия началось утром 17 мая 1606 года. Было убито 1700 поляков и разграблены их дома. Труп убитого Лжедмитрия три дня пролежал на Красной площади, после чего его похоронили на Кулишках у «Божьего дома» (богадельни). Вскоре после этого ударили морозы, и суеверные москвичи, испугавшись, что сама земля не приняла тело еретика и чернокнижника, потребовали вытащить его из земли. Прахом Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили на запад – в ту сторону, откуда он пришел.
– Васильич! Васильич! – изо всех сил кричал высокий длинноволосый человек в темно-малиновом плаще и широкополой шляпе со страусовым пером.
Лжедмитрий I (умер в 1606 году)
Осанистый боярин, одетый в парчовое платье и горлатную шапку, искусно лавировал между бесчисленными лужами, покрывавшими улицы Москвы после недавнего дождя, точно не слышал окриков и продолжал свой путь. Убедившись в этом, преследователь подобрал полы своего плаща и в несколько прыжков нагнал боярина.
– Здравствуй, Васильич, – продолжал он на ломаном русском языке. – Не карашо забивать старий приятеля…
– Здорово, Чарльзушка. А мне и невдомек, что это ты кричишь. Да и откуда же ты взялся? В Архангельск, баяли, уехал, а ты в Москве.
– В Арханкельск, – подтвердил Чарльз Диксон, один из английских послов, являвшихся к Борису Годунову и ни с чем отосланных назад. – В Арханкельск вислал царь Борис, а царь Дмитрий велел обратно возвращаться. Какой такой Дмитрий? У Бориса син Федор бил?..
– Бил, бил, – передразнил Васильич англичанина, – да вышел весь. Весь род Борискин на нет свели, одна только царевна Ксения в живых осталась, да и ту не сегодня завтра постригут. Дмитрий у нас теперь на царстве, Иванович. Вот кто!
– Какой такой?
– А вот прочти. Ведь грамотен по-нашему, – и осанистый боярин указал своему спутнику на большой кожаный квадрат, прибитый на тесаный забор.
На коже, покрытой крупной скорописью, было написано уж слишком много, и потому англичанин благоразумно начал с середины.
«…Вы думали, – прочел он в воззвании, – что мы убиты изменниками, и когда разнесся слух по всему государству Русскому, что по милости Бога мы идем на православный престол родителей наших, вы, бояре, воеводы и всякие служебные люди, по неведению стояли против нас, великого государя. Я, государь христианский, по своему милосердному обычаю гнева на вас за то не держу, ибо вы так учинили по неведению и от страха…»
Убийство царевича Дмитрия. Художник Н. Соколов
Далее в грамоте было сказано, что Дмитрий идет с сильной ратью и русские города челом ему бьют. Напоминалось о несправедливостях Бориса, и обещались разные льготы. А в самом конце грамоты не обошлось и без угрозы: «…..А не добьете челом нашему царскому величеству и не пошлете просить милости, то дадите ответ в день праведного суда и не избыть вам от Божья суда и от нашей царской руки».
– А дальше что? – спросил англичанин, переводя взгляд с забора на своего спутника.
– Вестимо что. На Лобное место Шуйского позвали. Он, чай, разыскивал, когда царевича извели. Шуйский стал говорить народу: «Борис послал убить Дмитрия-царевича, но царевича спасли, а погребен вместо него сын угличского попа». Ну, там уж пошло такое, что прости Господи! Федора Борисовича просто с трона сволокли, царские терема разграбили, Федора с матерью и вовсе извели, а царевну Ксению под стражу посадили.
– Так. А ты куда это идешь?
– Встречать его, милостивца нашего. Сегодня в Москву приезжает. Не хочешь ли со мной, Чарльзушка? По дружбе проведу.
Англичанин поднял голову, посмотрел на солнце и дал свое согласие. Боярин пошел вперед, по-прежнему перепрыгивая через сверкающие на солнце лужи, а английский посол довольно умело подражал ему.
День был теплый и даже жаркий, ни облачка на небе. Улицы, заборы, крыши и колокольни кишели народом в пестрых праздничных одеждах. Все напряженно всматривались вдаль, ожидая, что вот-вот покажется торжественный поезд царя Дмитрия.
Ждать пришлось недолго. Ни одной крупной ссоры еще не успело произойти в толпе, как загремели трубы, зарокотали барабаны и в Москву вступили, сверкая латами, польские полки. Затем бесконечной вереницей, по двое в ряд, шли стрельцы. За ними следовали раззолоченные царские кареты, за которыми ехали бояре в кафтанах, шитых жемчугами и прочими самоцветными камнями. Позади них шли музыканты русского войска, оглушительно гремя бубнами. Дальше виднелись над шествием парчовые хоругви, за ними – духовенство с образами, крестами и Евангелием. Наконец на белом аргамаке появился тот, кого Москва встречала как своего законного царя.
Одеяния его поражали такой роскошью, что даже царедворцы, привыкшие к торжественным приемам послов из чужих стран, когда московские государи любили окружать себя особой пышностью, и те были поражены и одобрительно шептались между собой. А народ, очнувшись от оцепенения, разразился приветственными криками:
– Вот он, наш батюшка-кормилец!
– Здравствуй, отец наш, государь всероссийский! Даруй тебе Боже многие лета!
– Солнышко ты наше! Взошло ты над Русской землей!
Так приветствовал народ Дмитрия. А он, слегка кивая головой, громко отвечал толпе:
– Боже, храни мой народ! Молитесь Богу за меня, любезный и верный мой народ!
Шествие медленно двигалось вперед, и едва только ступило на Москворецкий мост, как налетел такой ужасный вихрь, что всадники едва усидели на своих испуганных конях. Легкое замешательство прошло, и царский поезд был уже в Китай-городе, перед глазами всех открылся Кремль…
Завидев его, Дмитрий зарыдал, снял шапку с головы, перекрестился и воскликнул:
– Господи Боже, благодарю Тебя! Ты сохранил меня и сподобил узреть град отцов моих и народ мой возлюбленный.
Слезы умиления текли по щекам царя, плакал и народ, радостно гудели колокола кремлевских церквей.
Чарльз Диксон довольно основательно рассмотрел нового повелителя Руси. Он не отказался бы поглядеть на него и поближе, чтобы, возвратясь на родину, отдать подробный отчет не только в прямой цели своего посольства, но и в том, как должно отнестись к новому царю.
– Васильич, – обратился он к своему руководителю, – куда теперь пойдет царь Дмитрий?
– Должно быть, в Архангельский собор. А что?
Самозванец в Архангельском соборе.
Художник Р Вейдеман
– Пойдем и мы.
– Пойдем. Встанем в сторонке и поглядим на него.
Придя к этому решению, собеседники обогнали царский поезд и, миновав лобное место и крепостную стену, со вздохом облегчения вступили под сумрачные своды храма. Васильич снял свою горлатную шапку и отер вспотевший лоб. Англичанин, поплотнее завернувшись в плащ, надвинул шапку на глаза и будто замер, прислонясь к сырой стене.
Ждать им пришлось недолго. Только их глаза после яркого дневного света успели освоиться с полумраком, царившим здесь, как у главного входа раздались голоса, звон сабель, и Дмитрий со своей свитой вошел в собор. Он уверенно, ни минуты не колеблясь, точно человек, много раз бывавший здесь, направился к гробнице Ивана Грозного и, припав к ней, горько зарыдал. Мягкосердечный Васильич не выдержал и тоже всхлипнул, а Чарльз Диксон стал напряженно всматриваться в лица бояр из царской свиты, точно надеясь прочесть на них ответ на занимавший его вопрос…
Вот, почти рядом с Дмитрием стоит Шуйский, опустив глаза. Тонкие его губы сжаты, но по временам дрожат, и тогда презрительная усмешка, точно зарница, пробегает по красивому лицу. Это и понятно, он сверг с престола Федора, он же передал державу Годунова теперешнему повелителю Москвы. Немудрено, что умный царедворец, как на марионетку, взирает на нового русского царя. Почти то же читает англичанин и на лице другого, неизвестного ему боярина. Седой и сгорбленный старик с болезненной тоской глядит на Дмитрия и точно сравнивает его небольшую, слабую фигурку с царями, кого он знал когда-то и которые спят теперь непробудным сном под тяжестью своих гробниц. Другой старик, но уже не русский, а поляк в богатом кунтуше, стоит рядом с ним и слушает, что ему говорит товарищ. А у самого глаза прищурены, седые длинные усы дрожат, и ясно видно по его лицу, как глубоко он презирает и того, кто молится теперь перед гробницей Ивана, и тех, кто согласился признать самозванца своим царем. По отношению к Дмитрию это даже не презрение, а какая-то непонятная брезгливость, которой не может преодолеть в себе старый поляк. И только один боярин, хотя и в богатой турской шубе, но со скуластым и пронырливым лицом приказного подьячего, кажется, вполне доволен всем. В его острых чертах лица, в клочковатой козлиной бороденке англичанин ясно читал фразу, написанную на языке, одинаковом для всех народов и стран: поживимся при этом, поживимся и при другом.
– Некарашо, – шепчет Чарльз Диксон на ухо Васильичу.
– Неладно, – отвечает тот.
А над Кремлем гудят колокола, ликует и шумит московский народ, приветствуя царя Дмитрия, грядущего на трон своих отцов.
* * *
В Кремле, над самым скатом к Москве-реке, высится новый нарядный дворец царя Дмитрия Ивановича. Он выстроен из дерева, но убран с неслыханной роскошью. На окнах красуются вышитые золотом занавески, столы и скамьи покрыты дорогими парчовыми скатертями и покрывалами, стены обтянуты коврами и драгоценными персидскими тканями. Дверные замки сделаны из червленого золота, печки, сложенные из зеленых изразцов, обведены серебряными решетками, сени сплошь заставлены серебряной утварью, столовая украшена серебряной и золотой посудой. Но сам царь держится просто, выходит на крыльцо, принимает прошения, расспрашивает каждого о его нужде.
Сегодня царь решил прокатиться за город, чтобы рассеяться и взглянуть на потешную крепость, которую он велел построить для забавы и упражнения в военном деле. Его расстроили жалобы на поляков, которые обижают в городе прохожих, ведут себя дерзко. Царь обещал принять меры и усмирить их. Затем дьяк, докладывая дела, не сумел угодить ответом, и царь вспылил, ударил его палкой, правда быстро опомнился. Но один из царских любимцев опять вывел его из себя, сообщив о доносе, в котором неведомый доброжелатель сообщает, что на жизнь царя составляется заговор. Самозванец оборвал его на полуслове, рассердился, сказал, что терпеть не может доносчиков. Он старается облегчить жизнь народа. Разве могут быть люди, желающие его смерти?..
Восстание против Лжедмитрия
У боярина Василия Шуйского – тайное совещание. Собрались богатые московские купцы, начальники псковского и новгородского отрядов, стоящие под Москвой и назначенные идти на татар, знатные бояре: князь Голицын и князь Куракин. Шуйский держит перед ними длинную речь. Пора наконец освободить Русскую землю от дерзкого выскочки, называющего себя Дмитрием. Настоящий Дмитрий умер в Угличе, и Василий Иванович Шуйский своими глазами видел его мертвым. Нынешний царь – самозванец, расстриженный беглый монах, известный своим дурным поведением. Он перевернул всю русскую жизнь, не признает обычаев, установленных веками. Женился на польке, привел поляков в Москву, скоро раздаст им всю казну, а затем пожалует русских людей им в неволю. Надо срубить дурное дерево, иначе дорастет до небес и погубит Московское государство.
Все слушают с большим сочувствием и стараются прибавить что-нибудь от себя. Какую смуту внес этот царь! Полякам не хватает уже квартир, и селят их в домах у русских. Они привезли с собой для чего-то много оружия. По улицам, словно это не Русь, а Польша, беззаботно расхаживают католические ксендзы и монахи. Лютеране тоже обласканы царем и собираются строить в Москве свой храм.
Бояре мечтают о власти, новгородцы и псковичи не желают идти проливать свою кровь, купцы опасаются, что поляков уже набралось до шести тысяч, и того и гляди, они кинутся грабить лавки. Но есть один важный вопрос, которого все избегают, чтобы не перессориться. Кто будет царем, если самозванца удастся убить? С надеждой поглядывают купцы на Василия Шуйского. Вот желанный и угодный царь. В его огромных вотчинах занимаются шубным промыслом, и потому он ведет дела с московским купечеством, будет стоять за них горой. Шуйский понимает их без слов, московские торговые люди – его главная опора, они помогут взойти на русский престол.
Конец мая. Весенняя ночь близится к концу. Вдруг – гул набата. Дмитрий вскакивает с постели. Вся Москва просыпается. Пожар?.. Заговорщики торопятся объяснить поднятую ими тревогу и отвлечь народ: «Литва! Бейте Литву – она злоумышляет против царя!» Народ с яростью набрасывается на поляков.
Рассветает. Медленно и торжественно, с крестом в руке въезжает в Кремль Василий Шуйский. Заговорщики ломятся в царский дворец. Заранее они распустили преданную самозванцу стражу. Названный царем Дмитрием самозванец наконец понимает, в чем дело. Он мужественно сопротивляется, но все его защитники перебиты, и спасения надо искать в бегстве. Выскочил в окно, но неловко упал, и, ушибленного, с разбитой ногой, заговорщики влекут его обратно во дворец. Народ уже хлынул в Кремль, он пока воображает, что бояре казнят злодея, напавшего на царя, но если узнает правду, тогда кинется спасать Дмитрия.
Последнее утро Лжедмитрия
Пора кончать, но прежде надо, чтобы этот неведомый пришелец из Польши признался в своем самозванстве. Его терзают, глумятся. «Кто ты? Кто твой отец? Откуда ты родом?» – звучат отрывистые грозные вопросы. И среди гула набата, народного гула, доносящегося с площади, ругательств и насмешек заговорщиков слышится тихий шепот умирающего: «Я царь ваш и великий князь Дмитрий, сын царя Ивана Васильевича…..»
Патриарх Гермоген
Священномученик Гермоген (Ермоген) был прославлен в лике святых 12 мая 1913 года. На торжествах, состоявшихся в Москве, присутствовал сонм православных иерархов, насчитывавших более двадцати русских архиереев. Прославление угодника Божия ознаменовалось служением божественной литургии в Успенском соборе Кремля, где и доныне покоятся святые мощи патриарха Гермогена.
Москва догорала. Черный удушливый дым тяжелой тучей низко повис над обуглившимися останками Белокаменной. И только стены Кремля и Китай-города гордо высились среди руин. За кремлевскими стенами нашли себе убежище трусливые полонители Москвы – поляки во главе со своим воеводой Гонсевским.
Целый день на улицах города шла резня между поляками и русскими. Поляки, поджегшие Замоскворечье и Белый город, отчаянно отбивались от русских, уступая им после страшной бойни пядь за пядью московской земли. А русские напрягали все силы, чтобы истребить остатки ненавистных ляхов. Но стены Кремля и пожар выручили поляков. Под тревожные звуки набата, несшиеся из Замоскворечья, поляки поспешно закрывали кремлевские ворота, выставляли стражу на стенах и башнях.
– Успели захватить Гермогена? – раздался зычный голос Гонсевского. – Если не успели, спешите, не оставляйте его с русскими.
Приказание передавалось по рядам, и у всех поляков на лицах была тревога. Но вскоре безумной радостью засветились их глаза.
– Гермоген взят, – услышали они доклад воеводе. – Приказывай, как поступить с ним.
Довольная улыбка осветила сумрачное лицо польского пана, и он отдал приказание.
Патриарх Гермоген и бояре.
Художник С.М. Зейденберг
Да, видно, дорого ценили поляки российского патриарха Гермогена в «злое лихолетье 1611 года»!
Лихолетьем называли Смутное время русские люди, а иноземцы окрестили его Московской трагедией. Тогда, после прекращения царского рода Рюриковичей, несчастного правления Бориса Годунова и недолгого своевластия Лжедмитрия, последней, хотя и ненадежной опорой народного спокойствия стал царь Василий Иванович Шуйский. Но отечество он не спас и, «вняв челобитью земли Русской, оставил государство и мир».
Настало тяжелое время междуцарствия, когда перед Москвой, осаждаемой с одной стороны новым самозванцем, а с другой – польскими войсками, стал роковой вопрос: как быть? И спасителем отечества, душою защитников родной Руси явился патриарх Гермоген. Он обсуждал начинания бояр, проверял и судил их не всегда чистые помыслы и справедливые действия. К его голосу прислушивался весь народ, с его благословения он шел на смерть, а без его благословения отказывался выполнять настойчивые приказы продажных бояр.
После долгих обсуждений русское посольство отправилось под Смоленск к польскому королю Сигизмунду с предложением, чтобы его сын королевич Владислав занял русский престол. Гермоген благословил этот шаг, однако с непременным условием, чтобы Владислав принял православие. Но Сигизмунд хитрил и хотел сам занять русский престол, стараясь уговорить согласиться на это послов. И некоторые из них уже готовы были подчиниться воле лукавого короля, но Русь спасло обаяние непреклонной воли патриарха Гермогена.
– Ныне по грехам нашим, – сказал один из послов, князь Голицын, – мы остались без государя. Патриарх у нас человек начальный, и без патриарха ныне такое дело решить непригоже.
Между тем занявшие по воле русских Москву поляки, поняв, что судьба их планов в руках Гермогена, окружили его стражей. Но живое слово патриарха прорывалось за стены темницы. Опасаясь народного мятежа, поляки вынуждены были освободить московского первосвятителя.
Узнав подробно о намерениях Сигизмунда, Гермоген понял, какая опасность грозит отечеству, и написал пламенное воззвание к русским людям. Грамота призывала всех к единодушному восстанию против врагов погибающего Русского государства.
Тогда-то на пламенный призыв патриарха поднялась вся православная Русь. Духовенство воодушевляло ратных людей, приводило их к присяге «стоять за православную церковь, за Московское государство против польских и литовских людей». Из Рязани поднялся Прокопий Ляпунов, принявший главное начальство над народным ополчением, взялся за меч и Дмитрий Пожарский. К Москве приближалась грозная народная рать. В самой Белокаменной смелее стали раздаваться голоса жителей, недовольных поляками.
Поляки и преданные им бояре ясно видели, кто стал главным виновником происходящего и кто может остановить катившуюся грозную волну.
– Ты, Гермоген, главный заводчик всего возмущения! – говорил патриарху Гонсевский. – Ты по городам рассылал грамоты, мутил народ. Теперь отпиши им, чтобы не шли на Москву. Иначе это не пройдет тебе даром. Не думай, что тебя охранит твой сан…
Угроза покуда оставалась лишь угрозой. Но когда в самой Москве вспыхнуло восстание и Гонсевскому, запертому со своими поляками в Кремле и Китай-городе, нужно было заставить русских отказаться от своих намерений, ему необходим был Гермоген. И вот теперь он в его руках. По приказу воеводы патриарх в сырой и мрачной келье Чудова монастыря.
Тихо. Лишь по стенам торопливо сбегают едва заметные струйки воды. Кажется, кто-то сильный выдавил эту влагу из гранита, угрюмо стерегущего со всех сторон великого узника. А он, согнув свои старческие колени и воздев руки, шепчет слова молитвы. Сено, разметанное по сырому каменному полу, напрасно ждет к себе на отдых дряхлого патриарха. Он силен верой в свое дело, он бодр.
Патриарх Гермоген в подземелье Чудова монастыря отказывается выполнить требования поляков
Вдруг раздается шум отодвигаемого запора. В подземелье входит Гонсевский, за ним – стража и бояре. Гремят принесенные ляхами цепи. Один из них приближается к патриарху и лукаво шепчет:
– Подпиши, Гермоген, грамоту, чтобы Ляпунов и народ ушли… Гибель ждет народ. Ты ж его начальник – так ты его и упреди.
– Коли все королевские люди выйдут из Москвы, обещаю перед Богом отписать, чтобы шли назад.
– А!.. Так?! – со страшной ненавистью в голосе проговорил Гонсевский. – Так я заставлю тебя почувствовать нашу силу! В цепях будешь валяться здесь на полу, оглашая голодными стонами подземелье! Сгниешь среди мокриц и гадов!
– Ты мне сулишь лютую смерть, а я надеюсь через нее получить венец и уже давно жажду пострадать за веру, – вдохновенно отвечал патриарх, поднимая очи и руки к небу.
Погиб замученный патриарх в своем заточении. Но не погибло дело, в которое он верил, за которое принял смерть. Имя священномученика Гермогена стало знаменем борьбы за освобождение Русской земли от иноземного ига.
Конец Смутного времени
В память об избавлении Русской земли в Смутное время от иноземных оккупантов были сооружены три храма. Церковь Казанской иконы Божьей Матери возвели в 1636 году на углу Никольской улицы и Красной площади. В 1930-х годах храм разобрали. Ныне он восстановлен. Второй храм был поставлен князем Пожарским в его имении в подмосковном селе Медведково. В 1634–1635 годах деревянный Покровский храм заменили каменным, который и сохранился до наших дней. Еще один храм – Покрова Пресвятой Богородицы – возвели в 1619–1626 годы повелением царя Михаила Федоровича в его летней резиденции селе Рубцово. Ныне во всех этих трех храмах возобновлены богослужения. В 1818 году на Красной площади на деньги, собранные по подписке всей страной, был сооружен памятник Минину и Пожарскому.
Польский король Сигизмунд давно уже радовался тому, что смута ослабляет опасное для него Московское государство. Его подданные помогали и первому самозванному Дмитрию, и второму, прозванному Тушинским вором по месту у подмосковного села Тушино, где он около года стоял военным лагерем, грабя окрестные земли. Теперь и сам Сигизмунд решил объявить войну Москве и с войском в тридцать тысяч человек вторгся в Русскую землю, осадив Смоленск.
Среди москвичей, особенно служивших у Тушинского вора и ненавидевших царя Василия Шуйского, с кучкой бояр «высокой породы» заправлявшего всеми делами, появилась мысль обратиться к польскому королю с просьбой, чтобы отпустил на московский престол своего сына Владислава.
Русский воин начала XVII века
Казалось, это будет очень удобно: кончится трудная война с Польшей, и новый царь, взятый со стороны, поможет избавиться и от Василия Шуйского, и от множества самозванцев.
К Сигизмунду под Смоленск было отправлено посольство, и 4 февраля 1610 года оно заключило с ним договор, в котором были обозначены условия избрания на русский престол Владислава.
В Москве, за Арбатскими воротами, 17 июля собрались недовольные Василием Шуйским служилые люди. Толпа шумела как пчелиный улей. Но вот на возвышении появился рязанский дворянин Захар Ляпунов, высокий и статный, настоящий богатырь, и в наступившей тишине прозвучали его слова:
– Московское государство доходит до конечного разорения и расхищения. С одной стороны пришли поляки, с другой разоряет земли самозванец. Василий Иванович не по правде сел на царство. Будем бить ему челом, чтобы оставил престол. А мы выберем всей землей нового царя.
Сочувственные крики покрыли долгожданные слова, и толпа от Арбатских ворот повалила в Кремль, ко дворцу. Перепуганный Шуйский вынужден был принять депутацию дворян. Вперед выступил Захар Ляпунов и обратился к царю:
– Долго ли за тебя кровь христианская литься будет? Ничего доброго в царстве твоем не делается. Земля наша через тебя разорена и опустошена. Ты воцарился не по выбору всей земли. Сжалься над умалением нашим, положи посох свой, сойди с царства! А мы уж о себе как-нибудь помыслим.
– Смел ты вымолвить мне это, – с гневом отвечал царь, – когда и бояре ничего такого не говорят.
Земская стража.
Художник Н.Н. Каразин
Пожарский в битве под Москвой.
Художник А.И. Шарлеман
Даже ножом замахнулся царь на Ляпунова, но тот не испугался и сам пригрозил Шуйскому. Ни с чем вернулись дворяне из дворца. Толки о будущем Руси решили продолжить всенародно за городом, у Серпуховских ворот. Здесь зазвучали речи против Шуйского, его не любили даже многие из знатных бояр – Василий Голицын, Филарет Романов и их окружение. Наговорившись вволю, пошли снова в Кремль просить Шуйского оставить царство. Тому пришлось подчиниться воле народа, положить царский посох и переехать в свой боярский двор. Но чтобы закрепить отречение, его через несколько дней насильно постригли в монахи.
Временно делами управляла Боярская дума из семи человек. Они тоже предпочли борьбе с Лжедмитрием II призвать на московский престол польского королевича Владислава («Лучше служить королевичу, чем быть побитыми от своих же холопей»). Под Смоленск отправили великое посольство, и вскоре поляки уже входили в Кремль.
Русские люди поняли, что обращение к полякам было ошибкой. А тут еще пришла весть, что Тушинский вор убит в Калуге своим приверженцем из личной мести. Тогда от поляков отшатнулись и те бояре, которые присягали Владиславу из страха перед вождем голытьбы.
Из разных городов двинулись к столице Русского государства ополчения земских людей, и встревоженные поляки перевели город на военное положение. Вскоре их вражда с москвичами прорвалась наружу. Дело началось с драки в Китай-городе, которая превратилась в настоящее побоище и перешла в Белый город. Русские перегораживали улицы возами, бревнами, домашним скарбом, из-за прикрытий палили в поляков из пушек. Тем пришлось отступить за крепкие стены Китай-города и Кремля, а Белый город и Замоскворечье поджечь. Загудел набат, жители бросились тушить огонь, но сильный ветер перебрасывал его с одной избы на другую, и за два дня от города остались одни дымящиеся развалины, за исключением каменного центра, занятого поляками.
Вокруг Москвы собралось большое ополчение, но войска не решались взять приступом укрепленный город. Тем временем в Нижнем Новгороде по призыву купца Козьмы Минина создавались новые русские полки под начальством князя Пожарского. К «сердцу Русской земли» они подошли в конце лета 1612 года и вместе с казаками Трубецкого 22 октября взяли приступом Китай-город. Месяц спустя страшный голод принудил осажденных сдать и Кремль.
Земское ополчение, одержав победу над поляками, занялось устройством порядка, которого жаждали разоренные долгой смутой служилые и посадские люди. И первым делом собрали земской собор, чтобы избранием нового царя оградить себя от самозванцев, принесших страшные разорения на Русскую землю. Новым царем был избран Михаил Федорович Романов.
Новая царская династия
Чудотворная икона
Михаил Федорович Романов торжественно венчался на царство 11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля. Он стал первым царем из династии Романовых, правившей Россией три столетия.
Двадцать девятого апреля 1613 года новоизбранный царь Михаил Федорович Романов по пути из Костромы к стольному граду Москве стоял на долгом и покойном отдыхе в Троице-Сергиевой обители…
В ту пору святая лавра – детище великого подвижника земли Русской Сергия Радонежского – не совсем еще оправилась от долгой осады, от жестоких приступов буйных полчищ Сапеги и Лисовского. Но все же встретила она молодого царя по-праздничному светло.
Ярко сияли купола храмов обительских: Троицкого, где в серебряной раке покоились мощи святого Сергия, Успенского, Святодуховского и других древних святынь. Суетилась братия обительская, размещая многолюдный царский поезд. От Костромы следовали за царем и инокиней Марфой чины московского посольства: архиепископ Рязанский Феодорит, боярин Федор Иванович Шереметев, архимандриты, стольники, стряпчие, охранные ратные люди.
В ясное апрельское утро юный царь Михаил, отстояв церковную службу, вел тихую беседу с матерью-инокиней в просторной келье архимандрита. Царь, по словам старинного сказания, был «добр, тих, кроток, смирен и благоуветлив». Инокиня Марфа Ивановна, согбенная годами тяжкой горести, все же смотрела бодро и величаво. В особом киоте в горнице стояла икона Богоматери – Феодоровско-Костромская. То был список с древней костромской святыни, перед которой царь Михаил принял свое избрание.
– На душе что-то скорбно, – говорил юный царь. – Велико разорение на Руси. Грабежи, душегубство, крестного целованья никто не держит. Неподалеку – на Мытищах да на Клязьме – казаки разбойничают. Третьего дня в Дмитрове-посаде целое побоище было. А владыка Феодорит да Федор Шереметев все на Москву торопят! Как туда ехать, коли нестроение великое?
Федоровская икона Божьей Матери в Костроме
Художник И. Космаков
Шелестя черной иноческий мантией и гремя четками, твердо подошла старица Марфа к поникшему в унынии сыну.
– Не кручинься, чадо мое любимое. Все Господь устроит. Глянь сюда, вот кто тебе заступой будет. Не найти крепче заступника и покровителя.
Поднял голову царь Михаил. Выпрямившись во весь рост, мать указывала на икону, что сверкала окладом под огнем лампады.
– Вот Она, Царица Небесная! Вот Богоматерь Феодоровская. Знаешь ли, кем икона писана? Самим Лукой-евангелистом. Явлена она была князю Василию Костромскому в глухом лесу, на звериной ловле. Много чудес творила костромская святыня. Три века назад под Кострому басурмане подступили. Обнесли костромскую святыню по русским полкам, и чудо несказанное совершилось. Как начался бой, засиял лик Богоматери ярче солнца, жаркие палящие лучи грянули в самую гущу басурманской рати – пожгли, ослепили нехристей. И бежали враги от города… А еще чудо от нее было. Загорелся костромской собор. Сбежались костромичи спасать святыню. Глядят: вознеслась святая икона над пламенем и в воздухе незыблемо стоит. Возложи, сын мой, упование на заступницу. Перед нею ты царство принял, она и сохранит тебя.
Не успела кончить инокиня Марфа своей речи, как вбежал стольник и оповестил о приходе духовенства и бояр – хотят перед очами царя предстать.
Седобородый боярин Шереметев, пожилой, но крепкий князь Бахтеяров-Ростовский, величавый, бледноликий архиепископ Феодорит, мужественные троицкие иноки архимандрит Дионисий и келарь Авраамий спешно вошли в келью. Подав благословение, радостно молвил владыка:
– Радуйся, благоверный князь Михаил Федорович! Радуйся, старица благочестивая, живоносная ветвь царственного отпрыска! Добрые вести пришли из стольного града Москвы. От бояр, князя Федора Ивановича Мстиславского со товарищи гонец прибыл. Положили бояре и завтра на соборе постановят: бить челом тебе, государю, чтоб на Москву ехал. А про воровство уговорились атаманы и казаки меж собою через день станицы и таборы смотреть, воров ловить да карать. В том же бьют челом воеводы князья Трубецкой да Пожарский. Ныне воровских людей до буйства не допустят. Об одном молят все ради Христа – ехать бы тебе, государь, на Москву не опасаясь.
Просветлело царское лицо. Благоговейно взглянул он на Богоматерь и молвил людям московского посольства:
– Обряжайте поезд. Завтра же на Москву едем.
Избрание на престол Михаила Федоровича Романова
Художник Г.И. Угрюмов
Тридцатого апреля встретили царя посланники собора бояре Воротынский, Морозов, окольничий Мезецкий, дьяк Иванов. Застали они юного государя в середине пути от Троицкой обители к Москве – в селе Братовщине. Передали они царю челобитье бояр, воевод, всего народа… И 2 мая царь Михаил Федорович был уже в Москве.
Царь свято чтил Феодоровскую икону Божьей Матери, украсил ее драгоценным окладом, даровал костромскому собору великие льготы.
Канун Рождества
Хотя старая Москва и не знала кровожадных уличных дуэлей, какие затевали в Европе знатные господа, но жизнь от этого не становилась более чинной. Охранение порядка среди крикливой толпы, заполнявшей московские торговые площади, было нелегким делом, и рядовые старосты и объезжие головы, пытаясь унять особо горластых и задиристых, получали в ответ лишь еще пущую брань и угрозу побоища. Благочиние нельзя было водворить даже среди безместных попов, собиравшихся в ожидании найма для богослужения у храма Василия Блаженного и на Крестце – на Спасском (Фроловском) мосту. Озорную московскую толпу не мог унять даже стрелецкий караул Кремля.
Боярин князь Федор Иванович Мстиславский только что прикорнул, укрывшись шубой в теплых дворцовых сенях на широкой лавке, как его тронул за плечо постельничий Сулешев.
– Эй, князь! – тихонько окликнул он его. – Вставай-ка, государь тебя кличет!
Мстиславский, охая, поднялся с лавки, накинул свою золототканую шубу и пошел, оправляясь на ходу, в глубь хором. Палату за палатой проходил он, неслышно ступая по мягким кизылбашским коврам и думая, зачем бы это мог позвать его царь.
Но вот и царская опочивальня. При свете гаснущей лампады видна обитая сукном низенькая дверка с округлым верхом. Белыми полосками протянулись поперек нее луженые прорезные петли. Князь приостановился, расправил длинную седую бороду и чуть взялся за скобку, как из глубины покоя его спросил тихий голос:
– Ты ли это, князь Федор Иванович?
– Приказал звать меня, великий государь? – отворяя дверь, сказал Мстиславский и, низко склонившись, чуть не касаясь пола длинными рукавами шубы, остановился на пороге.
Царь Михаил Федорович лежал, облокотясь на приголовок, на укрытой мехом скамье, в углу между печью и продольной стеной. Чуть приметным движением руки подозвал к себе боярина и тихо молвил:
– Печаловался нам владыка-патриарх, много-де скоморохов, песельников, гусельников, домрачеев и глумцов всяких пришло в Москву на праздник. Станется, они и о великих днях будут блазнить людей своими бесовскими позорами. А люди – что!.. Недаром святой Ефрем Сирин поучает: «Господь через пророки и апостолы зовет нас, а враг рода человеческого зовет гусльми и песньми неприязненными и свирельными. Бог вещает: «Приидите ко Мне вси» – и никто не двинется. А дьявол заречет: «Собор» – и охотных людей великое множество. Заповедай пост и бдение – все ужаснутся и убегут. А скажи: пирове ли, вечеря ли, песни приязны – то все готовы будут и потекут, аки крылаты…..»
По мере того как говорил государь, тихий взор его разгорался, голос становился громче, тонкая белая рука взволнованно дергала соболью оторочку атласного покрывала.
– И по тому челобитью святейшего отца и богомольца нашего патриарха, – продолжал государь, – указываем мы тебе, князь Федор: взять сколько надо стрельцов и идти на заезжий двор в Зарядье. Там, сказывают, собираются те потешники еженощно. И, сыскав их, велеть идти с Москвы куда похотят. А будет кто из них ослушен, тех бросить в яму и держать накрепко за сторожей до указу. Ступай! – отпустил боярина государь.
Тот еще ниже склонился, касаясь пола правой рукой, и повернулся, чтобы выйти, но его остановил голос царя:
– А в выход тайный идти со мною намест тебя Матвею Годунову.
– Твоя воля и милость, а я вечный холоп твой, великий государь, – ударив челом, сказал князь в ответ на последнее царское повеление и вышел из покоя.
Снова шел он по знакомым переходам и покоям дворца, направляясь в сени.
Спустившись в подсенье, он передал очередным жильцам о царском наказе Годунову, велел позвать пятерых стрельцов, а сам пока что опять пошел в сени и прилег на лавку. Но не спалось князю: обида и жалость наполняли его душу. Вспомнилось ему, как ото всех терпели скоморохи. Часто били их батожьем по приказу, кого хочешь, от воеводы до подьячего. А бывало и то: зазовет их к себе целую ватагу какой ни на есть боярин, заставит потешать себя, играть песни. А будут они уходить, не только ничего не даст, а отнимет и то, что они собрали, ходя по миру, да еще и поколотит. И вот этих-то людей, и без того обиженных и убогих, князю Мстиславскому надо ловить со стрельцами и гнать из города, словно разбойников или татей.
Боярин.
Художник К.Е. Маковский
Утомленный этими думами, боярин наконец задремал, а потом и заснул крепко. Его разбудил густой звук колокола, шаги и суетня, поднявшаяся во дворце. Палаты были теперь освещены, в подсенье и сенях собирались бояре, окольничьи, стольники. Все в золотых шубах – государь скоро должен был идти в церковь…
В тревоге, что опоздал с исполнением царской воли, князь, еле оправившись, всполоснул лицо и руки ледяной водой из кувшина и вышел на двор.
У ворот князя встретили дожидавшиеся стрельцы. Он передал им царскую волю, и скоро вереница людей в долгополых кафтанах и белых шапках, лязгая перекинутыми за плечи бердышами, двинулась через Кремль. Князь за воротами государева двора сел в крытые медвежьей шкурой сани и поехал сзади.
Вот миновали боярские дворы, прогремели тяжелыми затворами Фроловские ворота. Переехали кремлевский мост с поповским Крестцом, и открылась широкая площадь.
Здесь народ двигался и толпился кучками, словно была не ночь, а день базарный. Больше всего тут было нищих и убогих, спешивших на церковные паперти и на путь государева милостивого хода.
Близ моста на площади, у малой деревянной часовенки, собирался народ. В открытые двери виднелись сотни тонких жертвенных свечей, горевших перед иконами. Синий дым кадильный волнами вырывался на волю и плавал в морозном воздухе. Часовня уже давно была полна и не вмещала богомольцев, а люди все подходили и подходили.
Проезжая следом за стрельцами, князь Федор Иванович Мстиславский все это видел, и все смутнее и смутнее становилось у него на душе.
Стрельцы впереди князя шли тихо и так добрались до Зарядья. Прохожий, спешивший к заутрене, указал им двор заезжий. Подошли и ударили в ворота. Долго никто не отзывался, только где-то в глуби псы заливались лаем. Под конец, когда уже от грохота всполошилась вся улица, засов отодвинула какая-то старуха. Осветив фонарем ратных людей и боярина в большом наряде, она с перепугу заголосила. Стрельцы оттолкнули ее с дороги и, взяв фонарь, пошли в большую избу-поземку. Там было чадно от лучины, по лавкам валялась какая-то рухлядишка-одежонка, на стене, зацепленные тесьмой за гвозди, висели гусли, домры. На столе и подоконниках лежали дудки да сопели. Тут же были две-три хари (маски).
– А где же твои стояльцы? – указывая на эту скоморошью снасть, спросил боярин старуху.
– Не ведаю ничего, кормилец, – отвечала та, запинаясь со страху на каждом слове.
– Как не ведаешь? – сдвигая седые брови, загремел князь Федор Иванович. – Сама про скоморохов держишь пристань, а не ведаешь, куда подевались?! Гей, люди!
Кулачный бой.
Художник М.И. Песков
Хозяйка повалилась на колени.
– Постой, батюшка, не гневайся, милостивец-государь боярин! Все скажу тебе по правде.
– Ну!
– Приходил, вишь, вечор к нам с Крестца поп Прокофий, и рядились с ним захожие люди, мои стояльцы, чтобы ему на ночь служить про них утреню в часовне у ворот Фроловских… Вот туда, станется, и ушли все, кормилец.
– А много ли их у тебя пристало?
– Да, правду молвить, не считала. Много, пожалуй, человек до ста. Во обеих избах ночевали.
– Ну, добро! – молвил, выслушав старуху, боярин и велел своим людям идти назад, на площадь к часовне.
А сам думал: «Вот оно как! Утреню попу заказали. Станется, их я и видел у часовни».
Пропустив вперед стрельцов, князь замешкался в избе. Старуха, хозяйка скоморошьего притона, остолбенела, когда он вынул из глубокой зепи (кармана) своей золотной шубы горсть серебра и высыпал ей в руки.
Опять пошли рядами по темным улицам стрельцы и в тишине звякали бердышами. Еще издали ярко засветилась во мраке на конце
площади приворотная часовня. Темная толпа по-прежнему стояла перед нею. Видно было, как склонялись головы в молитве, и еле слышно доносилось стройное пение…
Подъехав, князь спустился из саней. К нему подошел стрелецкий пятидесятник и спросил, указывая на толпу богомольцев:
– Всех, что ли, брать будем али по разбору?
А в сермяжной толпе чистые голоса в это время истово и стройно пели рождественскую радостную песнь: «Христос раждается, славите. Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситеся…..»
И вознеслась мысль князя от земного ввысь, к небу. Туда, где сияли бесчисленные звезды. Страх царского гнева и опалы отодвинулся куда-то и не томил больше душу.
– Не можно людей брать с молитвы, – твердо сказал он стрельцу. – Ступайте!
Пятидесятник отступил и скоро увел своих людей, а князь, сняв шапку, замешался в толпе богомольцев. Все кругом оглядывали его наряд и дивились.
Склонился боярин перед празднично сияющей часовней, где в латаной крашенинной ризе служил крестцовый поп Прокофий; и молился жарко, со слезами, стоя рядом с нищими и потешниками-скоморохами.
Благовещенский собор
Не смолкая, из этой темной толпы неслись к высокому небу торжественные и радостные песнопения. И казалось, там, в бездонной вышине, внимали им ясные звезды и, словно ангелы, смотрели на людей кроткими очами…
Так простоял князь всю утреню на морозе перед часовней. Когда в конце службы раздалась песнь великого славословия: «Слава в вышних Богу, и на земли мир», – он опустился коленями прямо на утоптанный снег.
Возвращаясь во дворец, Мстиславский у соборов настиг милостивый ход государя. Бесстрашно подошел он к царю и упал на колени.
– Положи гнев свой на ослушного холопа, великий государь, – сказал он, касаясь челом земли.
Темное облако на мгновение затуманило взор царя, а шедший рядом Матвей Годунов стал радостен и светел.
– Скажи, в какой вине винишься ты, князь Федор? – кротко спросил Михаил Федорович, приподнимая за плечо Мстиславского с земли.
– Твоей воле, великий государь, ослушен. Как ты указал, не взял скоморохов. А застал я их, государь, на молитве заутренней у часовни и с ними славил рождавшегося Бога.
Облако сбежало с очей царя, и взор его снова засиял радостью и светом.
– Воистину в том нет твоей вины, – сказал он князю. – Благо и тем потешникам, что горазды не в одних забавах, а умеют славить истинного Бога. Ужо я умолю за них владыку-патриарха…
Могучий звук колокола с Ивановской колокольни прервал слова государя. Начался благовест к обедне. Михаил Федорович, опершись на руку Мстиславского, пошел во дворец. Матвей Годунов следовал сзади, и лик боярина был темен.
Царские палаты
Несмотря на ранний час, улицы Москвы уже пробудились. Открывались лавки, раскладывались товары на ларях. Громоздкие экипажи бояр и других знатных людей направлялись на поклон государю. Доехав до дворцовой ограды, несмотря на возраст и высокое положение, все пешком идут через двор – уважение к царскому дому не дозволяло подъезжать к крыльцу.
Во дворце давно все поднялись. Государь Алексей Михайлович встал с рассветом. Ближние люди, ночевавшие в его опочивальне, – постельничий и спальники – помогли государю одеться («убрали его»), и он прошел в Крестовую палату на молитву.
Здесь встретил царя духовник. После молитвы, длившейся не более пятнадцати минут, государь приложился к образу святого, память которого вспоминалось в этот день, и, выслушав слово из «Поучения святых отцов», послал в терем царицы узнать о ее здоровье, как почивала, а потом и сам прошел к ней. Поздоровавшись, они вместе посетили одну из дворцовых церквей, где прослушали раннюю обедню.
Царь Алексей Михайлович.
Титулярник. XVII век
В это время знатные люди дожидались царского выхода в Передней палате. Здесь слышался сдержанный говор – обсуждались дела, сообщались новости. Иногда разговор задевал кого-нибудь за живое, и забывались обычная сдержанность, уважение к месту. Голоса повышались, и только вмешательство особо уважаемого боярина или выход государя прекращали разгоревшуюся ссору.
При входе царя все собравшиеся кланялись ему до земли («били челом»). Если среди них случался именинник, он подносил государю кулич и удостаивался поздравления.
В сопровождении всех собравшихся шествовал государь к поздней обедне в один из кремлевских соборов. В другие дни он мог поехать на богослужение в загородный монастырь или обычную приходскую церковь.
При появлении государя на крыльце начинался колокольный звон, и продолжался он до того момента, когда царь войдет в храм. Если на дворе было лето, государь выходил в шелковом опашне и золотой шапке с меховым околом (каемкой). Если зима – в шубе на дорогом меху и высокой лисьей шапке (горлатной, из меха, снятого с шеи животного). В двунадесятые праздники наряд отличался особым великолепием, блистал золотом и драгоценными камнями. От драгоценностей он был так тяжел, что государя поддерживали под руки стольники.
Выход царя в Троицын день
Окружали царя при выходе рынды – сыновья знатнейших бояр, служившие телохранителями. В длинных, из серебряной ткани, подбитых горностаем кафтанах, в белых сапогах и белых, расшитых жемчугом шапках, с блестящими топориками в руках, они придавали особую парадность высочайшим выходам. Следом шли бояре, а замыкалось шествие отрядом жильцов – то есть дворянами.
Поздняя обедня длилась два часа. Иностранцы, приезжавшие в Москву, всегда отмечали способность русских царей по нескольку часов кряду простаивать на богослужении. Но нельзя сказать, что время в церкви посвящалось исключительно молитве. Государь и здесь принимал доклады, отдавал распоряжения.
После обедни в праздничные дни во дворце устраивались торжественные приемы иностранных послов или высшего духовенства с патриархом во главе. В будни после богослужения государь в одном из дворцовых покоев обсуждал с боярами дела. Во время этих бесед бояре не смели садиться, а если кто уставал, то выходил в сени отдохнуть на лавке. Затем переходили в Думу, где заседания назывались «сиденье с бояры», потому как здесь они уже сидели на лавках поодаль от государя. Размещались всегда, строго соблюдая старшинство рода. Чем знатнее был боярин, тем ближе сидел к царю.
К полудню заседание Думы заканчивалось. Большинство, «ударив государю челом», разъезжались по домам; оставались только те, кто был приглашен к «столовому кушанью».
На пиру в старинные времена
Царский обед в будние дни отличался редкой простотой. Особенно воздержан в пище был Алексей Михайлович. Он не только соблюдал все посты, но Великим постом обедал всего три раза в неделю: в четверг, субботу и воскресенье. В остальные дни съедал вместо обеда ломоть ржаного хлеба с соленым огурцом или грибом и выпивал по стакану полпива. Рыбу ел два раза за весь пост. Несмотря на такую умеренность, к царскому столу подавалось, как обычно, до семидесяти блюд, которые почти целиком расходились на «подачи» боярам как знак особой милости.
Весенняя песня.
Художник Н. Зенкович
Подавались кушанья в таком порядке: сначала холодные, потом печеные и жареные и наконец похлебки и уха. Каждое кушанье, прежде чем попадало на царский стол, проходило через многие руки и несколько раз пробовалось. Первым должен был отведать его повар в присутствии стряпчего. Потом блюда брали ключники и несли во дворец под охраной стряпчего. Здесь их ставили в соседней с трапезной палатой комнате на поставец – небольшой покрытый скатертью стол, и каждый ключник пробовал кушанье со своего блюда. Затем их пробовал дворецкий, передавал стольникам, и они несли кушанья к государеву столу. Их принимал кравчий, тоже пробовал с каждого блюда и лишь потом ставил на царский стол. То же проделывалось и с винами. Прежде чем они доходили до царского чашника, их несколько раз отливали и вкушали. Все эти предосторожности объяснялись боязнью злоумышления на царское здоровье.
Обедом заканчивалась официальная часть царского дня. После него ложились отдохнуть и почивали до вечерни. К этому времени дворец опять наполнялся боярами. Они вместе с государем шли в церковь. Время после вечернего богослужения царь обычно проводил в семье в развлечениях, свойственных тому времени. Среди них не последнее место занимало чтение. Читались книги религиозного содержания или отечественные летописи и сказания. Со времен Алексея Михайловича при дворе появились заграничные журналы «Куранты», которые нарочно для государя переводились на русский язык.
Жили при дворце и старцы, прозывавшиеся верховными богомольцами. В долгие зимние вечера они рассказывали царской семье о событиях далекого прошлого, об оставшихся в их памяти военных походах, о богомольных странствиях и предсказаниях святых людей. Развлекали царскую семью и слепцы-домрачеи, распевавшие сказки и былины под звуки домры.
Была во дворце и особая Потешная палата, где разного рода потешники забавляли собравшихся песнями, плясками, хождением по канату и другими акробатическими действами. Немало развлекали и многочисленные шуты и шутихи, карлы и карлицы своими шутками и побасенками. Лишь охота тешила царя больше, но тогда менялся и весь распорядок дня.
День заканчивался краткой молитвой государя в Крестовой палате, откуда он в сопровождении ближних людей шел в опочивальню.
В селе Коломенском
Дума ведет начало от стародавнего обычая русских князей совещаться о важных делах со своими главными дружинниками, или, как их звали, думцами. Когда-то проводить такие совещания были обычаем, строго исполнявшимся князем. Но с усилением московских государей эти совещания, не представлявшие определенного законного учреждения, утратили свою обязательность. Боярская дума приобретала большое значение только в отсутствие государя в Москве или при его малолетстве. И все же звание думного боярина было очень почетно; получить его могли лишь самые сановитые бояре, да и то по достижении преклонных лет. При назначении в члены Боярской думы царю всегда приходилось считаться с родовым старшинством бояр и жаловать многих в Думу «не по разуму их, а по великой породе», как выразился знаменитый московский подьячий XVII века Григорий Котошихин.
К прекрасному царскому дворцу в селе Коломенском, этой «игрушке, которая только что вынута из ящика», подкатил возок царя Алексея Михайловича. Подбежавшие стольники открыли дверцы возка и
помогли царю выйти. На высоком крыльце стояли уже некоторые из бояр. Царь предполагал устроить в Коломенском заседание Думы по поводу важных вестей из Литвы. На одной из нижних ступенек царь заметил своего любимца, товарища детства, наблюдателя за его соколиной охотой Афанасия Матюшкина.
– Здравствуй, Афанасий Иванович! Давно ли из Москвы? – ласково заговорил царь со своим сокольничим.
– Сейчас только приехал, государь-батюшка. Был по указу твоему на Посольском дворе, шесть кречетов показал цезарским послам. Просили они личину снять с одного кречета, а ты мне указал помехи им не чинить, и по твоему указу все сделано.
– А в добром ли порядке привел их назад? Сам знаешь, птица ценная. А коли вашим небрежением кто из них умрет, вы и на глаза мне лучше не попадайтесь!
Царь, поддерживаемый стольниками, взошел на крыльцо. Алексей Михайлович был среднего роста, с белым, подернутым румянцем лицом. Его умные глаза светились добротою. Царь был заметно тучен, опирался на посох. Наслаждаясь, он глядел вдаль, туда, где до самого горизонта тянулись заливные луга. Здесь в половодье появлялось множество птиц. Глядя на необъятную ширь лугов, царь переживал наслаждение завзятого соколиного охотника. На лугах тешился он летней царской потехой, пускал своих соколов.
Коломенский дворец.
Художник А. Адамов
Не отрывая взора от любимого вида, Алексей Михайлович сказал Матюшкину:
– А соколов-то, что привезли из Севска и из Ростова, я, Афанасий, уже видел. Добрые птицы. Прикажи их взять Петру Хомякову. Да вели звать севских Другом и Юдругом, а ростовских Сирином и Смиреною.
Царь повернулся, и еще лучший вид предстал перед глазами. Внизу текла Москва-река, а за ней виднелись белые стены монастырей.
– Ух! Хорошо! – глубоко вздохнул он, ясно улыбаясь. – Люди как есть облака! То явятся нам воздухом благопотребным, благонадежным и уповательным, то грозят зноем, яростью, злохитростью и ненастьем и пророчат погибель, отчаяние. Здесь люди что воздух – зефир реченный, сладкоточивый!..
Сокольничий.
Художник А.Д. Литовченко
Но вот взгляд его упал на кучку стрельцов. Как назло, чтобы показать, что не все так ладно, как кажется благодушному царю, старший из стрельцов стал рассказывать, как поехали они по царскому указу и велению архимандрита в обитель преподобного Саввы под Звенигород. Встали было на Конюшенном дворе, да пришел зело пьяный монастырский казначей Никита.
– По какому указу здесь стоите? – спрашивает, шатаясь.
Стрелецкий десятник сказал, что по велению архимандрита. Как ударит тогда его Никита посохом по голове. А зипуны, седла и оружие стрелецкое приказал пометать со двора.
Стрелец кончил. Царь вмиг изменился. Пропало все добродушие, лицо стало красным, даже багровым, кулаки непроизвольно сжимались.
– Враг проклятый! Единомышленник сатаны! – глухо выкрикнул он. И, повернувшись к стоящим сзади, быстро бросил стольнику Мусину Пушкину: – Алексей Богданович, жди указа!
Спешно отстраняя стольников, царь вошел во дворец.
* * *
Царь у себя в кабинете. Он уже отошел от гнева, опять ровный цвет лица, добродушная улыбка. Но не веселая, а грустная. Перед ним стоит Мусин-Пушкин.
– Приедешь в монастырь, соберешь братию и прочтешь вразумительно мое письмо. «От царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича врагу Божью, и богоненавистнику, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дома, злому, пронырливому злодею казначею Миките…..» Все прочти. О пьянстве его безумном, – продолжал царь, водя пальцем по своему письму, – о мыслях его вражьих. Поезжай, не мешкая, в монастырь, исполни все по указу.
Мусин-Пушкин ушел. Царь сидел задумавшись. Этот случай с непокорным в пьянстве казначеем оставил свой след в настроении Алексея Михайловича. Вспылив гневом и по обыкновению вскоре отойдя от него, он чувствовал себя утомленным. Сильно болела голова.
Царь позвал лекаря. Тот пришел, посмотрел, сосчитал пульс и решил пустить больному кровь… Действительно, царю помогло. Радостный вышел он в соседнюю комнату, где, ожидая царских приказов, сидело на лавках до десятка стольников. Все встали.
Знахарь
– Гневно стало мне, как узнал о Никите-пьянице, в голову ударило. Но пришел немчин-дохтур, отворил кровь, и хорошо стало, легко. Хочу, чтобы и другим легко было, – с добродушно-хитрой улыбкой продолжал царь. Весело играя глазами, он обратился к врачу: – Пускай, дохтур, и им кровь!
Врач едва заметно улыбнулся, поклонился царю и, подойдя к ближайшему от себя стольнику, взял его за руку. Тот сделал было попытку отстраниться, но тотчас же покорился. За ним пошли другие. Одни подходили со страхом, другие с омерзением. Но отказаться не смели. Царь все время улыбался. В это время в комнату вошел с докладом старик-боярин Родион Стрешнев. Но Алексей Михайлович не дал ему сказать ни слова, жалкие лица стольников настроили его на шутливый лад.
– А мы тут, Родион Матвеевич – весело заговорил он, – кровь себе отворяем. Пускай и ему, дохтур!
Доктор, только что справившийся с последним стольником и уже собиравшийся спрятать свой ланцет, равнодушно направился в сторону Стрешнева. Тот отскочил от него, как от дьявола.
– Нет, нет! Бог свят! – закричал боярин.
– Что?! – грозно прикрикнул царь.
– По старости, великий царь. – начал было Стрешнев.
– Или моя кровь хуже твоей холопской?! Или ты лучше других?!
И царь несколько раз ударил боярина по спине. Тот кланялся и медленно пятился, довольный тем, что бесовское действо не коснулось его.
А царь уже отошел. Он стал говорить о предстоящем обеде, приказывал, кому быть за столом.
Прошло еще полчаса, и за успокоением наступило раскаяние.
– Послать надо за стариком-то Родионом Матвеевичем, – приказал Алексей Михайлович подошедшему Матюшкину. – Да вели подобрать ему подарки, чтобы не гневался на меня за жестокость.
– Тишайший, – шептали между собой стольники.
* * *
Утро. Только что стало вставать солнышко. С реки еще тянет прохладой, кругом поют петухи. Царь уже сидит у себя в кабинете за столом. Около него несколько очиненных гусиных перьев. Вот он взял одно из них, пододвинул к себе начатый лист бумаги и стал продолжать письмо казанскому воеводе князю Никите Одоевскому. Был старик в Казани, а на Москве в его семье случилось горе – умер сын Михаил. Вот царь и начал писать письмо еще в Москве, но там его прервали, да в суете, в хлопотах шумной жизни и не писалось. Зато сейчас в благодатной тишине раннего утра слова утешения как бы сами лились из сердца государя.
«И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скорбеть. А нельзя, чтобы не поскорбеть и не прослезиться. И прослезиться надобно, но в меру, чтобы Бога наипаче не прогневить, и уподобиться бы тебе Иову праведному… Князя Федора я пожаловал, от печали утешил, а на вынос и на всепогребальное я послал сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал, что, опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня, никого у вас нет. И я рад их и вас жаловать. Только ты, князь Никита, помни Божью милость, а наше жалованье. На то нас Бог и поставил, чтобы беспомощным помогать. И тебе бы учинить против сей нашей милостивой грамоты одноконечно послушать с радостью, то и наша милость к вам безотступно будет…»
Алексей Михайлович кончил писать, бросил перо, прошелся два раза по комнате, подошел к окну. На дворе, прямо против царских окон, у небольшого каменного столба, наверху которого находился небольшой ящик, стояли два бедно одетых крестьянина с испуганными лицами. Один из них держал в руках небольшой бумажный свиток. Увидев появившегося в окне царя, они упали на колени и поклонились ему до земли. Царь махнул рукой. Крестьяне встали, и тот, что держал свиток в руке, положил челобитную в ящик.
Царь вернулся к столу. Он посмотрел на письмо, задумался, затем быстро сел и на обороте листа написал: «Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен».
У боярского крыльца.
Художник В.В. Поляков
Сзади послышался осторожный шорох. Царь обернулся. В дверях стоял дежурный стольник.
– Великий государь. Бояре собрались на Думу.
– Иду, – сказал царь. И, проходя мимо стольника, добавил: – Не забудь челобитную принять, там, в ящике.
Стольник поклонился.
* * *
Когда Алексей Михайлович вошел в палату, бояре, окольничие и думные дворяне уже стояли по местам, каждый по чести своей, как государь указал, готовые по его знаку рассесться по широким скамьям.
Царь занял свой трон. Заседание началось. Докладывал думный дьяк. Он поведал печальную весть, что двадцатитысячное русское войско было разгромлено поляками, воеводы Хованский и Нащокин с тысячью воинами еле успели скрыться в Полоцке.
Царь спрашивает Думу: как поправить случившуюся беду? Бояре молчат. Встает царский тесть боярин Милославский, самоуверенно разглаживает бороду и начинает говорить:
– Великий государь! Не все еще пропало, то оплошка воевод Хованского да Нащокина. Пожалуй, государь, меня главным ратным воеводою, и я не то что взятое удержу, но и самого круля польского возьму в полон.
Царь Михаил Федорович с боярами в его государевой комнате.
Художник А.Я. Рябушкин
Царь вскочил с трона, бросился к Милославскому.
– Страдник! Худой человечишко! – весь красный от гнева, кричал Алексей Михайлович. – Как смеешь ты хвастаться своим умением в ратном деле! Когда ты ходил с полками?! Какие над врагом одоления чинил?! Или смеешься ты надо мною?!
И, схватив Милославского за бороду, царь пинками в спину погнал своего тестя вон из комнаты. Наградив его у порога последним пинком, он выставил его за дверь и гневно захлопнул ее. Повернувшись к боярам, царь вытер потное от гнева и резких движений лицо, сделал два шага, как вдруг его взор упал на Родиона Стрешнева. Алексей Михайлович вспомнил о нанесенной старику обиде, кивнул ему, спросил о здоровье и попросил забыть старое. Старик был растроган и прошептал, садясь, соседу:
– Незлобивый.
– А то нет! – тихо отвечал сосед. – Не мы одни, чужие люди немцы, и те диву дивятся, на него глядючи. Вчера еще главный цезарский посол говорил, «Что за царь у вас! Власти у него над народом, как нигде в других землях. А как он ее вершит! Ни вотчин не взял ни у кого, ни живота не лишил, ни смертью не казнил никого из своих холопов».
– Тишайший, – шепчет Стрешнев, с умилением глядя на государя.
Просвещенный боярин
«Как хороши были старые московские особняки внутри большого тенистого сада с их флигелями и сараями в глубине двора! – ностальгически восклицал в ХХ веке москвич Николай Львов. Сколько прелести в старой мебели из красного дерева, обшитой бархатным штофом, и в глубоких креслах, покрытых зеленой кожей, и в этих старых портретах в золоченых рамах, которые казались детям такими страшными, точно ночью дедушка может выйти из рамы и в своем синем халате прийти наверх, в детскую комнату! Как хорошо было в няниной комнате! Как пела у нее желтая канарейка в клетке, и ее веселый треск разливался по всему коридору!.. Эти старые усадьбы с белыми колоннами и тенистыми липовыми аллеями – Ивановки, Михайловки, Петровки – и московские особняки в переулках возле Арбата, с Собачьей площадкой и с Поварской, отложившие на русской жизни свой глубокий отпечаток идеализма, давшие поколения людей с возвышенными мыслями, бескорыстных в своих побуждениях и искренних в своих чувствах!….»
Неподалеку от Тверской улицы, за высокой оградой, резко выделяясь среди других строений своей величиной, поднимался изящный дом князя Василия Васильевича Голицына. Обладатель этой большой усадьбы был самым влиятельным вельможей в государстве.
В сентябре 1669 года к каменным воротам голицынской усадьбы подкатила карета. Приехавших гостей встретил дворецкий князя и повел их наверх в большую Столовую палату.
Гости – польский посол француз де ла Невилль и молодой вельможа Андрей Артамонович Матвеев – с удовольствием огляделись вокруг.
– Что за прекрасный дом! – воскликнул де ла Невилль, обращаясь к Матвееву. – Верьте моей опытности, это один из лучших домов в Европе. Как чудесно блестит на солнце покрытая медными листами крыша! А здесь внутри – дорогие ковры, живопись. Я восхищен.
Князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714)
И действительно, огромная комната была восхитительна. На потолке изображено нечто похожее на небо с солнцем, планетами и звездами, а вокруг в позолоченных ободках, искусно вырезанных из дерева, целый ряд изображений пророков. Сверху спускается оригинальная люстра с шестью подсвечниками, которую как бы поддерживает золоченая голова лося. Стены отделаны под мрамор, окна частью расписаны, на стенах зеркала в золоченых резных и черепаховых рамах. Кое-где в простенках индийские и персидские ковры с золотыми и серебряными узорами на красном шелковом фоне. Посреди комнаты столы со скамьями вокруг, обитые красным гамбургским сукном, и огромный резной шкаф для серебряной посуды.
Не успели гости хорошенько осмотреться, как вошел хозяин – вельможа среднего роста в богатом темно-синем кафтане польского покроя.
– Здравствуйте, дорогие гости, – начал он и тотчас, переходя на латинский язык, обратился к де ла Невиллю: – Как здоровье его величества?
Не ожидая услышать в далекой варварской Московии чистую латинскую речь, де ла Невилль с некоторым замешательством ответил. Голицын тотчас забросал его вопросами, из которых было видно, что он прекрасно осведомлен в европейских событиях. Откуда-то поблизости раздались звуки струнных инструментов.
Это княжеские дворовые играли на фиолях, услаждая слух иностранца польскими напевами. Хозяин пригласил гостей пойти далее и что-то сказал подошедшему дворецкому.
Миновав несколько палат и переходов, они вошли в небольшую по сравнению с первой, но еще лучше украшенную комнату. Стены частью были завешаны кожами немецкой работы. Кругом портреты царей в дорогих рамах, ниже шпалеры – изображения из охотничьей жизни, как видно, вывезенные из заграницы. В углу стоят клавикорды, далее на особой подставке орган. В простенках меж окон развешаны географические карты. Множество небольших тумбочек, столиков, шифоньерка. На них – поставцы, шкатулки, янтарный ящичек. Около двери висит термометр в тонкой резной раме.
Палаты Троекуровых и Голицыных.
Художник Д.П. Сухов
Хозяин предложил сесть в кресла, обитые дорогой шелковой материей с золотой бахромой по бокам. Но де ла Невилль быстро подошел к большому ореховому, с зеркальными дверцами, шкафу и прочел названия нескольких книг. Среди них были русские летописи, сочинения серба Юрия Крижанича, латинская и польская грамматики, немецкая география, несколько переводных изданий.
«Недаром, – мелькнуло в памяти де ла Невилля, – сюда сходятся иностранцы и для приятной беседы, и за делом. Недаром Голицын отказался от предрассудков своей страны и принимает всех, даже иезуитов».
В это время подали вино. Князь произнес тост за здоровье польского короля. Де ла Невилль собрался отвечать, взял свою чарку и невольно залюбовался ее изяществом: это была почти плоская чарка с двумя ручками, а в ней, как живая, сидела маленькая серебряная лягушка.
– Пью за процветание России и ее главного руководителя, – сказал он, обращаясь к Голицыну.
– Я верю в это процветание, – задумчиво глядя перед собой, ответил князь. – Мы устроим школы здесь, в Москве, выпишем учителей из Греции, предложим боярам отдавать своих детей и сюда, и в латинские школы Польши. Постепенно Россия сравняется с другими европейскими державами. Нужно освободить крестьян, владение рабами только портит человека.
Де ла Невилль, слушая смелые проекты Голицына, увлекся ими, и фигура князя становилась все значительнее. Позднее, взявшись за перо, чтобы описать свое посольство в Москву, де ла Невилль признавался, что многие в России уже не чуждаются Европы, желают ее влияния, и среди них первое место занимает «великий Голицын».
Добровольные мученицы
Боярыню Феодосию Морозову царь Алексей Михайлович назвал «второй Екатериной-мученицей». Хотя по его же приказу боярыню заключили под стражу, но невозможно было не преклоняться перед ее силой воли и стойкостью. На простых дровнях везли по московским улицам боярыню Морозову в застенок. Высоко подняв руку со сложенным двуперстным знамением, призывала она всех крепко стоять за старую веру. Со слезами провожали москвичи страдалицу, и позорное шествие вместо того чтобы отпугнуть народ, наоборот, только укрепило его дух.
Быстро спустились на землю зимние сумерки. Движение на улицах сразу замерло, лишь изредка виднелись запоздалые прохожие и далеко разносились скрип их шагов на морозном воздухе. Сторожевые решетки уже расставлены, и отряды стрельцов пошли по Москве обычным дозором.
Москва.
Художник В.П. Овсяников
В доме вдовы боярина Морозова еще не спят. У боярыни гостья, сестра ее, княгиня Урусова. Обе женщины сидят в спальной хозяйки и оживленно беседуют. Неспокойно на душе у Федосьи Прокопьевны Морозовой, со дня на день ждет она, что потребуют ее наконец к ответу за упорство в старой вере. Знает она, что сильно разгневан на нее государь за это упорство, а еще больше за то, что отказалась присутствовать на свадьбе его, сославшись на болезнь, в которую никто не верит. А как могла она быть на этой свадьбе? В качестве ближней боярыни ей пришлось бы занять одно из первых мест в церемонии и произносить царский титул, где государь, изменивший старой вере, называется благоверным. Пришлось бы целовать его руку, принимать благословение от архиереев, зараженных никонианской ересью. Нет, лучше уж вынести всю тяжесть царского гнева, лучше пострадать и умереть, чем иметь общение с еретиками. Знатные родственники не раз уговаривали ее пойти на уступки хотя бы ради благополучия своего единственного сына-под-ростка. Но боярыня была непреклонна.
– Люблю Христа больше сына, – говорила она.
Княгиня Урусова, всецело находившаяся под влиянием сестры, также держалась древних обычаев, но до поры до времени не проявляла этого. Сегодня утром муж ее, вернувшись из дворца, велел ей предупредить сестру о возможности скорой присылки от царя за ней. На эту тему и беседовали теперь сестры.
Сильный стук в ворота заставил их вздрогнуть. В доме началось движение, испуганная полусонная дворня высыпала в сени. Нельзя было сомневаться в причине переполоха. Как ни ожидала боярыня этого часа, все же в первый миг растерялась и бессильно опустилась на скамью. Но очень быстро мужество вернулось к ней. Сестры положили семь земных поклонов перед иконами и благословились друг у друга для поддержания бодрости. Затем хозяйка легла в постель, а княгиня скрылась в маленьком чулане рядом со спальней. В ту же минуту в комнату вошел чудовский архимандрит Иоаким, а за ним еще несколько духовных и светских лиц. Боярыня даже не пошевелилась при их входе и на требование архимандрита стоя выслушать царский приказ отвечала отказом.
Начался допрос.
– Како крестишься, како молитву творишь? – обратился Иоаким к лежащей.
Та истово перекрестилась, приподнявшись на локте, двумя перстами и произнесла Исусову молитву на старинный лад.
В эту минуту один из спутников архимандрита заглянул в чулан и различил в темноте человеческую фигуру.
– Кто здесь?
При имени княгини Урусовой он испуганно отступил назад – ее муж пользовался немалым влиянием при дворе. Но по настоянию Иоакима княгиня была также допрошена и тоже твердо заявила себя противницей никоновских нововведений. Архимандрит, приказав своим спутникам дожидаться его быстро вышел и поехал во дворец.
В его отсутствие комната стала наполняться челядью, многие женщины плакали. Скоро Иоаким вернулся и заявил, что государь приказал взять и Урусову. Вся дворня была также допрошена, и только двое из
служанок барыни имели мужество заявить себя верными древнему благочестию.
– Не умела ты жить в покорности, – обратился Иоаким к Морозовой, – а потому и постигло тебя царское повеление изгнать из дома твоего. Полно тебе жить на высоте – сниди долу! Восстав, иди отсюда!
Но боярыня по-прежнему не двигалась. Тогда ее силой усадили в кресло и понесли в людские хоромы. Княгиня следовала за нею. Там обеим женщинам надели на ноги кандалы и заперли, приставив крепкую стражу.
Через два дня их потребовали на допрос в Чудов монастырь. Морозова по-прежнему не желала сделать ни шагу, и ее должны были нести на сукне. Все увещевания и угрозы митрополита были тщетны.
На другой день сестер разлучили, ножные кандалы заменили шейными цепями, прикрепленными к стулу (тяжелому обрубку дерева). Боярыню посадили на простые дровни и так повезли на подворье Печерского монастыря.
Какой поразительный пример непрочности человеческого благополучия! Та ли это Морозова, богатую колымагу которой при выездах сопровождали десятки слуг?! Которой принадлежало множество сел и деревень с тысячами крестьян?! Дом которой был одним из богатейших в Москве?! А сколько мужества и несокрушимой силы духа в этой уже немолодой женщине! Несчастье не сломило ее, не заставило опустить голову. С бледным, осунувшимся лицом и вдохновенно горящими глазами, высоко подняв правую руку с двумя сложенными перстами, громко призывала она к стоянию за веру. По всему пути толпами собирался народ. Женщины плакали, многие бежали за дровнями, другие становились на колени, несмотря на глубокий снег, десятки обездоленных и убогих оплакивали свою благодетельницу и посылали вслед ей благословение.
Пытка боярыни Морозовой.
Художник В. Перов
Боярыня пользовалась громадной известностью и уважением в Москве. Благотворительность ее носила широкие размеры. Она лично посещала тюрьмы, раздавая милостыню заключенным, выкупала должников с правежа, делала щедрые вклады в церкви. Дом ее всегда был открыт для больных, странных и убогих людей, а приверженцы древнего благочестия, гонимые светской и духовной властью, находили здесь надежное убежище. Масса населения, глубоко преданная церковной старине и смущенная нововведениями, покорилась никонианству лишь из страха царского гнева. Но с тем большим уважением и благоговением смотрел народ на эту женщину, которая все – богатство, почет и свободу – принесла в жертву истинному благочестию.
Староверы
Потянулись месяцы томительного заключения. Много горечи доставило несчастной женщине известие о смерти ее сына, в которой она винила своих преследователей. Не раз собирал царь духовные и светские власти для совета о том, как бы смирить строптивых сестер. Родственники опальной боярыни не смели поднять голоса в ее защиту. Обе сестры были подвергнуты жестокой пытке и заключены в подземный сруб, где терпели всевозможные лишения и голод.
С памятного ноябрьского вечера, когда их взяли под стражу, прошло четыре года. Лишенные света и воздуха, питаясь незначительными подачками сердобольных сторожей, добровольные мученицы медленно угасали. Первой скончалась Урусова. Тело княгини подняли из сруба с помощью веревки. Через полтора месяца умерла и Морозова. Обе они были причислены старообрядцами к лику святых, а слава об их страданиях, воспетая раскольниками, живет и поныне.
Патриарх Никон
С небывалым торжеством состоялся в Москве в 1666 году церковный собор. Неслыханный суд чинил он. Свершилась, по замечанию одного историка, «единственная драма, какая не повторялась в истории русской церкви». Вершитель судеб обширного государства российского, «собинный друг» царя патриарх Никон был объявлен простым чернецом и под конвоем отправлен в заточение. Интересна судьба главных судей Никона – восточных патриархов, клявшихся в своем нелицеприятии страшным судом Божьим. По возвращении домой они были повешены султаном за то, что без его разрешения ездили в Россию; привезенная ими милостыня была взята турками, а их тела подверглись позорному поруганию.
Тишина и безлюдье поутру вокруг царских хором. На Постельном крыльце не толпятся, как раньше, служилые люди, не слышно споров и перебранок. Государь Алексей Михайлович, занятый польской войной, вот уже второй год не живет в столице, и всеми делами ведает «собинный друг его», великий государь и святейший патриарх Московский Никон.
У крыльца патриарших палат и людно, и шумно. Сановитые бояре с озабоченными лицами поднимаются по ступеням среди почтительно расступившейся толпы. Это начальники московских приказов идут с ежедневным докладом к государю-патриарху. Но далеко не сразу удостаиваются они предстать перед очами святейшего, долго приходится сидеть в просторных сенях перед Крестовой палатой в боязливом ожидании. Никон внушал непреодолимый страх. Он не затрудняется в выборе наказания провинившемуся, ссылки, заточения и телесные наказания его обычные средства. Не останавливается грозный патриарх и перед личной кулачной расправой, нередко отечески поучая виновных даже в алтаре.
Тихо в сенях, где ожидают приема, ведь и у стен есть уши. А как хочется вылить в словах всю горечь, накопившуюся в сердце! Какое унижение – они, потомки удельных князей и вольных слуг московских государей, должны теперь земно кланяться царскому любимцу, который по возрасту многим из них в сыновья годится. И кто он? Нижегородский мужик-мордвин, никому неизвестный выскочка, околдовавший государя хитростью и взошедший на небывалую высоту.
Вспоминают бояре, как три года назад в жаркий июльский день все они вместе с царем собрались в Успенском соборе, ожидая новоизбранного патриарха. Три раза возвращалось от него царское посольство с неизменным ответом, что Никон не желает клобука первоиерарха. Наконец государь послал знатнейших бояр с приказанием привести его хотя бы силой. Никон явился. Алексей Михайлович вместе с боярами и высшим духовенством, стоя на коленях перед мощами святого Филиппа, со слезами умоляли Никона принять патриарший сан, а тот упорно продолжал отказываться, называя себя недостойным, неразумным, чтобы пасти стадо овец Христовых. Мольбы не прекращались, и тогда он заявил, что уступит всеобщему желанию, но при одном условии: царь, бояре и освященный собор должны клятвенно обещать повиноваться ему во всем «яко отцу и пастырю». Это было неслыханное новшество и дерзость, но Никон знал себе цену, знал, что царь пойдет на все, лишь бы добиться его согласия. Никто не подозревал, к каким результатам приведет их клятва…
Резкий удар колокола прервал горькие воспоминания ожидающих. Наступил приемный час. Почтительно и робко входят бояре в Крестовую палату, вся передняя стена которой представляет сплошной иконостас с зажженными перед ним свечами и лампадами. На небольшом возвышении в переднем углу кресло, закрытое от пыли сукном. На нем сидит патриарх лишь во время торжественных приемов. Несколько поодаль – дубовый письменный стол, на нем серебряная чернильница, пучок лебяжьих перьев, серебряная патриаршая печать и другие письменные принадлежности. Вдоль стены тянутся лавки, покрытые, как и пол, темно-синим сукном.
При входе посетителей патриарх, стоявший возле стола, обернулся к иконам и произнес обычную молитву «Достойно». Приблизившись к нему, бояре отвесили земной поклон, получили благословение и снова поклонились в землю. Затем Никон сел за стол, а они, стоя с непокрытой головой, стали излагать свои дела. По окончании приема снова следовали земные поклоны. Никон не только не шел провожать бояр, как это велось при прежних патриархах, но даже не вставал с места, чем глубоко задевал боярскую гордость. Но до поры до времени они таили в душе обиду.
Суд над патриархом Никоном.
Художник А. Земцов
А в сенях и на крыльце патриарших палат толпится уже масса всякого люда. Преобладает духовенство, московское и приезжее. Но наряду с темными рясами и монашескими клобуками мелькают яркие богатые кафтаны и собольи шапки придворной знати, скромные однорядки посадских людей, подьячих и мелкого служилого люда. Один пришел просить патриаршего благословения по случаю женитьбы, другой по случаю новоселья, третий явился с именинным пирогом. Ждет благословения и седобородый стольник, отправляющийся в дальний город на воеводство. К полудню посетители расходятся, наступает обеденный час.
Никогда богослужения не совершались с такой торжественностью, великолепием, как при Никоне. При нем в Москве целых два года жил Антиохийский патриарх Макарий с многочисленной свитой, то и дело приезжали за милостыней и другие восточные иерархи, и все они участвовали в богослужениях. Иногда в соборе за литургией присутствовало до семидесяти-восьмидесяти человек духовенства.
Щедро раздавалась милостыня из патриаршей казны. Одному патриарх жаловал на постройку дома, другому – на покупку коровы, сироты-невесты получали полтину, а то и целый рубль на приданое. Ни один выход патриарха из его палат не обходился без раздачи милостыни. Нищий был таким же необходимым человеком в патриаршем быту, как стольник или чашник. Обычно за патриархом носили мешок с мелкими деньгами, и он собственноручно раздавал их. В большие праздники для нищих устраивали обеды в патриарших палатах, и нередко за одним столом с Никоном сидели чтимые москвичами юродивые и пили из одного с ним кубка.
Кончина патриарха Никона на реке Коростели в Ярославле.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Могуч Никон, но страшно одинок на своей высоте. Тяжелый труд взял он на себя, стараясь исправить русское богослужение, в котором давно уже замечалось большое разногласие с греческим. Какая буря негодования поднялась, когда он издал повеление креститься не двумя перстами, как было принято на Руси, а тремя! Сурово расправился он с противниками своей воли, отправив в заточение коломенского епископа Павла и протопопов Неронова и Аввакума. Но за ними стоит вся Москва, весь русский народ.
Он вооружился против икон латинского письма. Невзирая на глубокое уважение, которое питал народ к божественным ликам, он приказал отобрать по всем домам «франкские иконы» и выколол им глаза.
Стрельцы носили по городу обезображенные образа, возглашая, что впредь за поклонение им грозит суровое наказание. Вскоре разразилось страшное моровое поветрие и начался голод, что было истолковано как Божье наказание за иконоборчество. Толпы возбужденного народа ходили по улицам Москвы и выкрикивали угрозы патриарху. Личные враги Никона еще более разжигали ненависть, открыто объявив его антихристом. Самые нелепые слухи и легенды, распускаемые ими, жадно подхватывались суеверной и возбужденной толпой. С трудом удалось подавить мятеж.
Исправление богослужебных книг, начатое еще при патриархе Иосифе, приняло теперь другой оборот. Прежние русские справщики были удалены с печатного двора, места их заняли киевские и греческие монахи, к которым москвичи относились подозрительно, считая их православие сильно пошатнувшимся.
Сторонники древнего благочестия были убеждены, что в лице Никона в церкви воцарился антихрист и близок конец мира. Они надеялись, что с удалением ненавистного патриарха от власти будут восстановлены старые обычаи.
Хотя Никон в 1666 году и был лишен святительского сана и сослан, но их ожидания не оправдались. Тогда они окончательно отпали от официальной православной церкви и позже получили имя староверов и старообрядцев.
Комедийное действо
В 1648 году от имени молодого царя Алексея Михайловича по всему Московскому государству были разосланы грамоты, воспрещающие под страхом наказания батогами всякие увеселения не только на улицах, но и в домах. Не разрешались песни, пляски, хороводы, святочные маскарады и гадания, игра в кости и шахматы. Нельзя было качаться на святой неделе на качелях, слушать музыку, смотреть представления с медведями и собаками. Не позволялось даже играть в бабки. Вместе с этим предписано было отбирать маски, гусли, гудки, ломать и жечь их. Казалось, вся земля Русская должна была обратиться в огромный безмолвный монастырь с монашеским житием и старческим поведением. Внушения духовенства и собственная набожность заставили царя издать и позже подтвердить этот указ.
За игрой в шахматы.
Художник В.Г. Шварц
Но жизнь оказалась сильнее указов. Мирское веселье, необходимое человеку так же, как хлеб, не исчезло. Сам царь, старавшийся подавать пример строгого благочестивого жития, не мог устоять перед соблазном. Вопреки своим же указам он любил слушать песенников, игрецов на органах, виолах и флейтах, любил смотреть пляски шутов и скоморохов, не прочь был позабавиться игрою в шахматы. Успокаивая свою совесть усердной молитвой, царь мало-помалу отставал от преданий благочестивой старины, и его все больше захватывала новая жизнь, приносившая вместе с новыми заботами неизвестные прежде утехи и развлечения.
Немец-потешник.
Художник К.В. Лебедев
На окраине Москвы давно уже сложился как бы маленький уголок Западной Европы. Это была Немецкая слобода, заселенная приезжими иноземцами разных профессий. Поклонники родной старины сторонились от их, как поганых еретиков, а бояре Ордын-Нащокин, Ртищев, Матвеев и некоторые другие старались перенять от них то, что находили полезным или приятным.
Забавы и обычаи Немецкой слободы стали проникать и во дворец, особенно после того как царь, потерявши свою первую супругу из фамилии Милославских, женился на Наталии Кирилловне Нарышкиной, которая воспитывалась в доме боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Сам женатый на шотландке, Матвеев много перенял от иностранцев и так заинтересовался их жизнью, что его называли даже отцом и другом немцев. Воспитанная в том же духе молодая царица принесла во дворец новые вкусы и под ее влиянием жизнь там стала быстро меняться.
Царь, падкий на всякие диковинки и развлечения, жадно прислушивался к рассказам о том, как живут люди в Немецкой слободе и в далеких чужих краях. Особенно было задето его любопытство рассказами о том, как устраивают у иностранцев комедии, то есть театральные представления. Он и раньше знал об этом из донесений послов, попадавших за границей на театральные представления. Теперь живые рассказы людей, стоявших близко к Немецкой слободе, увлекли его, и он решил завести театр у себя.
И вот 15 мая 1672 года боярин Матвеев объявил своему приятелю-иностранцу Стадену царский указ ехать за границу нанимать мастеров, «которые б умели всякия комедии строить». Но нетерпение царя было так велико, что Матвеев не стал дожидаться нанятых актеров и решил устроить театр с помощью московских немцев. В Немецкой слободе ему указали на пастора Иоганна Готфрида Грегори, и тот согласился устроить комедию.
На шестой день по рождении царевича Петра, 4 июня 1672 года, было объявлено, что царь указал «учинить комедию, а на комедии действовать из Библии книгу Есфирь, и для того действа устроити хоромину вновь» в селе Преображенском. Но прежде чем узаконить небывалую дотоле потеху, царь посоветовался со своим духовником. Духовник, сославшись на пример византийских императоров, разрешил. И работа закипела.
Грегори со своим помощником принялся за сочинение комедии и за разучивание ее с только что набранными актерами. Всех их было шестьдесят четыре человека, частью русские, частью иноземцы. В то же время в селе Преображенском, не жалея средств, строили театральное здание, украшали сцену, готовили костюмы, парики и прочие сценические принадлежности. Через четыре с половиной месяца все было готово, и на 17 октября назначили первое представление «Артаксерксова действа», как назвали эту первую пьесу.
Царь и сопровождавшие его бояре приехали в Преображенское и увидели отгороженную забором «комедийную хоромину». Царь занял особое место впереди, обитое красным сукном, остальные сели позади его на деревянных скамьях и на полках, – приподнятых местах амфитеатра. Горели большие сальные свечи, стены, обитые войлоком, украшали привезенные из дворца ковры. Раздалась музыка, «играли на органах, на виолах и в страменты били». Заскользил по железному пруту висевший на медных кольцах занавес, и на сцене зрители увидели перспективные рамы, то есть декорации, изготовленные голландским живописцем Инглисом, проживавшим в Немецкой слободе. На них были изображены невиданные пейзажи и незнакомые города.
Но вот музыка смолкла и действие началось. Прельстившись красотой Есфири, царь Артаксеркс берет ее в жены и обещает исполнить все, что она захочет. А гордый вельможа Аман решает погубить ее дядю, добродетельного Мардохея, за то, что он не хочет преклонять пред ним колен. На пиру царица Есфирь открывает царю козни Амана, и тот велит повесить злодея. Добродетель торжествует, а порок наказан.
Село Преображенское. Никольский единоверческий монастырь
Собравшимся боярам хорошо знакомы придворные интриги. Они сердито оглядываются на Матвеева: уж не на него ли намекает автор комедии, изображая дядю царицы Мардохея? И не царицу ли Наталью Кирилловну он имеет в виду, говоря об Есфири? Но серьезные думы только мелькнули, и бояре снова жадно следят за развитием поучительной библейской истории, в которой автор сделал много вставок, чтобы посмешить зрителей. На сцене все время вертится шут, который ссорится со своей женой, дерется, сыпет прибаутками и в конце пьесы вешает Амана.
Царь и его приближенные были очарованы пьесой. Грегори и исполнители главных ролей удостоились государева внимания, их щедро наградили. Пастору Грегори велели обучать «комедийному строению» двадцать шесть подьяческих детей. В январе 1673 года в Кремле, над аптекой, была устроена Комедийная палата, куда перевезли весь театральный реквизит из Преображенского. Пьесы, которые здесь давались, были очень длинны и нескладны, но царь и его окружение смотрели их с большой охотой. Им нравились грубые выходки шутов, танцы и музыка, они приучились переживать за героев на сцене, сочувствовать добрым и осуждать злых. Театр не только развлекал, но и воспитывал.
На представлениях присутствовали только люди придворных чинов – бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки, стольники и стряпчие. Было устроено и особое, скрытое место, откуда любовались новой потехой царица и царевны, раньше развлекавшиеся лишь домашними скоморохами и шутихами.
В июне 1675 года умер Грегори, а через полгода скончался и сам державный покровитель театра. Театральное дело приостановилось и было восстановлено лишь в царствование Петра I, когда не только показывали пьесы в Кремле, но и выстроили комедийную хоромину для «простого всенародства» на Красной площади.
Домашние праздники
Посол царя Алексея Михайловича, боярский сын Иван Перфильев, побывавший в Китае в 1658 году, был первым русским, допущенным китайскими властями к богдыхану (императору) и получивший от него в подарок четыре пуда развешенного в двести бумажных пакетиков чаю, называемого бах-ча. Иван Перфильев доставил чай в Москву, но дать его попробовать царю побоялся – вдруг от зелья нехристей приключится недуг у государя? Сначала доктор Самойло Каллинс испробовал действие чая на себе и, когда Алексей Михайлович расхворался, посоветовал ему: «Обычное после обеда чаге листу ханского, но свежа, изрядное есть лекарство против надмений [газов в желудке], насморков и главоболений». Часть привезенного чая поступила в аптекарский приказ, часть на продажу в москательные лавки. Одобрительные отзывы об этом напитке докторов, рассказы о его повсеместном употреблении в Китае и, конечно, царский пример приохотили вскоре к чаепитию бояр и прочий знатный люд. Уже в 1674 году известный путешественник Кильбургер без труда находил чай в московских лавках по 30 копеек за фунт.
В дни больших церковных праздников, именин или крестин в боярских домах устраивались пиры. Кушанья готовились без затей, без перцу и имбиря и без других приправ. Ставили их на стол по одному блюду, а остальные приносили с поварни и держали в руках слуги. В котором кушанье мало уксусу, соли или перцу, то прибавляли уже на столе. Всего же блюд бывало по пятьдесят и по сто.
При этом перед началом обеда хозяин велит жене выйти к гостям и приветствовать их – ударить челом. Жена встает в переднем углу, а гости у дверей, и кланяется им малым обычаем – в пояс. Гости же ей большим поклоном – в землю. Потом сам хозяин бьет челом гостям, кланяется им в землю и просит целовать его жену. По просьбе гостей он сам прежде целует ее, а потом они по очереди кланяются ей в землю, целуют и снова кланяются в землю. Она же кланяется каждому гостю малым обычаем. После этого жена подносит гостям по чарке вина (водки). Хозяин снова кланяется каждому и просит, чтобы они изволили пить у его жены вино. По просьбе гостей он приказывает наперед выпить самой жене, потом пьет сам, а следом гости. И опять поклоны до и после питья. Затем жена уходит в свои покои, к женам гостей. Жены с мужчинами никогда не обедают вместе, разве только в день свадьбы или если никого из чужих нет, только самые близкие родственники.
В трактире за чаем
Во время обеда за каждым кушаньем пьют вино, романею, рейнское, пиво и мед. Когда же приносят круглые сладкие пироги, то перед этим к гостям выходят жены сыновей хозяина или его замужние дочери. Гости, выйдя из-за стола к дверям, кланяются им, и происходит тот же обряд, что и при появлении жены хозяина. Незамужних девиц к гостям никогда не выводят, они живут в особых дальних покоях.
Если решил боярин женить своего сына, то, разузнав, у кого есть невеста, посылает к ее отцу своих друзей переговорить: не хочет ли он выдать дочь замуж и сколько будет за девицей приданого – платьем и деньгами, вотчинами и дворовыми людьми. Отец девицы, если хочет выдать ее замуж, отвечает, что он дочь свою выдать замуж рад, только сначала должен подумать об этом с женою и родственниками и в свое время даст ответ. Если же он по какой-либо причине за предлагаемого жениха не хочет выдавать дочь, то сразу отказывает присланным людям.
Боярышня.
Художник Н. Лоренц
В случае согласия отец невесты, сделав роспись, сколько за дочерью будет приданого – денег, серебряной и иной посуды, вотчин и дворовых людей, – посылает роспись людям, которые приходили сватать его дочь, а те отдают ее жениху. Самой дочери о сватовстве ничего не говорят, и она не узнает о нем до своего замужества.
В боярском доме.
Художник М. Вершиловский
Если жениху, ознакомившемуся с приданым, невеста полюбится, он посылает тех же людей к ее отцу и матери сказать, чтобы ему показали невесту. Ее родители отвечают, что они рады показать дочь, но не самому жениху, а его отцу или матери или родственнице, которой он доверяет. К дню смотрин невесту нарядят в хорошее платье, созовут в гости родственников и посадят ее за стол. А как смотрильщица придет, посадят ее за стол рядом с невестой, и пришедшая осматривает красоту невесты, выведывает ее разум, чтобы потом пересказать все жениху. Если смотрильщица скажет, что она глупа или дурна лицом, жених от нее откажется и перестанет свататься. Если же наоборот, то жених пошлет людей сказать родителям невесты, что она ему понравилась и он желает совершить сговор и подписать контракт, что женится на ней, а они выдадут ее за него в условленный срок.
Отец невесты назначает дату для сговора. В этот день жених со своим отцом, или с родственниками, или с друзьями едет в дом невесты. Их встречают с почестями, усаживают по чину за стол и начинают договариваться о свадьбе. Потом пишут договор, и в нем непременно условие о штрафе, который должна заплатить та или другая сторона, если по ее вине свадьба не состоится.
В приказе
Главная исполнительная власть, с которой сталкивались москвичи, – приказы. Они впервые появились в 1512 году. В XVII веке существовало около сорока приказов. Среди них – Посольский, занимавшийся международной дипломатией, Преображенский, вершивший политический сыск и суд. Казенный приказ заведовал царской казной, он выдавал жалование царским чиновникам, богатые подарки боярам и духовенству, которыми их награждал царь. Из этого же приказа отпускались сукна, соболи и прочие одежды царским конюхам, сокольникам и прочим служащим. Кормовой приказ заведовал столом государя. На кормовом дворе готовились многочисленные кушанья для государя. От каждого обеда и ужина он посылал блюда боярам и думным людям. Каждый день для подачи на стол и раздачи угодившим царю людям расходовалось более трех тысяч блюд. Разрядный приказ заведовал военными делами и жалованием ратным людям. Поместный приказ раздавал по приказу царя поместья служилым людям. Челобитный приказ разбирал жалобы и прошения. Московский люд, проживавший в слободах, управлялся, смотря по сфере своей деятельности, разными приказами. Черные слободы и сотни – Земским приказом, дворцовые слободы – приказом Большой казны, стрелецкие – Стрелецким приказом. Большинство приказов размещались в Московском Кремле, в избах на Ивановской площади. Все дела Московского государства проходили через приказы, которые несколько столетий спустя были преобразованы в министерства.
На Ивановской площади Кремля, против алтаря Архангельского собора, тянется ряд зданий в виде огромной буквы «П». Все они деревянные, в два этажа, украшены резьбой. Это – московские приказы.
С раннего утра оживает площадь перед приказами, толпится народ. Двери еще закрыты, и просители разбрелись кучками по площади, но больше всего столпилось у «святого Ивана под колоколами», где раскинута палатка подьячих. Сами они уже за работой. Один пишет «подрядную запись» для пяти дюжих ямщиков, взявшихся возить бутовый камень на аптекарский двор. Бумага скоро будет готова, и подрядчики готовят мелкую деньгу – плату за работу. Другой подьячий, положив на колено лист бумаги, пишет челобитную. Часто макая гусиное перо в чернильницу, которая висит у него на шее, он строчит привычные слова, только изредка задавая тот или иной вопрос стоящему перед ним просителю, посадскому человеку. Около палатки еще один подъячий о чем-то беседует с крестьянином, в руках которого красный узелок, откуда выглядывает связка бубликов и еще что-то. Вероятно, подьячий дает добрый совет, и лицо крестьянина расплывается в довольной улыбке, он благодарно кланяется и передает за услугу «поминок» – свой узелок.
Ближе к приказам несколько человек столпилось вокруг осанистого седобородого старика, а тот подробно повествует, какой наказ давал ему стольник Колонтаев, когда посылал из своей вотчины в Москву по судным делам.
Подьячии.
Художник М.К. Клодт
Уже половина восьмого, скоро откроются двери, толпа все прибывает. С разных сторон спешат приказные подьячие, путаясь в своих длиннополых кафтанах. Некоторые из них ненадолго останавливаются поговорить со знакомыми челобитчиками, но большинство быстро расходятся по палатам. В комнатах душно, тесно, маленькие слюдяные окошки почти не дают света. Длинные узкие столы завалены бумагами, глиняными чернильницами и песочницами, лебяжьими перьями, клеем и воском для печатей.
Относительным порядком и чистотой отличается казенка, где сидит судья с товарищами. Стол здесь покрыт красным сукном, на нем медная чернильница, а вечером появляются в медных тройных шандалах восковые свечи. К стенам придвинуты дубовые и липовые коробья, где хранятся приказные дела.
В казенке никого нет – начальные люди еще не приезжали, а в других помещениях уже началась работа. Во главе каждого из столов сидит «старый подьячий» и распределяет работу между младшими, следит за ними, дает, когда потребуют, о каждом отзыв: можно ли ему поручить государево дело и «чаять ли от него проку».
Из подьячих «средней статьи» одни пишут приказные бумаги на узких листах, подклеивая их друг за другом, так что одно дело представляет собой длинную бумажную ленту. Другие «сидят у государевой казны», ведут книги расхода и прихода и в сложном счете пользуются косточками слив, которые всегда носят в мешочке у пояса.
Младшие подьячие чинят перья, наливают чернила, бегают в торговые ряды за покупками.
Но вот в дверях появляется дьяк в шубе и с палкою в руке. Перебрав бумаги, положенные для его просмотра, и скрепив некоторые из них подписью, он появляется в палате подьячих с царской бумагой в руках.
– Великий государь, – начинает он густым басом, – указал сказать во всех приказах подьячим, которые сидят у его денежной казны, чтобы им тех денег отнюдь себе не брать и в заим никому из той казны не давать, а учнут они что делать против сего государева указа, быть им в жестоком наказании без всякой пощады.
Подьячие начинают перешептываться, обсуждая новый указ, но приезд судьи и приказание пускать просителей обрывают эти разговоры.
В казенке судья с дьяком разбирают тяжбы. Жалобу, прежде всего, рассматривает дьяк и потом докладывает судье. Тяжущиеся отвечают на суде устно, «смирно и нешумно». Если судья найдет, что представленных доказательств с той и с другой стороны достаточно, то дело решается тотчас. В противном случае оно откладывается до следующего раза. Большинство просителей при выходе из казенки посылают не особенно добрые пожелания дьяку за волокиту говоря, что готов с одного вола две шкуры снять. Но на эти возгласы досады никто не обращает внимания, всем известно, что дьяк – сила большая. Судьи выбираются из государевых служилых людей, им «приказное дело не в обычай», а дьяки сидят здесь лет по тридцать и больше, знают все законы и указы государевы и любое запутанное дело могут вмиг распутать, правого обвинить, а виновного оправдать.
Дьяк.
Художник К.В. Изенберг
В два часа приказные люди расходятся по домам, чтобы пообедать и соснуть часок-другой по русскому обычаю. Но после четырех часов все снова должны быть на своих местах. Особые дозорщики записывают не явившихся и опоздавших в штрафную книгу.
Вечером в приказах гораздо тише – нет посетителей. Подьячие при тусклом свете сальных свечей спешат докончить бумаги, а то оставят на ночь дописывать да еще однорядку снимут, чтобы не ушел. Только в десять часов приказные люди расходятся отдохнуть после долгой работы.
Кончина Тишайшего
От первого брака с Марией Ильиничной Милославской царь Алексей Михайлович вырастил и воспитал дочерей Евдокию, Марфу, Софью, Екатерину, Марию и Феодосию и сыновей – Федора и Ивана. От второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной – Петра и Наталью.
Мороз трещал вовсю 19 января 1676 года. На площади перед кремлевскими царскими теремами грелись у пылавших костров промерзлые возницы боярских колымаг, пока именитые вельможи утешались в Комедийной палате театральными представлениями лицедеев странствующей немецкой труппы Иоганна Готфрида Грегори.
Сцена была устроена полукругом, украшена декорациями и отделялась занавесью от зрительной залы. Оркестр составляли орган, скрипка, флейты, литавры и барабаны. Царское место было устроено на возвышении, обитом красным сукном. За ним тянулась галерея, отделенная золотой решеткой, – для царского семейства. Далее шли места для почетных бояр, боковые же пространства предназначались для менее сановитых персон, удостоенных чести присутствовать при комедийном действии. Давали драму «Блудный сын», сочиненную Симеоном Полоцким – любимым проповедником и поэтом Алексея Михайловича.
В этот день очень недомогалось его царскому величеству, но он не хотел лишать молодую царицу, царевен и вельмож всеми любимого театрального представления. Наталья Кирилловна, радостная, сияющая красотой и драгоценными нарядами, слегка приотворила свою решетку, чтобы лучше следить за комедийным действием. За ее спиной, немного в тени, сидела старшая падчерица, царевна Евдокия. Она со вздохом заметила тетке, царевне Татьяне Михайловне:
– Смотри, родимая, точно белая ширинка[5], бледен царь-батюшка! Ни кровинки нет на его ясном личике.
– Давно сердечному неможется, – прошипели змеиные губы боярыни Хитровой.
– Не твоя забота, – оборвала ее старая царевна.
Татьяна Михайловна была старше брата, любила его безгранично и была недовольна его браком с незнатной Нарышкиной. Но, гордая, державная, она не могла допустить, чтобы старая боярыня Хитрова осуждала царицу.
– В день твоего ангела, царевна, недужилось его царской милости, – настойчиво продолжала неугомонная Анна Петровна. – Тогда уже говорили, что лучше ему поберечься.
– Скажи еще, я виновата, что братцу недужится, – с сердцем ответила царевна и, нагнувшись к уху Натальи Кирилловны, что-то спросила.
– Уж я просила, молила отложить действо, а он никак не хотел соглашаться, – ответила та, беспомощно разводя руками.
Грозно сверкнули на говорившую два черных глаза, и, несмотря на оглушительные звуки труб и барабанов, окружающие ясно услышали слова: «Надо уметь хотеть, уметь любить, оберегать». Грустно склонила царица свою хорошенькую головку, и крупные слезы покатились по блестящему запястью.
– Что озорничаешь без толку? – сурово остановила старая тетка свою любимицу царевну Софью.
– Правду говорю: совсем измучат веселые приспешники батюшку.
В эту минуту необычно зашевелились всегда степенные, тяжелые на подъем бояре. Лихачев бросился торопливо спускать занавес. Государь с трудом встал, опираясь на руку Матвеева, и, медленно двигаясь, вышел из Комедийной палаты. Царица со стоном бросилась из-за решетки вслед за супругом. За ней поднялось, заговорило, загалдело все собрание. Князь Юрий Алексеевич Долгорукий посоветовал всем, кто не имел права следовать за царственной четой во внутренние покои, тихо, без шума удалиться.
И развезли по Москве именитые царские гости лихую весть: царю-батюшке сильно недужится! Приуныла Белокаменная. Перестали пировать благодушные москвичи, не видно более боярских нарядных выездов. Заглохли улочки в приходе Никиты на Столпах – не едет по ним царская колымага, не подъезжает она более к хоромам боярина Матвеева. Темны его палаты, не ждут в них, как еще недавно бывало, царского посещения. Болеет царь, тяжело болеет. Слышно, уже с постели не встает.
Теремной дворец в Московском Кремле, южный фасад. 1635–1636 год
Приуныли и жители Немецкой слободы, призадумались гости почтенные, любимые собеседники и друзья Артамона Сергеевича. Хорошо жилось им до сих пор в пределах северной державы. Жаловал, в чести держал их Тишайший царь Алексей Михайлович. Что-то будет теперь, при его наследнике? Очень молод он, хотя государь всюду уже берет его с собою и два года тому назад «объявил» его, по русскому обычаю, в соборе. Тогда иностранцы очень подивились этому обряду. В Успенском соборе царь с возвышения, устланного коврами, «объявил народу» своего старшего сына Федора. Патриарх говорил речь, благословил и кропил святою водою царевича. В ответ юноша тоже говорил речь, кланялся сначала отцу-государю, потом патриарху и на все четыре стороны – присутствующим боярам и народу. С того времени его стали считать наследником отцовского престола, хотя все знали, что самодержавная власть позволяла государю назначить своим преемником любого из сыновей.
Младший царевич Петр, чудо-ребенок, с трех лет уже опоясался игрушечным мечом и ни днем ни ночью с ним не расставался. Даже клал его с собой в постель, когда после больших усилий его мамушке, княгине Ульяне Ивановне Голицыной, удавалось уложить спать развозившегося шалуна. Много знатных толков ходило по столице о прелестном ребенке и о прекрасных душевных качествах его матери-царицы и всей ее родни.
Другое передавали потихоньку о враждебной стороне. Народ ненавидел семью Милославских, их родичей, друзей и приспешников. Темной тучей поднимались эти носители стародавних преданий над ласковым образом царевича Федора.
Крамола росла и зрела в тиши кремлевских палат, пока преданные слуги проводили бессонные ночи около безнадежно больного самодержца. Молод был Тишайший. Мог бы еще долгие годы править своим царством, но Господь судил иначе. Последняя надежда на облегчение исчезла. Безмолвствовал убитый горем Матвеев. Горько плакал у изголовья умирающего родителя царевич Федор. Без чувств лежала у ног обожаемого супруга кроткая царица. Ее отец, все близкие молились и думали только о величии смертного часа, о таинственном преставлении души их царя и друга от земли на небо.
Смерть царя Алексея Михайловича. 29 января 1676 года
Тихо поднялся ковер, висевший над дверью. Тихо вошел патриарх Иоаким, единомыслием, сочувствием которого успела заручиться партия Милославских. Молясь и благословляя, подошел владыка к скорбному ложу. Алексей Михайлович открыл глаза, принял с видимым удовольствием благословение и попросил, чтобы духовник приготовил его к таинству святого причащения. Распахнулись двери спального покоя, подошли все, с болезненным напряжением ждавшие этих последних минут. Жадно ловили они каждое движение, каждое слово умирающего и его близких. С христианским смирением просил государь прощения у всех окружающих, сосредоточенно принял Святые Дары и, просветленный, успокоенный, опустился на подушку. Подошел патриарх и после братского целования тихо, неслышно заговорил с умирающим, наклонившись к его уху. С закрытыми глазами, молча выслушал государь эту речь, пожалуй, ему уже мало понятную, но все же дал немое согласие. По знаку владыки в палату принесли шапку Мономаха. Слабеющей рукой возложил ее царь на юную голову Федора Алексеевича, призывая на него Божие благословение.
– Будь отцом своего народа, – говорил Алексей Михайлович еще твердым голосом, – люби правду, храни веру православную, почитай царицу как родную мать свою, оберегай брата Петра, твоего крестника, замени ему меня.
Царевич обещал хранить завет любимого отца.
Подозвав к себе бояр Нарышкина, Головина и князя Прозоровского, умирающий назначил их пестунами к малолетнему царевичу Петру, приказывая и прося их беречь его, «яко зеницу ока своего». Безутешно плакала несчастная царица. Государь велел себя приподнять, наклонился к ней, благословил. Потом, подозвав князя Прозоровского, державшего на руках маленького Петра, положил руку на голову малютки и уже коснеющим языком едва внятно проговорил:
– Ему суждено быть царем.
Все умолкли, крестясь и молясь. Патриарх начал читать отходную…
Вечером 29 января 1676 года заунывный перезвон оповестил жителей Москвы об упокоении царя Великия и Малыя и Белыя Руси. Неутешно плакал юный самодержец. Не на словах только, а на деле задался он задачей выполнить завет усопшего родителя.
Вздыбленная Русь
Первый урок Петра
После похорон Тишайшего царя лучшим утешением его сына Федора было проводить свободное от государственных дел время в покоях малолетнего брата Петра. Они были убраны с особой роскошью. Полы, стены, оконные рамы обиты алым амбурским (из Гамбурга) сукном. Половички сшиты из белого сукна с узорными каймами. Кроме лавок и скамей было поставлено, как и у Федора, когда он был царевичем, кресло, обитое рудо-желтым бархатом с золотым галуном.
С царем часто приходил и его советник Симеон Полоцкий. Маленький Петр любил эти посещения, нетерпеливо ждал своего царственного брата. Ему нравилось забрасывать вопросами и царя, и умного инока. Ради них он забывал своих потешных товарищей, игрушки, обитых шерстью деревянных лошадок, цимбалы и клавикорды, даже лук и стрелы ставились в угол. Только меч оставался при бедре. Раскладывались фряжские потешные листы. На них были изображены иностранные города, великие корабли, сражения на суше и на море, небесные светила, расписные двенадцать месяцев года. Петру все хотелось знать, обо всем расспрашивал он своего любимого и любящего брата.
Однажды, выходя от царевича с отцом Симеоном, государь направился в терем вдовствующей царицы. Грустная, с заплаканными глазами сидела, пригорюнившись, одинокая Наталья Кирилловна. Низко поклонившись царю-пасынку, она приняла благословение инока.
– Все плачешь, родимая, – целуя ее руку и садясь рядом на мягкую скамью, заговорил Федор Алексеевич. – Слезами мы горю не поможем, не вернем к жизни унаследовавшего вечное блаженство незабвенного усопшего. Докажем же ему нашу любовь, станем свято выполнять данное ему обещание.
Царица насторожилась, не сразу сообразила, куда клонится речь.
– Мы были сейчас у царевича…
– А я утречком на него осерчала! Боярыня-мамушка никак не могла заманить его в церковь. Так я одна обедню-то и отстояла. И опять заплакала царица.
Потешное войско молодого царевича Петра в селе Преображенском. Художник С.В. Животовский
– Ну же, не кручинься, болезная! Он, видно, попризанялся своим потешным учением.
Махнула рукой раздосадованная мать.
– И не говори, иной раз зло берет от этих его игр! Точно впрямь жить ему с солдатами. Первый встает, первый везде, всегда впереди! Уж он их и учит, и мучит. Так изловчился, что всегда крепость сам берет. Больно уж горяч.
– Всегда я любил нашего Петрушу, матушка-царица. А за последнее время так привязался, что и днем и ночью о нем думаю. Господь возлюбил тебя, благословив таким чудным сыном…
С восторгом смотрел на своего царственного ученика скромный инок. Велик был всегда недужный царь Федор в своей любви к младшему брату – сильному, живому, здоровому.
– У нас в обычае начинать учить царевичей лет с семи, – вдумчиво продолжал свою речь царь. – И я так начинал. Петруша-то еще молод, да уж очень умен становится. Вот я и пришел посоветоваться с тобою, царица: кого бы взять ему в наставники?
– Да он уже всю азбуку запомнил, за Часослов принялся. Ну и петь больно охоч, все божественное, церковное, – с гордостью отвечала Наталья Кирилловна.
– Знаю, что ты, родимая, была его первой учительницей. Но вот сама же говоришь, что много времени он играм отдает.
– И как это у него на все хватает времени? Ума не приложу, – задумчиво произнесла Наталья Кирилловна.
– И мы с наставником моим неустанно говорим об этом. Отец Симеон тоже находит, что царевичу нужен добрый, знающий учитель, который сможет отвечать на все его любопытные вопросы, да к тому же будет крепок в Божественном Писании.
– Где же взять такого?
– Мне много говорил думный дьяк Соковнин, – вмешался в беседу Симеон Полоцкий, – об искусном в писаниях приказном Никите Моисееве Зотове. По повелению моего благочестивейшего государя я испробовал его искусство и в чтении, и в письме, и в прочих науках. Отменно хорошо превзошел он всю потребную премудрость. Осведомлен я, что и нрава человек он кроткого, и богобоязнен, и послушлив.
– Благослови, матушка-царица! – заговорил опять государь. – С твоего родительского благословения все добро пойдет впрок любимому нашему братцу.
– Да будет твоя державная воля над нами, государь, – ответила Наталья Кирилловна. – Повели святейшему патриарху прийти к нам, на Верхи да благословить начало учения сына нашего.
Село Измайлово, где Петр I провел свое детство.
Художник П.Ф. Борель
Очень доволен был молодой государь, что мачеха не противилась его желанию, и братец будет иметь хорошего наставника. Приказали Соковнину отвезти Зотова в терем царицы. Предуведомленная Наталья Кирилловна встретила его, держа за руку маленького Петра.
– Известно мне о тебе, – заговорила она, – что ты жития благого, Божественное Писание ведаешь. Вручаю тебе единородного сына моего. Прими его и научи Божественной мудрости и страху Божию, благочестивому житию и Писанию.
Зотов до этой минуты неясно понимал, чего от него требуют. Услышав повеление царицы, упал он, обливаясь слезами, к ее ногам и, трясясь от страха, стал повторять:
– Недостоин я хранить такое сокровище!
Государыня приказала встать:
– Прими от рук моих и не отрицай. О добродетели и смирении твоем мне известно.
Зотов все продолжал лежать, вздыхая и стеная о своем убожестве. Тогда Наталья Кирилловна строго приказала ему встать, пожаловала к руке и приказала прийти на другой день на первый урок.
В хоромах царевича Петра собрались патриарх с клиром, высшие придворные вельможи, персоны, ближайшие к царице, царю и царевичу. Вошел государь, ведя брата под руку, потом царица Наталья Кирилловна, за ней Симеон Полоцкий, Зотов и Соковнин. Патриарх сотворил обычное моление, окропил царственного отрока святой водой и, благословив, вручил Зотову. Тот посадил своего преславного ученика за столик, расписанный золотом и серебром, положил перед ним святое Евангелие, поклонился царевичу земным поклоном и, перекрестясь, начал первое учебное занятие с мальчиком, который со временем стал усерднейшим учителем своего народа.
Добрый царь
Народная память сберегла сведения о местах, где жили стрельцы в конце XVII века. Так, в районе Зубовской площади была слобода стрельцов, служивших под командованием полковника Зубова. Аналогично происхождение от фамилий командиров стрельцов других названий: Большой и Малый Левшинские переулки в Хамовниках, 1, 2 и 3-й Колобовские переулки у Петровских ворот, Малый Коковинский переулок у Смоленской площади.
Для московских бояр день 27 апреля 1682 года оказался скорбным. Не менее горек он оказался и для многочисленного московского духовенства. С утра недобрая весть облетела стольный град: стало худо доброму царю Федору Алексеевичу. Многие сокрушались о царском недуге, а еще более о том, что не оставляет царь прямого наследника, что не дал Господь роду его ветви цветущей.
Бесплоден был первый брак Федора Алексеевича с царицей Агафьей Семеновной Грушецкой, и бездетной преставилась царица 14 февраля 1681 года. Взял царь новую супругу, Марфу Матвеевну, из рода Апраксиных. И от сего брака плода не было.
Два царских брата – царевич Иван Алексеевич, духом слабый, да царевич Петр Алексеевич, дитя малое, несмышленое, – оставались наследниками московского престола. И кручинились бояре, и в тяжелое раздумье впали отцы духовные…
В опочивальне Федора Алексеевича в Большом Кремлевском дворце собрались многие, но тишина стояла нерушимая. Душистым ладаном веяло среди низких потолков и пестро расписанных стен. За парчовым пологом, на царском ложе лежал, тяжело дыша и стеная, Федор Алексеевич. Привлеченные страшной вестью о смертном царском недуге, тесно сплотились у его одра царедворцы и любимцы. Скорбь и страх выражались на лицах царских приближенных. Смутны и безутешны стояли поодаль постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев. Невеселые думы роились у них в голове, росла тревога за грядущее.
Особенно тревожился Языков – родственник молодой царицы Марфы Матвеевны. Многой чести и многого богатства достиг Иван Максимович при Федоре Алексеевиче, хитро оттеснив от царского трона бывших любимцев Милославских. Теперь же злая судьба над ним, честолюбцем, посмеялась: в молодых летах умирает царь, и с ним рушатся все надежды.
Вдовая царица Наталья Кирилловна Нарышкина тоже с раннего утра приехала с малолетним царевичем Петрушей из Преображенского – в ссылке села, куда ее закинула царская немилость и где она растила свое ненаглядное дитя.
Находился здесь и боярин Артамон Сергеевич Матвеев, что недавно был возвращен из Пустозерска, где опалу незаслуженную отбывал.
Царевна Софья Алексеевна Романова (1657–1704)
А у самого царского ложа, сдвинув собольи брови, в глубокой думе стояла царевна Софья Алексеевна. Загадочен, полон тайных помыслов был взор ее хмурых очей. Скорбела ли она, надеялась ли на что – того не разгадать было никому в горнице. Могучей силой дышало ее лицо. Недаром со страхом поглядывала на нее царица Наталья Кирилловна, вдоволь натерпевшаяся от своевольства гордой и непокорной падчерицы. Знала вдовствующая царица, что мужская отвага и мужской ум таятся в мощном теле царевны, что уже ведет она тайные переговоры с буйными стрельцами и грозит бедой и невзгодами юным царевичам.
Перед смертным одром брата в уме Софьи Алексеевны роились такие мысли, что доселе женскому слабому полу и не снились. «Вот, – думала царевна, – лежит и кончается царь Федор…
Кто же после него наследует царский престол? Кому по плечу и по разуму управлять обширной землей Московской? Брат Иван – отрок недужный и малоумный. Не ему же садиться в цари и землей править! Брат Петр – совсем юн и несмышлен. А чтобы за него Матвеев да Нарышкины правили – этого допустить нельзя! Почему бы на Руси новые порядки не завести? Почему бы царевне на престол не сесть? Или меня Господь разумом обделил? Или не хватит у меня друзей и пособников верных? Голицын да Хованский не глупее остальных вельмож. Дай, Господи, сбыться тайной мечте моей! Не уроню я царства, не посрамлю памяти отцовской!….»
И перед очами царевны Софьи пронеслись яркие, горящие огнем грядущие дни, волнуя и чаруя ее душу…
Вот она, в венце и порфире, сидит на царском престоле. Вся земля славит мудрость и благость правительницы Софьи Алексеевны. Далеко за рубеж проникает ее громкая, светлая слава.
Громкие рыданья нарушили жуткую тишину.
Царевна оглянулась. То плакала вдова, неутешная царица Марфа Матвеевна.
– Ох, не житье мне без него, без супруга любезного! Схороню я свою головушку в келье монастырской, буду жизнь коротать сиротиной!..
Хмурясь, слушали бояре причитания царицы. С глубокой скорбью глядел на нее Артамон Сергеевич Матвеев, возле которого робко жался хворый подросток, старший царевич Иван.
Словно пробужденный плачем и горем молодой супруги, подал голос со смертного одра умирающий царь.
– Софья! Сестра! – позвал он хрипло и жалобно. – Не оставь Марфу. И царевичей не обидь. Грех тебе будет.
Вздрогнула Софья Алексеевна, хотела ответить брату, но он уже снова смежил слабые очи и забылся. И замер на устах царевны лживый ответ. Изумленная, недобрым взором взглянула она на умирающего.
Неужели проник брат в ее грешные мысли?
Неужели стал ясновидящим в минуту смертную?
Или донесли ему?..
– Матушка! – раздался звонкий голос царевича Петруши. – Чего же сестрица нас к царю не пускает? Может, он и мне хочет словечко молвить.
– Нишкни, дитятко, – тихо проговорила мать. – Царь недужен, ему не до беседы с тобой.
Но младший царевич не угомонился и бросил сердитый взор на сестру. В том взоре крылось грядущее – бурное, кровавое.
– Владыка идет, владыка идет, – зашептали кругом, и ряды боярские разомкнулись.
Царь Петр I Алексеевич Великий (1672–1725)
Белый клобук засиял золотым крестом в глубине горницы. То шествовал к одру умирающего патриарх.
Спор о вере
Особое религиозное значения имело Лобное место, возвышающееся на Красной площади против Спасских ворот, говоря языком летописей, «краниево место». Смотря на это священное место, в памяти воскресает множество воспоминаний о религиозной и государственной жизни Московского государства. Постройку Лобного места относят к 1534 году – времени малолетства Ивана IV, когда государством управляла его мать великая княгиня Елена, урожденная Глинская, по повелению которой итальянские зодчие обводили Китай-город каменными стенами. Многие полагают, что в старину Лобное место было местом казней, что неверно. Оно всегда было местом священным, царским, всенародным амвоном. На нем совершались торжественные церемонии, отсюда русские святители посылали свои благословения, а русские цари говорили со своим народом и объявляли ему своих наследников. Недаром оно называется русской Голгофой.
В то время когда вся православная Москва праздновала венчание на царство Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, в стрелецких слободах, приверженных к расколу, царила жестокая распря. Мятежники задумали небывалое дело – всенародные прения о старой вере с православным духовенством. С этой целью они скликали со всех сторон своих единомышленников в Москву. По их призыву явились закоренелые борцы за староверие отцов волоколамских пустынь – Савватий, Дорофей и Гавриил. Между тем стрельцы Титова полка составили челобитную «о неправлении старого благочестия» и по другим стрелецким полкам собирали рукоприкладства к своей челобитной. В девяти полках и в Пушкарском приказе они нашли много единомышленников, но в десяти других полках не было ни одного.
– Нам что за дело, – говорили благоразумные стрельцы. – Мы против челобитной отвечать не умеем. Это дело патриаршее.
Но тут на помощь староверам явился знатный по происхождению приверженец раскола. Это был князь Хованский, бывший душою всего заговора. Хитрый фанатик, встревоженный разномыслием стрельцов, придумал особый маневр, чтобы устроить прения с православным духовенством. Он собрал выборных от всех полков в Ответную палату. Когда выборные явились, Хованский вышел к ним и предложил такой вопрос:
– По царскому указу спрашиваю вас: все ли вы готовы стоять за веру православную?
– Не только стоять, но и умереть готовы! – отвечали стрельцы, каждый по-своему понимая слова хитрого князя.
Троекратно повторив свой лукавый вопрос и получив трижды один и тот же ответ, Хованский повел выборных в Крестовую палату и дал знать патриарху, что все служивые люди, по царскому указу, требуют старого благочестия.
Стрельцы. 1613 год
В палату ворвались вместе с выборными главные вожаки раскола и множество посадских людей.
Дали знать о том патриарху.
Патриарх Иоаким вошел в Крестовую палату, окруженный митрополитами и архиепископами.
– Чего ради пришли вы к нашему смирению и чего от нас требуете? – кротко спросил первосвятитель.
– Пришли, государь святейший патриарх, – отвечал за толпу князь Хованский, – к твоему благословению всяких чинов люди – надворная пехота всех полков, выборные солдатского строя, все пушкари, чернослободцы, люди посадские – бить челом об исправлении старого благочестия. Как служили при великих князьях и благоверных царях чудотворцы и святейшие патриархи по старым книгам, так и ныне служить бы в соборной церкви по тем же книгам. Служить единогласно, но не мятежно по Апостолу: «Един Господь, едина вера, един Бог и Отец всех».
Но вот сквозь толпу пробирается стрелец, чтобы оказаться вблизи патриарха. Это главный сообщник князя Хованского – стрелец Воробьина полка Алексей Юдин.
– Пришли мы, – дерзко закричал он, – спросить: за что старые книги, печатанные при великих государях и святейших патриархах, вами отринуты?! Какие в них обретаются ереси?! И нам бы про то ведомо было!
– Чада мои и братья, – кротко возразил патриарх, – вы люди чина воинского, и вам это дело не можно ведать. Нашей архипастырской властью оно разрешается и вяжется – мы на себе Христов образ носим. Я – ваш пастырь, а не наемник, я дверьми вошел, а не через ограду и не сам на себя столь великую тяготу восхитил. Я избран повелением благочестивого государя, царя Алексея Михайловича, и с благословения всего освященного собора. Вам подобает повиноваться священникам, наипаче архиереям, а не судить их.
Святейший Патриарх Иоаким в Московском Кремле увещевает стрельцов прекратить бунт.
Художница О. Россиньон
Затем патриарх в кратких словах изложил историю исправления с согласия вселенских патриархов богослужебных книг и убедил староверов обратиться в недра православной церкви.
Увещания патриарха не действовали на толпу. Она не только не хотела слушать первосвятителя, но издевалась над ним, поносила окружавших его митрополитов и неотступно требовала всенародного прения о вере на Лобном месте, имея намерение произвести мятеж, низвергнуть патриарха и утвердить свои обряды. Но патриарх сказал решительно, что на Лобное место он не выйдет.
* * *
Настало 5 июля 1682 года. День был солнечный, ясный. Яркие лучи отражались на золотых куполах сорока сороков церквей московских. В полдень в Титовом стрелецком полку за Яузой ощущалось необычайное движение. Весь Титов полк стоял за староверие. Раскольники что-то затевали. И действительно, Никита Пустосвят, рассчитывая на покровительство князя Хованского и посчитав, что время решительных действий настало, собрал своих главных единомышленников, отслужил молебен по старому обряду и, окруженный многочисленной толпой, двинулся в Кремль, чтобы вызвать патриарха на всенародное прение о вере.
Шествие это представляло собой невиданное зрелище. Сам Никита шел с крестом, его приверженцы несли старинные иконы, ветхие книги, налои и оглашали воздух неистовыми криками, изрыгая ругательства на нынешнюю православную церковь и ее духовенство. Народ сбегался со всех сторон. Скоро вся кремлевская площадь заполнилась людьми. Старообрядцы расположились за Архангельским собором, близ Красного крыльца, поставили здесь налои, покрыли пеленами со старинными иконами и книгами, зажгли свечи. Никита с главными сообщниками воссел на подмостки и оттуда громко злословил православную церковь, называя храмы амбарами и хлевами.
Когда патриарху дали знать о делах и замыслах староверов, он послал протопопа церкви Спаса на Бору Василия с обличением Пустосвята. Но его никто не слушал и даже хотели убить. Волнение все увеличивалось. Мятежники громко вызывали патриарха, который по окончании молебствия удалился в Крестовую палату. Народ в смущении ждал его выхода.
Правительство находилось в весьма затруднительном положении. Коварный покровитель раскола князь Хованский подал совет, чтобы патриарх вышел на площадь и успокоил народную толпу силою убеждения. Но тут на защиту церкви и патриарха выступила царевна Софья, твердая и решительная.
– Нет! – сказала она. – Не оставлю церкви и пастыря нашего. Если прения необходимы, быть собору в Грановитой палате. Я иду туда, и кто хочет, пусть следует за мною.
Из всего царского семейства согласились сопутствовать ей только царица Наталья Кирилловна и царевна Мария Алексеевна.
Софья Алексеевна уведомила патриарха о своем намерении и пригласила его в Грановитую палату, предупредив, чтобы он шел не Красным крыльцом, возле которого толпились раскольники, а лестницей церкви Ризоположения. Согласно воле правительницы патриарх не замедлил явиться в Грановитую палату, приказав архиепископу холмогорскому Афанасию и епископам Тамбовскому Леонтию и воронежскому Митрофану со многими архимандритами, игуменами и священниками принести на собор древние священные книги и харатейные рукописи для обличения спорщиков.
С большим трудом и опасностью прошло духовенство сквозь толпы старообрядцев. Князь Хованский между тем вышел из дворца на площадь и объявил раскольникам, что царевны желают сами выслушать челобитную, но на площади им быть зазорно. Он пригласил «отцов» в Грановитую палату.
Никита Пустосвят и приверженцы старых церковных обрядов
Вожаки староверов отнеслись к этому предложению с недоверием.
– Государь-боярин, – сказал инок Сергий, – в палату нам идти весьма опасно. Не было бы над нами какого замысла и коварства. Лучше бы изволил патриарх здесь, перед всем народом, свидетельствовать священные книги. Нас пустят в палату одних. А без народа что нам делать?
– Невозбранно будет никому идти, – сказал Хованский. – Кто хочет, тот и ступай. Если вы на мою душу положились, то верьте мне. Бога призываю в свидетели и пречистою кровью Христовой клянусь. Никто вас не тронет. Что мне будет, то и вам!
– Идем! – закричал Никита и с многочисленной толпой устремился на Красное крыльцо.
* * *
С шумом ворвались староверы в Грановитую палату. Их не смутила картина, которая предстала перед их взорами. На царском троне сидели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна. Чуть ниже, в креслах – царица Наталья Кирилловна, царевна Мария Алексеевна и патриарх. Справа от них занимали места митрополиты и епископы, слева стояли государственные сановники, думные люди, дьяки, царедворцы и выборные стрельцы.
Едва поклонившись царевнам и царице и не оказывая никакого уважения патриарху и властям, раскольники торопливо расставили перед царским троном свои налои, положили на них иконы, книги, зажгли свечи. Кроме Никиты Пустосвята тут было еще пять вожаков староверия: расстриженные чернецы Сергий Нижегородец, Савватий Москвитин, Савватий Костромитин и крестьяне Дорофей и Гавриил.
– Для чего вы так дерзко вошли в царские палаты, будто к иноверным и Бога не знающим? – спросила Софья. – И как смели вы возмущать простой народ?
– Пришли мы, – отвечал Никита, – к царям, государям бить челом об исправлении православной христианской веры. Чтобы царское свое рассмотрение дали нам с новыми законодавцами, чтобы церкви Божьи были в мире и единении, а не в мятеже и раздрании и чтобы служба Божия была, как при патриархе Филарете Никитиче, по старым Служебникам.
– Не ваше то дело, – возразил патриарх, – и не вам, простолюдинам, церковным делом ведать. Судить о том архиереям. Мы на себе Христов образ носим. Вы же должны повиноваться матери вашей, святой соборной апостольской церкви, и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении. А у нас вера старого православия греческого закона, исправленная с греческих и наших харатейных книг. Мы от себя ничего не выдумали, а все от Божественных писаний. Вы же грамматического разума не коснулись и не знаете, какую он в себе силу содержит.
Стрельцы.
Художник А.Д. Литовченко
– Мы пришли не о грамматике с тобой рассуждать, а о церковном догмате! – закричал Никита. – Поговорим краткими словами, а ты отвечай на мои вопросы.
После этих дерзких слов Никита пустился в свои толкования, стараясь дерзостью и лукавством софизмов смутить престарелого иерарха.
На помощь первосвятителю выступил архиепископ холмогорский Афанасий – святитель бодрый силой, опытный в раскольничьих ухищрениях и многоначитанный. Увидев опасного противника, Никита заскрежетал зубами.
– Что ты, нога, выше головы ставишься?! – закричал он на Афанасия. – Я не с тобой говорю, а с патриархом…
Никита Пустосвят. Спор о вере.
Художник В.Г. Перов
Пустосвят с неистовством бросился на него. Выборные стрельцы едва спасли архипастыря от рассвирепевшего расколоучителя.
– Видите, что делает Никита? – сказала Софья, встав с трона. – При нас архиерея бьет! А без нас и подавно убьет.
– Нет, государыня, – заговорили в толпе помощники Пустосвята, – он только рукою отвел его, чтобы не говорил прежде патриарха.
– Как смеешь ты, – продолжала царевна, обращаясь к Никите, – говорить дерзко с патриархом? Забыл ты, как блаженной памяти отцу нашему, и святейшему патриарху, и всему освященному собору принес ты повинную с великой клятвой впредь не бить челом о вере, предавая себя в противном случае проклятию святых отцов семи вселенских соборов?.. А ныне опять за то же дело принялся?
– Не запираюсь в том я, государыня, – отвечал Никита. – Поднес я челобитную отцу вашему. Подавал челобитную, которую писал семь лет, и освященному собору. Ответом была тюрьма неведомо за что…
– Молчи! – гневно остановила его царевна и велела дьяку читать раскольничью челобитную.
Староверы доказывали свою любимую мысль, что еретик Никон поколебал царя Алексея Михайловича и с тех пор благочестие погибло в России.
– Нет! Мы не можем более терпеть такой хулы! – обратилась Софья к боярам и стрельцам. – Если патриарх Никон и отец наш были еретиками, то и все мы тоже. Братья мои, значит, не цари, патриарх не пастырь церкви. Нам в таком случае ничего более не остается, как оставить царство!
И царевна сошла с трона.
– Давно пора тебе, государыня, в монастырь, – заговорили в мятежной толпе. – Полно царство мутить. Были бы здоровы наши цари Иван да Петр, а без тебя пусто не будет.
Но все бояре и выборные стрельцы, окружавшие Софью, стали клясться, что готовы положить свои головы за царский дом, и уговорили ее вернуться на прежнее место.
По окончании чтения челобитной патриарх, взяв в одну руку святое Евангелие, переписанное собственноручно святителем Алексием, митрополитом Московским, а в другую соборное деяние об учреждении патриаршества на Руси, пытался вразумить мятежников. Вожаки раскола ничего не слушали и сами себе противоречили. Когда им указали на несообразность разрешения в старых книгах, напечатанных при патриархе Филарете, мяса в великий четверг Страстной седмицы, Никита дерзко воскликнул:
– Такие же печатали, как и вы!
Тогда царевна решилась принять иные меры для усмирения пустосвятов.
Наступил уже вечер, и раскольникам объявили, что за поздним временем надо прекратить прения и что указ им будет объявлен после. Царские особы встали со своих мест и удалились из Грановитой палаты. За ними последовал и патриарх с духовенством.
Расколоучители с торжествующими лицами вышли к народу и, подняв вверх два пальца, кричали что есть мочи:
– Тако веруйте! Тако веруйте! Всех архиереев препрехом и посрамихом!
Начало стрелецкого бунта в Москве 15 мая 1682 года.
Царица Наталья Кирилловна показывает мятежникам на Красном крыльце царей Ивана и Петра.
Художник А.И. Шарлеман
Народ в недоумении следовал за ними на Лобное место. Там они долго поучали толпу. Затем направились через Таганские ворота за Яузу.
Софья между тем велела быть к себе выборным стрельцам от всех полков. Они не замедлили явиться, кроме Титова полка, не приславшего ни одного человека.
Правительница вышла к ним, окруженная царственными особами, и в сильных выражениях изобразила бедствия, каким угрожают церкви и государству мятежники.
– Ужели вы променяете нас на шестерых чернецов и предадите святейшего патриарха поруганию? – говорила Софья со слезами на глазах.
Она стыдила стрельцов за равнодушие, хвалила их за прежнюю службу, действовала ласками, уговорами и щедрыми посулами. И достигла своей цели. Выборные стрельцы Стремянного полка ответили ей:
– Мы, государыня, за старую веру не стоим, и не наше это дело. То дело патриарха и всего освященного собора.
В таком же смысле высказались и другие стрельцы. Царевна тут же велела двух пятисотных Стремянного полка пометить в думные дьяки и всех выборных угостить из царского погреба. Каждый из них сверх того получил значительную сумму денег.
– Нет нам дела до старой веры! – говорили стрельцы, возвращаясь в свои слободы.
Но рядовые стрельцы осыпали выборных упреками:
– Вы посланы были о правде говорить, а делали неправду. Вы променяли нас на водку и красные вина!
Мало-помалу ропот в стрелецких слободах усилился до такой степени, что выборные вынуждены были обращаться к царевне Софье с мольбой спасти их от ярости сослуживцев, грозивших побить камнями. Патриарх также пребывал в большом страхе: ходила молва, что стрельцы собираются в Кремль для жестокой расправы.
– Добром от них не отделаться! – говорили в Титовом полку. – Пора опять за собачьи шкуры приниматься!
Смятение продолжалось с неделю. Наконец Софья восторжествовала – ей удалось склонить на свою сторону большинство рядовых стрельцов. По ее приказу переловили предводителей раскола. Их привели на Лыков двор и рассадили порознь. Все они были преданы городскому суду как возмутители народа и ругатели православной веры. По приговору суда Никите Пустосвяту 11 июля 1682 года на Красной площади отсекли голову. Сергия сослали в заточение в ярославский Спас-Преображенский монастырь. Их сообщников тоже заточили в монастыри и тюрьмы, а многочисленные их последователи разбежались.
В Немецкой слободе
Давно уже москвичи косо поглядывали в ту сторону Москвы, где Немецкая слобода. Правда, эта слобода не прямо примыкала к городским стенам, но все-таки соседство было близкое и опасное.
Приятели(старинные люди решили выпить).
Все там не похоже на Москву. Улицы прямые, многие вымощены камнем или бревнами, положенными поперек. Кроме того, они обсажены деревьями. Весной, как только стает снег, их очищают от грязи, которая свозится каждым домохозяином или к себе в сад и огород (грязь жирная, навозная), или на особо отведенные места за слободой. Всем этим заведуют особые выборные. По бокам улиц – канавы для стока воды и дорожки для пешеходов, чисто выметенные и посыпанные песком. Дома в слободе по большей части каменные, двух– и даже трехэтажные, снаружи выбеленные, с красными крышами из черепицы. Они выходят прямо на улицу и украшены балконами и террасами, в стенах много окон, и все они больше московских. На окнах – занавески, а на подоконниках – цветы в горшках. Около домов – сады и палисадники с невиданными в Москве деревьями, цветами, фонтанами и мостиками через вырытые нарочно пруды. Сады и палисадники обнесены решетками. За домом – огород с какими-то странными овощами, похожими на траву (это салат разных сортов), которые немцы едят сырыми, точно коровы. Среди домов возвышаются остроконечные кирхи, лютерские церкви.
В то время как в Москве добрые люди уже спят, улицы в Немецкой слободе полны народу. Молодые парни и девицы в каких-то курьезных нарядах гуляют тут вместе и, нисколько не стыдясь, разговаривают и перекидываются шутками. Время от времени по улице проезжают всадники, расписные кареты и фаэтоны. Пирушки и балы тянутся в этой слободе до самого утра, и когда благочестивые москвичи собираются уже к ранней обедне, слободские немцы только ложатся спать.
И что за люди здесь! Вот по улице спешит немец-дохтур, одетый во все черное, с громадным белым складчатым воротником вокруг шеи. Какими зельями он лечит? Не просто ли он колдун, с которым православному человеку лучше не иметь дела? За ним идет, тоже весь в черном, с остриженной головой и выбритым лицом, немецкий поп. И он забыл, что стригши бороду и выбривши лицо, человек теряет образ и подобие Божие! Не лучше их «органные игрецы» и фокусники, наверное, имеющие дело с нечистой силой. Правда, тут в достатке людей, знающих разные мастерства, – оружейников, пушкарей, инженеров. Немало тут и опытных в своем деле купцов. Но ведь все они курят табачище, это «мерзостное, проклятое, душепогубительное зелье», и все еретической веры! А мало ли среди них и таких, которые не прочь опоить зашедших к ним московских гуляк, а затем дочиста обобрать их в игре в кости или карты. (Тоже ведь выдумка нечистого!) А то так пальцами начнут показывать на русского чиновного человека, зашедшего по делам к ним в слободу, и что-то бормочут по-своему. Правда, москвичи платят им тем же, поднимая их на смех у себя в Москве, а мальчишки так те прямо им проходу не дают, ругают их, свистят вслед и бросают камнями. Но все-таки лучше бы поменьше иметь с ними дела! А с другой стороны, как обойдешься без этих немцев хотя бы в ратном деле или в торговле? И приходится москвичам волей-неволей терпеть подле себя еретиков-иноземцев.
Но вот подрос молодой царь Петр Алексеевич, и после свержения сестры своей Софьи в 1689 году стал жить по своей воле, и от немцев житья совсем не стало. Так жаловались москвичи.
Чуть не каждый день проводит царь Петр в Немецкой слободе, пользуясь тем, что она близко от его Преображенского села. Не сидится ему дома, где никто не может угодить ему. Он то и дело засыпает окружающих вопросами, на которые они ничего не могут ответить. И он бежит к немцам, которые не ему одному казались тогда всезнающими. То он часами сидит у старика-шотландца, осторожного и аккуратного Гордона, толкуя с ним о военных делах, то учится у немца Виниуса голландскому языку. Датчанин Бутенант обучает его фехтованию и верховой езде, голландец Тиммерман – математике, фортификации, токарному и фейерверочному делу. Но особенно часто бывает молодой царь в доме весельчака-гуляки Лефорта, часто даже ночуя здесь.
И всего через год после свержения царевны Софьи царь Петр прекратил выходы в соборную церковь (в них участвовал теперь только один царь Иван Алексеевич), отменил торжественные приемы во дворце и, оставив царское одеяние, надел простое платье. Зато он, кажется, не пропускал ни одной свадьбы, банкета или бала у немцев, а на похоронах у них бывал вместе со всей своей свитой в таких же черных епанчах, которые носили иностранцы.
Петр I в Немецкой слободе.
Художник А. Земцов
На пирушки и вечеринки в Немецкой слободе сходились люди всякого звания, и все там были равны. Люди постарше, собравшись в отдельной комнате, вели деловые беседы, покуривая трубки и потягивая из больших кружек заморское вино или свое здешнее пиво. Молодежь без устали танцевала.
Царь Петр, присутствуя здесь, делал то же, что и другие: курил из немецкой трубки табак, пил вино и танцевал с простыми немками. Раз он с целой толпой гостей в восемьдесят пять человек сам вызвался к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Так как кроватей, разумеется, для всех не было, то гости улеглись спать вповалку на полу. На следующий день вся компания, как ни в чем не бывало, отправилась к Лефорту обедать.
Задумчиво и неодобрительно покачивали головами старики-москвичи, смотря на такое необычное поведение царя и слушая рассказы побывавших с ним в слободе.
Не доведут царя до добра эти иноземцы, особенно выходец из Женевы Лефорт! Сумел он как-то приворожить к себе молодого царя. Человек он малосведущий, но весельчак, ловкий кавалер, гуляка сам и других умеет позабавить.
Дом Лефорта в слободе – громадное каменное двухэтажное здание в итальянском вкусе, окруженное садом. В нем много великолепных комнат и прекраснейшая зала, стены которой покрыты дорогими обоями.
В дом ведет широкая лестница. Когда здесь устраивается какое-нибудь празднество, например свадьба царского любимца, то зала украшается множеством серебряных сосудов. Здесь же ставятся из литого серебра два огромных леопарда с распростертыми лапами, которые опираются на щиты с гербом.
Наконец, тут находится большой серебряный глобус, лежащий на плечах Атланта, сделанного из того же драгоценного металла. Празднества у Лефорта продолжаются иногда по три дня кряду и сопровождаются сильными попойками.
Дом стоит на берегу Яузы, поэтому здесь устраиваются катания на лодках, а с берегов реки палят из пушек.
Однажды (это было вскоре после возвращения царя из-заграницы) у Лефорта был пир, на котором присутствовал Петр со своими приближенными. Гости скоро пришли в веселое настроение, царь разговорился с иностранцами о военных делах, о Европе и тамошних порядках. Сидевшие около него завели речь о дисциплине в войсках, причем один из собеседников заметил:
– Чтобы иметь исправных и добрых офицеров, надобно для того наблюдать службу и старшинство.
Услышав это, Петр сказал:
– Ты говоришь правду. Это есть то самое правило, которое желал я установить и для примера был барабанщиком в роте у Лефорта. – Взглянув грозно на генерала Шеина, сидевшего напротив, Петр продолжал: – Я знаю, нарушая мои намерения и указы, некоторые господа генералы продают упалые[6] места в своих полках и торгуют такой драгоценностью, которую надлежало бы давать за достоинство.
Когда же Шеин спросил, кто бы это такие были, Петр с гневом ответил:
– Ты первый, ты тот самый!
При этих словах он выхватил из ножен шпагу и начал так рубить ею по столу, что присутствующие затрепетали.
– Вмиг истреблю тебя и полк твой! – кричал Петр. – Я имею список проданных тобою мест, и усмирю сею шпагою плутовство твое!
Другие генералы хотели было заступиться за Шеина, но Петр, не слушая никого и ничего, пришел в такую запальчивость, что начал махать шпагой на все стороны без разбора. При этом досталось князю Ромодановскому, Зотову и другим.
Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы любимец царя Лефорт не решился схватить его за руку и тем отвести удар, направленный в Шеина. Петр в гневе оттолкнул Лефорта и, размахнувшись шпагой, ранил его в спину. Лефорт не испугался и, остановив все-таки царя, стал просить его, чтобы перестал сердиться и вспомнил, что он должен быть наставником для своих подданных и служить для них образцом. Петр быстро смягчился, простил Шеина, принятых им на службу офицеров велел уволить и, обнявши Лефорта, сказал:
– Прости, любезный друг, я виноват. Я исправляю своих подданных и не могу исправить самого себя.
Затем он принял участие в танцах, а генералы продолжили прерванный пир. Заздравные чаши поднимались одна за другой, а двадцать пять пушек гремели в ответ тостам. Пиршество затянулось до половины шестого утра.
Не нравились москвичам такие пиры в Немецкой слободе и такая дружба царя с иноземцами.
В народе поднимался ропот: «Вот, – говорили, – связался царь с немцами, бражничает с ними да занимается одними пороками. А какое от этого добро? Только понапрасну гибнут и страдают люди». За такие слова хватали, пытали и казнили. Но число недовольных не уменьшалось. А царь Петр не только не прекратил посещений Немецкой слободы, но стал бывать там даже как будто чаще.
Заговорщик Цыклер
Когда царевичу Петру минуло три года, для его забав подобрали сверстников из детей стольников, спальников и бояр. Детям дали особую форму, ружья, барабаны, знамена. Царевич был назначен командиром «полка Петрова», а жившего в Немецкой слободе шотландца Менезиуса приставили воспитателем потешного войска. После смерти в 1682 году царя Федора Алексеевича для потешных отвели в Кремле особую площадку, выстроили на ней полковую избу, шатер царевича и расставили пушки, стрелявшие деревянными ядрами. Вскоре для Петра набрали новых потешных, но уже не детей, а взрослых людей, из которых сформировали два полка, названных по подмосковным селам, в которых они размещались, – Преображенским и Семеновским. С 1695 года потешные полки участвовали в настоящих военных походах, в подавлении стрелецких бунтов; они стали надежной защитой царя Петра I.
Душно, накурено и жарко в обширных покоях нового дома, построенного в Немецкой слободе генерал-адмиралом, городским наместником Францем Яковлевичем Лефортом. Здесь 23 февраля 1697 года идет прощальная пирушка. Еще 6 декабря прошлого года было объявлено Посольскому приказу, что «государь Петр Алексеевич указал послать в окрестные государства, к цесарю австрийскому, к королям английскому и датскому, к папе римскому, к Голландским штатам, к курфюрсту Ганденбургскому и в Венецию великих и полномочных послов своих с полномочными грамотами, для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов Креста Господня: султана турского[7], хана крымского и всех басурманских орд, – и к вящему приращению силы и пользы государей христианских».
И вот все посланцы, кто имел какое-либо положение, а не принадлежал к низшей свите, собрались выпить отвальную в доме Лефорта. Отъезд был назначен через два дня, коней уже подготовили на подставах, на шведскую границу дали знать, что посольство скоро появится у них.
Обычно из Московии ездили в земли австрийского цесаря двумя путями: через Киев и Краков или через Смоленск, Вильну и Бреславль. Но сейчас в Польше по всем дорогам бродили мятежные войска, которые несколько лет не получали жалованья и от голода стали грабить королевские поместья, села и деревеньки. Поэтому Петр назначил круговой, но безопасный путь: через Псков, Ригу, Кёнигсберг и Дрезден.
Князь Борис Алексеевич Голицын (1651–1714)
Князь Федор Юрьевич Ромодановскй (около 1640–1717)
Кроме отъезжающих в дальний путь послов собрались к Лефорту во главе с царем трое знатнейших московских вельмож: боярин Лев Кириллович Нарышкин, князь Борис Алексеевич Голицын и князь Петр Иванович Прозоровский. Первому из них государем поручены военные дела, второму – посольские, третий ведает судебными делами. С общего согласия они могут всем распоряжаться именем самого государя. Москву Петр поручил своему ближайшему стольнику и другу князю Федору Юрьевичу Ромодановскому – главному начальнику Преображенского и Семеновского полков.
Кроме молодых и старых дворян, бояр и князей, иностранных послов, приезжих и местных иностранных купцов и моряков, приглашенных на пирушку с дочерьми и женами, немало расселось кучками и рядами по стенам парадных покоев боярынь и дворянок, наряженных в непривычные заморские робы. Глядят, как пируют их мужья, отцы и братья. Сами угощаются, по обычаю, сластями, легкими заморскими винами и домашними наливками.
Среди других выделяется своей красотой и скромным видом жена стольника Федора Матвеевича Пушкина – Ольга, урожденная Соковнина. Ее отец, царский сокольничий, втайне принадлежит к капитоновской ереси.
Он крайне недоволен новыми порядками, заведенными царем, и все ждет скорого пришествия антихриста. По мнению старика, времена пришли, и Русь стоять не может, когда в ее благочестном царстве завелись басурманские порядки и обычаи.
Ольга Соковнина в свое время была в числе невест, представленных на выбор юному Петру. Она очень понравилась юноше. Но близкие нашли, что Евдокия Лопухина больше подходит Петру, и сумели расстроить сближение между ним и Соковниной. Ее скоро отдали замуж за Федора Пушкина – пьяницу и недалекого человека. И гордая красавица затаила в себе любовь к бывшему своему царственному жениху.
Здесь, на ассамблее, присутствуют два брата Ольги – Иван и Федор Соковнины. Муж ее тоже, по обязанности стольника, пришел с царем. Будучи в гостях и свободный от своих обязанностей, он ревниво следит за женой, глаз с нее не спускает. Давно уже шепнули ему, будто Ольга была Петру больше, чем невеста. И жгучая недоверчивость, злая ревность мучит Пушкина.
Сама Ольга тоже неспокойна. Она то и дело поглядывает на входную дверь, словно ожидая кого-то. Даже царь, проходя мимо с Мазепой и Меншиковым, заметил ее беспокойство.
– Не батюшку ли выглядываешь, мин-фрау? – спросил он красавицу, ласково касаясь ее щеки, не набеленной, не нарумяненной, как у других.
– Нет, мин-гер, государь! – ответила она. – Не будет батюшки – нездоровится ему. Так, гляжу, не подъедет ли кто.
– Кому подъехать? И то горницы полны. Али зазнобу ждешь? Иного нашла, нас разлюбила? – пошутил Петр, любуясь смущением пышной, разгоревшейся лицом красавицы, и пошел дальше, продолжая разговор с Мазепой.
– Два слова, государь, – осторожно потянул царя за рукав Меншиков.
– Тебе что, Алексаша?
И оба отошли в сторонку.
Ольга Пушкина, которая до этого видела, как к Меншикову подошел появившийся из прихожей Шафиров и что-то шепнул своему любимцу, разволновалась и не сводила взора с Петра.
КнязьАлександр Данилович Меншиков, фаворит Петра I (1673–1729)
Выслушав тихий доклад Меншикова, Петр вместе с ним двинулся к выходу, сказав по дороге хозяину, который уже спешил наперерез державному гостю и другу:
– Не трудись, я сейчас. Спрашивают там меня по делу.
В обширной, полуосвещенной горнице, выходящей на черное крыльцо, Петр увидел двух стрельцов, лично ему неизвестных. Это были пятисотенный Стремянного полка Ларион Елизаров и пятидесятник Григорий Силин. Оба упали в ноги царю.
– Встаньте. Будет вам землю лбами колотить. Что за тайное дело у вас ко мне? Ну, говорите.
– Измена. На жизнь твою уговор великий, – наклонясь к царю и боязливо озираясь, полушепотом объявил Елизаров.
– Умысел… На меня… Откуда узнали? Кто умыслил? Говори!
– Вот он оповестил, – указывая на Силина, ответил Елизаров. – Его подбивали на царское твое погубительство. А кто – сказать боязно. Больно они люди к твоей царской милости ближние.
Веры, поди, не дашь. Да и стены услыхать могут. А другое – время не терпит. Сей миг бы поспешить.
Изловить злодеев можно, на гнезде всех изловить.
– Сейчас? Изловить? Ладно. Алексаша, побудь здесь с молодцами. Я вернусь в горницы, захвачу еще кой-кого.
И Петр, оставив доносчиков с Мешиковым, появился снова в покоях, где подозвал к себе человек шесть самых близких друзей.
– Ну, друзья милые! – громко обратился царь ко всем гостям. – Прошу простить. Уезжаю на часок. Делишко есть одно невеликое, но спешное. Прошу веселиться по-прежнему да меня поджидать. Никому не уезжать, пока не вернусь.
И быстрыми шагами покинул пирушку.
Несмотря на спокойный тон речей Петра, все почуяли недоброе. И веселье сменилось унылым похоронным настроением.
Быстро мчатся сани, в которых сидят Петр с Шафировым. Оба доносчика – на запятках. Вот доехали до первого караульного поста. Здесь Петр приказал обоим стрельцам сойти и отдал их под стражу.
– Может, сами они и есть изменники, – шепнул Петр Шафирову. – Надо сначала дело разобрать.
И вдвоем помчались дальше, в Замоскворечье.
– Чего торопиться, государь?.. Вдруг не подоспеют наши с преображенцами?
– Алексаша-то не подоспеет, когда знает, что нам плохо может быть? Ну, это дудки! Гляди, как бы раньше нас не прибыл, не всполошил гнезда змеиного. Я их всех поймать хочу.
Петр I у заговорщика Цыклера
Нетерпеливо подхлестывая лошадку, государь ехал по дороге к слободе, где стоял двор и дом думного дворянина Ивана Цыклера.
Слабо освещен покой в доме Цыклера. За столом сидят раскрасневшиеся, хмельные столько же от злобы, сколько от вина, заговорщики. Среди них сам Цыклер, старик Алексей Соковнин, его старший сын Дмитрий, стрельцы Филиппов и Рожин, донской казак Сенька Лукьянов.
– Я ему покажу! – глухо грозит Цыклер. – С дела меня убрал… Ничего, наша не ушла. Мы еще Москву пощупаем, не хуже Стеньки Разина объявимся гетманами. Так ли, Лукьяныч?
– Так, пан Ян! – отозвался совсем пьяный казак.
– Тамо что еще будет, – отозвался хриплым голосом старик Соковнин. – А надо теперь этому антихристу предел положить. Видано ли! Русский православный царь всю землю запоганил. Двоих моих сыновей за рубеж вывез. Сам опоганился табачным зельем, сам антихристом стал, теперь их загубить хочет. Не бывать тому!
– Не бывать и не будет. Не уедет он, помяни мое слово! – стукнув по столу рукой, сказал Цыклер. – Нынче же под утро мои молодцы подожгут хибарку подле дома поганого подлизня Лефорта. А то и на усадьбе у немца красного петуха пустим. Сам-то – выскочит огонь тушить. Уж он не утерпит! А тут его ножей в пяток и примут. У меня уже есть двое… Да вот вы трое, – обратился он к стрельцам и казаку, – подмогу дадите. И поедет он не за рубеж, а на тот свет. Тогда настанет наша воля: гуляй – не хочу.
– Наша воля! Да сгинет антихрист! – подхватили собеседники, поднимая полные кубки и чарки.
Вдруг распахнулась дверь, и на пороге появилась высокая мощная фигура Петра с неизменной дубинкой в руке. Первым движением каждого было выхватить оружие. Но его сняли прежде чем садиться за стол, и оно стояло в углу возле двери, в которую вошел царь.
Цыклер кое-как овладел собой и с поклоном поспешил навстречу державному гостю:
– Милости просим! В добрый час!..
– В добрый час! – невольно подхватили и другие, отдав поклон царю.
– В час добрый! – ответил Петр. – Ехал мимо, вижу – свет. Заглянул чарочку анисовой с холоду испить. Не поднесешь ли?
– Есть под рукой, государь. Много благодарен за честь, – торопливо наливая чарку, говорил Цыклер.
Остальные незаметно стали пробираться к оружию.
Пока царь пил чарку и закусывал, внимательно оглядывая горницу, Цыклер кланялся ему и продолжал выказывать радость по поводу такого приятного посещения.
– А ты, старик, али поправился? – вдруг обратился царь к Соковнину, который так и застыл на своем месте. – Мне говорили, болен ты, оттого и к Лефорту не явился нынче.
– Недужен, государь. Да вот приятель позвал. Рождение празднует.
– Вижу, вижу! – отозвался Петр, прислушиваясь к тому, что делается за окнами. Там он различил легкий шум и шорох шагов.
– А что, не пора ли? – шепнул один из сыновей старику Соковнину, собираясь кинуться к оружию, до которого было теперь совсем близко.
– И то – пора! – громко крикнул Петр, кидаясь к дверям и распахивая их. – Входите, хватайте изменников!
В горницу ввалилось человек двенадцать стрельцов, и тотчас перевязали заговорщиков.
* * *
Заговорщиков пытали, и они сознались в своей вине. Всех их предали казни 4 марта 1697 года. Старика Соковнина и Цыклера четвертовали. Пушкину, который был изобличен своим же тестем, двум стрельцам и казаку Лукьянову отрубили головы. Плаху устроили в селе Преображенском, и под нею стоял вырытый из земли гроб мятежного боярина Ивана Михайловича Милославского. На его кости, полуистлевшие в земле за двенадцать лет, ручьями стекала кровь казнимых.
Застенок.
Художник А. Янов
Последняя попытка
Келья Новодевичьего монастыря. Озарены тихим сиянием лампадки, из киота кротко глядят иконные лики. Ласковый полумрак лег на стены, закрыл углы… Тихо кругом. Только издалека слабо доносится ночной сторожевой стук да, заглушаемое толстыми стенами, слышится где-то в далекой келье размеренное чтение молитв.
И эти заглушенные однообразные звуки, и ласковый полумрак, и тихое сияние лампадки – все невольно зовет к молитве, к вдумчивой, вразумительной беседе с Богом. Но пусто место у аналоя, что стоит перед киотом, и рука насельницы кельи не шевелит листов раскрытой книги.
Эта насельница – царевна Софья, уже девять лет влачащая здесь цепи невольного уединения. Быстрыми, нетерпеливыми шагами ходит она взад и вперед по келье, то остановится внезапно, словно вслушиваясь во что-то, то вдруг прильнет к узким окошкам. Но там, за пределами кельи, виден только тусклый свет фонаря в монастырских сенях. Глубокая темь таинственно залегла кругом.
И вновь нетерпеливые, быстрые шаги… Грозой, силой веет от этой невольной инокини. Ей ли томиться за стенами обители! Тучна, круглолица, с ястребиным проницательным взором, она мало в чем уступала своему брату-богатырю и, казалось, самой природой была создана повелевать. Ученица Симеона Полоцкого, умная, развитая, она, по отзывам современников, была «больше мужеска ума исполненная дева». Заключенная в монастырь Петром, она только ждала удобного случая, чтобы вырваться оттуда и вновь захватить в свои руки власть. Теперь, казалось ей, этот случай представился. Петр уехал в чужеземные края – на смех русским людям учиться тамошним наукам. Как отъехал, вести присылал, но теперь уже давно о нем ничего не слышно. И пошел в народе слух, что извели царя в чужих краях. Радостью дрогнуло сердце царевны от таких слухов, и она решила не медлить.
– Матушка-государыня, – раздалось в келии шепотом.
Софья вздрогнула, оторвалась от окошка.
– Ну что, Анфиса? Говори скорее. Придут?
И седовласая Анфиса, няня царевны, с пеленок вскормившая и вспоившая ее, стала шепотом передавать все как было.
– Пришла это к ним, анафемам, в Стрелецкую ихнюю слободу. Набольших спрашиваю, зов твой передаю им. Куда там! Сначала было и слушать не хотели, прежнее вспоминаючи. А потом поддались. Надо думать, сейчас придут – за мной пошли. Семену, привратнику-то нашему, все передала, как ты велела, государыня.
Со стороны сеней донеслись звуки шагов. Софья мигом набросила на голову монашеский шлык, на плечи – мантию, спрятала под полу старинный восьмиконечный крест и устремилась к выходу.
– Вот что, Анфиса, – бросила она на ходу. – Станешь на страже. Коли что, тотчас весть подай.
– Слушаю, матушка-государыня!
Едва Софья вышла на крыльцо и, величественная, освещенная светом фонаря, предстала перед стрельцами, как они все разом молча сняли шапки. Царевна испытующе оглядела всех по очереди стрелецких полковников и затем тихо, но явственно сказала им:
– Слышала я, что жизнь ваша стала теперь куда тяжелее прежнего.
– Надо бы хуже, да некуда. Не жизнь, а позор да мука. Совсем конец нам пришел, – раздалось разом несколько голосов.
Царевна Софья и стрельцы
Один из стрельцов, седой старик Ефрем Вышатин, продолжал:
– Совсем конец нам, говорю, пришел, государыня-матушка. Прежде в ком цари московские опору видели? В стрельцах. Кто нехристей воевал, державу Московскую расширял, порядки внутренние поддерживал?.. Мы, стрельцы. А нынче что? Мало нас на плахе погибло, в Сибирь далекую ушло? А не в Сибирь, то в Литву поганую да под Азов царь разослал стеречь пределы Московские. Да и в Москве кто остался, разве почет должный восприял? Преображенцы да семеновцы – потешные краснобаи, немецкие куцокафтанники – вот кто на наше место встал. А мы за то, что решпекта да субординации, от нехристей перенятых, не знаем, в черном теле состоим. Смех сказать: пожары тушим да улицы московские от воров охраняем. Наше ли дело это, говорю?.. Ты прости, государыня-матушка, что все по чистоте сердечной мы тебе выкладываем. Через нянюшку свою, Анфису-то, передавала ты, что горе наше видишь и защитой нам быть хочешь. Так да будет тебя все ведомо, что мы терпим.
– Правду ты сказал, Ефрем, – согласилась Софья. – Худо вам теперь. А только дальше еще хуже будет. Так что, чего доброго, и погибель ваша впереди. И вот изболелось мое сердце за вас, да и за всю Русь православную. Защита ей нужна. Ой как нужна: нравы старые, добрые рушатся, православие быстро гибнет, все в ничто приходит…
– А все потому, что царь с немцами-еретиками якшается, – смело вставил обиженный стрелец. – Не живет он в своих государских чертогах, окружил себя людьми новыми и непородными, проматывает казну с бесстыжими иноземцами, не соблюдает царского чина и степенства.
– Обращает потоки не в ту сторону, куда Господь обратил их, – лукаво вставила Софья.
– Истинно слово молвила, государыня-матушка. Вера наша угнетается. Где двоеперстие ныне, где крест осьмиконечный, где аллилуи двоения? Добра ли ждать и дальше? Поехал вон в еретические земли за еретическими науками. Где видано, чтобы православный царь делал это!
– Истинно, честные воины царские, – заговорила Софья, и голос ее стал крепче и звонче, – истинно все это. Коли царь вернется из краев чужих, не видать добра людям православным. А только слышала я, не бывать этому приезду.
– Есть слухи такие, это правда, государыня-матушка. А только не верится что-то нам. Вот и Анфису-то твою с неохотой слушали: не верится!
– Надо, чтобы это было так! – воскликнула Софья.
Голос ее звучал с таким воодушевлением, глаза горели таким огнем, вся фигура дышала такою смелостью и решимостью, что стрельцов сразу охватило чувство веры в эту могучую женщину.
Петр I в келии царевны Софьи.
Художник А. Васильев
– Правила я своим народом самодержавно семь лет, – продолжала Софья. – Было ли худо от этого вам? Было ли худо от этого всему народу православному?
– Ничего, государыня-матушка, кроме добра, от тебя не видел.
– Так знайте же! – воскликнула Софья, вынимая восьмиконечный крест. – Я хочу воротить это время! Я вновь хочу править своим народом для его блага и призываю вас себе на помощь. Этим крестом, за который боролись ваши отцы и братья и за который боретесь вы, я клянусь, став царицей, вновь приблизить вас к царскому трону и с вашей помощью вновь править святой Русью по старине, без новшеств… Клянитесь же и вы, что все как один пойдете в Москву, станете табором на Девичьем поле и будете бить мне челом, чтобы я вновь правила царством. А коли Петр вздумает вернуться и нашлет на вас полки свои скоморошные, вы всей ратью выступите против них!
Охваченные пылкими речами Софьи, стрельцы, подняв кверху два перста, торжественно клялись.
Немного времени спустя на том самом месте, где раздавались слова торжественной клятвы, перед самыми окнами кельи Софьи висели трупы видных стрельцов. Это Петр мстил своей сестре и в ее лице всей старой России.
Великое позорище
В Москве все помнили, как последние патриархи заклинали избегать «новых латынских и иностранных обычаев и в платье перемен по-иноземски», признавали смертным грехом «еллинский блуднический обычай брадобрития». В силу этого укоренилось мнение, что раз царь «бороды бреет и с немцы водится», то «вера стала немецкая» и «кто немецкое платье наденет, тот и басурман».
Невесело было на Москве 25 августа 1698 года. В этот день из чужеземных краев вернулся в свой стольный град царь Петр Алексеевич. Нерадостно встретили его приезд москвичи. Приверженные к родной старине, они всегда недолюбливали склонного к иноземным новшествам Петра. А теперь и подавно были для этого причины.
Еще когда весной 1697 года царь в свите снаряженного к европейским дворам «великого посольства» отправлялся не с подобающей ему пышностью, а тайно, под именем «урядника Преображенского полка Петра Алексеевича Михайлова», народная московская молва с явным неодобрением отнеслась к этому поступку.
– И чего ему ехать, да еще, прости Господи, тайком, как вору, – поговаривали в народе. – Не к добру все это!
– А то бают еще, – прибавляли другие, – поехал царь в Рим на поклон папе римскому. А вернется – веру православную разрушит, обычаи католицкие введет. И так уж сам с присными в кургузом платье ходит, бороды не носит, трубку курит… Бывалое ли это на Руси дело, да еще царское?
– И все этот Лефорт его подбивает.
Москвичи вздыхали и крестились.
Так мало-помалу во всех слоях русского общества росло недовольство царем как нарушителем дедовской старины. От его поездки за границу никто не ждал добра. Разве, когда он уехал, были рады, что на время как бы исчез призрак иноземщины.
Петр между тем отсутствовал долго, объезжал все западные страны и везде учился всему, чему мог. В июле 1698 года он собрался уже из Австрии, где тогда был, переправиться в Италию. Но как раз в это время ему доложили о бунте стрельцов – главного оплота старорусской партии. Высланные после своего мятежа весной 1697 года из Москвы для службы на окраинах, они увидели в этом грозный призрак своего приближающегося падения, происки иноземцев и двинулись на Москву. Под Воскресенским монастырем регулярные московские войска разбили их. Затем боярин Шеин произвел строгий розыск, многих повесил, остальных бросил в тюрьмы. Но Петра это не успокоило. В бунте стрельцов он увидел первую вспышку народного мятежа. Да и своеволию стрельцов надо было положить конец. Оставив чужие страны, царь вернулся в Москву, чтобы решительно повернуть ее на новый путь.
Пугало москвичей странное поведение вернувшегося царя. Прибыв в Москву днем, он не проехал во дворец и жены не позвал к себе, а направился прямо в Немецкую слободу. Думали, вечером все же проследует во дворец, и по старинному обычаю именитые бояре уже приготовились приветствовать царя. Но Петр пображничал весь вечер с немцами, а к ночи уехал в свое любимое Преображенское. Туда к утру следующего дня велел звать и бояр.
Чуть свет заявились знатные, именитые бояре в Преображенское. Знали, что царь не любит долго ждать. Через некоторое время их ввели к Петру. Он сидел, окруженный своими постоянными любимцами – немцами.
– Поклон земной да привет тебе, великий царь Петр Алексеевич, – заговорили в разноголосицу бояре, земно поклонившись царю. – Как жилось на чужой стороне? Что слышалось, что виделось?
– Ну, вставайте, вставайте да рассаживайтесь, – грубо-ласково проговорил Петр, отдавая приказание принести пива прибывшим. – Жилось хорошо, а главное, работалось усердно. В Германии изучил артиллерию. Зело потребная для нас наука. Получил в Кёнигсберге диплом «искусного огнестрельного художника». Оттуда в Голландию пробрался, кораблестроению учиться. Мешали только ротозеи, да и не искусные мастера голландцы. Без науки строят. И зело мне стало противно, что такой дальний конец воспринял, а желаемого учения не достиг. Пробрался в Англию. Там мастера поискуснее. Надо бы нам их своими учителями в этом деле сделать…
Петр, сидя на стуле, говорил вдумчиво, размышляя над каждым словом, и время от времени отхлебывал из стоявшей перед ним кружки пиво.
– Был и в Австрии, – продолжал царь, – собирался в Рим, да вот не пришлось.
Голова Петра задергалась от нервного волнения. Жилы на шее налились кровью.
– Что, Шеин, как стрельцы?
Грузный, еще молодой боярин, сидевший поодаль, приподнялся с трепетом.
– Розыски по всей строгости учинил.
– Ладно, знаю. Мало этого. На дыбу их всех! Да и всех, кто мешает мне вести Россию по новому пути! Она пойдет куда я хочу! – Петр так стукнул кулаком по столу, что зазвенели кружки. Потом встал и, нервно расхаживая вдоль покоя, заговорил спешно и твердо: – Пора, пора поставить Россию на новый путь. Сидите тут в своих норах, ничего не видите. А поедешь посмотришь на людей – совестно, стыдно за Русь становится… Вот хоть бы такой пример взять. Жил в Европе – 1698 год был от Рождества Христова. Приехал домой – 7206 год от сотворения мира. Куда хватили, словно некрещеные! И южные славяне, и греки, от коих мы восприяли веру, на что уж православные, а и те по-европейскому считают. С января у них год начинается, а не с сентября, как у нас. Брюс! – обратился Петр к одному из иноземцев. – Обмозгуй это дело, да и введем скоро новый календарь. Ждать долго нечего. Пора, зело пора переменить этот обычай. Да и не только этот, – говорил Петр, обращаясь к боярам, перед которыми по его приказу уже стояли едва не четвертные кружки с пивом. – Вот хотя бы эти ваши хламиды. Красу в них да величие видите, а по-моему, шутами показываете себя. На дворе жара, а вы словно в крещенский мороз оделись. Благо бы отцы духовные.
Бояре, которых разморило и от жары, и от пива, молчали. Но в их посоловелых глазах засветилось выражение испуга, как бы в ожидании чего-то страшного.
– Отныне, – решительно заявил Петр, – мой закон людям городским и боярским: платье носить по немецкому образцу.
Преследование русской одежды.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Сразу побледневшие бояре хотели что-то сказать, но Петр, не обращая на это никакого внимания, продолжал:
– Или хоть взять ваши бороды. Стыд, позор, срам! Велю их обрезать всем! Таков мой закон, и я не переменю его!
Тут уже не выдержали сердца боярские. В старину на Руси борода считалась образом и подобием Божьим, внешним знаком внутреннего благочестия. Безбородый человек считался неблагочестивым и развратным, и потому брадобритие было великим грехом.
– Борода, царь-батюшка, – взволнованно заговорил старейший из бояр, маститый Шастунов, – есть образ и подобие Божье, и через бра-добритие человек теряет то и другое.
– Брадобритие, – бесстрашно заметил другой боярин, – якоже в Ветхом Завете, тако и в Новом благодати есть мерзко и отметно.
– При воскресении мертвых, – заговорил и князь Боровецкий, – и море, и земля, и огонь, и звери, и птицы отдадут всякую плоть. И соединятся кости с костьми, и облекутся плотью, и жив будет человек. Но бороды и усы брадобрейцам не возвратятся, и не внидут они в царство небесное, дондеже не отыщут своих бород и своих усов до последнего их волоса.
Указы Петра I. Стрижка бороды
– А у тебя, князь, бородушка-то особенно густая, – засмеялся Петр, слушавший речи бояр с веселым видом. – Первым, значит, праведником войдешь в рай… Ну да мы тебя не отпустим от нас, грешных… Алексашка! – обратился царь к Меншикову. – Дай-ка мне ножницы!
Боровецкий понял все. Бледный, трясущийся от ужаса, он упал на колени и залился слезами.
– Царь-батюшка, Петр Алексеевич, отец родной, – взмолился он, – не позорь ты меня, старика, заставь Бога молить.
– Нет, князь, так нельзя.
Держите других.
Петр схватил Боровецкого за плечи и собственноручно отрезал ему пол-бороды. Потом с веселым хохотом бросился к остальным, бессильно вырывавшимся из дюжих рук.
Опозоренные, оскорбленные до самой глубины души, выходили бояре среди бела дня из царского дворца. Кое-кто под смех царской челяди плакал, прислонясь к дворцовым колоннам. Старик Шастунов, сжимая в руке отрезанный клок своей драгоценной бороды, восклицал сквозь слезы:
– Сию бороду буду иметь в хранение у себя, яко многоценное сокровище, для положения ее с телом в гроб по моей смерти.
Таковы были первые шаги реформ Петра.
Через год с небольшим он выполнил и другое свое намерение, относительно календаря.
Новый лад
Немалый соблазн произвело перенесение новолетия с 1 сентября на 1 января. Ссылка на пример «многих европских христианских стран» была совершенно бесполезной, так как русские эти-то именно «европские страны» и не признавали христианскими. Уже только при виде обязательного новогоднего украшения домов «от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» дворянин Полуехтов, едучи в санях по Москве, злобно ворчал: «Кто это затевает – у ворот и по улицам ели ставить?
Я бы того повесил». Через две недели после 1 января 1700 года отставной подьячий Арсеньев «отодрал и передрал лист у Предтеченских ворот о счастливых летех», то есть, очевидно, о праздновании начала года.
Тридцать первого декабря 1699 года златоглавая, первопрестольная, святая Москва-матушка, сердце России, представляла собой потревоженный муравейник. На всех ее семи холмах небывалое для этого дня оживление стояло. Всегда 31 декабря проходило тихо.
А нынче!..
Дело разъяснялось тем, что царь Петр Алексеевич повелел праздновать Новый год не 1 сентября, как доселе велось, а 1 января. Повелел строго-настрого.
Год тому назад, когда царь из-заграницы вернулся, то приказал всем бороды стричь и одеваться по-немецки – в кургузые кафтаны. Бояре ахнули: чего надумал государь! И всё на небо поглядывали: не появятся ли там знамения, какие должны явиться перед кончиною мира? Затмений, однако, там не появилось. Но когда наступило 1 сентября 1699 года и стали праздновать Новый год, тут и началась царская потеха…
Вышел государь к народу с царицей Евдокией Федоровной и малолетним царевичем Алексеем, а с ними – шут. Дурак ломается да ножницами пощелкивает. К кому не подойдет из придворных – бороду, глядь, и отхватит.
Ассамблея.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Взмолились бояре:
– Помилуй, государь! Как же так, ни за что ни про что бороду рвать? Она ведь не покупная, а с Божьего соизволения.
А царь только смеется:
– Стриги бороды, шут.
Шуту любо: всем насолил, да вдобавок еще упрямым пощечин надавал.
– Для царя-батюшки, бояре, – похваляется, – стараюсь. Уж не взыщите!
Ясное дело, что с шута взыщешь, когда за его спиной стоит сам царь!
Так тогда только бороды стригли, но чтобы Новый год переносить с сентября на январь, об этом речи не было. И вдруг теперь!..
Закипело боярское ретивое…
– Ишь чего надумал государь! Не прошла ему даром жизнь в немецких землях. Сам совратился и нас всех хочет в басурман обратить. Не так жили при Тишайшем, родителе Петра Алексеевича. Старины держались, отчих заветов, и все ладнехонько было. А нынче, накось, по-немец-кому Русь изворачиваем. Прогневался на нас Господь, прогневался и отвратил лицо Свое.
Не по себе и боярину Спешневу. С раннего утра и до сумерек почти без отдыха шагает Никита Тимофеевич из угла в угол по своей боярской комнате. Дума запала в сердце боярина, тоска гложет его.
«Ну, как государь пойдет все дальше и дальше с заморскими примерами? Повелел кургузые кафтаны носить, потом – бороды стричь, теперь – праздник переносить. Эдак невесть до чего можно дожить: в посты заставлять скоромное есть, дочерей из терема выселять. Неладно, ой как неладно!»
Когда свечерело, вышел Никита Тимофеевич из хором. Только сошел с крыльца, а навстречу ему боярыня Марфа Игнатьевна Густомы-слова. Идет, словно лебедь переваливается.
– Здравствуешь, боярыня!
– Здравствуй и ты, боярин Никита Тимофеевич. Что это, батюшка, на Москве-то у вас делается? Дым коромыслом. Я, вдовая, из деревеньки воротилась и диву даюсь. Словно бы Москва – золотые маковки, а на Москву не похожа.
Боярин слушал вдовую боярыню, и лоб его складывался частыми-частыми морщинами, седые брови хмурились, а рот кривился в усмешку. Понимал Спешнев, о чем завела речь боярыня, но сделал вид, будто невдомек ему.
– О чем ты, боярыня? – промолвил Никита Тимофеевич простовато.
Густомыслова руками всплеснула.
– Да что ты, отец мой! Аль только что из колыбели? На Москве бог знает что, а он словно слепень. Я шла сейчас по улицам, так на каждом нарочитом[8] доме – сосновые либо можжевеловые украшения. А гостиный двор – весь в зелени. Э?.. Да и твои хоромы изукрашены!
– Вот ты про что, – протянул Спешнев и зло засмеялся. – Ну, матушка-боярыня, ныне у нас все вверх дном. Жили по старине, как деды и отцы наши, а теперь иначе…
Марфа Игнатьевна разинула рот изумляясь. А боярин Никита Тимофеевич продолжал:
– Ты, чай, в деревеньке и Новый год отпраздновала, боярыня?
– Как не отпраздновать! Первого сентября справила.
– Ха, ха! А мы его нынче встречаем!
Боярыня даже присела от неожиданности и замахала руками.
– Что ты, что ты, боярин!
– Хочешь – верь, хочешь – не верь. А я и побожиться могу. Что, боярыня, изрядно?
– Свят, свят, свят! – закрестилась Густомыслова. – Наше место свято!
– Нет, Марфа Игнатьевна, – ехидно улыбнулся Спешнев, – не отчураешься! Тут ни крест, ни пест не помогут, потому что последние времена настали. Истинно говорю, антихрист нарождается.
– Ах батюшки! – взвыла боярыня.
– Первого-то сентября по всей Москве ходили дозорщики. К каждому дому подходили, в щелки ставень заглядывали. Где увидят свет, кричат: «Тушить огни!»
– И тушили?
– А то нет? Ведь по царскому приказу.
– Да зачем же они?.. О Господи!
– Дозорщики-то? А затем, боярыня, что государь надумал считать новый год с первого января.
– С нами крестная сила!
– Да!.. пятнадцатого декабря барабан забил.
– Ну?
– Собрался народ на Красную площадь. Дьяк и читает: повелел, мол, пресветлейший и державнейший великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, впредь лета счислять в приказах и во всех делах и крепостях писать не с первого сентября, а с первого января.
– Надумал государь, – покачала головой боярыня. – А для чего, не ведаешь, боярин?
Стража в Московском Кремле.
Художник Р Штейн
– А для того, видишь ли, что не только во многих европейский христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточной нашей церковью во всем согласны, и все греки, от которых принята наша вера православная, лета исчисляют от Рождества Христова спустя восемь дней, то есть первого января, а не от создания мира.
– Вот что! Что ж, боярин, может, так оно и лучше, – уже мягко проговорила Густомыслова.
Боярин Спешнев посмотрел на нее с сожалением и усмехнулся.
– И в указе сказано, – продолжал он, – доброе это, мол, и полезное дело… Да что ж, в старину народ глупее, что ли, был? Наши предки, боярыня, тоже лаптем щей не хлебали и на плечах голову носили.
– Мало ли что, Никита Тимофеевич!
– Тьфу!
Боярин осердился и, сухо простившись с Густомысловой и проворчав: «Короток бабий ум», пошел по улице. «Ишь ты, – зло думал он, – все учинили зеленые украшения. Вон боярин Шереметев целый лес елок насадил царю в угоду. У его соседа все ворота в сосновом уборе…»
По дороге попался торговый человек. Заметив, что Никита Тимофеевич зазевался на изукрашенные боярские дома, не утерпел и слово ввернул:
– Пристойно украсили!
Спешнев ничего не сказал в ответ и, вздохнув, побрел к Красной площади. Там уже стояли пушки.
– Палить начнут в полночь. И нам тоже приказано, – с сердцем промолвил Спешнев. – Ну да я токмо из мелкого ружья учиню три выстрела, не стану из пушечек палить.
* * *
Ровно в полночь началась потеха. Народ бежал к Красной площади, где уже собрались царь и его любимцы.
Вот раздался выстрел. Толпа ахнула. Взвилась ракета.
– Гляди, гляди, ракета!
– Кто выпустил?
– Сам царь!
И дружное народное «ура!» сотрясло воздух. Загремели пушки.
– С новым летом!
– Со столетним веком!
– С новым счастьем!
Шумит народное море; приветствия, добрые пожелания переливаются из уст в уста.
Ликует Петр. Его поздравляют. Он улыбается. И любо ему среди верноподданных, как отцу среди детей.
Нет на площади только вдовой боярыни Марфы Игнатьевны, она уснула так, что и пушки не разбудят, да боярина Никиты Тимофеевича.
– Ишь гремят, ишь палят, антихриста тешат, – ходит Спешнев по боярской комнате и ворчит. – Уж народился, народился.
Петр I поздравляет народ с установлением праздника Нового года 1 января
А на востоке робко заря занимается, гонит старый век, приветствует новый. Слава ему!
Присяга царевича
Царевич Алексей многим казался надеждой России. «Он немцов не любит», – говорили про него, и уже это одно рисовало самые светлые перспективы. Но находились скептики, утверждавшие, что «от недоброго корня и отрасль недобрая», каков-де царь, таков будет и царенок.
Надвигаются сумерки. Сквозь узкие окна древней церкви слабо льется дневной свет и робко отступает перед красным пламенем толстых дымящихся свечей. Темные лики древних икон из-под тяжелых окладов неприветливо и сурово глядят на толпу неведомых людей, стоящую вокруг аналоя. И словно дивятся темные лики: что за необычные люди собрались сегодня в старые стены? Православный ли то народ или иноземцы? Вместо опашней да однорядок, вместо охабней со стоячими воротниками перед ними невиданные короткополые кафтаны, кружевные воротники. Вместо степенных бородатых боярских лиц с волосами, стриженными в кружок, перед ними гладкие, скоблёные лица, а на головах – длинные парики, мукою присыпанные… Подлинно иноземцы собрались сегодня в храм!
Но что за дело до старины и обычая дедовского богатырю в иноземном наряде, что стоит впереди всех, сложив мощные руки на широкой груди и грозно нахмурив брови?.. Царь Петр Алексеевич со своими сподвижниками старую Русь к земле пригнул, крепко иноземные новшества в прародительском краю насадил. И ныне от наследника своего царевича Алексея Петровича он присягу берет: служил бы царевич верой и правдою воле его царской и с нового пути в старую тьму да невежество не сворачивал!
Вот и сам царевич перед аналоем стоит, клятвенные слова громко повторяет. И тоже одет по-иноземному. Столпились вокруг любимцы царя Петра, вскормленные им. Одних он из грязи в князи поднял, других из знатных родов за доблесть выбрал. Тут и Меншиков, и Ягужинский, и Шафиров, и Апраксин, и Голицын, и Толстой, и Шереметев. Много нужно верных слуг царю. Ведет он жестокий бой не только со своей стариной – с наследием царевны Софьи, с расколом, лихоимством и невежеством. Ведет он бой и с врагами зарубежными – с исконным недругом-шведом. И хочет Петр Алексеевич спокоен быть, хочет на сына своего и наследника надежду питать. Обучен уже царевич наукам иноземным. Посылает его царь за границу – отыскал ему невесту, принцессу немецкую. Но доглядчики на молодого царевича много недоброго наговорили. Будто он сердцем своим к старине склонен, будто его попы да монахи против отца научают. И теперь берет царь с сына клятву страшную. Пусть великое дело царя Петра и по смерти его вперед идет! Пусть царевич не сводит Русь с пути великого, широкого, державной волей ей открытого!
Слушает Петр Алексеевич звонкий, но робкий голос сына. Лицом не светлеет, и густые брови на его челе не расходятся. Черные безотрадные мысли одолевают царя.
«Нет, – думает он, – не такого бы наследника и помощника мне надо! Возрос он близ матери. Дядьки да попы темнотою и суеверием смутили его разум. Раньше бы за него взяться! Бранное дело ему не по душе. Только разве не строптив и воле отцовой послушен. Да ведь сие – одна видимость! Чай, в душе-то на отца ропщет! Нарышкины да Вяземские его испортили! Ну, да Господь Бог милостив. Авось, в иноземщине образумится».
Сумрачно глядели на царевича и царские любимцы. Не по душе он им – тихий, богобоязливый. Через силу делит он с ними труды тяжелые. А в буйных хмельных забавах он им не товарищ. Не такого наследника хотели бы они царю!
Но всех горше, всех темнее на душе у самого царевича. Говорит он послушно слова страшной присяги, а невеселые мысли роем клубятся в смятенном уме…
«Ох суров и неласков ко мне батюшка. Не видал я никогда на лице его светлой улыбки, не видал от него ласки отцовской. И к чему сию присягу страшную повелел он мне ныне принести? Не замышляю я ничего супротив его воли, не стану я его ворогам мирволить. Лишь одного не могу я пересилить: жаль мне царицу-матушку, что в заключении век свой доживает. Жаль мне старого обычая, богобоязненного, тихого, истового. Не по сердцу мне сии наряды иноземные. Не по сердцу служба бранная. И пуще всего страшит меня иноземщина. Буду я сиротой жить-коротать в чужой лютерской стране, вдалеке от теремов родных, от православных храмов. Лучше бы мне простым человеком родиться. Принял бы я схиму и прожил бы до смертного часа в мире и благочестии… Мне ли на престоле сидеть? Мне ли новшества вводить в земле православной?!»
Отречение царевича Алексея Петровича от престола 3 февраля 1718 года.
Художник А.И. Шарлеман
И так царевич закручинился, что в словах клятвенных оговорился. Молнией сверкнул на него взор отца, и под сводами древнего храма прозвучал голос Петра, словно в тревожной тиши гулко ударил медный колокол:
– Алексей! Чти присягу с должным вниманием, с точностью нарочитою!
Царевич задрожал всем телом. В рядах царских любимцев послышался злорадный шепот. И снова на смену медному царскому голосу раздался в храме робкий, дрожащий голос царевича:
– Аще приступлю сию клятву, да не будет душе моей спасения вечного, да не будет памяти моей благословения, да не взыду на престол прародительский, да ввержен буду в геенну огненную.
Грозные мысли все сильнее и сильнее вырастают в мощном, непреклонном уме царя: «Буде царевич от моего дела отворотится, буде замыслит он Русь на старое повести – отрекусь я от сына своего и вырву из сердца его на веки вечные».
Так в темном старинном храме стояли друг подле друга Русь новая, великая, грозная в своем шествии победном, и Русь древняя, робкая, побежденная, видящая свой конец неминуемый.
Противостояние
Последний патриарх Московский Адриан был человек старого склада, со столь консервативными убеждениями, что никак не мог сочувствовать деятельности Петра, страстною рукой увлекавшего Россию по пути реформ.
Насколько патриарх Адриан был верен старине, видно из того, что он предавал анафеме брадобритие, что лютеранские вероисповедания возбуждали в нем ненависть не большую, чем курение табака. В одной из своих проповедей он жалуется, что многие «от пипок табацких и злоглагольств лютерских, кальвинских и прочих еретиков объюродили».
Петр I и патриарх Адриан.
Художник Н. Пылаев
В этой проповеди его звучит глубокое недовольство на вольнодумство нового времени: «Совратясь со стезей отцов своих, говорят: для чего это в Церкви так делается? Нет в этом пользы, человек это выдумал…..»
Однако глубокой несправедливостью было бы обвинять Петра в недостатке любви к России, в отсутствии религиозных чувств. Россию он любил пламенно и в отношениях к Европе видел лишь орудие для усиления России. «Европа, – писал он, – нужна нам только на несколько десятков лет. А после того мы можем обернуться к ней задом».
Сперва Адриан резко осуждал иноземные обычаи, вводимые царем. Но скоро вынужден был замолчать. Последнее время он жил безвыездно, ни во что не вмешиваясь, под Москвой, в своем любимом Перервинском монастыре. Народ был этим недоволен и говорил: «Какой он патриарх? Живет из куска, бережет мантии да клобука белого, затем и не обличает».
Когда Адриан в 1700 году умер, Петр, не уверенный в том, что найдет среди высшего духовенства лиц, безусловно сочувствующих его преобразованиям, решил повременить с выбором нового патриарха. Начавшаяся Шведская война дала ему повод продлить переходное положение под тем предлогом, что ему недостает душевного спокойствия, необходимого при выборе столь значительного лица, как патриарх. Это было первым шагом к отмене патриаршества.
Рязанский митрополит Стефан Яворский был назначен местоблюстителем патриаршего престола, а боярину Мусину-Пушкину велено было: «Сидеть на патриаршем дворе в палатах и писать Монастырским приказом». Ведомству этого учрежденного, или, вернее, возобновленного 24 января 1701 года приказа, подлежало: управление патриаршими, архиерейскими, монастырскими и церковными вотчинами; устройство и содержание тех церковных учреждений, от которых были отобраны в собственность государства эти вотчины; установление штатов, назначение настоятелей, строительная часть, посредничество между церковью и государством. Учреждением этого приказа сделан был первый шаг по переводу церковных вотчин в безусловное ведение государства. Тотчас по учреждении приказа начали составлять переписи всего церковного имущества. По архиерейским домам и монастырям разосланы были стольники, стряпчие, дворяне и приказные.
Совершенно устраненный Монастырским приказом от множества весьма важных дел, состоявших раньше в ведении патриарха, митрополит Стефан и в чисто духовных делах не имел почти никакой власти. Множество назначений на места духовного управления шло, по представлению Меншикова, Мусина-Пушкина и других лиц. Исключительно Мусин-Пушкин распоряжался патриаршей типографией, сочинениями, переводами, изданием книг, даже исправлением Библии, хотя это исправление и было поручено надзору Стефана.
Иногда Стефану удавалось склонить царя[9]. Но в общем постоянная борьба постоянное несогласие идей Стефана с тем, что творилось в высшем духовном управлении, глубоко его угнетало. Смелый, благородный, откровенный, он говорил правду Петру, окруженному протестантами, которые ненавидели его как непримиримого стойкого врага.
Быть может, это неполное сочувствие Стефана деятельности Петра раздражало государя еще больше, чем молчаливое неодобрение Адриана. Адриана, человека, не глубокого образования, можно было обвинить в рутине, тогда как Стефан был человек больших дарований, большого ума, глубокого европейского образования, человек выдающийся, блестящий, но вместе – человек, знавший во всем меру, чего так не хватало во всю жизнь Петру. И к концу жизни Стефана он, местоблюститель патриаршего престола, и вознесший его по собственному выбору царь совершенно, кажется, не понимали друг друга.
От всенощной.
Художник Б. Кремлев
При патриаршем управлении церковь была независима от государства, и лицо патриарха как бы равнялось лицу государеву. Это казалось Петру неправильным и небезопасным. Он решился ввести церковь в общий порядок государственной жизни, подчинить ее общей системе государственного правления как одну из его ветвей, и духовное правительство сделать коллегией наряду с прочими. Церковь и духовенство становились в общую подсудность государству по всем своим делам, за исключением догматов и канонов. Звание патриаршее уничтожалось само собою.
Состояла духовная коллегия первоначально из президента (Стефан Яворский), двух вице-президентов (Феодосий Яновский и Феофан Прокопович), четырех советников и четырех асессоров.
Главной задачей, возложенной на духовную коллегию, было улучшение духовной жизни народа. В нем были распространены самые грубые суеверия, не было часто самых основных понятий о вере и христианской жизни.
Один за другим стали выходить указы, имевшие целью преобразовать религиозную жизнь народа. Многие из этих указов интересны тем, что рисуют нам религиозно-бытовые черты тогдашнего общества.
20 марта 1721 года был объявлен указ, «чтоб обретающиеся в Москве на Спасском мосту[10] и в других местах листы разных изображений и службы, и каноны, и молитвы, которые сочинены и сочиняются разных чинов людьми самовольно, письменные и печатные, без свидетельства и позволения, описав, все отобрать в Приказ духовных дел и, запечатав, держать до указу». В апреле вышел действительно указ о прекращении безобразного суеверного обычая: «В Российском государстве по городам и селам от невежд происходит некоторое непотребство. А именно, ежели кто не бывает во всю Светлую седмицу Пасхи у утрени, такого обливают водою и в реках и прудах купают. И хотя себе простой народ делает все будто на забаву праздничную, однако от той суетной забавы делается не токмо здоровью, но и животу человеческому тщета, ибо оным от невежд купанием в глубинах иногда людей потопляют или разбивают, а сонных и хмельных внезапным облиянием ума лишают». Добавляя, что этот обычай есть воспоминание языческого праздника Купалы, указ приказывает обычай «весьма истребить».
В 1722 году царский двор находился в Москве, где был и Святейший Синод, и члены его могли близко наблюдать все проявления духовной жизни народа и все формы русской набожности.
28 марта 1722 года был издан указ, впоследствии не исполнявшийся и возбудивший в Москве сильное волнение. По свидетельству Берхгольца, он удивил и поразил и чернь, и многих старых русских вельмож. В этом указе под видом будто бы радения о достоинстве церквей воспрещались часовни, которыми Русь так любила и доселе любит отмечать знаменитые чем-нибудь места. Нечего и говорить о том, что жизнь смела этот невозможный и неразумный указ. Обычай этот, говорит указ, начался и утвердился будто бы от невежд, что пред святыми иконами, вне церкви стоящими (на внешних церковных стенах и на градских вратах), зажигаются и ночью, и днем свечи без всякого молитвословия, а некоторые невежды, оставивши посвященные молитвенные храмы, призывают пред те внешние иконы священников и молитствуют на распутьях и торжищах, где всегдашнее многонародное бывает собрание, и явное чинят православным церквам презрение, а инославным дают причину укоренительного на благочестие порицания… Опять забота угодить иностранцам даже строем нашей духовной жизни! Осудив существование «построенных на торжищах и перекрестках, в селах и других местах часовнях», указ определяет: «Пред вышеупомянутыми вне церквей стоящими иконами мольбы и свечевозжение, тамо безвременно и без потребы бываемые, весьма возбранить; также и часовен отныне в показанных местах не строить и построенные деревянные разобрать, а каменные употребить на иные потребы тем, кто оные строил».
Книгоноша у ворот Троице-Сергиевой лавры
Тридцать первого января 1724 года Петр подписал указ, которым предполагалось переустроить монашество, а размножавшимся монастырям дать назначение, сообразное с пользою государства. Указ этот составлен государем и дополнен Феофаном. Состоит он из исторического объяснения о начале монашеского чина и об образе жизни древних монахов, из правил для монахов, избирающих монашество для уединенной жизни, и для ученых монахов, ожидающих архиерейства.
В монастырской кухне
Незадолго до смерти государь издал указ, чтоб московские монастыри – Чудов, Вознесенский и Новодевичий – определить для больных, старых и увечных, а Перервинский – для школ, Андреевский обратить в воспитательный дом для подкинутых младенцев.
Проследив развитие монастырей, указ говорит, что первые монастыри находились в уединенных местах и держались трудами самих иноков. Но лет через сто «от начала чина сего произошли было монахи ленивые, которые, желая от чужих трудов питаться, сами праздны сущее, защищали свою леность развращаемым от себя словом Христовым (воззрите на птицы небесныя, яко ни сеют, ни жнут, ни в житницы собирают, и Отец ваш небесный питает я), но целомудрие их скоро обличено от прямых монахов».
Как ни едка эта критика русского монашества, к сожалению, приходится сказать, что в ней много верного, как много дельного и в мысли Петра занять иноков делами благотворения. Но чуждый стремлений высокодуховных, этот великий практик забыл одно: истинное монашество состоит в отречении от всех дел мира, даже дела благотворения. Монах бежит от мира, чтобы, ничем не рассеиваясь, теснее слиться с Богом. И всякое внешнее дело, кроме молитвы, на этом пути будет только задерживать завершение духовного воспитания монаха. Только тогда, когда он дожил до бесстрастия, смирил себя, победил в себе привязанность к миру и приобрел духовную опытность, только тогда иноку пора выступить на служение миру.
Петр с его ограниченными религиозными представлениями не мог понять, что аскетическое монашество служит громадную службу обществу, представляя собой прибежище для встречающихся во всяком обществе и во всякую эпоху людей тонкой духовной организации, которые задыхаются среди лжи, неправд и жестокостей мира, идеальные устремления которых находят себе пылкое удовлетворение лишь в пустыне, в молитве, посте и уединении.
Петр забыл, что монастырь, при всем своем несовершенстве, как несовершенно всякое человеческое учреждение, все же разряжал сгущенную, насыщенную злом атмосферу мира, был той отдушиной, чрез которую легче всего на народ лилась свежая религиозная струя.
Покорный формам жизни протестантских государств, Петр не дал себе труда вдуматься в это веками выросшее на родной почве явление.
Русский Фауст
Легенды о Брюсе и многих других московских жителях собрал в начале ХХ века писатель-самоучка и фольклорист Евгений Захарович Баранов. Он родился в конце 1869– го, а дата его точной смерти, хоть он и жил в Москве, неизвестна – после 1932 года. С 1911 года он работал сотрудником газеты «Русские ведомости», а после 1917-го стал активным членом общества «Старая Москва», собирал московские городские легенды.
Одна из самых значительных и загадочных личностей эпохи царствования императора Петра I – граф Яков Велимович Брюс, потомок древнего королевского рода Шотландии, правившего страной в начале XIV века. По выражению историка В. Н. Татищева, ученика графа Брюса, это был человек «высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти, а к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того сыскатель». А. С. Пушкин в «Арапе Петра Великого» писал: «Ибрагим узнал… ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом».
О Брюсе до сих пор ходят десятки легенд, в основе которых лежит мнение народа о нем как о выдающемся ученом и обладателе тайного знания. Не странно ли: просвещенная Россия почти забыла его, а память о нем сохранилась в среде простого народа. Все «птенцы гнезда Петрова» в нашем воображении предстают как реалистические личности, и только граф Брюс имеет два лица: историческое – полководца и ученого и легендарное – чернокнижника и колдуна…
– Квартира его была на Разгуляе – жена там жила. И посейчас дом цел, гимназия в нем раньше была. Там Брюс сделал вечные часы и замуровал в стену. До сих пор ходят. Приложишься ухом и слышишь: тик-так, тик-так…
Яков Велимович Брюс
(1670–1735)
А сверху вделал в стену фигуристую доску, а к чему – неизвестно. Новый хозяин думает: к чему эта доска? Долой ее! Начали выламывать – не поддается. Позвали каменщика. Он киркой – стук, а кирка отскочила да его по башке – стук. Каменщик удивился: «Что за оказия такая?» – «Эту доску, – проговорился хозяин, – еще Брюс вделал». Тут каменщик принялся ругаться: «Чего же ты раньше не сказал!.. Пусть черт выламывает эту доску, а не я». И ушел.
Дом на Разгуляе народная молва усиленно приписывает Брюсу, хотя документально эта версия ничем не подтверждена (здание принадлежало в конце XVIII века графу А. И. Мусину-Пушкину, затем – 2-й Московской гимназии. Институту имени Карла Либкнехта, МИСИ). Брюс жил на 1-й Мещанской, рядом с немецкой кирхой (ныне проспект Мира). В декабре 1925 года его особняк исследовали члены общества «Старая Москва» и обнаружили ход из белого камня, ведущий к подвалам Сухаревой башни, в которой, в свою очередь, нашли пять замурованных подземных ходов.
– Ведь это он календарь составил, все распределил по дням, месяцам, годам. Потому и называется «Брюсов календарь». Но только не в календаре дело, он все больше по волшебству работал. В Сухаревой башне ему помещение отвели. Там он и составлял разные порошки. Книги у него редкостные были, из них и брал. Конечно, без ума не возьмешь, а ум у него обширный был.
Сказания приписывают Брюсу даже саму постройку Сухаревой башни. Одна из наиболее любимых пьес московских простолюдинов ХК века так и называлась «Колдун с Сухаревой башни». Здесь, в подземной мастерской, знаменитый граф хранил «Черную книгу», с помощью которой творил волшебство, и Соломонову печать на перстне, поворачивая который мог «от себя отвратить, все очарование разрушить, власть над сатаной получить». В библиотеке Академии наук в Петербурге хранится более восьмисот печатных и рукописных книг на четырнадцати языках из библиотеки Брюса. Среди них нет ни одной «по волшебству», в подавляющем большинстве это научные труды. Например, «Описание подземельным вещам Анастасия Кирхнера на галанском языке», «Книга анатомическая на аглинском языке», «Механика на польском языке Станислава Столского». По поручению Петра I Брюс составил первые голландско-русский и русско-голландский словари (СПб., 1717), редактировал переводы научной литературы, подготовил к печати первый русский светский учебник «Геометриа словенски землемерия» (М., 1708).
– Ты вот возьми, примером, насыпь на стол гороху и спроси Брюса: Сколько, мол, тут? Он только взглянет – и скажет, и не обочтется ни одной горошиной. А то спроси: Сколько, мол, раз колесо повернется, когда доедешь отсюда до Киева? И это скажет. Вот он каков, арихметчик-то!
Сухарева башня в Москве.
Художник А. Дюран
Научными приборами и инструментами Брюса долгие годы после его смерти пользовались многие российские ученые, в том числе Ломоносов. Сохранились написанные «колдуном с Сухаревой башни» математические трактаты, выкладки по артиллерийской стрельбе, составленные им морские и небесные карты. Открытие научных трудов Якова Велимовича Брюса продолжается. Так, в 1981 году на XVI Международном конгрессе по истории науки канадский профессор В. Босе сделал доклад о найденной им в Англии рукописи Брюса «Теория движения планет». Это первая работа русских ученых о законе всемирного тяготения.
– Сделал он из стальных планок и пружин огромаднейшего орла. Придавит пружинку – орел и полетит. Сколько раз летал над Москвой! Народ высыпет, задерет голову и смотрит. Только полицмейстер ходил жаловаться царю. «Первое, – говорит, – от людей нет ни проходу, ни проезду. А второе, приманка для воров: народ кинется на Брюсова орла смотреть, а они квартиры очищают». Ну, царь дал распоряжение, чтобы Брюс по ночам не летал. Не знаю, правда ли, а говорят, что нынешние аэропланы по Брюсовым чертежам сделаны. Будто один профессор отыскал их, и будто писали об этом в газетах.
Под руководством Брюса началась планомерная разведка полезных ископаемых. Как начальник Монетной канцелярии, он способствовал упорядочению денежного обращения. Благодаря его дипломатическим способностям в 1721 году был подписан Ништадтский мир, по которому Россия приобрела выход в Балтийское море. Выйдя в отставку в 1726 году, он поселился в подмосковном поместье Глинки и до конца жизни лишь изредка наезжал в Москву. Ходит предание, что в своем имении летом он катался на коньках, замораживая пруд, а зимой, наоборот, растаивал лед и плавал на лодке. Умер знаменитый «властитель жизни и смерти» 19 апреля 1735 года и был похоронен в немецкой кирхе. Когда в 1929 году на ее месте стали рыть котлован, обнаружили несколько склепов, в одном из которых лежали останки Брюса и его жены Марфы Андреевны, урожденной Маргариты фон Мантейфель. Сохранившуюся одежду графа – шитый золотыми нитями парчовый кафтан, камзол со звездою к ордену Святого апостола Андрея Первозванного и ботфорты, – отреставрировав, поместили в Государственный исторический музей, где они хранятся и поныне. Но народная молва не верит в столь прозаичную смерть легендарного чернокнижника.
– Выдумал он живую и мертвую воду, чтобы стариков превращать в молодых. Вот взял изрубил в куски своего старого лакея. Мясо перемыл, полил мертвой водой тело срослось. Полил живой – лакей стал молодым. Захотел и сам Брюс помолодеть. Вот лакей разрубил его, полил мертвой водой – тело срослось. А живой не полил. Ну, видят: умер, похоронили… А вернее всего, он жив остался, забрал главные книги и подзорные трубы, сел на своего железного орла и улетел. А куда – неизвестно.
И чудится: и по сей день парит верхом на железном двуглавом орле над ночной Москвой в камзоле и пудреном парике граф Яков Велимович, тщетно ищет Сухареву башню, по ступеням которой много раз спускался вниз, где в подземной лаборатории искал философский камень, или поднимался вверх, по звездам предсказывал будущее. Ворчит Брюс, многое ему не по нутру в современной жизни. И срываются с губ гордые слова, начертанные на его графском гербе: «Мы были!»
Отставная столица
Повседневная жизнь
«Говоря о сей российской столице, скажу, что я почитаю ее ужасным соединением многих предместий или, лучше сказать, группою многих селений, находящихся в великом расстоянии одно от другого. Если хочешь делать визит или видеть монумент и другую какую-нибудь редкость, то надобно иметь такие большие разъезды, что когда бы я здесь оставалась, конечно б, выезд мой каждый день можно почесть изрядным путешествием».
Милади Кравен, 1786 годНизложенная преобразованиями Петра, старая Москва в XVIII столетии продолжала упорно отстаивать свое значение великого русского города. Наезды петербургского двора, иногда очень долговременные, позволяли думать, что развенчанная столица может вновь сделаться царской резиденцией. Опустевшие дворцы словно стояли в ожидании. А кругом, в ближних и дальних окрестностях, разметались монастыри и села с царскими домами – Воскресенский монастырь, село Софьино, «забавный дом» Перово и много других.
Город раздвигался. В Кремле было тесно, грязно и душно. Если Петр Великий находил, что «Париж зело воняет», то легко себе представить, какою заразою веяло в старых кремлевских стенах. Поэтому население тянулось в сторону, к реке Яузе, где возникли новые городские части с дворянскими и купеческими домами, торговыми рядами, фабриками. Заведенная в Петербурге новая промышленность отчасти бежала в Москву. Здесь не было такой дороговизны, как в новой столице, производство обходилось дешевле, да и рабочих рук было больше. По Яузе развернулись суконные, шелковые, ткацкие фабрики. Лучший в России суконщик Болтин, не выдержав петербургской дороговизны, перевел свое главное производство в Москву, где уже работали Третьяков, Еремеев, Сериков, Солодовников. Выгодное положение Москвы как промышленного и торгового центра ясно сказывалось в ущерб медленно развивавшейся после Петра новой столице. Развенчанная Москва дышала, создавая свою особую, беспорядочную, отчасти дикую жизнь, непрерывно питавшуюся притоком свежих сил.
Китай-город на рубеже XVII–XVIII веков (вид с севера).
Художник В.А. Рябов
Распущенная солдатчина стоящих по пригородам полков часто грабила лавки и дома. Безопасности никакой не было, добрые люди не решались выходить ночью на улицу и спозаранку ложились спать, запирая ворота и спуская собак. Иногда, словно поднятое налетевшим вихрем, вспыхивало волнение среди рабочих суконных фабрик и разражалось беспощадным бунтом. Плохо накормленные желудки действовали на бестолковые головы, понимавшие только одно – их тут много вместе, и хозяевам с ними не справиться, ну а полиция не сунется, опасаясь быть избитой.
Зато в Москве в те далекие времена на одну медную копейку можно было купить около 1 килограмма ржаного хлеба (2 фунта 15,5 золотника). Лучшие сорта мяса стоили за 1 килограмм около 7 копеек, похуже – 4 копейки. Откормленного барана продавали за 1 рубль 65 копеек, теленка – 2 рубля 20 копеек, курица шла по 20 копеек.
Гурманы, желавшие полакомиться, устремлялись к Чистым прудам, где в доме госпожи Колтовской первой гильдии купец Вильгельм Гленнинг торговал виноградным вином, прованским маслом, голландской сельдью и голландским сыром. Любители же соленых устриц отправлялись в Немецкую слободу (ныне окрестности станции метро «Бауманская»), где напротив аптеки жил и торговал этим деликатесом московский купец Георгий Флинт. Завзятые курильщики «парижского табака различных сортов» покупали его в доме стряпчего по делам дворцовых крестьян, что жил в приходе церкви Николы Мокрого (на этом месте в 1960-е годы выстроено, а ныне разрушено здание гостиницы «Россия»).
Продавец «темного» товара
Не жаловались москвичи тех стародавних времен и на отсутствие развлечений, хотя многие из них были не всякому по карману. Например, в доме протодьякона кремлевского Успенского собора Петра Андреева жил со своей трехлетней дочкой Александрой Василий Иванов. Любопытные горожане, заплатив 25 копеек, могли войти в дом и увидеть, как малюсенькая Александра играет на гуслях двенадцать различных музыкальных пьес, «без всякого притом от других указывания». Этого трехгодовалого вундеркинда можно было «также и в дом к себе брать за особую плату», чтобы потешить своих гостей.
Во все дни Великого поста москвичей потешал (за непомерно высокую плату – рубль с персоны!) заезжий итальянец, «прибывший сюда в Москву с некоторым числом больших и малых собак, приученным к разным удивительным действиям».
В декабре же, во время рождественских святок, в придворном театре (у Красного пруда, на нынешней Каланчевской площади) устраивало свои представление «собрание разных искусников, танцующих по веревке, прыгающих, ломающихся и представляющих пантомиму».
Дворянское сословие перед каждым балом, которые не прекращались во весь год, за исключением времени церковных постов, устремлялось в дом Майера. Хозяин, как писалось в «Московских новостях», самолично изготовляет новомодные парики и «убирает волосы женские и мужские», а его супруга «плетет самые знатные, наподобие брабантских, кружева, блонды, манжеты, золотые и серебряные сетки, починивает разных сортов шелковые чулки, моет, шьет, крахмалит разное белье». Но для желающих выглядеть элегантными и молодыми мужчин и женщин этого мало.
Гитарист.
Гравюра с картины В.Г. Перова
Надо еще съездить за Красные ворота (находились возле нынешней одноименной станции метро), в дом генерал-майора Михаила Афанасьевича Ахметышева, что в приходе церкви Петра и Павла на Новой Басманной. Здесь поселился француз Жан Шаперт де Тар-дье, который с разрешения Медицинской канцелярии составляет и продает «порошки для умывания лица и рук, для выведения угрей, всякие мыла, шары в ящиках с щетками для бритья бороды, всякие благовонные воды, как-то: лоделаван, декарм, сампарель и прочие, цитрон, жасмин, бергамот, лагенед, дюшес, пудру для волос с помянутыми духами, розу, всякие помады в банках и палками».
Конечно, богатые люди покупали украшения из драгоценных камней, золота и серебра. Но, чтобы по-настоящему блеснуть и удивить всех, надо было отыскать в Доброй слободке, находившейся за пределами Земляного города (ныне по окрестностям этой слободы XVIII века проходит Доброслободская улица) «у Мееровой аптеки, против двора ее сиятельства вдовы княгини Натальи Павловны Щербатовой» часового мастера Фази, который мог предложить богатому человеку перстень из Парижа, в который вместо камня вставлены миниатюрные часы, заводившиеся раз в неделю.
А как же обстояли дела в Москве с пищей духовной? Оказывается, известный богослов, составитель первого русского церковного словаря, ключарь кремлевского Успенского собора приглашал родителей приводить детей к нему в дом, что в приходе церкви Николы на Берсеневке в Верхних Садовниках (окрестности Берсеневской набережной), где он обещал «преподавать катехизис православно-восточной церкви безденежно». В отличие от Петербурга, где обучение было полностью в руках иностранцев, Москва похвалялась русскими учителями. Так, «отставной майор Сергей Андреев сын Силин принял намерение обучать дворянских детей арифметике, геометрии, тригонометрии и артиллерии. Имеющие намерение у него обучаться или отдавать своих детей сыскать его могут в собственном его доме, состоящем на Сретенке, в Сумниковой улице, на правой руке против колодезя».
Главное здание Петровско-Разумовской академии
В Москве к тому времени уже стали появляться и частные школы. Имелось также несколько книжных лавок. Среди них выделялись Академии наук на Никольской улице, близ Печатного двора, на Спасском мосту возле Фроловских (Спасских) ворот, при Воспитательном доме (ныне в этом сиротском приюте размещается Военная академия ракетных войск стратегического назначения).
Но, конечно, как и в нынешние времена, питейных заведений в Москве было гораздо больше, чем книжных лавок. В московских кабаках торговали в тот далекий 1766 год «по случаю умножения народа» так, как давно уже не торговали. Точно подмечено в народной песне, актуальной во все времена:
Москва – город затейный, Что ни шаг – дом питейный.Мужицкая обитель
Многие постройки Преображенской богадельни возведены архитектором Ф. К. Соколовым: Успенская церковь (1784), больничный корпус (1798), надвратная часовня начала XIX столетия, через полвека перестроенная в Крестовоздвиженский храм. В 1876–1879 годах по проекту архитектора А. М. Горностаева возведена колокольня. В бывшем мужском отделении богадельного дома в 1866 году был открыт Никольский единоверческий монастырь. В 1913 году А. Н. Руднев в письме к В. И. Леоновой описывал Никольскую обитель: «Монастырь этот имеет очень уединенный вид – настоящее убежище для любителей созерцательной жизни. Красивый, как будто готической архитектуры храм темно-красного цвета с желтыми украшениями, довольно стройная кирпичная колокольня, вдали келии, тоже в готическом стиле, одноэтажный белый домик настоятеля, пятиглавая зимняя церковь над святыми воротами со знаменитой Хлудовской библиотекой при ней (эта церковь, ворота и здание библиотеки – желтоватого цвета)… Всюду – трава, по местам – деревца, яблочный сад, маленькое братское кладбище – и тишина, тишина!» В 1930-х годах большая часть монастырских стен и башен была разобрана в связи с расширением кладбища. От монастырских построек сохранились храм Воздвижения Креста Господня, колокольня, Никольская церковь, часть монастырских келий и монастырской стены.
Чума появилась на исходе 1770 года за Яузой, в генеральном гошпитале. Ее пробовали истребить секретно, но она все набирала силу и расползалась по городу. Сто… Двести… Пятьсот… Наконец по тысяче человек в день стала косить моровая язва. Погонщики в дегтярных рубашках железными крюками набрасывали на свои черные фуры мертвые тела (будто стог метали) и с пьяными песнями тащились мимо церквей и кладбищ к бездонным ямам и рвам на краю города.
Нищим перестали подавать. Они обирали умерших и заражались сами. Никто не решался везти в зачумленный город хлеб. Подоспел голод. Во всех дворах горели от заразы смоляные костры. Пошли пожары. Но люди не спешили на выручку к соседу, другу, брату, все сидели взаперти и ждали конца света, предвещенного Иоанном Богословом.
Но самые отчаянные (или отчаявшиеся?) пожелали дознаться, что им сулят страшные слова из толстой церковной книги, и пришли к воротам дома главнокомандующего Москвы, фельдмаршала графа Петра Салтыкова. Оказалось же, что он, убоясь заразы, укатил в свою подмосковную вотчину. Хорошо, когда есть куда катить, а как некуда?..
Литье колоколов.
Художник М. Андреев
Прибежали ко двору губернатора тайного советника Ивана Юшкова… Тоже укатил. Обер-полицмейстера бригадира Николая Бахметева… Тоже в подмосковную. Московский архиерей Амвросий был еще здесь, но, хоть натерся чесноком и ежечасно поливал себя уксусом, выйти к народу не пожелал.
И тогда ударили в набатный колокол Царской башни Кремля. Ему вторили грозным воплем сотни колоколов приходских и монастырских церквей. Народ уверовал, что настал конец, и напоследок с кольями, камнями и рогатинами бежал к Кремлю. Одни бросились в его подвалы, повыкатывали бочки с вином и на площади Ивана Великого устроили пир. Другие принялись ломать церковные и господские ворота, разорять алтари и гостиные. Не пожалели ни святынь Чудова, Данилова, Донского монастырей, ни тела своего святителя Амвросия. Начался кровавый пир, получивший в учебниках истории имя «Чумной бунт 1771 года».
Ивановская площадь Московского Кремля
Народ требовал:
– Хлеба!
– Бани и кабаки распечатать!
– Докторов и лекарей из города выгнать!
– Умерших отпевать в церквах и хоронить по-христиански!
Императрица Екатерина II Алексеевна Великая (1729–1796)
Но ни в покоях Екатерины II, ни во всей бескрайней России не нашлось дворянина, способного помочь несчастным. Новым мессией, возвратившим москвичам надежду, любовь и саму жизнь, стал Илья Андреевич Ковылин – бывший оброчный крестьянин князя Алексея Голицына, занявшийся в Москве подрядами, выкупившийся из рабства и успевший к тридцати пяти годам сделаться владельцем нескольких кирпичных заводов на Введенских горах. Еще недавно он с другими староверами-федосеевцами по ночам тайно собирался на молитву в крестьянских избах близ Хапиловского пруда в Преображенском.
Илья Андреевич Ковылин (1731–1809)
Москвичи частенько слышали от священников и богобоязненных соседей, что раскольники – чада антихристовы, что они душат младенцев, летают на шабаш и жаждут православной крови. Даже рисковые удальцы предпочитали обходить стороной проклятые церковью и государством поселения иноверцев.
Но теперь рядом с раскольничьими избами стояли чаны с чистой теплой водой, всех желающих обмывали, одевали в чистое и кормили. Рядом на деньги, пожертвованные Ковылиным, вырастал не то монастырь, не то карантинная застава, не то богадельня с лазаретом, церковью, трапезной, кладбищем.
«Чада антихристовы», как за малыми детьми, ухаживали за больными телом и духом москвичами. И повсюду поспевал немногословный степенный мужик – Илья Ковылин. Он перекрещивал новых прихожан в старую веру федосеевского толка, исповедовал и причащал тех, кто уже был готов навеки расстаться с бренной жизнью. А полторы сотни сытых лошадей с его кирпичных заводов тем временем вывозили из вымирающего города имущество хоронимых на новом Преображенском кладбище москвичей.
Наконец русская зима пересилила иноземную чуму и город стал приходить в себя.
Но раскольничья обитель не распалась, а с каждым годом крепла и выросла в одну из самых богатых общин России.
Ковылину братья по вере без излюбленных государством расписок и счетов доверили свои главные капиталы. Он выстроил рядом с деревянными избами двухэтажные каменные дома (они используются как жилые помещения и по сей день), одел в камень староверческие церкви и часовни, окружил раскольничью твердыню высокими стенами с башнями.
Преображенский богадельный дом и Преображенское кладбище.
Художник Р. Курятникова
Здесь собирались на тайные церковные соборы соловецкие и стародубские старцы, чтобы поспорить: проклинать им в своих молитвах царствующего сатану или обойти презрительным молчанием?
– Антихрист правит царством, – пронзая суровым взглядом старцев, проповедовал Ковылин, – седьмой фиал льет на Россию, но не смущайтесь, братья, ратоборствуйте против искушений его…
Взирая на его внешнее благочестие, вслушиваясь в его непримиримое красноречие, старцы про себя шептали: «Владыко, истинный владыко». Но ни у одного не сорвались с языка эти слова, потому как превыше всего они почитали равенство.
Ковылин был старшим среди равных, хозяйственным распорядителем обители. Он следил, чтобы четко работали созданные староверами почта, суд, регулярные съезды. Он заводил знакомства с генералами и поварами генералов, с министрами двора и придворными портными, опутывая Россию сетью подкупленных им людей. Взятка правит государством, понял Илья Андреевич, и частенько говаривал: «Кинь хлеб-соль за лес, пойдешь и найдешь». С презрением, как алчному зверю, бросал он звонкое золото в чиновничью ниву, а взамен получал чистый воздух свободы.
Попробовал было обидчивый Павел I издать указ об уничтожении Преображенской обители, но Ковылин в день ангела преподнес новому московскому обер-полицеймейстеру Воейкову большой пирог, начиненный тысячью золотых империалов. Имениннику пирог пришелся по вкусу, и он не торопился с исполнением строжайших государевых распоряжений. Вскоре же, в одну из темных петербургских ночей, нескольким орлам Екатерины попался под руку в императорской спальне сонный император, и Павел I уснул навечно, так и не насытившись своим непререкаемым авторитетом.
Император Павел I Петрович Романов (1754–1801)
Император Александр I Павлович Романов (1777–1825)
Новому императору Ковылин униженно писал, что «давность времени довела строения богаделен и больницу до совершенной ветхости», и просил Александра I взять под свое покровительство престарелых и увечных прихожан Преображенской обители. В ином стиле он вел переписку с министром внутренних дел князем Алексеем Куракиным: «Бога не боишься, князь, печь и недопечь. Московских старообрядцев твоими милостями царь приказал не тревожить. Теперь иногородним нашим братьям попроси то же».
А тем временем по мощеному монастырскому двору ветхой богадельни бегали злобные псы с кличками Никон, Петр, Павел, Александр. Ворота обители всегда были открыты для беглых крестьян, которые получали здесь новое имя и старую веру. В молельнях, сложенных из мячкинского камня, перед старинными образами горели полупудовые свечи, и мужчины в черных суконных кафтанах, застегивающихся на восемь пуговиц, женщины в черных китайских сарафанах с черными повязками на голове, двуперстно крестясь, крепили свое единство. «Нашими трудами вся русская полиция кормится», как везде усмехались они в длинных и сухих каменных подвалах, где ровными рядами лежали могущественные золотые и серебряные слитки, стояли сундуки со звонкой монетой, драгоценными камнями.
Ковылин показал, как оборотист и умен русский простолюдин; он создал мужицкую оппозицию правительству, которая, объединив несколько десятков тысяч людей, доказала, что можно и должно жить в равенстве, без кровавых злодеяний, что можно трудиться и пожинать плоды своего труда не благодаря, а вопреки монаршей опеке и руководству дворянства.
След на века
«За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и услаждаясь пением кенаря или граммофона, в зависимости от духа времени».
Георгий ФедотовКонечно, сначала москвичи селились на холмах. Но город разрастался, и простолюдинам все чаще приходилось ставить избы в низинах. И уже начали говорить, что Москва стоит «не на семи холмах, а на болоте, в ней ржи не молотят». Из века в век горожане месили грязь, пробираясь от дома к дому по берегам многочисленных речушек, прудов, болот. «Фома поспешил, да людей насмешил – увяз на Патриарших»; «Скорого захотела, пошла прямиком, да и сидит по уши в Неглинной». И не то чтобы отцы города не заботились о нем никак, но то ли руки у них до всего не доходили, то ли не было у них к этому призвания.
Каждый московский градоначальник чем-нибудь да прославился в веках. Ростопчин, правивший Москвой в 1812–1814 годы, – пожаром, когда французы вошли в город. Закревский, которого Николай I поставил «усмирять москвичей» после французской революции 1848 года, – борьбой с инакомыслием. Великий князь Сергей Александрович, мало занимавшийся городскими делами и равнодушно отнесшийся к ходынской катастрофе 1896 года, которая унесла около полутора тысяч жизней, – женой, великой княгиней Елизаветой Федоровной, причисленной ныне к лику святых.
Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826)
Арсений Андреевич Закревский (1783–1865)
Великий князь Сергей Александрович Романов (1857–1905)
Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784)
Граф Захар Григорьевич Чернышев, командовавший городом в 17821784 годах, оставил по себе память борьбой с московской грязью, желанием, чтобы его город чистотой напоминал европейские, в которых он побывал, служа в русском посольстве в Вене, участвуя в заграничных военных походах и находясь в плену у прусского короля Фридриха II. Чернышев уничтожил топи и болота на городских реках, приказал спустить большинство прудов при обывательских домах, сломал мельницу и запруду в устье Неглинной, благодаря чему Моховая, Воздвиженка и начало Никитской освободились от непролазной грязи.
Назначение шестидесятилетнего графа градоначальником в Москву можно было назвать понижением в должности. Участник многих боевых сражений, генерал-фельдмаршал, наместник Белоруссии, он был горд и щепетилен, поэтому по наущению екатерининских фаворитов часто попадал в опалу. Но не отчаивался и каждый раз благодаря энергии, деловитости и ревностному исполнению воли императрицы вновь взлетал вверх.
Москва стала его последним пристанищем, последним местом приложения сил. Когда 29 августа 1784 года Чернышев умер, москвичи сокрушались: «Хотя бы он, наш батюшка, еще два годочка пожил. Мы бы Москву-то всю такову-то видели, как он отстроил наши лавки». Имелось в виду, что по приказу графа была отремонтирована Китайгородская стена и возле нее выстроены двести четыре деревянные лавки.
Удивительно, как много дел по благоустройству города успел завершить Захар Григорьевич. Несмотря на то что еще в 1775 году вышел указ об устройстве бульваров на месте стен Белого города, работы начались только при нем.
Он построил на всех переходах в Кремль каменные мосты: Боровицкий, Троицкий, Спасский и Никольский; проложил Мытищинский водопровод до Кузнецкого моста; начал поправлять Земляной и Компанейский (Камер-Коллежский) валы; поставил пятнадцать застав с кордегардиями, обозначив черту города… Да что говорить, и поныне, двести с лишним лет спустя, московские градоначальники селятся в доме на Тверской площади, выстроенном из кирпича разобранной стены Белого города графом Чернышевым, а прилегающий к дому переулок носил его имя. Захар Григорьевич недолго прожил в первопрестольной, но оставил в ней след на века.
Французы в городе
Рассказ священника И. Божанова
Когда фельдмаршал Кутузов вступил победителем после бегства французов в Вильну, к нему явился директор тамошнего польского театра с просьбой о разрешении сыграть пьесу в ознаменовании этого дня. Кутузов не дал своего согласия, а потребовал, чтобы на сцене была поставлена та самая пьеса, которая была дана в день вступления в город французских войск, переполненная язвительными намеками на русских и низкой лестью Наполеону. Директор стал робко возражать, но безуспешно, и вынужден был повиноваться. Вечером Кутузов приехал со всем своим штабом в театр. При каждом прославлении Наполеона, так странно режущем слух после его бегства, Кутузов аплодировал актерам, и все прочие слушатели следовали его примеру. Никогда еще аплодисменты не отзывались так мучительно в сердцах актеров, как в этот вечер на сцене виленского театра.
Сентября 2-го дня 1812 года, в четыре часа пополудни, я был захвачен в Кремле во время благовеста к вечерне, ибо я был чередной [священник] при Большом Успенском соборе. Благовест продолжался долее обыкновенного времени. Но как из братии никого не явилось, то с находящимися при мне дьяконом Иваном Андреевым и некоторыми из нижних чинов служителями в собор взойти и начать службу не посмели. А посему и приказано было мною унять благовест. Но едва сие учинить успели, как услышали выстрел из пушки. Таковая нечаянность побудила нас выйти из комнаты и узнать причину сему. Но о ужас!.. Зрим со всех сторон вступающих галлов в страшных волосатых своих касках и странных мундирах, из коих несколько человек бросились, как гладные львы, на нас. Сотоварищи мои рассеялись, а я не успел на себя возложить верхние одежды, как враги вбежали в покой и, во-первых, всего меня обнажили. Потом требовали хлеба, вина, денег. Но как я знаками отвечал им, что ничего из требуемого не имею, то они настоятельно истязали, бия меня плашмя палашами, и дали несколько не так тяжелых ран. Потом чрез знаки же допрашивали, где ключи от собора. На ответ мой, что они увезены, один из них ранил меня по голове и другим ударом отрубил половину уха. Неминуемой жертвой их свирепости был бы я, ежели бы не взошел, к счастью моему, их офицер. Он, видя, что я духовный, спрашивал меня по-латыни о причине, за что я так терзаем. Услышав знаемый мне язык, весьма я был обрадован, что имею такого человека, с которым могу объясниться. Открыл ему причину и при том сказал: потому требуемого ими не имею, что не живу здесь, что это есть такое место, куда священноцерковнослужители собираются для принесения Господу жертв и молитв по чиноположению нашего вероисповедания, по окончании коих каждый из нас возвращается в свой дом. Он вопросил меня еще: имею ли я дом, есть ли в нем все требуемое солдатами и далеко ли живу? Узнав из моего ответа, что все имею и жительство близко, то, переговорив со своими по-французски, коего языка я не разумею, повели меня, обнаженного и окровавленного, окружив, яко уголовного преступника, в мой дом. И как вели меня по Никитской улице, на которой я жил двадцать лет, а посему всеми жителями коротко был знаем, то они, видя меня в таком состоянии, разгласили, что меня неприятели умертвили.
В театре. Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
По пришествии в дом вспомнил я слова премудрого Сираха: «Аще враг твой алчет – ухлеби его, аще жаждет – напой его». Первое мое попечение было, чтоб угостить их. Оставшейся со мной старушке приказал подать все то, что токмо имелось лучшего, думая гостеприимством приласкать их и укротить свирепство. В сем я на несколько времени и не обманулся. И они, донеле же вкушали предложенные брашна и пития, казалось, были снисходительны и благосклонны, и на лицах их нималой свирепости не приметно было. Тем только скуку наводили, что принуждали, дабы я сам прежде ел и пил. Но как скоро утолили голод и жажду, то приказали отворять сундуки и комоды. Я с прискорбием зрел, что они все лучшее выбирали, но без всякого противоречия принужден был отдать все то, что им угодно было и нужно. Таким образом, собранное несколькими летами в един час погибло. Забрав все, как мое, так и женино и заготовленное в замужество дочери платье и белье, и завязав в простыни, требуют денег. Без всякого прекословия отдал им все, сколько имел я (а было очень немного оставлено для непредвиденных случаев, прочие же деньги, сколько случилось в сие время, отпустил с женой, которую с семерыми детьми того же утра на одной тележке выпроводил за заставу).
Начальник грабежа, или офицер их, судя по порядочному имуществу и видя столь малое количество денег, думая, что я скрыл, грубым и строгим голосом сказал мне: неужели ты столько имеешь? Я клялся ему всем тем, что токмо он за священное почитает, что больше не имею. Но он мне в ответ: у меня священного ничего нет, а ты должен отдать все деньги непременно. Иначе угрожал мне неизбежной смертью, ударив меня по щеке. В то самое время один из его солдат, следуя достохвальному примеру своего начальника, учинил мне штыком в бок значущую рану. Погиб бы я от сего удара, ежели б, узрев его размах, несколько ни уклонился. От страха и ужаса пал я без чувств на пол и лежал в таковом состоянии до другого дня.
Наполеон перед Москвой. Художник Р Штейн
Никто не смел выходить из своего дома, а потому никто не узнал бы о бедственной моей участи, ежели бы соседа моего, московского купца Ивана Яковлева Зеленина, жена не разрешилась от бремени. Он, зная, что я остался в Москве, пришел наудачу отыскивать меня в мой дом, дабы с новорожденным дитею учинить по закону. Нашед меня едва жива, обмыл мою кровь, обвязал раны и привел меня в чувство. И что же первое представилось моему взору?.. Все ограблено, изломано и перебито, даже книги изорваны и разбросаны по полу и валяются на дворе. С сердечным прискорбием вздохнув, пошел я с Зелениным в его дом и, исполнив с младенцем должное, остался у него до того времени, как дома ближние начали пылать огнем.
Убегая таковой опасности, принуждены, по примеру других, идти в поле. Дорогою множеством народа мы разлучены были, и я с некоторыми из знакомых пошел к Лазареву кладбищу, где собралось множество людей обоего пола, плачущих и рыдающих…
Рождественского девич монастыря монахини Павла, Надежда и Паисия, которые не токмо мне были знакомы, но одна из них и родственница, узнавши, что я хотя и много пострадал от неприятеля, но еще жив и брожу, яко некий странник, по обгорелым домам для куска хлеба, прислали ко мне с приглашением, чтобы я пришел в смиренную их обитель. Приказали при том уверить меня, что у них очень покойно и что они имеют все нужное к продолжению жизни, ибо остановившийся в их монастыре неприятельский начальник столь был человеколюбив и снисходителен, что, видя их смиренную, убогую и святую жизнь, дал твердое и верное обещание, что он не допустит сожигать их келий, производить грабеж и чинить какое-либо оскорбление. К великой чести достойного сего воина служит, что он свято и верно выполнил свое обещание и сей слабый, немощный и беззащитный преподобных дев лик во все его пребывание в обители ни малейшего не терпел притеснения…
Нерушимые стены
Москва пылала…
Ночи в ней были тогда багряно-кровавые, зловещими отсветами играющие в небе, а дни темные, как ночи, в сплошной туче дыма, застилающей осеннее солнце, в смраде и копоти от пылающих домов, дворцов и хижин…
Море огня разливалось из края в край, по златоверхой, безлюдной, молчаливой Первопрестольной. Никто не ставил препон пламени, оно ни на кого не наводило ужаса… На загроможденных развалинами сгоревших и пылавших еще домов улицах изредка показывались одинокие, таинственные фигуры. Они спокойно, без испуга, – видимо, даже радуясь грохоту и ужасу разбушевавшейся стихии, – пробирались в уцелевшие еще улицы и переулки, откуда вслед за тем подымались новые клубы пламени и дыма. Безлюдная Москва пылала…
Пожар Москвы 15 сентября 1812 года. Художник Л. Ругендас
Только мотались над ней, полуразрушенной и обгорелой, стаи ворон, галок и голубей, выгнанных из своих, столетиями насиженных, жилищ и, спасаясь от поднимавшихся всюду столбов пламени, наполняли вышину поднебесья тревожными криками, а время от времени неслась издали полузаглушенная треском и грохотом пожара все еще торжествующая французская речь:
– Да здравствует император!
И потом снова ревела пожиравшая город огненная стихия…
Несколько сутуловато сидя на коне, Наполеон, в сопровождении следовавшей за ним на довольно большом расстоянии свиты проезжал одной из узких московских улиц, еще дымившейся от недавно кончившегося на ней большого пожара. Вороной нервный конь, насторожив уши, косил глаза на догоравшие еще бревна и кучи домашней рухляди, тлевшей среди улицы, поджимал бока, семенил ногами и каждую минуту готов был сделать прыжок в сторону от пышущих еще огнем развалин. Но рука в серой перчатке, державшая опущенные поводья, и тогда оставалась неподвижной.
Последние минуты Наполеона в Москве. Художник А.И. Шарлеман
Было что-то отчужденное впечатлениям всего окружающего в неподвижной, сутуловатой, пригнувшейся фигуре императора. Только взор его был все тот же: напряженно, казалось, прозревавший цепь неизбежно грядущих событий, вызванных, быть может, помимо его воли, но им самим…
Москва взята, но Москвы нет. В побежденной стране, но без побежденных, – в стране, лик которой до сих пор смотрит на него загадкой из-за неоглядных далей полей, лесов с опустевшими деревьями и городами. Победил ли он?.. Может быть, эти мысли поглощали теперь все внимание Наполеона, впервые вызывая в его душе тайную, еще не осознанную тревогу…
Но вот еще один переулок, и потом – угол широкой улицы. Белеют каменные стены ограды, не тронутые дымом и копотью пожара, сияют золоченые кресты, и плывет звон – тихий, переливчатый монастырский звон, зовущий к высокому, вечному небу, к неугасающему сиянию тихих зорь. Несет он забвение всему великому и малому в жизни и будит в душе благостное ликование пред вечным светом…
Слышнее и слышнее торжественное и умилённое пение хора женских голосов, возносящих славу Великому, Вечному. И тот, кто хотел быть повелителем мира, единой славой в нем, вышел из состояния долгой неподвижности. Рука в серой перчатке приподнялась вдруг и сделала короткий жест. Тотчас же от свиты отделился один из адъютантов императора и, пришпорив коня, подскакал к нему.
– Разве Москва мною не взята? – обратился Наполеон к адъютанту, бросив взгляд в сторону монастырских стен, мимо которых проезжал.
– Москва у ног вашего величества! – ответил адъютант.
– Но если я молчу, разве они могут петь и звонить?
– О, они будут молчать, ваше величество!
На следующий день, когда над Москвой, как и каждый вечер, начали рдеть багровые вспышки пожаров, а в монастыре славили тихий свет славы Бессмертного, в ворота монастырской ограды после повелительных окриков вошел небольшой отряд французских солдат. Они что-то оживленно говорили не понимавшим их монахиням, наполнили своим говором и смехом монастырский двор, тихие кельи и наконец с тем же смехом, не снимая кепи, заглянули в монастырскую церковь. Потом в один из нижних притворов внесли тяжелые, обитые железными полосами ящики.
– Это вино… Чтоб было весело жить и легко молиться! – со смехом говорили монахиням солдаты, тыкая пальцами в ящики.
Они долго устраивали что-то в притворе, возились с чем-то у монастырской стены, затем, кончив свою работу, закрыли накрепко тяжелые двери и замкнули их огромными замками…
Инокиня Сарра, распростершись на полу пред углом кельи, увешанным иконами и освещенным трепетным светом лампад, с истомленной молитвенным настроением душой многократно, с умилением повторяла:
– О всепетая Мати! Избави всех от всякия напасти… Огради святую обитель Твою! Вонми глас моления моего!..
Долги и горячи были ее молитвы. Усталость охватила ее, смежились глаза, и, распростертая на полу, инокиня Сарра забылась…
Она не могла сказать, был ли то сон или видение. Двери кельи ее вдруг открылись. Вошел благолепный старец, лик которого, казалось ей, она давно хорошо знала, и сказал:
– Спеши! Возьми фонарь, ключ, что замыкает главный притвор храма, и иди в нижний притвор… Спеши! – повторил старец и светлой тенью скрылся в двери.
Иоанно-Предтеченский женский ставропигиальный монастырь в Москве
Инокиня Сарра одним движением приподнялась с пола и быстро направилась из кельи. Мать Агапия, сторожившая храм, как будто уже поджидала ее с фонарем и ключами. Открыли двери притвора и вошли туда. Под низкими сводами тяжело пахло гарью. Огненной иссыхающей землей тлели пропитанные горючим составом шнуры, проведенные к поставленным друг на друга тяжелым ящикам. Немного уже оставалось догорать шнурам, чтобы огонь коснулся содержимого ящиков… Инокиня Сарра бросилась за водой.
– Да будет благословенно имя Господне! – произнесла она и вылила из ведра воду на тлеющие шнуры, погасив их.
Всего через несколько минут все монахини монастыря были уже в притворе. Разбили один из ящиков. Оказалось, что они были наполнены порохом. В эту ночь храм и монастырь должны были быть взорваны…
– О всепетая Мати!..
А снаружи монастырских стен уже дежурил довольно большой отряд французских солдат в ожидании взрыва монастыря. Но минуло уже лишних полчаса, час, а стены монастыря оставались нерушимыми…
Храм торжественно осветился огнями, наполнился монахинями; раздалось многоголосое пение благодарственного молебствия Божьей Матери.
– Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых!.. – возносили торжественным хором свои моления монахини.
Шутки и смех, все время раздававшиеся снаружи монастырских стен, смолкли…
На следующий день Наполеон отдал новое распоряжение: подвести под монастырь наружные подкопы и все-таки взорвать его.
Но стены монастыря остались нерушимыми…
То, что в неосознанной тревоге прозревал Наполеон, случилось: необходимость заставила его бежать из Москвы. В тот день, когда лопаты саперов должны были бы застучать около монастырских стен, расстроенные французские отряды уже были за заставой златоверхой столицы.
Светская жизнь
«Москва – это государственные политические Елисейские поля России! Все те, кто был в силе при Екатерине и Павле, и все те, кто ныне не в милости или считаются объединенными Александром, пользуются здесь, в этом ленивом, изнеженном, великолепном азиатском городе, каким-то призрачным значением, основанном на одном лишь учтивом внимании, потому что все действительное влияние уже давно перешло в виде наследства к их преемникам».
Мисс Вильмот, 1806 годВ 1772 году в Москве иностранцами был учрежден Английский клуб. Вместе с другими клубами он был закрыт в конце XVIII века (в царствование Павла I), и возобновлен 12 июля 1802 года. Число его членов было ограничено сначала тремястами, а позже пятьюстами дворянами, и он стал местом сбора московской аристократии. Женщины в его стены не допускались. Сюда съезжались, по выражению Н. М. Карамзина, «чтобы узнать общее мнение». С. П. Жихарев изображает в своих записках Английский клуб 1806 года: «Какой дом, какая услуга – чудо! Спрашивай чего хочешь – все есть, и все недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные, а для чтения есть особая комната, в которой не позволяется мешать читающим. Не хочешь читать – играй в карты, в бильярд, в шахматы. Не любишь карт и бильярда – разговаривай: всякий может найти себе собеседника по душе и по мысли. Я намерен непременно каждую неделю, хотя по одному разу, бывать в Английском клубе. Он показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно прожить, обходясь без большого. Об обществе нечего и говорить: вся знать, все лучшие люди в городе членами клуба». С. Глинка в 1824 году дал примерно ту же характеристику Английскому клубу: «Тут нет ни балов, ни маскарадов. Пожилые люди съезжаются для собеседования; тут читают газеты и журналы. Другие играют в коммерческие игры. Во всем соблюдается строгая благопристойность».
Усадьба князей Гагариных – Английский клуб – Ново-Екатерининская больница.
Гравюра К. Вейермана по рисункам А.О. Адамова
Английский клуб всегда чуждался театрализованных увеселений. Только по требованию пятидесяти одного члена старшины имели право пригласить для увеселения певцов или музыкантов. Имелось три бильярдных комнаты с маркером. И, конечно, всюду столики для карточных игр – главного развлечения большинства посетителей. В отдельной комнате для любителей сладостей были навалены груды конфет, яблок и апельсинов.
До 1812 года клуб помещался в доме князей Гагариных (Страстной бульвар, 15), затем сменил два адреса, пока в 1831 году прочно не осел в доме графини Разумовской (Тверская улица, 21). Ныне это здание занимает Музей современной истории России. Но сейчас оно, зажатое между другими домами, не передает атмосферу XIX века, когда с балкона открывался удивительный вид на старую Москву, а от дома под гору спускался просторный и тенистый сад.
Английский клуб прославили многие русские писатели. А.С. Пушкин упоминает его в «Евгении Онегине», А.С. Грибоедов, в «Горе от ума». Л.Н. Толстой в «Войне и мире» описал парадный обед в клубе, а в «Анне Каренине» Левина в стенах Английского клуба охватило впечатление «отдыха, довольства и приличия». В записках 1820-х годов П.Л. Яковлев изобразил клубных завсегдатаев, привыкших все дни своей жизни проводить в обществе себе подобных. В последние дни Страстной недели, когда клуб закрыт, «они чувствуют не скуку, не грусть, а истинно смертельную тоску. В эти бедственные дни они как полумертвые бродят по улицам или сидят дома, погруженные в спячку. Все им чуждо! Их отечество, их радости – все в клубе! Они не умеют, как им быть, что говорить и делать вне клуба! И какая радость, какое животное наслаждение, когда клуб открывается. Первый визит клубу и первое “Христос воскрес!” получает от них швейцар. Одним словом, в клубе вся Москва со всеми своими причудами, прихотями, стариною».
О посетителях же самого аристократического московского клуба в 1880-х годах рассказал П.И. Щукин: «В Английском клубе были старики-члены, которые обижались, если кто-нибудь садился даже по незнанию на кресла, на которых они привыкли сидеть много лет. Московский генерал-губернатор князь В.А. Долгоруков тоже посещал Английский клуб, где играл на бильярде с маркером или слушал русский хор А.З. Ивановой».
Художник Константин Коровин отмечал, что «потолки в залах Английского клуба были украшены прекрасными плафонами французских художников. Они были темные, теплого цвета, глубокие и прекрасные по тону. Лакеи, старые люди, одетые в ливреи времен Александра I, дополняли характер эпохи».
* * *
Предание гласит, что немецкий клуб был основан чуть ли не при Петре I то ли в Красном селе, то ли в Немецкой слободе. Достоверно же известно, что 15 декабря 1818 года Мартин Шварц подал прошение военному генерал-губернатору А.П. Тормасову о том, что он имеет «намерение в Москве, на Бутырках, по желанию многих иностранцев открыть танцовальный клоб», и просил разрешить в нем горячительные напитки и игру в карты, «для увеселения поставить один бильярд», и «в назначенные от старшин дни производить инструментальную музыку для увеселения дам».
Девушка с маской в руке (на маскараде)
Немецкий танцевальный клуб на Бутырках открылся 7 февраля 1819 года и в октябре того же года переехал в Мясницкую часть, в дом князя М.М. Долгорукова. Он был открыт ежедневно с утра до полуночи, а в бальные дни – до двух часов ночи. В бальные дни члены клуба могли проводить с собой сколько угодно дам. Но если они решались провести женщин «с худой репутацией», то могли лишиться членства в клубе. Среди его членов русских насчитывалось почти столько же, сколько иностранцев, но по уставу они не могли быть избраны старшинами.
В 1839 году, называясь Московским немецким бюргер-клубом, он насчитывал четыреста пятьдесят действительных членов, двести пятьдесят членов-посетителей и пятьсот кандидатов. С Мясницкой клуб переехал на Покровку, в дом возле церкви Троицы на Грязех, потом на Ильинку, в дом Петра Калинина. С 15 октября по 1860 год размещался в здании Российского благородного собрания (вход с Георгиевского переулка), а последний его адрес – дом Торлецкого-Захарьина (ныне Центральный дом работников искусств). В связи с началом Первой мировой войны Немецкий клуб был переименован в Московский славянский клуб, а в 1918 году прекратил свое существование.
Особенно весело в Немецком клубе проходили маскарады, на время которых им отдавались и залы Благородного собрания, которые соединялись лестницами с залами размещавшегося в том же здании Немецкого клуба. На маскарадах присутствовало одновременно до десяти тысяч человек, а ужин накрывали на четыре тысячи персон. В «Очерках московской жизни» 1842 года П.Ф. Вистенгоф описал этот праздник:
«Маскарады Немецкого клуба посещаются преимущественно семействами немцев, иностранцами других наций, принадлежащих к ремесленному классу, семействами мелких учителей, актерами и актрисами. В этих маскарадах существует разгульная непринужденная веселость. Здесь на туалет нет большой взыскательности, и молоденькие немочки, а иногда и старушки преспокойно попрыгивают контрадасы в простых беленьких платьицах, часто без всяких украшений. Между ними попадаются и русские дамы в амазонках и наряженные кормилицами. Эти дамы снимают свои маски уже тогда, когда старшины клуба порядочно наужинаются и ко входу их сделаются несколько благосклоннее. А до того времени им угрожает злобное немецкое «haraus[11]». Мужчины среднего круга также посещают маскарады клуба, чтоб поволочиться за немочками и за этими русскими дамами, которые так боятся непоужинавших немцев. Они нередко также подвергаются грозному “haraus” за свои шалости. Смотря по роду преступления, их иногда выводят с музыкой».
* * *
Купеческий клуб основал в 1786 году Карл Людвиг Хейснер в Китай-городе, в доме московского купца Никиты Павлова. Закрыт он был в конце 1796-го или в начале 1797-го вследствие указа императора Павла I о закрытии всех московских клубов. Возобновлен указом 1804 году под названием «Купеческое собрание». Оно было учреждено с целью дать своим членам «возможность проводить свободное от занятий время в обществе с пользою и удовольствием». Размещалось оно сначала в доме купца Антипа Ивановича Павлова возле Гостиного двора, потом сменило ряд адресов, пока с 26 сентября 1839 года прочно не обосновалось на Большой Дмитровке, в доме тайной советницы Мятлевой. В 1909 году Купеческое собрание переехало в новоотстроенный собственный великолепный дом на Малой Дмитровке (дом № 6, где в 1918 году был Дом анархии, потом Совпартшкола, Коммунистический институт имени Я.М. Свердлова, а с 1938 года и до сих пор – Театр имени Ленинского комсомола – Ленком).
Здание Купеческого клуба на Малой Дмитровке
Постановлением 1814 года число членов Купеческого собрания определялось в сто пятьдесят человек. Но к 1850 году их насчитывалось уже семьсот пятьдесят человек, а в 1856 установили норму в девятьсот человек.
Членами Купеческого собрания во второй половине XIX века были преимущественно крупные представители торгово-промышленных московских фамилий: Абрикосовы, Боткины, Варгины, Вишняковы, Гучковы, Губонины, Кокоревы, Кольчугины, Карзинкины, Кнопы, Крестовниковы, Коншины, Куманины, Кушнеровы, Мамонтовы, Моргуновы, Перловы, Поповы, Рябушинские, Сапожниковы, Солдатёнковы, Солодовниковы, Сорокоумовские, Третьяковы, Хлудовы, Чижовы, Шелапутины. Также среди членов Купеческого собрания были представители московской аристократии Волконские, Долгоруковы, Трубецкие, университетские профессора Т.Н. Грановский, И.К. Бабст, музыкант Н.Г. Рубинштейн, артист М.С. Щепкин, адвокаты Ф.П. Плевако, князь А.И. Урусов, журналисты, художники, врачи.
Гости допускались в Купеческое собрание с момента его основания, но с тем, чтобы члены записали их «в приготовленную для того книгу». Правда, в разные годы существовали дополнительные ограничения. Например, в начале XIX века член собрания мог приводить с собой гостя не чаще, чем три раза в год. С зимы 1907 года в качестве гостей получили право входа дамы «во все дни, кроме вторников и суббот».
Сначала из увеселений появились балы, на которые каждый член собрания мог провести до трех дам или девиц. «Само собой разумеется, – записано в правилах, – что каждый член не должен провести в Собрание ни дамы, ни девицы, в благонравии и добром имени которой не совсем уверен». Для наблюдения за «порядком и приличием в танцах» учредили даже должность танц-директора. Чем ближе к концу XIX века, тем разнообразнее и многочисленнее становились развлечения – маскарады, музыкальные вечера, дивертисменты, кабаре, рождественские елки и т. д.
Но на капиталы Купеческого собрания не только веселились. Всякий раз во время войн и неурожаев на благотворительные нужды отпускались огромные суммы денег. В 1850 году при собрании была основана библиотека, которая стала со временем уникальной и к 1914 году насчитывала пятьдесят две тысячи томов, в том числе четырнадцать тысяч на иностранных языках.
Открывалось Купеческое собрание, начиная с 1814 года, в девять часов утра и закрывалось в два часа ночи. Но со временем здесь часто стали устраивать общие обеды с цыганами и музыкой, а также юбилейные торжества, которые опять же заканчивались пиршеством. И тогда можно было гулять хоть до утра – только штраф заплати.
Проигрыш в карты
Из старейших игр здесь прижился бильярд. В 1830-1840-х годах полюбилось лото. В 1861 году стала популярна новая игра, «лото-домино», продержавшаяся до ее запрещения министром внутренних дел в 1866 году. С 1859 года допускались «все коммерческие игры в карты».
Многие падкие на сенсации журналисты рассказывали о бесчинствах, творимых в Купеческом собрании, и о невежестве его посетителей. Даже анекдоты пересказывали об этом:
Но факты свидетельствуют обратное. Например, газета «Московский листок» 15 сентября 1881 года поместила на своих страницах очерк «Исключили миллионщика»:
«В купеческом клубе шел обед. Старшины, по обыкновению, сидели в углу стола и доедали последнее блюдо. Вдруг влетает в залу Гаврила Гаврилович Солодовников, садится неподалеку от них, подзывает человека и говорит ему:
– Подай мне карточку обеда.
Человек подал. Капиталист-скряга просмотрел ее и заявил:
– Принеси мне говядины!
В трактире.
Гравюра с картины В.Е. Маковского
Приказание было выполнено. Купец отрезал кусочек, понюхал его и, бросив вместе с вилкой на тарелку, крикнул официанту:
– Какую ты, братец, гадость мне подал!
– Извините, какая есть.
– Позови ко мне старшину!
Человек подошел к Николаю Ивановичу Пузыреву и доложил:
– Вас просит к себе господин Солодовников.
– Слышу. Скажи ему, чтобы он обратился к эконому. Это его дело – разбирать.
Ответ был передан. Солодовников начал кричать:
– Что это такое, помилуйте! Им, – кивая на старшин, – подается все хорошее, а членам клуба пихают какую-то тухлятину!
Николай Иванович, закончив обед, отправился в контору, куда пригласили и Солодовникова.
– Послушайте, Гаврила Гаврилович, как вам не стыдно кричать в клубе?
– Помилуйте, за кого вы считаете нас, членов? Разве можно подавать к обеду негодную говядину?
– Приезжайте вовремя. Готовить обед для каждого порознь невозможно. Плохо вам подали – заявите о том эконому или принесите жалобу в контору, но не кричите на всю залу.
– Да что вы меня учите! Я знаю, что делаю!.. – И пошел ораторствовать, нанизывая дерзость на дерзость.
Господин Пузырев о поступке господина Солодовникова занес запись в книгу для обсуждения на собрании.
Солодовников, возвратившись в залу, увидел сидящего неподалеку курившего трубку артиста Ленского, подошел к нему и повел такую речь:
– Вы видели, как со мной поступили? Подали тухлую говядину, меня же вызвали в контору и обвиняют, как я осмелился говорить о неряшестве, с каким клуб обращается с нами, своими членами.
– Видел все и слышал, – ответил Ленский, пуская в потолок клуб дыма.
– И что вы на это скажете?
– А вот что скажу:
Поглядев со всех сторон, Оскорбляете вы нравы. По говядине – вы правы, По душе вас стоит – вон!Гаврила Гаврилович, выслушав такой экспромт, ни слова больше не сказав поэту, взял шляпу и уехал. Через несколько дней Купеческое собрание постановило исключить его из членов клуба».
В ресторане
* * *
Российское благородное собрание возникло в 1783 году по инициативе М.Ф. Соймонова и князя А.Б. Голицына. Оно приобрело 19 декабря 1784 года дом в Охотном ряду (на углу с Большой Дмитровкой), принадлежавший князю В.М. Долгорукову-Крымскому. В правилах этого дворянского клуба со дня его основания было записано цензурное ограничение: «Никакие разговоры в предосуждение веры, правительства или начальства, никакие оскорбительные личные, вред или ссору причиняющие рассуждения, равно и запрещенные игры в собрании сем терпимы быть не могут». Членами Благородного собрания могли стать потомственные дворяне, как мужчины, так и женщины.
Балы Благородного собрания по вторникам, заведенные почти с самого начала, стяжали себе повсеместную славу. Сначала они происходили в доме графа Моркова на Никитской улице, а с 1 декабря 1814 года, когда был восстановлен пострадавший от пожара собственный дом в Охотном Ряду, в его залах.
Средь шумного бала
«Дворянское собрание в наше время, – вспоминала о том времени на старости лет Е.П. Янькова, – было вполне дворянским, потому что старшины зорко смотрели за тем, чтобы не было какой примеси, и члены, привозившие с собою посетителей и посетительниц, должны были отвечать за них, и не только ручаться, что привезенные ими дворяне и дворянки, но отвечать, что привезенные ими не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и чрез то навсегда лишиться права бывать в собрании. Купечество с их женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения как зрители в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалось с дворянством: стой себе за колоннами да смотри издали».
С 1844 года Российского благородное собрание из-за многочисленных долгов постепенно приходит в упадок, и в 1849 году прекрасное здание стало принадлежать не московскому, а всему российскому дворянству. В нем проводились заседания Московского губернского дворянского собрания, губернского земства, встречи московского дворянства с приезжавшими в Москву императорами, другие торжественные мероприятия. В Колонном зале выступали с концертами П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов.
Наука врачевания
«Из всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиономию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности, и за то нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве».
Виссарион БелинскийРазвитие русской медицины как науки началось в Москве, да и во всей России, с основанием Московского университета. Третий его факультет, открытый в 1758 году, был медицинский. Здесь в 1764 году профессор И.Ф. Эразмус создал кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства. Обучение длилось от пяти до десяти лет. Набор поначалу производился один раз в три года и не превышал десятка студентов, в своем большинстве происходивших из духовного сословия. Так, например, один из первых студентов С.Г. Забелин (1735–1802), будущий профессор Московского университета, начал свое образование в Московской духовной академии.
Здание Московского университета на Моховой в 1790-х годах
До конца XVIII века преподавание на медицинском факультете велось главным образом умозрительно. Лишь в 1787 году при Московском военном госпитале была открыта клиническая палата на десять коек, которую обслуживали университетские студенты и преподаватели. В 1791 году университет получил право возводить выпускников в степень доктора медицины. Но совершенствоваться во врачебном искусстве выпускникам все равно приходилось в заграничных учебных заведениях. Знаменитый хирург Н.И. Пирогов вспоминал, что за все время своего обучения на медицинском факультете Московского университета ему не пришлось вскрыть ни одного мускула даже у трупа: «Хирургия – предмет, которым я почти вовсе не занимался в Москве, – была для меня в то время наукой неприглядною и вовсе непонятною. Об упражнениях в операциях над трупами не было и помину. Из операций над живыми мне случилось видеть только несколько раз литотомию[12] у детей, и только однажды видел ампутированную голень. Перед лекарским экзаменом нужно было описать на словах и на бумаге какую-нибудь операцию на латинском языке, и только!»
Николай Иванович Пирогов (1810–1881)
Получил практические навыки хирурга Пирогов лишь в Дерптском университете…
В начале XVIII века в Москве появились «вольные аптеки», то есть принадлежавшие частным лицам, а не только госпиталям, как было раньше. Поскольку большая часть лекарств того времени имела растительное происхождение, аптекарям вменялось в обязанность создание аптекарских садов и огородов. Самым большим из них был основанный еще в 1706 году к северу от Москвы для нужд военного госпиталя в Лефортове. В 1805 году он перешел в ведение Московского университета и стал называться Ботаническим садом[13].
Здание глазной больницы на Тверской улице
Нужны были еще и больницы. До XIX века их было раз-два да обчелся: госпиталь в Лефортове, Павловская в Серпуховской части, Екатерининская в Сущеве. Богатые граждане предпочитали лечиться дома, поэтому первые московские лечебницы предназначались для людей, не обладавших большим капиталом. Известный английский путешественник и историк Уильям Кокс, посетивший Россию в 1778 году, оставил обстоятельное описание Павловской больницы, удивившей бережной заботой о бедных даже чистоплотного лондонца: «…..Это деревянное одноэтажное здание содержит двенадцать палат, лабораторию, аптеку и две комнаты для аптекаря, доктор и хирург помещаются в отдельных зданиях. Эта больница рассчитана на пятьдесят двух человек, в самой большой палате, длиною в сорок семь футов и шириною двадцать два фута, стоит десять кроватей, смотря по величине комнаты, в каждом окне сделаны маленькие вентиляторы. Все комнаты оклеены обоями, у постелей – холщовые занавеси; занавеси и одеяла стираются раз в месяц, белье сменяется каждую неделю, каждому больному дается рубашка, подштанники, туфли, халат, носки, ночной колпак; подле каждой кровати стоит столик, накрытый скатертью, и висит полотенце, которое сменяется раз в неделю; больным дается оловянная тарелка, ложка, нож и вилка, оловянная кружка и чашка, они получают отличный белый и черный хлеб, те, которым прописана одинаковая диета, обедают вместе, прочие обедают отдельно, в каждой комнате висит на стене оловянный умывальник с подставленным под ним медным ведром.
Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831)
В больнице было сорок пять мужчин и пятнадцать женщин, последние помещаются отдельно. На каждые пять человек полагается две сиделки».
В самом начале XIX веке появляются Голицынская больница на Калужской, Мариинская больница на Новой Божедомке и другие. К 1840-м годам в Москве насчитывается уже более сорока больниц, причем число их и далее стремительно растет.
Московский врач Матвей Мудров подметил, что медицина на Руси издревле – народная, благотворительная, а заезжие лекари-иностранцы сделали ее одной из самых высокооплачиваемых профессий в обеих русских столицах. Врач стал предметом роскоши, доступной лишь немногим. Необходимо было вырастить собственных врачей, в совершенстве владеющих медицинской наукой, бескорыстных и трудолюбивых.
«Научитесь прежде всего лечить нищих, – назидал Мудров с кафедры Московского университета, – вытвердите фармакопею бедных; вооружитесь против их болезней домашними снадобьями: углем, сажей, золой, травами, кореньями, холодной и теплой водой; употребите в пользу бедных ваших больных стихии – огонь, воздух, воду, землю – пособия, никаких издержек не требующие, и к этому приличную пищу и питье, ибо бедность не позволяет покупать лекарства из аптеки…..»
Мудров создал при университете анатомический театр, возглавил строительство Клинического и Медицинского институтов, после пожара 1812 года отдал свою медицинскую библиотеку в общественное пользование. Он поднял преподавание медицины почти до уровня западноевропейского, упорядочил составление и ведение истории болезни, учил лечить не болезнь как таковую, а отдельно каждого больного, словом и делом постоянно доказывал, что врачу мало одной книжной науки, ему необходимы врачебное искусство, постоянная практика, умение исцелять. Мудров основал русскую терапевтическую школу.
Сестра милосердия
Постепенно Москва все более становилась центром хирургии. Особенно после создания здесь в 1873 году Хирургического общества, первого в России. В него вошли многие гражданские, военные и университетские врачи. Среди учредителей был ряд видных хирургов – Костарев, Гааг, Новацкий, Стуковенков, Синицын.
Стремительное развитие медицины и здравоохранения в Москве во второй половине XIX века своими успехами в первую очередь обязано благотворительности богатых москвичей и прежде всего купцов. Именно они дали капиталы для постройки на Девичьем поле университетских клиник. На добровольные пожертвования москвичей были возведены десятки богаделен, больниц для рабочих, родильных домов, детских больниц, амбулаторий. В них работали десятки тысяч врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер. Это время назвали «золотым веком русской медицины».
«Московские клиники известны, – писал И.С. Шмелев. – Немало они способствовали доброй молве по свету о русской медицине, немало придали блеску науке русской. Члены международного съезда врачей, собравшегося в Москве, были поражены “неожиданным чудом” – целым клиническим городком, вольно раскинувшимся в садах на великом Девичьем поле. Москва – “азиатский город” – открыла европейцам чудеснейшее лицо свое. Клиники эти тоже вложили что-то в добрую славу о России. Созданы они жертвой московского именитого купечества. Клиники воздвигались словно по волшебству в 80-90-х годах минувшего века[14] и все продолжали разрастаться».
Для борьбы с эпидемиями в предреволюционные годы Москва имела две тысячи постоянных коек для заразных больных, которых содержали в изоляции, и если происходила вспышка болезни, число больничных отделений для борьбы с нею и медицинского персонала при них резко возрастало. Санитарные врачи бесплатно производили дезинфекцию на дому формалином, растворами сулемы и карболовой кислоты. Особое внимание стали уделять ночлежным домам, где время от времени проводили уничтожение насекомых, а обитателям этих трущоб предлагали бесплатно за счет городской казны пользоваться банями. Усиливался санитарный контроль за магазинами и рынками. Но здесь было слишком большое противодействие со стороны торговцев, желавших всучить непутевому покупателю залежалый товар.
Эпидемии отступали благодаря профилактическим мерам. Но исчезнуть не могли, пока во всем городе не появились централизованное водоснабжение и канализация, строгий контроль за рынками, достаточное количество дешевых бань сносные квартирные условия. А для этого двухмиллионному городу в начале XX века требовалось такое количество денег, о которых и помыслить было нельзя. Лишь огромные пожертвования московских промышленников, строгие меры полиции и трудолюбие медицинского персонала гасили возникавшие очаги морового поветрия.
Народная мудрость гласит: «В рай входят святой милостыней – нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». И москвичи своими поступками подтверждали эти слова.
Попечитель Московского университета
«Чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношение к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается серьезный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве».
Алексей ХомяковВо многом благодаря своему попечителю Михаилу Никитичу Муравьеву Московский университет с начала XIX века встал в один ряд с крупнейшими европейскими учебными заведениями.
Мальчик Миша вместе со своим отцом в 1768 году переехал из Оренбурга в Москву и был отдан в университетскую гимназию. Потом он года три проучился в Московском университете, откуда ушел, вступив на военную службу в Измайловский полк. Служба в гвардии оставляла много свободного времени, и он дружеским попойкам с однополчанами предпочитал слушать математику у Эйлера, физику у Крафта, читать книги на русском, латинском, греческом, французском, итальянском, немецком и английском языках. С детских лет Муравьев увлекся поэзией и уже в одиннадцать лет переводил на русский язык французские стихи. В четырнадцать лет начал сочинять свои. Муравьева в современных научных трудах называют родоначальником русского сентиментализма в поэзии. Его стихи хвалили современники и ближайшие потомки, но ныне вряд ли кто-нибудь, кроме въедливых литературоведов, откроет его книги.
Михаил Никитич Муравьев (1757–1807)
Прославился среди современников Муравьев и тем, что несколько лет был воспитателем будущего императора Александра I и его брата Константина. Особые услуги он оказал Н.М. Карамзину, выхлопотав ему в 1803 году звание придворного историографа, что позволило писателю оставить журнальную деятельность в «Вестнике Европы» и всецело отдаться «Истории государства Российского».
Но более всего славен Муравьев своими трудами на благо Московского учебного округа. Городские учебные заведения и в первую очередь университет приобрели в нем просвещенного и деятельного начальника, притом с обширными связями при дворе.
«Из любви к месту образования принял он в нежное попечение свое университет Московский, – вспоминал Н.Ф. Кошанский, – и щедроты монаршие полились на него рекою. Вдруг явились в нем новые полезные заведения, профессора чужих стран распространили различные отрасли наук и искусств изящных. Каждый профессор, каждый питомец чувствовал благотворное действие нежных его попечений, ибо он знал цену истинных питомцев просвещения и сам был любимцем муз и граций».
«Муравьев как человек государственный, как попечитель, – говорил в своей речи в Обществе любителей российской словесности поэт К.Н. Батюшков, – принимал живейшее участие в успехах университета, которому в молодости был обязан своим образованием… Ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних, редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостью, со снисходительностью, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики для разлития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером».
Муравьев умело добывал дополнительные денежные средства для расширения научной деятельности университета, способствовал созданию при нем ученых обществ, содействовал появлению устава 1804 года, по которому Московский университет получил множество привилегий.
Почему этот вельможа столь рьяно занимался насаждением просвещения в России? Да потому, что был влюблен в него и был одним из самых образованных людей своего времени. Карамзин в предисловии к посмертному изданию сочинений Муравьева так характеризовал его: «Говорить ли о редких знаниях покойного? Все главные произведения разума человеческого, древние и новые языки, науки исторические, умозрительные и естественные были ему известны. В последние годы жизни, пользуясь справедливою доверенностью монарха, им обожаемого, будучи обременен делами по государственной службе, он не оставлял без внимания ни одной хорошей книги, выходившей в свет на каком-нибудь языке европейском».
Перед экзаменом
Конечно, как и всех грешных людей, Муравьева иногда охватывала лень. Но он бичевал себя за эту слабость и с честью выходил победителем над усталостью от жизни: «Мне легка уже кажется самая скука, сие бремя человечества, в сравнении трудного и малейшего внимания, которое должно употребить на чтение, на чувствование читаемого. И после сего я еще сплю спокойно и терплю бытие мое!»
Смысл своей жизни благодетель Московского университета и московских гимназий не раз высказывал в своих записках:
«Есть в свете прекрасное. Если ты его не видишь, это оттого, что ты порочен».
«Как должно стараться сбирать в средоточие самого себя все то, что составляет наши преимущества!»
«Надобно стараться существовать как можно лучше и иметь дерзновение быть самим собою».
Властитель дум
Мало найдется читателей, кто ныне для увлекательного времяпровождения станет читать сборники статей философа, публициста и поэта Алексея Степановича Хомякова. Ему посвящают научные конференции, его именем бравируют некоторые историки и политики, но из моды он давно вышел. Впрочем, его творчество и раньше было известно лишь немногим. Хотя имя оставалось на слуху всегда.
Мечты Хомякова можно сейчас назвать утопическими. Он верил в великое предназначение славян, считал, что Западная Европа «идет по пути к краху» и лишь «славянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному подвигу и великому служению». С тех пор прошло сто пятьдесят лет, и не только болгары или чехи, но даже ближайшие соседи русских, украинцы, мечтают о союзе не с другими славянами, а с романскими и германскими народами.
Хомяков верил, что настанут в России времена, «чтобы не было нищеты у бедных и не было роскоши у богатых». Он отводил религии огромную роль в будущей общественной жизни России. Но и эти пророчества далеки от реальной жизни XXI века.
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860)
Да, наивные мечтания славянофилов не имеют ничего общего с реальной нынешней жизнью. Но их бескорыстная, часто по-детски наивная, страдальческая любовь к своей Отчизне – это то, чего нам так теперь не хватает. Не хватает и таких людей, каким был основатель московского кружка славянофилов А.С. Хомяков.
Он родился в богатой дворянской семье. Получил домашнее образование и сдал экзамен на степень кандидата математических наук в Московском университете. Свободно говорил и писал, кроме родного, на французском, английском и немецком языках. Знал латинский и греческий языки, санскрит. Если только перечислить людей, с которыми он дружил, то среди них окажется почти весь цвет русского просвещения 1820-1850-х годов: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.П. Погодин, В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, Я.П. Полонский, Л.Н. Толстой, Аксаковы, Веневитиновы, Киреевские, Самарины…
Забубенная головушка
Дом Хомяковых (он был женат на сестре поэта Николая Языкова) на Собачьей площадке возле Арбата стал центром русской мысли, а сам хозяин – большой говорун, любитель парадоксов, отчаянный и артистичный спорщик – притягивал к себе как магнит всех, кто желал просвещения России. В знаменитой «говорильне» – комнате на антресолях – в кругу друзей звучал его звонкий голос, в котором чувствовалась боль за простой народ России и надежда на его хотя бы будущее счастье. Хомяков, одетый в косоворотку и поддевку, заражал гостей своей верой, и при этом никогда не давал повода почувствовать своего превосходства над спорившими с ним.
«В высшей степени сангвиник, он был не только сам полон жизни, но и обладал способностью оживлять то общество, в котором бывал, как бы апатично оно ни было, – вспоминал К.П. Ободовский. – Можно сказать, что он вносил тепло и свет повсюду, где ни появлялся. Тотчас по его приходе все, точно по мановению палочки волшебника, приходило в движение. Начинались оживленные разговоры, переходящие в горячие диспуты, причем Хомяков был душой всеобщего движения. Сам он говорил очень хорошо, но в особенности увлекательной становилась речь его, когда разговор переходил на тему о славянах и славянском движении. Тогда черные глаза его сверкали, и сам он, трактуя о любимом предмете, походил на апостола во время проповеди».
Среднего роста, черноволосый, немного сутуловатый, Хомяков не только по Москве, но и по Лондону ходил в зипуне, мурмолке и в бороде. С той лишь разницей, что лондонцев не шокировал его русский простонародный вид, тогда как московский генерал-губернатор требовал от него сбрить бороду и одеваться по-дворянски.
Хомяков соблюдал все церковные обряды и посты, долго по ночам молился. Но он не был аскетом, с ним всегда было весело. Он любил балы, был знатоком в еде и вине. Его занимали не только словесные споры, но и всякое состязание – охота, скачки, бильярд, шахматы, фехтование. Он всегда брал первые призы по стрельбе в цель.
После смерти Хомякова М.П. Погодин сказал: «Пустота, им оставленная, никогда для нас уже не наполнится». Эти слова, увы, можно повторить и в наши дни. Основатель московского кружка славянофилов глубоко верил в светлое будущее России, и его вера была основана не только на нескончаемом познании мира, но и на сострадании к своему народу. Он мог ошибаться в спорах и в полемических статьях, но не мог не любить своего истерзанного Отечества.
Почитатель Гогена
Михаил Абрамович Морозов (1870–1903): блестяще закончил историко-филологический факультет Московского университета, неплохо рисовал, сочинил и опубликовал роман, писал исторические исследования и публицистические эссе, испробовал себя в качестве университетского преподавателя… Массивный, элегантный, самодовольный, властный – таким он предстал на портрете Валентина Серова. Он объездил всю Европу, и в своих письмах колоритно, с присущей ему во всем оригинальностью описал природу и быт многих городов и курортов.
Он был сторонником всего нового, необычного, «прогрессивного», как выражались интеллигенты того времени. Но его необузданную натуру больше привлекали люди прошлых лет: «У нас в Москве среди купечества дети хуже своих отцов. “Отцы”, которых изображал Островский, были безграмотны и носили длинные бороды, но они все-таки понимали, что есть профессии более высокие, чем маклерство “по хлопку и чаю”, что счастье состоит не только в том, чтобы фабрика приносила трехмиллионный дивиденд и Христофор из “Стрельны” кланялся бы до пояса, а цыгане сами собой пели бы здравицу».
Михаил Абрамович был одним из директоров правления Товарищества Тверской мануфактуры, но, как верно подметила газета «Московский листок», «крупным промышленным и коммерческим деятелем он был, так сказать, лишь по праздникам, но никогда не увлекался этой стороной своей деятельности; он горел искусством».
Михаил Абрамович Морозов у поезда
С молоденькой женой и детьми Морозов жил в собственном особняке с античными колоннами в Глазовском переулке, рядом со Смоленским бульваром.
Во всем здесь, как и в характере хозяина, чувствовалось смешение нового и старого: собственная электростанция при усадьбе и толстый, с необъятной бородой, в русском кафтане кучер на тройке перед крыльцом, старообрядческие иконы на стенах по соседству с полотнами Поля Гогена и Клода Моне, лучшие французские вина и необъятных размеров русский самовар на одном столе.
Гостиная в особняке купца Л.Л. Кенига
«Михаил Абрамович Морозов вообще был чрезвычайно характерной фигурой, – вспоминал С.П. Дягилев, – в его облике было что-то своеобразное и неотделимое от Москвы, он был очень яркой частицей ее быта, чуть-чуть экстравагантной, стихийной, но выразительной и заметной».
В зимнем саду морозовского особняка была собрана не самая большая, но одна из самых интересных в России коллекций картин. Опытный ценитель искусства, Михаил Абрамович сразу же разглядел недюжинный талант недавно умершего Гогена и купил в Париже четыре его картины. Художник Константин Коровин, дававший Морозову уроки рисования, вспоминал о «смотринах» шедевров одного из главных представителей постимпрессионизма:
«Привез Михаил Абрамович картины в Москву. Обед закатил. Чуть не все именитое купечество созвал.
Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям, объясняет: вот, мол, художник какой, для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы, народ гольем ходит… Жара…
– Это вам не березы!.. Люди там как бронза.
– Что ж, – заметил один из гостей, – смотреть, конечно, чудно. Но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха? Скажу правду, после таких картин как кого, а меня на березовую тянет.
– Скажите на милость! – воскликнул Михаил Абрамович. – Мне и Олимпыч, метрдотель, говорил: “Как вы повесили эти картины, вина втрое выходит’! Вот ведь какая история! Искусство-то действует…..»
Всего тридцать три года прожил этот оригинальный негоциант, но преуспел во многом, а более всего в делах благотворительности и милосердия. Немалые деньги он пожертвовал на нужды Московской консерватории и Строгановского училища, устройство нового Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), учреждение Института злокачественных опухолей при Московском университете, на воспитательные дома и богадельни.
Сей добро – от добра худа не бывает. Пусть недолгой была жизнь М.А. Морозова, но она вместила в себя так много, что большинству людей не под силу и за сто лет сделать.
Благолепный мастер
На Зацепе, на Малой Дворянской улице, в 1924 году переименованной в Малую Пионерскую, с конца XVIII века размещались мастерские по изготовлению церковной утвари. К началу ХХ века это предприятие, называвшееся Торгово-промышленным товариществом «П.И. Оловянишников и сыновья», стало одним из самых значимых в Москве. Оно выпускало паникадила, подсвечники, кресты, гробницы, брачные венцы, лампады и прочие изделия из бронзы, серебра и золота. Кроме того, парчу ручной работы, церковные облачения, мебель, иконы, лампы, ларцы и многое другое. Расцвет предприятия Оловянишниковых во многом связан с творческой деятельностью Сергея Ивановича Вашкова, с 1901 года возглавлявшего художественный отдел фабрики.
Он родился в Москве в семье даровитого писателя Ивана Вашкова. Окончил Строгановское училище со званием ученого рисовальщика и много путешествовал по старым русским городам, изучая церковные древности. Всего полтора десятилетия было отпущено художнику, чтобы создавать оригинальные иконостасы, оклады икон, аналои, киоты, хоругви, паникадила и прочие церковные изделия. В своем неподражаемом творчестве он использовал почти все традиционные для Руси приемы художественной техники: скань, филигрань, чеканку, резьбу по дереву, просечку по металлу, литье, финифть, шелковое шитье, вставки из драгоценных камней и т. д. В своих изделиях прикладного искусства он был приверженцем национально-романтической разновидности модерна – неорусского стиля. В книге «Религиозное искусство» Вашков так охарактеризовал свое творчество: «Посвятив свои силы на служение воссозданию древнерелигиозного искусства, я сам в продолжение десяти лет труда не считал необходимым рабски копировать древние образцы искусства, повторять то, что уже давно высказано и пережито; а, наоборот, я стремился в пределах своих сил воскрешать лишь прежние религиозно-нравственные идеалы, руководившие народами, обществами и лицами, создавшими в свое время эпохи в истории религиозного развития человечества, но выражая их согласно своему пониманию, а потому облекал их в обновленные формы искусства».
Сергей Иванович Вашков (1879–1914)
Существовавшие до Вашкова мастерские церковной утвари не развивали в публике художественного вкуса, а лишь подлаживались под требования духовенства, зачастую самые неразумные.
Вашков придерживался принципа, что «лучшим украшением храма должно служить не обилие драгоценных камней и металлов, а наивысшая драгоценность мира – человеческое творчество». Он сетовал об утрате традиций русского искусства в XVIII веке и уверял: «В.М. Васнецов, М.В. Нестеров и несколько других славных имен русских художников открыли перед глазами интеллигентного мира забытые тайники нашего национального творчества и показали, что велики и богаты его сокровищницы».
В одном ряду с этими выдающимися живописцами нередко называли имя самого Вашкова. Будущий архипастырь Русской Православной Церкви за рубежом митрополит Антоний (Храповицкий) в 1909 году на страницах «Церковных ведомостей» писал: «Господь сжалился над нами – любителями церковного благолепия; древнее вдохновенное творчество священных предметов восстановлено новым художником С.И. Вашковым, имя которого займет в истории нашего церковного благолепия одно из почетнейших мест, быть может, наряду с Андреем Рублевым и Симоном Ушаковым».
Увы, этого не произошло, неожиданно и безвременно Вашков скончался в тридцать пять лет, полный сил и творческих замыслов. Его учитель Виктор Васнецов с горечью писал, что «для русского искусства кончина его, столь много обещавшего, – великая потеря».
Церковный писатель Евгений Поселянин сокрушался: «Живой, отзывчивый, кипящий мыслями и широкими планами, быстро достигший в своей области почетной известности, постоянно поощряемый заказами августейших лиц, С.И. Вашков весь был главным образом в будущем, так как его дарование углублялось и крепло. И как он был бы нужен именно теперь при общем нашем возрождении!»
Часть неподражаемых предметов церковной утвари, созданных Вашковым, в советские годы была перелита в золотые и серебряные слитки, часть продана за границу, часть доныне пылится в запасниках российских музеев.
Несостоявшийся химик
Успенский собор Кремля. Скоро начнется всенощная. В древнем храме, где собраны главные церковные святыни России, при свете мерцающих лампад блестят золотые и серебряные оклады икон. Бесшумно и стройно из боковых дверей алтаря выходят певчие Синодального хора, поднимаются на клиросы и разбирают ноты. Самый кроткий взгляд, без мелочей суеты – у регента. Это Александр Дмитриевич Кастальский – композитор, разгадавший древний русский стиль церковного пения, симфонию голосов XVII века и создавший дивные церковные песнопения.
Вот отзвенел «Иван Великий», и начинаются песнопения всенощного бдения…
«Точно снопы искр мечутся у него звуки безалаберно, во все стороны, но в этом есть своя красота, свое единства», – восхищался творчеством Кастальского священник и композитор М.А. Лисицин.
«На Кастальского склонны были смотреть в кругах музыкантов, веровавших в незыблемые схемы немецкого хорального голосоведения, как на чудака и малокультурного композитора. Истина оказалась на его стороне, независимо от всего, благодаря конкретному факту: звучность его хоров была лучше звучности хоровых произведений его отрицателей», – подметил музыкальный критик и композитор Б.В. Асафьев.
«Пока жив Александр Дмитриевич – жива русская музыка. Он владеет русским голосоведением и доведет свое умение до высшего мастерства», – уверял композитор Н.А. Римский-Корсаков.
Александр Дмитриевич Кастальский
(1856-1926)
Церковным композитором и родоначальником своеобразного, чисто русского хорового искусства Кастальский стал, можно сказать, случайно. В гимназии он увлекался химией и собирался поступать в Петровскую сельскохозяйственную академию. Но на одном из вечеров в доме его родителей преподаватель консерватории П.Т. Конев услышал импровизацию на фортепиано «будущего химика» и уговорил его поступать в Московскую консерваторию. Потом его, как «недорогого учителя фортепиано», приняли на службу в Московское синодальное училище церковного пения. И здесь «Кузька», как прозвали молодого преподавателя, начал создавать собственные духовные музыкальные произведения. К концу XIX века его сочинения уже вызывали всеобщий интерес, в прессе заговорили о «направлении Кастальского», сумевшего найти новый путь для православной церковной музыки.
Наряду с Третьяковской галереей и Большим театром Синодальный хор под управлением Кастальского стал одной из главных достопримечательностей Москвы. В 1911 году хор со своим наставником гастролировал в Варшаве, Дрездене, Риме, Флоренции. И повсюду – восторг и удивление, ибо ничего подобного Европа никогда не слышала.
Композитор старался совместить в своем творчестве церковное и народное пение.
«Кастальский, можно сказать, был влюблен в старинную крестьянскую песню, – вспоминала Н.Я. Брюсова, – любил в ней – и ее склад, и ее содержание, передающие быт и труд крестьянина. Он обрабатывал народные песни, вводил их в собственные сочинения, написал исследование о строении русской народной песни, пропагандировал народную песню, где только мог».
Светлая заутреня.
Художник В. Поляков
Книга Кастальского «Основы народного многоголосия» увидела свет спустя двадцать два года после смерти композитора – в 1948 году. А его церковные песнопения звучат до сих пор.
Центр торговли
«Москва – большой гостиный двор; Петербург – светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски».
Николай ГогольМосква, как никакой другой русский город, была уже с XIV века признанным центром торговли на Руси. По описанию 1781 года, «Москва есть средоточие всей российской торговли и всеобщее хранилище, в которое наибольшая часть всех входящих в Россию товаров стекается и из онаго как во внутренние части государства, так и за границы отпускается».
Поезжай на Москву, там все найдешь.
В Москве только птичьего молока нет.
Москва у всей Руси под горой – в нее все катится.
Что в Москве в торгу, чтоб у тебя в дому!
Москву селедками не удивишь.
Не видала Москва таракана!
Москва богата и таровата.
Москва любит запасец.
Москва стоит на болоте, в ней ржи не молотят, а больше нашего едят.
Была бы догадка, а в Москве денег кадка.
Говорят, в Москве и кур доят.
Москва становилась общепризнанным центром торговли благодаря своему географическому положению – через нее проходили основные сухопутные и водные дороги и политическому значению, как столицы Московской Руси.
Пока почти весь город умещался за крепостной стеной на Боровицком холме, торговля велась как внутри Московского Кремля, так и на ближайших к нему площадях и речных пристанях. Но с незапамятных времен основной рынок стал утверждаться на Красной площади и в Китай-городе. Здесь на каждом шагу можно было встретить торговые ряды, лавки, подворья главных русских городов, постоялые дворы, склады товаров, а с конца XVII века и винные погреба.
Продавец счетов, метелок и мыла
Но город рос, и торговля стала задыхаться в тесноте Варварки, Ильинки и Никольской, меж которыми свою паутину раскинули узкие и кривые переулки. Тогда для торговли крестьянам окрестных губерний прямо с возов стали отводиться большие незастроенные места, которые прозвали площадями, на более далеком от Кремля расстоянии. Большинство площадей в пределах Садового кольца – это бывшие рынки: Лубянская, Болотная, Трубная, Смоленская, Большая и Малая Сухаревские…
К концу XVIII века в летнее время число жителей Москвы составляло около 300 тысяч человек, а зимой, когда в город съезжались дворяне со своей многочисленной дворней, доходило до четырехсот тысяч. Всех их надо было одеть, обуть и накормить.
Кроме того, Москва была перевалочным пунктом для торговых сношений с Китаем, Персией, Закавказьем, Сибирью, хлеборобными и горнодобывающими губерниями. В нее везли товары с портов Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Одновременно город и сам был крупнейшим производителем, особенно текстиля. Мануфактурные товары московских фабрик, равно как и привозимые в город колониальные товары, доставлялись отсюда на все рынки и ярмарки России. «Иностранные мануфактурные изделия, отправляемые из Санкт-Петербурга в Москву сухим путем и водою, проходят чрез всю Тверскую губернию, – писал в 1845 году Л. Самойлов. – Но все города и фабрики этой губернии запасаются означенными товарами в Москве. Шуйские и ивановские фабриканты могут получать все количество английской бумажной пряжи и колониальных товаров водою прямо из Петербурга, но они приобретают эти товары преимущественно в Москве, где пользуются кредитом у капиталистов и складочным правом в Московской центральной таможне. Орловская, Тульская и Рязанская губернии, чрез которые проходят все транспорты шерсти, снабжаются этим материалом большею частию из Москвы, а не из южных губерний. Суконные фабриканты Киевской и Волынской губерний покупают красильные вещества частию в Одессе, а частию же в Москве. Словом сказать, Москва есть главное складочное место для всех ценностей, коими питаются торговые обороты всей империи».
Особо выделяется среди торговых зданий и рядов Гостиный двор. Именно вокруг него, построенного на земле, издавна отведенной для торговли, формировался финансово-коммерческий центр первопрестольной столицы. «А ставятся гости с товаром иноземцы и из Московской земли и из уделов при гостиных дворех», – говорилось о торге близ Варварки в духовной грамоте 1504 года Ивана III. Его внук, царь Иван IV Грозный, после большого московского пожара 1547 года повелел построить между Ильинкой и Варваркой Гостиный двор с деревянными лавками. Когда в 1595 году город вновь пострадал от огня, их заменили каменными. Здесь московские и приезжие купцы складывали и хранили свои товары, которые потом развозили по всему миру. Сюда шли и ехали русские люди, отчаявшиеся найти нужный им товар в других городах.
В середине XVIII столетия на Гостином дворе было «амбаров 74, рыбных и икорных шалашных мест 86, оброку положенного с первых – 995 руб., со вторых – 1426 руб…». К этому времени здание обветшало. Крыша прохудилась, а питейный дом и вовсе ее лишился. Это неудобство, как отмечают современники, не уменьшило количества посетителей злачного заведения, где можно было выпить и закусить. Столбы и башни Гостиного двора накренились, а некоторые даже попадали. Однако никто не желал поправлять лавки и амбары – они принадлежали городской казне. А кому же охота чинить чужое! Вдруг завтра отнимут и передадут другому, кто больше потрафил полицейскому приставу?..
Но вот 2 августа 1789 года последовал высочайший указ: «Продажу Гостиного двора производить желающим из Московского купечества, разделяя оный по небольшим частям, с обязательством, кто какую часть купит, тот долженствует оную выстроить по плану и с тем, чтобы верх и низ принадлежали одному хозяину».
Проект грандиозного здания с внутренним двором был создан замечательным зодчим Джакомо Кваренги, чьи постройки занимают значительное место в градостроительстве обеих российских столиц (Смольный институт, дворец Юсуповых на Фонтанке, Странноприимный дом Шереметева и другие).
К 1805 году Гостиный двор, занявший целый квартал между Ильинкой и Варваркой, Рыбным и Хрустальным переулками, представлял собой мощное трехэтажное здание, украшенное по всем четырем фасадам полуколоннами коринфского ордера, с арками, стеклянными дверями, двадцатью четырьмя каменными лестницами и четырнадцатью проездами.
Здание Гостиного двора на Ильинке в Москве
На ночь арки перекрывались, и во внутреннем дворе, где на складах насчитывалось товару на миллионы рублей, бегали огромные злые псы, готовые разорвать в клочья вора, позарившегося на чужое добро.
Гостиный двор пострадал от пожара 1812 года. Тогда выгорел почти весь Китай-город, и был восстановлен к 1830 году при участии знаменитого архитектора О.И. Бове.
В начале XX века появились Верхние торговые ряды со стеклянными потолками, электрическое освещение, элегантные приказчики сменили молодцов-зазывал. Банки стали учитывать векселя, слово «кредит» стало понятным и естественным, образовались акционерные кампании, и в разговорах деловых людей стали проскальзывать цифры, о которых раньше и подумать боялись. Крупным посредником в торговых сделках становилась биржа.
Первое здание биржи на Ильинке, рядом с Гостиным двором, появилось 8 ноября 1839 года. Но в первые годы своего существования биржевой зал был мало посещаем, зато снаружи как обычно с утра до двух часов дня происходили торговые сделки.
Биржевому комитету в конце концов в начале 1860-х годов пришлось пойти на хитрость: было сделано распоряжение ставить экипажи на тротуаре на углу Гостиного двора, где собирались купцы, а вход в здание биржи сделать бесплатным. Постепенно к зданию стали привыкать, особенно оно пришлось по душе железнодорожным магнатам, которые через биржевой комитет обращались к правительству с предложениями об устройстве новых железных дорог, так как биржа напрямую подчинялась Министерству финансов.
Здание Московской биржи в 1839 году
После утверждения 20 марта 1870 года биржевого устава и освящения 9 декабря 1875 года достроенного нового здания биржа на Ильинке стала главным местом московской оптовой торговли. В ней появились почтовое и телеграфное отделения, библиотека, в которой были собраны законодательства по торговой части как России, так и иностранных государств. С каждым годом биржевые операции все усложнялись и усовершенствовались, объектами торговли становились иностранная валюта, векселя, правительственные облигации, ипотечные бумаги всех наименований, наконец, паи, акции и облигации всех торгово-промышленных предприятий, имеющих русские уставы. Иностранные бумажные ценности на Московской бирже, как и на всех других российских, не допускались. Государство пробовало бороться с биржевыми сделками, но почти всегда проигрывало схватки.
Все продал с барышом
Биржа, банки, светлые пассажи и галереи превращали Москву в цивилизованный европейский город. Некоторые из магазинов того времени дошли до нашего времени. Например, выстроенные в 1890–1893 годах Верхние торговые ряды на Красной площади[15], занимающие целый квартал, или открытый в 1901 году Елисеевский магазин на Тверской улице, до сих пор поражающий пышностью отделки интерьера.
А на Тверской, в дворце роскошном Елисеев Привлек толпы несметные народа Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств… Ряды окороков, копченых и вареных, Индейки, фаршированные гуси, Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем, Сыры всех возрастов – и честер, и швейцарский, И жидкий бри, и пармезан гранитный. Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов, Уложенных душистой пирамидой, Наполнивших корзины в пестрых лентах. Здесь все – от кальвиля французского с гербами До ананасов и невиданных японских вишен.Но изменения на европейских лад коснулись только древнейшего московского торгового рынка – Красной площади, Китай-города и модных улиц, как Тверская или Кузнецкий Мост. В остальном же до 1920-х годов, когда стали или переносить, или уничтожать старинные рынки, в них оставалось все по-прежнему. О дореволюционной уличной торговле на Сухаревке, в Проломе (у Китайгородской стены) или возле Сенной площади москвичи вспоминали не с меньшей ностальгией, чем об уничтожении Красных ворот или о веселых масленичных гуляниях.
Меценат с Мясницкой
Странный народ старообрядцы, которые сами себя называют староверами Рогожского кладбища, а официальные власти кличут их раскольниками и поповцами. В XIX веке ходили сплетни, что они до сих пор живут, как современники царя Ивана Васильевича Грозного, брезгуют общаться с иноверцами и отделились от мира, запершись в своих рогожских и замоскворецких домах с глухими заборами и цепными псами.
Император Николай I Павлович Романов (1796–1855)
Чиновники и в тюрьмы их сажали, и в Сибирь ссылали, и алтари их храмов запечатывали… А они все упорствуют: крестятся двумя перстами, молитвы читают по дониконовским книгам, не признают икон современного письма, свои же, старинные, считают за грех ставить за стекло; брезгуют курить, пить чай, носить немецкое платье, слушать итальянское пение, любоваться европейской живописью, праздновать Новый год в январе.
Когда решительный Николай I извел всех их попов, несколько богатых выходцев из Рогожской слободы удумали посадить в Австрии привезенного из Константинополя своего митрополита, который посвящал по старинным канонам в сан епископа и священника новых раскольничьих попов.
Одним из инициаторов и финансистов этого тайного предприятия, вызвавшего неописуемый гнев Николая I (царь даже пригрозил Австрии войной) был крупнейший российский торговец хлопчатобумажной пряжей Козьма Терентьевич Солдатёнков.
Он мало походил на упрямца, жаждавшего перенестись во времена Ивана Грозного, в нем легко уживались два человека – русский предприимчивый купец и европейский сибарит. В своем роскошном доме на Мясницкой по воскресным дням Козьма Терентьевич вместе с родственником, торговцем старопечатными церковными книгами Сергеем Тихоновичем Большаковым, одевались в старинные кафтаны и шли бить поклоны в домашнюю молельню, уставленную иконами строгановского письма.
Разоблачившись после долгой искренней молитвы, Солдатёнков отправлялся в другие комнаты, поражавшие своим изыском, – «помпейскую», «византийскую», «античную», «мавританскую», «светелку», – где своего ненаглядного Кузю поджидала француженка Клеманс Карловна Дюпюи. Разговоры их протекали с помощью мимики и жестов, так как Кузя не знал никаких языков, кроме русского, на котором его Клеманса говорила с трудом.
В кабинете Солдатёнкова висели картины П.А. Федотова «Вдовушка» и «Завтрак аристократа», в спальне над кроватью – «Мадонна» Плокгорста, в других комнатах – полотна А.А. Иванова, Н.Н. Ге, В.А. Тропинина, В.Г. Перова, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского.
В будни Козьма Терентьевич отправлялся на Ильинку, в помещение № 72 Гостиного двора, где в нижнем этаже за конторкой сидел управляющий И.И. Бырышев, подсчитывая миллионные барыши фирмы от торговли бумажной пряжей и дисконта (учета векселей) или пописывая под псевдонимом Мясницкий романы и статьи для газеты «Московский листок».
Сам глава фирмы Солдатёнков занимал верхний этаж. Здесь его посещали не только купцы, но и известные писатели Тургенев, Белинский, Герцен, Некрасов. Он являлся не только крупным текстильным промышленником, пайщиком ряда мануфактур, банков, страховых обществ, железных дорог и прочего, но и самым известным книгоиздателем, впервые выпустившим «Народные русские сказки Афанасьева», «Отцы и дети» Тургенева, сборники стихотворений лучших русских поэтов.
Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818–1901)
Он финансировал переводы зарубежных научных книг и роскошные издания памятников мировой литературы. При этом был не книгоиздателем в обыденном значении этого слова, а меценатом, старавшимся принести пользу науке и дать заработок писателям и переводчикам, несмотря на значительные для себя убытки. Кроме того, на его деньги в Москве были выстроены две богадельни, ремесленное училище, крупнейшая больница для бедных «без различия званий, сословий и религий» (носит ныне имя С.П. Боткина), а его знаменитые собрания книг и картин по духовному завещанию поступили в Румянцевский музей (ныне Российская государственная библиотека).
«Раскольник, западник, приятель Кокорева, желающий беспорядков и возмущения», – так характеризовал Солдатёнкова генерал-губернатор Москвы граф А.А. Закревский. Писатель П.И. Мельников-Печерский называл его «раскольником в палевых перчатках». Москвичи, знавшие Солдатёнкова, дали ему прозвища Мясницкий Меценат и Русский Медичи.
В летние месяцы, если не уезжал с Клемансой Карловной попутешествовать по Европе, Козьма Терентьевич проводил время на даче в Кунцеве…
Москва-река, извивающаяся змейкой, почти взяла Кунцево в кольцо, и взору открываются великолепные картины сельской природы. Через овраги, болотца и пруды пробираешься на самый верх, к солдатёнков-ской усадьбе, с трех сторон окруженной садами, парками, оранжереями и липовой рощей. С четвертой стороны спускается к реке большой зеленый луг. С балкона влево видно село Крылатское с куполом Троицкой церкви, прямо – белый храм села Хорошева, направо – военные лагеря Ходынского поля.
Здесь у Солдатёнкова часто гостят переводчик Шекспира Н.Х. Кетчер, историк И.Е. Забелин, писатель и общественный деятель И.С. Аксаков, врач П.Л. Пикулин, художники И.Н. Крамской, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, Риццони.
Кроме усадьбы и обширных земель Солдатёнкову в Кунцеве принадлежали школа на шестьдесят крестьянских детей и пятнадцать дач, которые он сдавал внаем актеру М.И. Щепкину, пекарю Филиппову, купцу Крестовникову и другим известным с хорошей стороны москвичам.
«К.Т. Солдатёнков жил в Кунцеве весело, – вспоминал П.И. Щукин. – Задавал лукулловские обеды и сжигал роскошные фейерверки с громадными щитами, снопами из ракет, бенгальскими огнями. Фейерверки эти привозились из артиллерийской лаборатории на нескольких возах в сопровождении солдат-фейерверкеров и пускались на берегу Москвы-реки напротив главного дома».
Усадьба К.Т. Солдатёнкова в селе Кунцево
Выходил обычно из дома Мясницкий Меценат и Русский Медичи в сером сюртуке, серой накидке и серой фетровой шляпе с большими полями. «Он был небольшого роста, – вспоминала дочь П.М. Третьякова Вера Павловна Зилоти, – широкий, с некрасивым, но умным, выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад. В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев».
Эта душевная сила Солдатёнкова, Морозовых, Хлудовых и других выходцев из Рогожской слободы влекла их жертвовать значительные капиталы на просвещение, милосердие и технический прогресс. В молитве они, может быть, и были замкнутой группой раскольников, зато в жизни – всеотзывчивым сострадательным братством.
Венчание на царство
Все русские цари по возложении на них короны и вручении скипетра и державы читали молитву, которая выражала суть их будущего правления: «Господи Боже отцов и Царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим и премудростью Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал мя еси царя и судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твое о мне смотрение и благодаря Величеству Твоему поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя в деле на неже послал мя еси, вразуми и управи мя в великом служении сем. Да будет со мной приседящая Престолу Твоему премудрость. Поели ю с небес святых Твоих, да уразумею, что есть угодно пред очима Твоима, и что есть право в заповедях Твоих. Буди сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных мне людей и ко славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостидно воздам Тебе слово милостью и щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом во веки веков, аминь».
Император Александр II, стяжавший себе в 1861 году славное имя царя-Освободителя, отменив крепостное право в России, венчался на царство 26 августа 1856 года. Торжественный въезд его в Москву происходил 19 августа.
Торжество было во всех отношениях величественное и поразительное, богатство огромного царства было выставлено напоказ с восточной роскошью, которая соединилась с европейским вкусом. Зрелище разыгрывалось в древней столице самого огромного государства, какое когда-либо существовало в мире. Вместо мишуры и блесток горело чистое золото, серебро и драгоценные камни. Картины были до того разнообразны, что мысль напрасно бы старалась возобновить ряд ощущений, рождавшихся и исчезавших каждую минуту. Вряд ли кто-нибудь из чужестранцев, присутствовавших при этом церемониале, видел что-нибудь подобное. Благоговение и глубокое религиозное чувство монарха и его народа, их видимое смирение пред Богом напоминали обряды прошедших веков и резко оттеняли проявление военного могущества Российской державы. Великолепие карет и мундиров, ливрей и конских сбруй было достойно римских цезарей или знаменитых властителей Востока.
Император Александр II Николаевич Романов (1818–1881)
Раздался выстрел вестовой пушки, извещавший, что царский поезд тронулся. В народе произошло движение, загудели тысячи колоколов, своим звоном подняв стаи голубей и ворон, закружившихся в воздухе. Но вот загремели барабаны, зазвучали военные трубы, и потом все стихло. Показался отряд конных жандармов. За ними следовал конвой его величества. На благородных конях, покрытых дорогой сбруей античного характера, проехал конвой императора. Головы воинов защищала кольчуга, спадавшая на грудь и спину. Из-под нее был виден желтого цвета шелковый кафтан. Все они были вооружены старинными ружьями, пистолетами и кривыми саблями. Седла были обиты серебром. Выразительность лиц и статность сложения обнаруживали их принадлежность к черкесскому племени, которое стало родоначальником многих русских фамилий.
Во всю ширину улицы ничего не было видно, кроме блестящей массы значков, кольчуг, стали, перьев, разноцветных мундиров и знамен. Ничего не было слышно, кроме радостных возгласов народа, фырканья лошадей, бряцанья оружия, боя барабанов и покрывавшего все звона колоколов. Тотчас же за черкесским конвоем и дикими башкирами следовал эскадрон черноморских казаков в широких косматых бараньих шапках. Лес длинных красных пик придавал этой кавалькаде необыкновенный вид. Ехавшие за ними гвардейские казаки в голубых мундирах ничем не отличались от них, кроме киверов. Каждый эскадрон состоял из двухсот казаков. Замечательнее всего была кавалькада, состоявшая из представителей азиатских народов, которые покорились России.
Здесь можно было видеть блиставшие роскошью одежды всех народов. Среди них были башкиры, черкесы, абхазцы, калмыки, казанские и крымские татары, мегрелы, каракалпаки, дагестанцы, армяне, гурийцы, грузины, курды, дикие горцы, обитатели стран, куда не проникал ни один европеец, инородцы с сибирских границ… У многих из них обнаженная голова была оригинально украшена золотыми монетами. Другие имели надо лбом металлическую пластинку, заменявшую головной убор. Третьи были в бараньих шапках, украшенных драгоценными каменьями. Самопалы, бывшие, может быть, на поле битвы со времен Ивана III, секиры, копья и кинжалы составляли вооружение этой пестрой толпы. Эта группа подвластных России народов, как сон из «Тысячи и одной ночи», представляла для иностранцев самую любопытную часть кортежа. Потом следовал отряд кавалергардов на отличных лошадях, в блестящих позолоченных кирасах, с серебряными орлами на шлемах. Это отборные люди из семидесяти миллионов русских подданных, самые рослые из воинов. Отряд состоял человек из двухсот. Их блестящие латы и шлемы ослепляли зрителей. По наружности офицеры отличались от рядовых только красотой и выездкой своих лошадей. За ними шел эскадрон конной гвардии, также блестящий и прекрасный. Трудно было решить, которому из этих полков отдать предпочтение.
Особое внимание привлекли гренадеры дворцовой роты, которые в день коронации были расставлены в Андреевском и Георгиевском залах, от двери до двери. «Эти старые воины, – писал английский журналист Россель, – привлекли мое внимание более, чем все драгоценности находившихся здесь регалий, более, чем золото и серебро, блиставшие вокруг нас. Их мундиры напомнили мне времена битв, всколебавших всю Европу. Их огромные медвежьи шапки с белыми кистями и золотыми шнурами, мундиры с накрест лежащими перевязями и белые панталоны, унизанные сбоку от колен донизу пуговицами, напомнили времена битв, в которых участвовали герои – Кутузов и Блюхер, Мюрат и Виллингтон. Эти люди выбраны из многих полков не только по их росту, но и по заслугам. Нет между ними ни одного, у кого грудь не была бы украшена пятью или шестью крестами и медалями. Пройдя ряд этих воинов, трудно поверить, что они пережили царствование трех императоров и сражались против великого Наполеона. Они все крепки и бодры, одни только морщины и некоторая отверделость в коленках обнаруживает их года. Многие из этих ветеранов – настоящие исторические памятники. Некоторые служили под знаменами Суворова под Измаилом и в Италии, другие вошли победителями в Париж или перешли с Дибичем Балканы. Мне кажется, что из всех орденов они дорожат более всего медалью за взятие Парижа. Они показывают ее с чувством истинной гордости, хотя она висит между крестами, которые они получили на полях страшных битв».
Торжественное объявление о дне коронации через герольдов началось 23 августа. Императорские регалии были перенесены из Оружейной палаты в тронную Андреевскую залу Кремлевского дворца 25 августа. Следующий день произошло венчание на царство…
В семь часов утра раздался залп из пушек, и колокола всех московских церквей загудели дружным хором. Растворились двери Успенского собора Московского Кремля. В нем зажгли свечи, внесли три трона и поставили их под балдахины. Несколько дам терпеливо ожидали на своих местах. Все они были в великолепных уборах. Розовые и голубые кокошники, унизанные жемчугом и осыпанные драгоценными камнями, чрезвычайно красивы. С них спускаются на плечи газовые вуали с золотыми блестками. Жемчужные пояса, богатые ожерелья, браслеты из драгоценных камней, оправленных с удивительным искусством, составляли роскошные украшения их богатого туалета.
Успенский собор Московского Кремля
В это время вошла в храм женщина высокого роста и замечательной красоты. Ее голову украшал венец, осыпанный рубинами, сапфирами и бриллиантами. Она была одета в золотое парчовое платье, отделанное самыми дорогими кружевами. На ее груди рядом с бронзовой медалью на Владимирской ленте висели портреты императора и императрицы с алмазными украшениями. За этой дамой следовали два служителя в азиатской белой, шитой золотом одежде. Дама вела за руку десятилетнего мальчика, прекрасного, как херувим, с черными алмазными глазами и черными, с отливом вороного крыла, волосами. Этот ребенок, одетый в офицерский казачий мундир, – владетельный князь Мегрелии, а мать его, княгиня Дадьян, – правительница этого княжества. Медаль княгине была пожалована государем за Крымскую войну, где она лично предводительствовала своей милицией в делах против Эмир-паши. Малолетний князь Мегрелии накануне был назначен флигель-адъютантом его императорского величества.
Между тем церковь постепенно наполнялась. Вскоре съехались придворные дамы и заняли предназначенные им места. Прибыло и католическое духовенство, пасторы реформатской церкви, а вслед за ними и армянские священники. Четыре офицера кавалергардского полка с обнаженными палашами и с касками в руках взошли на тронное возвышение и заняли места на ступенях. От южных дверей собора до Красного крыльца выстроились в две шеренги кавалергарды и конные гвардейцы с палашами наголо. В северные двери вошло духовенство, участвующее в священнодействии: московский и санкт-петербургский митрополиты, архиепископы и епископы, множество священников и дьяконов. Они скрылись в ризнице и скоро вышли оттуда уже в полном облачении. Их ризы были богаче и великолепнее, чем у католического духовенства. Как только собралось духовенство, началось молебствие. Придворный хор певчих, состоящий почти из ста человек, отвечал на молитвы священнослужителей. Эти сладостные звуки напоминали песни небесных ангелов и проникали даже в душу, которая не хотела поддаться их обаятельному могуществу.
Молебен кончился. Вдруг на обоих входах в храм послышался шум. Двери растворились, и стали слышны звуки военной музыки. Из северных дверей пронеслось эхо громких кликов народа, приветствовавшего прибывшую в собор вдовствующую императрицу Александру Федоровну. В то же время в другие двери входили члены дипломатического корпуса.
Государыня-императрица Александра Федоровна имела на голове бриллиантовую корону и была одета в платье из серебряной парчи. Четыре камергера несли шлейф порфиры, которую поддерживали с боков два высших сановника. Богатство уборов великих княгинь, шедших следом, было выше всякого описания. Казалось, что все сокровища мира собраны по этому случаю. Головные уборы походили на ткань из жемчуга и бриллиантов.
Как только императрица заняла место на троне, митрополиты, сопровождаемые всем собором духовенства, направились к южным дверям храма для встречи государя-императора и его августейшей супруги. Их величества вступили в храм, предшествуемые многочисленным кортежем, при громе орудий, звоне колоколов, барабанном бое и звуках военной музыки, игравшей народный гимн «Боже, царя храни». Император был в генеральском мундире и имел на себе цепь ордена Андрея Первозванного. Императрица была одета в белое парчовое платье с горностаевой опушкою. Шлейф платья несли пажи. На голове она не имела никаких украшений, кроме банта из Екатерининской ленты. Приложившись к иконам, их величества изволили занять места на приготовленных для них тронах. В это время сановники, несшие регалии, сложили их на стол, покрытый парчой. Императорская свита разместилась на предназначенных каждому местах, а духовенство расположилось по обеим сторонам царских врат иконостаса.
Венчание на царствие Александра II и Марии Александровны
Хор запел псалом «Милость и суд воспою Тебе, Господи». Торжественная минута приближалась. По окончании пения псалма московский митрополит Филарет взошел на тронное возвышение и пригласил императора прочесть Символ веры. Государь исполнил молитву твердым и громким голосом. Потом, после прочтения Евангелия, оба митрополита подошли к императору. Он снял с себя Андреевскую цепь и повелел поднести порфиру, которую подали на парчовых подушках. Митрополиты возложили ее на рамена (плечи) императора. Государь, облаченный в порфиру, преклонил колени. Митрополиты благословили его, сложив руки крестом на главе его величества. Встав, император повелел поднести корону. Генерал от инфантерии князь Шаховской, державший корону во время обряда, подал ее московскому митрополиту, который поднес ее государю. Его величество, взяв корону с подушки, возложил ее на свою главу и взял в руки скипетр и державу. Это величественное и трогательное зрелище вызвало у многих слезы умиления. Бледная и взволнованная императрица подошла к своему августейшему супругу и преклонила колена. Император возложил на ее главу корону. Четыре статс-дамы подошли к коленопреклоненной государыне и укрепили корону золотыми шпильками. После этого император возложил на императрицу порфиру и цепь ордена Андрея Первозванного. Государыня изволила встать, и венценосные супруги вновь заняли места на своих тронах.
Выстрелы пушек и звон колоколов всех московских церквей возвестили жителям первопрестольной столицы о благополучно совершившимся обряде коронования. В эту минуту Успенский собор представлял собою невыразимо величественное зрелище. Император Александр II и императрица Мария Александровна восседали на тронах в порфирах и коронах, его величество – со скипетром и державою в руках, как некогда византийские императоры. По правую сторону трона стояли вдовствующая императрица в короне и порфире и члены августейшей фамилии. Трон окружали члены Государственного совета и другие высшие сановники империи. На ступенях, что вели к тронному возвышению, продолжали нести караульную службу камергеры в блестящих золотых мундирах и кавалергарды в позолоченных кирасах с обнаженными палашами. У алтаря – сорок пастырей церкви. Возле чудотворной Владимирской иконы Божьей Матери и на трибунах – члены дипломатического корпуса и придворные дамы в ослепительных нарядах. Между трибунами и алтарем – густая толпа полководцев, ветеранов и героев минувших войн. Все воодушевлены благоговейными мыслями, возносившимися к небесам вместе с молитвенными гимнами священнослужителей.
Коронация Александра II. Банкетный зал.
Художник В.Ф. Тимм
Кончился церковный обряд коронования, но торжественный праздник продолжался. В Грановитой палате прошел парадный обед. Вечером город был иллюминирован. В течение нескольких последующих дней продолжались народные гулянья, в храмах народу раздавали жетоны с изображением на одной стороне короны, и с с надписью на другой: «Коронован в Москве 1856 года». Государь с супругой присутствовал на торжественных обедах, которые давали в его честь московское дворянство и купечество. Торжества закончились грандиозным фейерверком, после которого жизнь в Москве вошла в прежнюю колею повседневных забот.
«Москва! Предел моих мечтаний!»
Светлейший князь Голициын
«Столица ваша – Москва, а не Петербург, который не что иное, как резиденция государей».
НаполеонПо количеству лет, проведенных на посту генерал-губернатора Москвы, светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын занимает второе место, уступая первенство лишь князю Владимиру Андреевичу Долгорукову. Он правил первопрестольной с 1820 по 1844 год и считается воссоздателем прекрасного облика города, сильно пострадавшего от пожаров и вандализма 1812-го. Когда князь был назначен в Москву, от Никитских ворот через пустыри еще можно было увидеть Сущево, а с Болота через рвы и топи – Павловскую больницу. При нем древняя столица украсилась живописными садами, парками и непрерывной цепью бульваров, пополнилась более чем десятком мостов, набережные Москвы-реки оделись в гранит, на площадях появились фонтаны с чистой мытищинской водой, истекавшей из резервуара на Сухаревой башне, был устроен первый в России пассаж (Голицынская галерея). Особенно же расцвели за время его градоначальства в христолюбивой Москве благотворительные заведения.
Голицын был бессменным председателем Попечительного совета заведений общественного призрения, Тюремного комитета, Комитета о просящих милостыню, главным попечителем Дома трудолюбия, Практической коммерческой академии, Земледельческой школы.
Он содействовал открытию Градской (1828), Глазной (1826) и Детской (1842) больниц. Борясь с варварским истреблением лесов в Московской губернии, учредил Комитет о торфе. Покровительствовал школе пчеловодов, возглавлял и участвовал в научной работе Московского общества сельского хозяйства. По его инициативе и его иждивением началось издание монументального труда «Памятники московской древности».
Зоологический сад в Москве
Запомнился светлейший князь москвичам и в тяжелую пору: в 1831 году, когда город посетила холера, и в 1834 году, когда в течение двух месяцев город истребляли пожары. И в тот и в другой раз Голицын сумел сохранить в Москве тишину и спокойствие, помочь жителям противостоять эпидемии и стихии.
1840 год принес городу новое бедствие – голод. Запасы хлеба истощались, цены возвысились до сорока пяти рублей за куль, подвоза не ожидалось. Светлейший князь пригласил к себе первостатейных купцов:
– Господа, перед нашими глазами люди начали умирать от голода. А что впереди? Хлеба хватит только до февраля. Предлагаю собрать взаймы капитал, скупить хлеб на Волге и продавать его без барышей. Я беднее вас, господа, у меня налицо семьдесят тысяч ассигнациями, и из них шестьдесят тысяч я даю взаймы Москве.
И он положил деньги на стол. Рахмановы, Куманины, Алексеевы и другие московские негоцианты без лишних слов подходили к столу и клали подписки о своем вкладе. Сумма оказалась для тех лет весьма значительная – миллион триста тысяч рублей. Капитал за год обернули два раза, цены упали до двадцати двух рублей за куль, губерния и столица были спасены. Когда голодный год миновал, капиталы вернулись к хозяевам, а князь за свою инициативу получил титул светлейшего.
Странный он был человек. С детских лет воспитывавшийся за границей (в Страсбурге, Париже, Лондоне, Риме, Вене), князь искренне любил свою родину. Михаил Погодин, известный своим панславизмом, даже подчеркивал, говоря о Голицыне, что, «несмотря на иностранное свое воспитание (единственный его недостаток), он остался в душе чистым русским».
В двадцать три года под знаменами Суворова князь Голицын брал Прагу, за что получил первую награду – Георгиевский крест. Воевал в Пруссии, Финляндии. Участвовал в сражениях при Бородине, Тарутине, Красном. В 1820 году он окончил военное служение и занялся мирным делом, управляя древней русской столицей.
Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844)
Воспитанный в духе французского либерализма (даже камни таскал от Бастилии во время ее штурма и разрушения), с лорнетом в руке, не умеющий толком писать по-русски, да и говорить предпочитавший по-французски, охотник до дамского общества, он был в чести и у патриархальных купцов, и у строгого аскета митрополита Филарета, и у любимца москвичей князя Сергея Михайловича Голицына. Почему?..
Может быть, потому, что, по словам служащего его канцелярии, «не понимал зла, оно было для него недоступно. Князь из-за этого и в театр-то ездил редко, особенно не любил трагедий и драм».
Голицын вставал в пять или шесть часов утра и еще лежа распечатывал подоспевшие за ночь бумаги, пил чай и читал доклады. В девять часов одевался и около десяти принимал правителя своей канцелярии и других близких помощников. В полдень в приемной зале встречался с московскими начальниками и другими лицами, имевшими надобность до него. Потом ездил с визитами, осматривал войска, ревизовал присутственные места. Пообедав в семейном кругу, вновь принимал приближенных и до часу-двух ночи, если более никуда не выезжал, занимался бумагами. И так изо дня в день, из года в год.
Может быть, его любили за сановитость, близость к царю, за чувство превосходства перед петербургскими государственными деятелями. Как-то министр внутренних дел из северной столицы прислал чиновника ревизовать московские надворные суды. Когда чиновник прибыл доложить о своей миссии Голицыну, тот велел позвать обер-полицмейстера Цинского.
– Понаблюдайте, чтобы этот господин в двадцать четыре часа выехал из Москвы. Пока князь Голицын здесь, никто Москвы ревизовать не будет.
А может быть, за величавую осанку, кроткий голос, улыбку, добродушие так любили его люди разных сословий. Генерал от кавалерии, кавалер всех российских и многих иностранных орденов, при всей своей военной выправке, деловитости и французском либерализме, он был русским барином, любившим отдыхать в обществе друзей и литераторов, председательствовать на торжествах и ученых заседаниях, быть окруженным почетом и уважением.
Умер светлейший князь Дмитрий Владимирович в Париже после двух операций в понедельник на Святую Пасху 1844 года, в самый, по народному поверью, блаженный для кончины день. Перед смертью несколько раз спрашивал врача: «Не правда ли, мы возвратимся в Москву? Вы меня здесь не оставите?»
По славной дороге 1812 года, мимо Красного и Бородина возвращался он в гробу в свой город, чтобы обрести вечный покой у стен Донского монастыря.
Из рода Тучковых
«Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника) я должен был по воле родителей переселиться в Петербург. И тут продолжала преследовать меня Москва и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов».
Михаил Салтыков-ЩедринВо времена Суворова и Румянцева жил в Москве их боевой соратник, известный своим правдолюбием инженер-генерал-поручик Алексей Васильевич Тучков, чей дворянский род шел от новгородского боярина Василия Борисовича Морозова по прозванию Тучко. Всех пятерых сыновей Алексей Васильевич определил по военной части, наказав беречь честь смолоду и верно служить отечеству. Все пятеро со временем стали генералами и, несмотря на ненависть к ним всесильного Аракчеева и тяжелую боевую службу, ни в малых, ни в больших делах не опозорили своих мундиров.
1812 год стал для Тучковых, как и для всей России, годом величайшего испытания, годом славы и горя.
«Наступают времена Минина и Пожарского! – писал участник героической войны Федор Глинка. – Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя грозу военную».
Вдова инженер-генерал-поручика Тучкова благословила на войну с Наполеоном четырех сыновей. Пятый, отставной генерал-майор Алексей Тучков, предводитель дворянства в Звенигороде, приехал в деревню к матери вскоре после Бородинской битвы. Не дав времени поздороваться, мать остановила на сыне пристальный взгляд:
– Говори правду: что Николай?
Генерал-лейтенант, командующий третьим пехотным корпусом. В день Бородинского сражения находился на крайнем левом фланге в районе Утицкого кургана. В критическую минуту боя возглавил атаку пехоты и был смертельно ранен.
– Он ранен… Тяжело ранен.
– Он жив?
В ответ – молчание.
– Сергей?
Николай Алексеевич Тучков (1765–1812)
Павел Алексеевич Тучков (1776–1858)
Генерал-майор, дежурный генерал Молдавский армии. За «отличное благоразумие и военное искусство» представлен Кутузовым к ордену Святой Анны первого класса. Основатель города возле покоренной турецкой крепости Измаил, императорским указом наименованного Тучковым.
– Жив.
– Павел?
Генерал-майор, командир бригады. Возглавляя авангард второй колонны 1-й Западной армии, отразил атаки пехотных и кавалерийских неприятельских корпусов и в течение дня удерживал крайне важную для отходившей от Смоленска русской армии позицию при Валутиной Горе. Во время последней контратаки, возглавленной им, был тяжело ранен и взят в плен.
– Ранен, в плену.
– Александр?
Генерал-майор, командир бригады. Погиб на Бородинском поле во время отражения одной из неприятельских атак на Багратионовы флеши, когда со знаменем Ревельского пехотного полка вел бригаду в контратаку.
В ответ – молчание.
Мать встала с кресла, опустилась на колени, провела рукой по лицу:
– Ослепла… И слава Богу. Все равно их нет и уже не будет.
Александр Алексеевич Тучков (1778–1812)
Павел Алексеевич Тучков (1803–1864)
Настали черные, как ночи, дни. Но все сыновья продолжали жить в сердце матери, в сердцах родных и близких. О военной доблести Тучковых часто говорили в семье.
«Все это я выслушивал с особой жадностью в самом младенчестве, – вспоминал их племянник Павел Алексеевич, – и с той ранней поры родилась во мне внутренняя гордость принадлежать имени Тучковых».
Родившийся 7 апреля 1803 года, в шестнадцать лет он уже оставил родительский дом и начал службу офицером в Могилеве, где размещалась главная квартира 1-й армии. В 1823 году получил чин поручика, в 1825-м – штабс-капитана, участвовал в боях с турками в 1828 году, с поляками в 1831-м.
«Долги обременяли семью… Сначала будучи в самом большом довольстве и даже в роскоши для молодого человека, я должен был умерять до того мои расходы, что были годы, когда я ограничивался одним жалованьем по службе».
В 1840 году Павел Алексеевич в чине генерал-майора вышел в отставку и поступил на гражданскую службу (членом Совета Министерства государственных имуществ). Но по приказу императора Николая I в 1844 году вновь поступил на военную службу и стал директором Военно-топографического депо Генерального штаба. В 1854 году он уже генерал-лейтенант, а в 1858-м в чине генерала от инфантерии приступил к исполнению должности московского военного генерал-губернатора, в коей и скончался 21 января 1864 года.
Вид Кремля с восточной стороны
Но, чтобы представить себе человека, мало знать его послужной список, необходимо услышать мнение о нем современников.
Чиновники, вечно стремящиеся взобраться на следующую ступеньку служебной лестницы, недоумевали, почему он отказался от одной из самых высших государственных должностей – наместника Царства Польского. Здесь и власть, и почет, и деньги. Братья двух царей – великие князья Константин Павлович и Константин Николаевич – и те не брезговали верховодить Польшей. Тучков же честно перечислил раздосадованному на него Александру II причины своего отказа: не знаю совершенно края и его многосложной администрации, не имею ни дипломатических способностей, ни дара слова с чужими мне людьми.
Друзья и родные подчеркивали врожденную застенчивость Тучкова, он даже благодеяния делал как-то ненароком, отчего о них мало кому было известно.
Придет, к примеру, к нему просить прибавки к пенсии отставной офицер. Павел Алексеевич знает, что по закону ничего сделать невозможно. Но и офицера жаль… Отлучится как бы по делу в свой кабинет, вложит тайком в прошение сто рублей и вернет его с виноватым отказом. И только дома проситель обнаружит радостный подарок.
Москвичи, кто победнее, были благодарны Тучкову за резкое снижение цен на дрова, учреждение комиссии для внезапного обследования мастерских по проверке отношений хозяев к малолетним ученикам, ужесточение наказаний нанимателям, неисправно платящим заработки рабочим. Те, кто побогаче, видели другую сторону благодеяний Тучкова – переустройство бульваров и мостовых, открытие Адресного стола, где можно узнать местожительство любого москвича, начало работы телеграфа. Просвещенные горожане приветствовали основание Тучковым Городского статистического комитета, училища для глухонемых, новых учебных заведений.
И буквально все знали и верили, что Тучков с женой Елизаветой Ивановной и детьми живет весьма скромно, не может себе и помыслить обогатиться за счет казны или взяток. Александр II, будучи в Москве, удивился, что генерал-губернатор не имеет обыкновенной дачи и на лето снимает ее у более богатых горожан в Петровском парке. Пришлось Москве, когда умер кристально честный генерал-губернатор, открыть «подписку на расходы по погребению». Собранных денег хватило с лихвой, осталось даже на памятник над могилой в Новодевичьем монастыре.
«Истинно верующий и благочестивый, – говорил при погребении Тучкова священник Алексий Ключарев, – кроткий и смиренный Павел Алексеевич, служа в первопрестольной представителем царя, облеченный монаршим доверием и высокою властью, можно сказать, носил дарованную ему власть и честь на себе, а не в себе. Власть не проникала в его душу, не приросла к ней и потому не воздымала и не надмевала ее. Оттого и в его властных распоряжениях и действиях не видно было, как нередко случается, вмешательства личных свойств души, упоенной властью: надменности, горделивости, гневливости».
«Удельный князь»
Ни Рим, где слава дней еще жива, Ни имена, чей самый звук услада, Тень Мекки и Дамаска, и Багдада Мне не поют заветные слова. И мне в Париже ничего не надо. Одно лишь слово нужно мне: «Москва!» Константин БальмонтВ последний день августа 1890 года Москва с утра направилась с поздравлениями к своему хозяину – генерал-губернатору князю Владимиру Андреевичу Долгорукову. Великий князь Сергей Александрович, собираясь в дорогу из своей усадьбы Ильинское в столицу, то ли с завистью, то ли с усмешкой заметил: «Еду поздравлять московского удельного князя». В храме Христа Спасителя после литургии митрополит московский Иоанникий обратился к князю Долгорукову со словом, в котором подчеркнул: «Явление довольно редкое, чтобы кто-либо прослужил двадцать пять лет в одном и том же месте и на одном поприще, а чтобы кто-либо прослужил четверть века на таком высоком посту, какой занимаете вы, явление исключительное и едва ли не беспримерное».
Около храма юбиляра приветствовал народ:
– Дай Бог здоровья тебе, ваше сиятельство!
– Ура-а-а!
– Батюшка ты у нас на Москве!
Вечером весь центр города светился огнями. Вспыхивали фейерверки. Ездить по Тверской запретили, и во всю ширину улицы гулял народ, оглашая воздух радостными криками у дома генерал-губернатора.
Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891)
За что же любили «удельного князя»? Отчего он был популярен среди и дворян, и купцов, и прочего люда?
Его род в прямом колене по мужской линии шел от Рюрика, равноапостольного князя Владимира и святого Михаила Черниговского. Среди предков Долгорукова насчитывалось семь бояр, пять окольничих, восемнадцать воевод, десятки генералов, президентов коллегий, министров, посланников при иностранных дворах, сенаторов и действительных тайных советников.
До назначения в Москву князь прошел долгий и нелегкий путь боевого офицера. По окончании в 1828 году школы гвардейских подпрапорщиков служил унтер-офицером в лейб-гвардии Конном полку. Участвовал в польской кампании 1831 года, экспедиции против горцев 1836 года, объездил с ревизиями почти всю Россию. В 1848 году назначен генерал-провиантмейстером.
Первопрестольная еще не забыла графа А. А. Закревского, за время одиннадцатилетнего губернаторства которого, как шутили москвичи, святая Москва была произведена в великомученицы.
Котильон. Иллюстрация из танцевального руководства XIX века
Московской знати полюбились долгоруковские балы с разливанным морем шампанского, оркестром Рябова и живыми цветами из Ниццы. Матери гордились, когда могли вывезти сюда дочерей. Несмотря на преклонные годы, князь лично встречал и провожал всех гостей, а его адъютантам и чиновникам особых поручений было вменено в обязанность наблюдать, чтобы барышни во время танцев не оставались без кавалеров.
Каждый имел доступ к генерал-губернатору. Его приемная всегда была полна людьми. Личной беседы с хозяином Москвы удостаивались и генералы, и купцы, и разночинцы. Князь утешал, ободрял, помогал чем мог. Не было часа, когда в случае надобности он отказался бы принять просителя.
Долгоруков не жалел своих денег: щедрой рукой жертвовал в пользу нуждающихся студентов, бедных артистов, на богадельни, приюты и храмы. Состоял председателем или попечителем в десятках благотворительных обществ.
Даже в восьмидесятилетнем возрасте он был бодр и элегантен, затянут в мундир с эполетами, с орденами во всю грудь, зачесанными кверху височками и нафабренными усами. Князь всегда с достоинством держал себя перед «сильными мира сего», никогда не раболепствуя перед ними. Житейская образованность в нем сочеталась с воспитанностью и военной дисциплиной. Он был вельможей с головы до ног в самом лучшем смысле этого слова. «Вот это барин!» – нередко восклицали москвичи.
Имея многочисленные связи при высочайшем дворе, он слыл заступником Москвы перед правительством, был ее голосом. Император Александр II благоволил к Долгорукову и утверждал все ордена и медали, испрашиваемые им для москвичей. Эти награды способствовали созданию множества благотворительных обществ, существовавших долгие годы и после того как награжденные учредители почили вечным сном.
Для князя не существовало мелких, второстепенных дел, от которых можно отмахнуться. Если дело попадало ему в руки, значит, заслуживало его внимания: будь то строительство церкви, политический вопрос в городской Думе или драка в трактире.
Он с первых дней службы на генерал-губернаторском посту понял Москву с ее патриархальными обычаями и особенностями, они пришлись ему по душе. Особенно князь оберегал семейный уклад московских обывателей и порою, как средневековый удельный правитель, чинил расправы над провинившимися по своему разумению, невзирая на закон. Бывало, узнает, где в семье назревает скандал, и тотчас вызывает к себе взбунтовавшегося мужа.
– Что это у вас там? Безобразия? Я этого не допущу!
– Помилуйте, ваше сиятельство, сил никаких нет, извела меня, проклятая.
– А вы, дружок, будьте благоразумнее. Что поделаешь, насильно мил не будешь.
– Срамит меня, ваше сиятельство. Каждый день по улице с любовником расхаживает.
– А вы бы взяли и посекли ее слегка, с глазу на глаз, без свидетелей. А то ведь на весь город кричите, убить ее обещаете.
– Да ее только и осталось что убить!
– В таком случае, любезный, я вам скажу: или прекратите тотчас свои бесчинства, или в двадцать четыре часа вон из Москвы!
Ревнивому мужу ничего не оставалось как только мириться с женой.
В харчевне
Барин с чисто русской душой нараспашку и чисто русским хлебосольством, князь Долгоруков управлял Москвой как своей вотчиной. И оказалось, что в эти сложные годы коренного преобразования России он пришелся к месту, сглаживая острые углы недовольства реформами.
Вид храма Христа Спасителя из Замоскворечья.
Литография по рисунку Д. Струкова
Князь вступил в должность генерал-губернатора 30 августа 1865 года, вскоре после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Только что появились новые уставы судопроизводства, положение о земских учреждениях. В 1866 году Россию потрясло сообщение о покушении Каракозова на государя при выходе его из Летнего сада. В 1867 году многие русские бросились в спекуляцию, мечтая быстро разбогатеть. Учреждались новые и новые банки, скупались акции строящихся железных дорог. Началось повальное разорение дворянства. В 1874 году последовал манифест о всеобщей воинской повинности, взбудораживший купеческое сословие. В 1877 году грянула русско-турецкая война. В 1881 году был злодейски убит император Александр II. В «долгоруковскую эпоху» Москва стала свидетельницей коронации императора Александра III, Всероссийской промышленной выставки освящения нововыстроенного храма Христа Спасителя. В это сложное, многим непонятное время, когда стремительно менялся привычный уклад не только политической, но и личной жизни, князь Долгоруков умел ладить и с исповедниками старого, николаевского режима, жаждавшими реванша, и с правительственными чиновниками, превыше всего ставившими угождение капризам сегодняшних властителей, и с либералами, требовавшими все новых и новых уступок демократии. Его личный авторитет в глазах обывателя был выше и действеннее авторитета закона, и Москва, как никакой другой город России, довольно мирно переболела нелегким периодом решительных преобразований.
За свои заслуги князь был пожалован почти всеми российскими орденами, в том числе высшим – Святого Андрея Первозванного. Жители Москвы, Вереи, Звенигорода, Дмитрова, Бронниц, Рузы, Коломны, Волоколамска, Вознесенска, Подольска и Павлова Посада присвоили ему звание почетного гражданина. Когда на восемьдесят первом году жизни он был уволен от должности и отправился для лечения за границу, то не прожил без любимого города и четырех месяцев, скончавшись в Париже 20 июня 1891 года.
Императорский Малый театр
«В нашей семье существовал своего рода культ Малого театра и Щепкина. С первых лет жизни я постоянно слышала разговоры и рассказы на эти темы, и для меня было целым событием, что меня возьмут в Малый театр. Я готовилась к этому посещению с волнением. Меня особенно принарядили: надели розовое платье, розовые чулки под цвет и “бронзовые” туфли…
И вот поднялся занавес. Королевский дворец. Шел “Гамлет”.
Я, конечно, еще не знала Шекспира, но все мое детство было овеяно романтикой сказок, и короли, принцессы и рыцари были моими хорошими знакомыми. Разумеется, я не восприняла и не могла воспринять всего смысла трагедии. Но в этот вечер я впервые подсознательно поняла красоту в высоком значении этого слова: я увидела Ермолову в Офелии. Сказочным видением показалась мне она. Ее голос задел в детской душе такие струны, которые уже больше никогда не замолкали».
Т. Щепкина-КуперникПо уверениям злых на язык острословов, две русские столицы в XIX веке постоянно соперничали друг с другом. Хотя о каком соперничестве может идти речь, когда эти две достопримечательности России ничем не похожи друг на друга? Петербург просыпается под барабанную дробь, Москва – под звон колоколов. У Петербурга душа на Западе, у Москвы – на Востоке. В Петербург едут решать кляузные дела, в Москву – тратить деньги. Петербург славится оперными певцами и балеринами, Москва – драматическими артистами…
Да разве можно вообразить, чтобы в Петербурге родился и жил драматург Островский?! Или артист Садовский?!
Пров Михайлович Садовский и московский Малый театр – это синонимы. Хотя знаменитый артист первые два десятка лет и не помышлял стать москвичом. Он родился в городе Ливны Орловской губернии, где в это время находился по служебным откупным делам его отец, рязанский уроженец. В девять лет Пров потерял отца, которого ему заменил дядя (брат матери) – певец провинциальных театров. Он и приохотил мальчика к сценическому искусству. Прову пришлось перепробовать на первых порах незавидные должности: переписчик ролей, разносчик афиш, декоратор, суфлер, статист… Театральный дебют четырнадцатилетнего паренька, который отцовскую фамилию Ермолаев сменил на дядину Садовский, состоялся на тульской сцене. Следом, как и у всех провинциальных артистов, настала пора скитаний по театрам – Калуга, Рязань, Елец, Воронеж и прочие, прочие, прочие губернские и уездные города. Как и большинству товарищей по ремеслу (или – искусству?), Прову досталась полуголодная бесприютная судьба. Но счастье все же улыбнулось – после шести лет бродячей актерской жизни он переселился в Москву, и вскоре его приняли в труппу императорского Малого театра.
Пров Михайлович Садовский (1818–1872)
Русская сцена сороковых годов была бедна отечественными комедиями. «Бригадир», «Недоросль», «Ревизор», на треть урезанное «Горе от ума» – вот и всё. Шли главным образом французские и немецкие мелодрамы.
И все же, по уверению писателя Е.Э. Дриянского, «Садовский – что хотите сделает и русским, и понятным на сцене, как бы оно ни было бездарно, слабо и темно в книге».
Но вот появляется новый драматург с пьесой «Свои люди – сочтемся», и в пятидесятые годы творчество Островского в актерском истолковании Садовского почти полностью завладело сценой Малого театра. Попробовал было великий комик Михаил Щепкин тягаться с молодым дарованием в роли Любима Торцова из комедии «Бедность не порок», но не имел никакого успеха.
Первое выступление Садовского перед петербургской публикой описал в своем письме к Островскому от 27 апреля 1857 года Е.Н. Эдельсон: «Садовской дебютировал в “Бедности не порок” во вторник 23 апреля. Несмотря на дурную погоду в этот день, театр был почти полон, и, по замечанию здешних, публика была гораздо чище обыкновенной александринской. Нетерпение видеть и приветствовать дорогого гостя было так сильно, что каждый раз как отворялась дверь и показывалось на сцену новое лицо, раздавались рукоплескания, которые, конечно, тотчас умолкали, как скоро публика замечала свою ошибку. Наконец появился и Садовский… Минуты две или три публика не давала ему начать, и он оставался в дверях в своей монументальной позе, с поднятой рукой. Дальнейшая его игра была рядом торжеств… Впечатление, произведенное на всех незнакомой петербургской публике игрой Садовского, новость и неожиданность смысла, которые он придал знакомой всем роли, были так сильны, что сами актеры поддались этому обаянию и сделались тоже как будто публикой… Дамы, старики, гусары и прочие плакали без различия. Какой-то старик со звездой, кажется Греч, говорил во всеуслышание, что он в первый раз видит истинное и высокое исполнение этой роли. По окончании этой пьесы Садовский был вызываем неоднократно; об остальных актерах все как будто забыли».
Императорский Малый театр
Удивила Москва Петербург и в шестидесятые годы, когда увлеклась небывальщиной для русского зрителя – комедиями Шекспира и Мольера. Сделать невозможное возможным – заставить московскую публику восхищаться «Проделками Скапена», «Доктором поневоле» и «Укрощением строптивой» – опять же помог очаровательный и неподражаемый Садовский.
Счастливая мать
На сцене Пров Михайлович мог предстать шутом, «тешить черта», как выражались суровые старообрядцы, но в его доме царил патриархальный старомосковский порядок. Повсюду висели иконы строгановского письма, и перед ними день и ночь горели лампады. Все женщины, от кухарки до жены хозяина, степенно ходили по комнатам в черных платьях и косынках старого фасона. Строго соблюдались праздники и посты, не допускалось употребление «басурманского зелья» – табака.
Садовский надолго запомнился москвичам благодаря еще и тому, что его сценическое искусство не только развлекало, но и нередко приносило благочестивые плоды. Когда он преображался в Любима Торцова, то зритель видел на сцене не играющего роль артиста, а живого человека – пьяницу с чуткой любящей душой. Об этом говорит исповедь Садовскому одного из московских купцов, который решил круто изменить свою жизнь после того как увидел комедию «Бедность не порок». Этот монолог дословно записал писатель Иван Горбунов:
– Верите, Пров Михайлыч, я плакал. Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться… Страсть! Много у нас по городу их, таких, ходит. Ну, подашь ему… А чтобы это жалеть… А вас я пожалел. Думаю: Господи, сам я этому привержен был. Но вдруг!.. Верьте Богу, страшно стало! Дом у меня теперь пустой, один в нем существую, как перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою, и руку протягиваю… Спасибо, голубчик! Многие, которые из наших, может, очувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью – будет! Все выпил, что мне положено!.. Думаю так: богадельню открыть… Которые теперича старички – в Москве много их! – пущай греются…
О назначении искусства, в том числе сценического, умными и не очень умными людьми исписаны горы бумаги. Это и просвещение народа, и воспитание гуманизма, и приучение человека к самостоятельному мышлению, и… Короче, много всего написано. Но даже если искусство Садовского принесло пользу лишь в том, что посеяло зерно сострадания к ближнему в дюжине московских купцов, разве этого мало?..
По регламенту и по жизни
Одной из наиболее ярких примет московской жизни середины XIX века был будочник – низший полицейский чин, обязанный стоять на карауле возле своей будки, в которой жил с семьей. Их нарядили в серое солдатское сукно, и каждому для устрашения обывателей вручили по старинной алебарде, которую узнавали москвичи разве что по карточной колоде – ее держат в руках валеты. В ночное время будочники должны были окликать проезжающих и проходящих словами: «Кто идет?!» Мирные граждане отвечали: «Обыватель», военные: «Солдат». Будочники десятилетиями служили на одной и той же улицы и были чем-то вроде местной достопримечательности. Виновников беспорядков они связывали и доставляли в полицейский участок. Но к этим своим обязанностям стражи порядка прибегали не чаще нескольких раз в год. В остальное же время балагурили с местными жителями, выполняли для них мелкие работы или дремали в будке. В 1860-1870-х годах будочников заменили постовые городовые, стоявшие для наблюдения за порядком на полицейских постах, и хожалые городовые, посылавшиеся по разным поручениям. Сначала они продолжали жить в будках, но с 1880-х годов для них стали строить особые казармы, а будки уничтожили. Над обыкновенными городовыми стояли старшие городовые, носившие пальто серого офицерского цвета и узкие (в половину офицерских) серебряные погоны. Но вскоре последовало очередное нововведение – появились участковые приставы, а вместо старших городовых – околоточные, стоявшие во главе околотков, на которые был поделен каждый полицейский участок. Общая численность полицейской стражи, за исключением резерва, в 1880-х годах составляла сто девяносто пять околоточных надзирателей и тысяча триста пятьдесят городовых. Тогда же установили ночное очередное дежурство у ворот дворников – с бляхами на шапках и со свистками.
Издавна полиция не только обеспечивала общественный порядок, но и принимала участие во всех делах города. Она, по регламенту Петра I, «споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу… предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения, призирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках. Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства».
Городовой
Как хорошо выглядят гуманные фразы на бумаге! Бумага она все стерпит. Как, впрочем, и русский человек. Утрется рукавом после пьяной драки с городовым и поклонится ему в ноги. Подарит отрез на платье супруге пристава, чтобы не натравил на лавку санитарную комиссию. Отсчитает сотню рубликов благотворительному обществу, лишь бы не прикрыли петушиные бои в задней комнате трактира. Стоит ли обижаться? У полиции заработок худой, а забот полон рот и власти много. Тут не регламенты – неписаные законы вступают в силу. Но не о взятках речь…
Около половины чиновников в России второй половины ХК века – это полицейский аппарат. Возглавляли его в уездах исправники, в губернских городах – полицмейстеры, в обеих столицах – обер-полицмейстеры. Каждый из главнокомандующих московским благочинием чем-нибудь да знаменит.
Бродяга
Про Н.У. Арапова рассказывали, что как-то его шутя пожурил генерал-губернатор, что не заметил пролетевшего накануне по небу метеорита. На следующий день в «Ведомостях московской городской полиции» появилось сообщение:
«Его превосходительство обер-полицмейстер заметил, что чины полиции не донесли ему о пролете метеора по небосклону Москвы, вследствие чего предписывает экстренно, заблаговременно доносить ему о всех воздушных необычных явлениях, могущих произойти на небосклоне Москвы, дабы его превосходительство заблаговременно мог принять соответствующие меры».
«Пошел Козел через бульвар», – так говорили про холостого обер-полицмейстера А.А. Козлова, ходившего из своего дома через Тверской бульвар к даме сердца – фешенебельной портнихе Мамонтовой.
А.С. Шульгина отмечали за неустрашимость и распорядительность на пожарах и за страсть к роскошным обедам.
Но обер-полицмейстеры были очень значительными особами, почти как директор Департамента полиции, об их жизни трудно было выудить подробности, да и видеть их приходилось не часто. Другое дело трое полицмейстеров, между которыми была поделена вся территория города. Эти были людьми попроще, в чине полковника и даже подполковника, о них можно посплетничать вдоволь, и они всегда на виду.
Более других москвичам запомнился Николай Ильич Огарев, прослуживший несменяемо в должности московского полицмейстера сорок лет (с декабря 1849-го по январь 1890-го).
Он был знаменит множеством чудачеств, к чему москвичи всегда испытывали любопытство и почтение. Свою квартиру, к примеру, сплошь заставил часами, «которые били на разные голоса непрерывно одни за другими». Стены же одной из комнат украсил карикатурами на полицию. «Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания».
Но главной его страстью, по словам В. А. Гиляровского, были пожары и лошади. «Огарев сам ездил два раза в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок – и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каждая часть имела свою “рубашку” и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская – все желто-пегие битюги, Рогожская – вороно-пегие, Хамовническая – соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая – вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская – белые без отметин, Якиманская – серые в яблоках, Таганская – чалые, Арбатская – гнедые, Сущевская – лимонно-золотистые, Мясницкая – рыжие и Лефортовская – караковые. Битюги – красота, силища!»
Из множества преданий об Огареве приведем одно из наиболее курьезных, изображающее не регламент, а истинный быт московской полиции. Однажды Огарев издал приказ, чтобы в каждой полицейской будке лежала книга, в которой должны расписываться квартальные во время ночных обходов. Но не тут-то было, квартальные продолжали преспокойно спать по ночам, а утром будочники приносили им в околоток книги для подписи. Тогда Огарев приказал прикрепить книги особой печатью к столу в будке. И что же?.. По утрам можно было увидеть на улице будочника со столом на голове, который таким образом доставлял книгу для подписи выспавшемуся начальству.
И все же Огарева уважали и часть его приказов старались добросовестно исполнить. Его плечистая высокая фигура, длинные ниспадающие усы, громоподобный голос вызывали почтительный страх. Особенно когда он выезжал на пролетке из своего дома в Староконюшенном переулке и стремглав мчался по улицам, зорко поглядывая по сторонам. А вдруг остановится, заметив какую-либо неблагопристойность?.. Тогда несдобровать!
Даже спустя тридцать лет после его кончины старики, мешая быль с вымыслом, вспоминали о неустрашимом Огареве – грозе нарушителей городского благонравия…
– Ты только взятки умеешь брать, – напустился как-то генерал-губернатор на Огарева, – а за порядком не смотришь. Ты погляди, что делается в Александровском саду! Это не Александровский сад, а Хитровка.
Вот Огарев и помчался в сад.
А хива распивает.
Развернулся… ка-ак резанет!
– Вот, так-растак! Чтобы духу вашего тут не пахло! – и пошел щелкать, кого по шее, кого палкой вдоль спины. – Для вас, – говорит, – еще люминацию надо делать… – Ну, это насчет фонарей, дескать, освещение. – Так у меня, – говорит, – для вашего брата огаревская люминация.
Александровский сад
И наставил им фонари под глазами. Как звезданет – фонарь и загорится… Как двинут эти хиванцы из сада, аж пятки засверкали.
– Бежим, – говорят, – ребята! Осман-паша пришел!
Никольская улица, вид в сторону Кремля
Всех разогнал Огарев и приказал вычистить сад. Одного этого навозу вывезли сто возов. И сторожей с метлами приставили. Как идет какой «квартирант», так его тычком в морду метлой, а то и по башке. А на воротах дощечки такие были вывешены – ну вроде как бы таблички, объявление такое – дескать, в саду сквернословить не дозволяется…
Сколько правды, а сколько вымысла в народном предании, мог бы поведать только сам Николай Ильич Огарев, чей прах покоится на кладбище Алексеевского монастыря, ныне заасфальтированном. Но московские полицмейстеры воспоминаний не писали, им и без того дел хватало, начиная от поимки грабителей и кончая чистотой мостовых.
Верный своей фамилии
«Осенью 1865 года состоялось первое гласное публичное состязательное заседание военного суда по делу об убийстве, которое обсуждалось по законам военного времени. Так как у военного ведомства не было здания, приспособленного для публичного разбирательства дела, то арендовали на Солянке один трактир и переделали его для новой цели. Из отдельных кабинетов были устроены комнаты: секретарская, для совещания судей, для свидетелей и пр. Нечего и говорить, что зал суда в день разбора дела оказался переполнен. На улице, по всей Солянке, чуть не до Варварских ворот стояли толпы, как будто бы в здании трактира происходило не заседание суда по уголовному делу, а само уголовное событие.
Все лихорадочно следили за каждым моментом судебного разбирательства и торопливо передавали друг другу подробности, которые удавалось узнать от счастливцев, попавших в заседание.
Так как защитниками были мои товарищи Зорин и Розенберг, то мне удалось проникнуть внутрь. Насколько еще в то время не освоились с новыми способами судопроизводства, указывает следующий характерный факт.
Защитник Розенберг не только патетически взывал к милосердию судей, но даже упал перед ними на колени и, рыдая, умолял пощадить подсудимых…
Однако первый гласный суд оказался кровавым – виновные были приговорены к смертной казни. Из зала заседания после объявления приговора стали выносить дам и даже мужчин в обмороке».
Ф.Н. ПлевакоВ стародавние времена в Москве, возле трех церквей – Параскевы Пятницы в Охотном Ряду, Георгия на Всполье и Троицы на берегу Неглинной – устраивали судебные поединки. Спорящие колотили друг друга дубинками, перетягивали за волосы через канаву или просто дрались до крови, а то и до смерти. Победитель, само собой, считался правым в споре. В 1556 году судебные поединки заменили на крестное целование и божбу в своей правоте, которые проходили на Никольском крестце или возле церкви святителя Николая, что у Большого Креста.
Но ни удары по голове друг другу, ни страх перед Богом далеко не всегда удовлетворяли спорящие стороны. В XVIII веке для победы в суде стали нанимать специальных людей – стряпчих, весь день крутившихся у Иверских ворот, предлагая свои услуги. Эти дельцы не подставляли свою голову под удары противника, а использовали ее на новый манер – шевелили имевшимися в ней мозгами, чтобы поискуснее составить прошение и другие бумаги. Они умело сражались на словесных ристалищах и получали за хлопоты хорошую мзду от желавшего выиграть судебный иск. Проигрывал теперь чаще всего тот, кто оказывался беднее и не мог нанять стряпчего.
До 1860-х годов суд считал своей главной задачей добиться собственного признания обвиняемого и свои заседания проводил в его отсутствие. Предварительное же следствие всецело предоставлялось полицейским чинам, за чьей деятельностью не существовало никакого надзора. Лишь после судебной реформы, первый шаг к которой был положен законодательным актом от 20 ноября 1864 года, появились адвокаты, чаще в то время называвшиеся присяжными поверенными, которые взялись охранять права подсудимых.
Но закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Кроме указов и постановлений в новом суде нужны были опытные профессиональные судебные работники, притом честные, уважаемые в городе, трудолюбивые. И такие нашлись…
В тюрьме
Михаил Иванович Доброхотов родился 4 ноября 1826 года в уездном городке Вязники Владимирской губернии, в семье чиновника средней руки. По окончании в 1835 году суздальского училища был награжден похвальным листом «за успехи, прилежание и добрую нравственность». Хвалили его и во Владимирской губернской гимназии, и на юридическом факультете Московского университета. В феврале 1849 года Михаил Иванович поступил на службу в Московскую уголовную палату, где за восемь лет прошел путь от помощника столоначальника до – секретаря суда. Когда в 1866 году в Москве открылись новые судебные учреждения, Доброхотов был внесен в список присяжных поверенных под первым номером и до своей кончины не только по списку, но и по делам был первым среди сословия адвокатов. Он стал одним из основателей Московского юридического общества и бессменным председателем Совета присяжных поверенных. Многих он защищал на суде безвозмездно, по недостатку времени отказывался от прибыльных дел.
– Вот, батюшка, – говорил Доброхотов коллеге, показывая на посетительницу, старушку в заячьем тулупе, – совсем ее ограбили родственники, последние четыреста рублей отняли. А она насилу ходит, приплелась сюда из Вологды, а обратно возвращаться не на что…
Потом, обернувшись к старушке, наставлял ее, вручив двадцать пять рублей:
– Езжайте, матушка, домой, ждать окончания дела долго, я с ним и без вас справлюсь, а деньги перешлю по почте.
Можно было быть уверенным, что Доброхотов сдержит слово, данное старушке, оправдает свою фамилию – «хотящий добра».
Выслушав исповедь подсудимого, он часто говорил: «Подумайте хорошенько, не найдете ли сказать еще чего в свою пользу и оправдание».
«В качестве председателя Совета, – вспоминал знаменитый присяжный поверенный Ф.Н. Плевако, – Михаил Иванович всегда старался и умел проводить в молодое сословие начала высокоэтического и щепетильного отношения адвоката к своим профессиональным обязанностям.
Так, в отношении гонорара, даже по гражданским делам, он считал единственным основанием для исчисления его размера труд и время адвоката, а отнюдь не тот или иной исход порученного ему дела».
Доброхотов часто отклонял вознаграждения, говоря: «Это дело того не стоит». И уж, конечно, никогда не брался за судебный процесс ради популярности или когда понимал, что дело здесь нечистое.
Друзья признавали в нем «светлый ум, склонность к добродушному веселому юмору, переходящему иногда в едкую, язвительную, полновесную насмешку». Никто, даже и дома, никогда не видел его рассерженным!
Вспоминали: «Своим спокойствием и простотой он производил более впечатления на судей и присяжных, чем иные с помощью бойкой речи и адвокатских фокусов».
Жил первый присяжный поверенный Москвы с женой и двумя дочками в доме на Остоженке, возле Первой гимназии, где и умер 21 ноября 1869 года от сердечного приступа. Хоронили его на Дорогомиловском кладбище при громадном стечении народа. Про него говорили: «Кажется, нет в Москве человека, который бы его не любил».
От карикатуры к портрету
Почти все именитые московские купеческие фамилии – крестьянского происхождения. Когда-то их предок с котомкой за плечами пришел в Москву и благодаря крестьянской сметке повел удачную торговлю. Его потомки умножили капиталы и стали ворочать тысячами, а то и миллионами рублей. С середины XIX века, и даже немного раньше, самым богатым московским жителем становится купец. Он хоть и ходит как мужик в бороде и сапогах, но живет в бывших дворянских особняках, ездит учиться за границу и ворочает миллионными капиталами. Ох, и досталось же купцу от литераторов-разночинцев! Губернатора в фельетоне высмеять боязно, да и цензура не позволит, мастерового – зазорно, а вот московский негоциант – сущий подарок для любителей насмехаться. В «Будильнике», «Развлечении», других сатирических журналах и газетах помещали бесчисленное множество карикатур на одну и ту же тему: купец с короткими ножками, огромным животом и бычьей шеей, подстриженный в кружок, хлещет по трактирам водку и произносит глупые речи. Рядышком пустят пару анекдотов о патриотизме купца и любви к гусю и каше. Не обойдется и без юмористического стишка. Сколько злых завистливых слов потрачено литераторами, завидовавшими быстрому богатению вчерашних крестьянских пареньков!
Фамилия текстильных фабрикантов Хлудовых гремела по Москве во второй половине XIX века. Конечно, большую роль в этом играло их многомиллионное состояние – одно из самых значительных в первопрестольной. Но слава знаменитой купеческой династии создавалась не только деньгами…
Иван Иванович Хлудов
Родоначальником хлудовского богатства стал Иван Иванович Хлудов – уроженец деревни Полеваново Егорьевского уезда Рязанской губернии. Он весьма тяготился крестьянской жизнью, особенно терпеть не мог полевых работ. «Пойду в Москву, – мечтал он, – буду лучше торговать моченой грушей, чем печься на солнце».
Так и случилось. В день Георгия Победоносца, 26 ноября 1817 года, отслужив молебен и получив благословение родителей, Иван Иванович вместе с женой Маланьей Захаровной и малыми детьми отправился в Москву, где и поселился в убогой хижине на берегу Яузы. Но торговать он стал не моченой грушей, на которой лишь медные деньги можно нажить, а пестрыми купеческими кушаками, которые сразу же принесли ему хорошие барыши.
Покровский ставропигиальный женский монастырь в конце XIX века
Стройный, высокий, с русой бородой и орлиным взглядом, он быстро выбился в купеческое сословие и, когда скончался 24 марта 1835 года на сорок восьмом году, оставил шестерым сыновьям и дочери свое доброе имя, приличный капитал, лавки в Гостином дворе и Городских рядах, большой дом на Швивой Горке.
Старший сын Тарас ненадолго пережил отца († 1837). Савелий († 1855) продолжил дело отца и основал Егорьевскую бумагопрядильную фабрику. Он «был холост, ходил в цилиндре и был приятелем Л.И. Кнопа». Назар († 1858) считался в семье «философом XIX века». Младший Давыд († 1886) в 1857 году был избран городским головой Егорьевска, и с этого времени стал отходить от фамильного дела, направив свою деятельность в русло благотворительности. Алексей († 1882) и Герасим († 1885) стали московскими купцами первой гильдии, совладельцами Торгового дома «А. и Г. Ивана Хлудова сыновья», нескольких бумагопрядильных и ткацких фабрик. Оба были не только уважаемыми коммерсантами, но и известными коллекционерами: первый собирал древнерусские рукописи и книги, второй – русскую живопись.
Семейство Хлудовых все больше разрасталось, приумножались его капиталы и недвижимое имущество. Одну за другой возводили они обители милосердия – богадельни для бедных и прочие богоугодные заведения – дома бесплатных квартир, ремесленные училища, народные школы, больницы, бани и библиотеки для рабочих, кельи для монахов, храмы…
Но людская молва завистлива. Люди больше обращали внимания не на достоинства, а на пороки богатых негоциантов.
«Хлудовы были известны в Москве, – вспоминает М.К. Морозова, – как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди. Их можно было всегда опасаться как людей, которые не владели своими страстями».
Наиболее яркой эксцентричной фигурой в семействе был Михаил Хлудов, сын Алексея Ивановича. Он послужил прототипом богатого подрядчика Хлынова в комедии А.Н. Островского «Горячее сердце», под именем купца Хмурова был изображен в романе Н.Н. Каразина «На далеких окраинах»; черты его характера, как и его отца, нашли свое воплощение в собирательном образе Ильи Федосеевича – главного героя рассказа Н.С. Лескова «Чертогон».
Но художественное произведение – это выдумка, в которой действительный факт, как катящийся с горы снежный ком, обрастает неудержимой фантазией автора. Это же свойство присуще большинству старческих воспоминаний и биографических очерков, которые только с виду похожи на правду, а на самом деле представляют собой набор слухов и легенд, в которых мемуарист или литератор желаемое выдает за действительность, создает мнимую реальность. Но, к сожалению, более достоверных сведений о жизни Михаила Хлудова почерпнуть негде. Увы, ни он, ни его близкие не оставили потомкам своих искренних дневников, где события излагались бы по свежим следам, без оглядки на «мировые катаклизмы» и без мечтаний увидеть свое сочинение когда-нибудь напечатанным.
В санях.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Итак, о чем главным образом пишут мемуаристы, когда речь заходит о Михаиле Хлудове?..
Во-первых, о том, что в его доме в Хлудовском тупике (ныне Хомутовский тупик) жила ручная тигрица Сонька, которая пугала посетителей. «Через неделю повел меня отец к Хлудову, – вспоминает художник К.А. Коровин. – Против Садовой части, в тупике, его большой особняк. Со двора ведет лестница на второй этаж. Входим. Большая столовая, за столом, во главе его, сидит сам Хлудов… В столовой сзади – стена стеклянная, за стеклами пальмы: зимний сад. Вдруг из стеклянной двери, где пальмы, выбежал пудель, а за ним. Я окаменел от неожиданности – за пуделем показалось чудовище длиною, по крайней мере в сажень, могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами».
Во-вторых, о его кутежах, пьянстве, разврате и безумии. «Огромная толпа окружала большую железную клетку, – вспоминает о собачьей выставке 1885 года В.А. Гиляровский (кстати, очень любивший приврать). – В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова».
В-третьих, что он, по словам Е.Б. Новиковой, «сорил деньгами направо и налево, выдавал без счета векселя и даже, как говорили, подделывал подпись отца».
В-четвертых, как утверждает А.А. Шамаро, что он в открытую высмеивал православие. По Москве будто бы расходились его каламбуры, в которых он высмеивал общеизвестные молитвы: «Во имя овса и сена, и свиного уха, овин…..» или: «Господи, владыка живота моего и прочих внутренностей…..»
В-пятых, что он допился до белой горячки, вторая жена, В.А. Максимова, стала ему изменять и отправила его раньше времени на тот свет. «У нее был защитник среди ее девичих друзей, – вспоминает Н.А. Варенцов, – доктор Павлинов, с которым она и сошлась близко. При его содействии она мужа, болевшего белой горячкой, сделала сумасшедшим, поместила в комнате с железными решетками в окнах, со стенами, обитыми толстым слоем ваты. И никого из родственников к нему не допускала».
Портрет, судя по вышеприведенным фактам (вернее, преданиям и сплетням), получился весьма неприглядный. Но, может быть, представление о Михаиле Хлудове изменится в лучшую сторону, если к пренебрежительному шаржу прибавить несколько подлинных штрихов его деятельности и характера.
Михаил Хлудов первым из русских купцов посетил в 1863–1865 годах Бухару и установил с нею торговые отношения. В последующие два года он, опять же первым, приехал в Коканд, организовал там русскую контору покупки хлопка и устроил в Ходженте современную европейскую шелкомотальную фабрику. Это стоило ему громадного риска и затрат, так как все оборудование для фабрики пришлось переправлять волоком по пустынным песчаным степям. Кроме того, он проник с караваном в Кашгар и завязал непосредственные торговые отношения с владельцем Алтышара Якуб-беком.
Михаил Хлудов участвовал в завоевании Средней Азии, бескорыстно снабжая русскую армию продовольствием. Он присутствовал при взятии русскими войсками Ташкента и Коканда, штурмовал Ура-Тюбе и Джюзак.
В 1869 году он воевал в Афганистане, после чего был представлен российскому императору и получил орден Владимира четвертой степени.
В русско-турецкую войну 1877–1878 годов состоял адъютантом при генерале М.Д. Скобелеве, снабжал на свои средства военные лазареты медикаментами и корпией. Однажды, пробравшись в турецкий лагерь, взял «языка» и получил за храбрость Георгиевский крест.
Прием поезда раненых в Москве во время Русско-турецкой войны в 1878 году
Михаил Хлудов умел укрощать как зверей, так и людей.
Приехав к своему знакомому на дачу, он решил подойти к собаке, привязанной двумя цепями. Хозяин пытался остановить его, уверяя, что собака очень сильная и злая, может разорвать даже две цепи и наброситься на человека.
– Вздор! – сказал Хлудов и быстро подошел к цепному псу.
Тот вдруг трусливо завизжал и скрылся в конуре. Хлудов вытащил его за цепь наружу и пошлепал ладонью по морде. Пес только скулил, поджав хвост.
Забастовали рабочие на Ярцевской мануфактуре. Отец, Алексей Иванович, наотрез отказался ехать на свою фабрику, опасаясь эксцессов. Поехал Михаил. Его встретила возбужденная толпа рабочих, что-то возмущенно кричавшая и кому-то грозившая. Михаил без страха посмотрел на толпу, поднял руку, и все замерли. Он подошел к зачинщикам бунта, одного похлопал по плечу, другого по животу, третьему погладил бороду. И все это с прибаутками. Рабочие рассмеялись. Примирение состоялось. После угощения повсюду слышались возгласы: «Вот это хозяин!.. Настоящий хозяин!»
В память о безвременно умершем сыне Михаил Хлудов завещал для создания детской больницы свой богатый дом и триста пятьдесят тысяч рублей. Больница была закончена строительством и открыта в 1891 году на Большой Царицынской улице. Она существует до сих пор, хотя в советский период и перестала носить имя своего создателя (Большая Пироговская улица, дом 19).
Ну, вот теперь получился, хоть и миниатюрный, но все же портрет Михаила Хлудова, а не карикатура на него.
Золотая княгинюшка
Москва! Предел моих желаний! Где я расцвел, где я увял, Где наслаждался, где страдал И где найду конец страданий! И.П. Клюшников, конец XIX векаНа кладбище Новодевичьего монастыря 25 февраля 1909 года скромно, без венков, – как завещала покойница, – похоронили умершую на девяносто седьмом году жизни княгиню Надежду Борисовну Трубецкую, урожденную княжну Святополк-Четвертинскую.
Если бы у нее не было собственных заслуг, то можно было вспомнить, что ее муж – потомок боевого генерала времен Петра I князя Юрия Юрьевича Трубецкого, что по женской линии ее род восходит к ближнему боярину царя Алексея Михайловича Артамону Матвееву, что родственник поэт П.А. Вяземский ввел ее в круг своих знакомых – А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.В. Гоголя, что в ее доме в Знаменском переулке часто гостили И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев…
Но у княгини было немало и собственных заслуг.
В 1830 году князь Шаликов посвятил восемнадцатилетней Трубецкой экспромт:
Вам тотчас гордою покажется она, Но на лице ее прекрасном, Во взоре, может быть, опасном Вся сердца доброта, как в зеркале, видна.«Доброта сердца» с годами проявлялась все чаще и уже не ограничивалась кругом родных и близких. В 1842 году княгиня становится членом Совета детских приютов, который возглавила ее свекровь. В 1844 году вместе с сенатором С.Д. Начаевым основывает Ольгинский приют. С конца 1840-х годов начинается ее деятельное участие в работе Дамского попечительства о бедных…
Сестра милосердия
Когда в родовом имении Трубецких селе Лыткине Звенигородского уезда Московской губернии разразилась страшная эпидемия холеры, молодая княгиня поспешила к своим крестьянам. Она обходила их избы и оказывала первую медицинскую помощь, а возле своей усадьбы устроила холерный барак. «Золотая княгинюшка, наш ангел-хранитель», – звали ее крестьяне.
В Москве 3 июня 1859 года с трех до четырех часов пополудни прошел необыкновенно сильный дождь с крупным градом и при буйном ветре. Были разрушены многие мосты, порушены лавки, размыты мостовые. В здании Синодальной типографии сдвинуло с места большие каменные плиты. У многих частных домов города затопило подвалы и первые этажи, сорвало крыши.
Надежда Борисовна была свидетельницей разгула стихии, горя простолюдинов, в один миг потерявших родной кров – ветхую избушку. Теперь она решила помогать обездоленным не раз от разу, а всегда. Княгиня, уже четвертый год вдовевшая, основывает Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами, к работе в котором привлекает женщин из самых аристократических семей. Начали с небольшого дела – наняли квартиру в доме Воейкова у Калужских ворот, где получили приют бедняки, оставшиеся без крыши над головой в результате очередного разлива Москвы-реки. Надежда Борисовна поняла, что снабжение неимущих дешевыми квартирами – лучший и наиболее рациональный способ благотворения. Дешевые квартиры, кроме всего прочего, служили стимулом для трудолюбия населения, боявшегося лишиться этого теплого и уютного жилища, и способствовали нравственному воспитанию молодежи, так как вся семья жила в одном месте.
На похоронах Трубецкой вспоминали, что за полвека существования Братолюбивого общества оно выросло в большую благотворительную организацию, обладавшую в Москве тридцатью пятью домами и значительным капиталом.
Доброта княгини проявлялась и на других поприщах благотворительности. В 1865 году она основала ремесленную школу, впоследствии ставшую знаменитым Комиссаровским училищем. В 1876 году создала Ксеньинский приют и оставалась его попечительницей до самой своей кончины. В 1877 году, когда началась русско-турецкая война, Трубецкая возглавила московское отделение Красного Креста и с санитарным поездом отправилась на фронт для оказания помощи раненым при их эвакуации в тыл.
Наводнение в Дорогомиловской слободе
«Это была, так сказать, прирожденная благотворительница, – характеризовал Н.Б. Трубецкую князь Б.А. Щетинин, – как бывают прирожденные таланты, благотворительница Божьей милостью, одаренная редким, чисто золотым сердцем, и такою она оставалась до самого конца своей многолетней, плодотворной жизни».
Некоторые из памятников добрых дел княгини Трубецкой – дома Братолюбивого общества в Протопоповском переулке, на Госпитальной улице, в Соколовском (ныне Электрическом) переулке и в других московских окрестностях – стоят до сих пор. Вот только занимают эти особняки, выстроенные в свое время для городской бедноты, министерства и прочие организации, не имеющие никакого понятия о благотворительной деятельности.
День за днем…
«Два года тому назад летом городской управой были сделаны первые, незначительные по размерам опыты поливки улиц нефтью. И вот только теперь городской технический совет рассмотрел данные нашего городского опыта. Совет признал результаты этих опытов более чем удачными. Двух поливок в течение летнего сезона было достаточно, чтобы избавить улицы от пыли. Запах от нефти исчезал спустя три-четыре дня после поливки.
Ввиду таких результатов, управа предполагает предстоящим летом повторить опыт в несколько больших размерах, отведя для этой цели две большие площади – Калужскую и Смоленскую».
«Русское слово». 7 февраля 1910 г.О богатых москвичах в старину говорили не меньше, чем об императорской семье, гордились капиталами вельможных тузов, роскошными барскими особняками, многочисленной дворней. Юсуповы, Орловы, Голицыны – их имена окружали героическими легендами и завистливыми сплетнями. Таков уж удел бедных – издали любоваться великолепием жизни богатых. «Юсупов-то сам не выходил из кареты, – бывало, со слезами восторга на глазах начинал рассказ московский старожил, – его четверо гайдуков вынимали».
Обыватели изо дня в день ездили по замощенным мостовым, переходили через реки по мостам, пользовались мытищинским водопроводом, но о городском хозяйстве вспоминали, лишь чтобы ругнуть городскую управу за дорожную грязь или погасший фонарь. Как-то считалось само собой разумеющимся, что кто-то строит мосты и плотины, прокладывает канализацию, расширяет улицы, устраивает скверы и бульвары. Вряд ли нашлись москвичи, которые отметили 11 августа 1996 года сто пятьдесят лет со дня рождения Владимира Константиновича Шпейера.
Уроженец города Николаева Херсонской губернии, сын полковника Корпуса флотских штурманов, он получил прекрасное техническое образование в Цюрихе. По его проекту и под его наблюдением проложили железную дорогу в Крыму на самом трудном, гористом участке: Симферополь – Севастополь. С конца 1870-х годов Шпейер служит в Москве инженером Коломенского машиностроительного завода братьев Струве, затем в течение тридцати лет работает городским инженером. Им построены Москворецкий, Краснохолмский, Крымский, Высокояузский, Яузский, Устьинский, Чугунный мосты. Спроектированы железные ряды на Красной площади во время перестройки Верхних торговых рядов (позже перенесены на Болотную площадь), железный навес на Хитровом рынке.
Шпейер проложил канализацию в самом сложном, пологом участке города – Замоскворечье. Им составлены расценочные ведомости на все строительные работы в городе. Он участвовал в постройке и капитальном ремонте плотин, шлюзов, набережных, улиц, бульваров, жилых и нежилых построек, трассировке пути трамваев, прокладке кабелей электрического освещения и первых телефонных проводов. Владимир Константинович в течение многих лет изучал особенности Москвы-реки, составил ее подробное описание с сотнями диаграмм и схем и предложил конкретные мероприятия для предотвращения наводнений и обмеления.
Но перечисленные труды московского инженера не вызывали интереса у обывателей. Их мало интересовало, что Шпейер с раннего утра до позднего вечера трудится для блага города, что через его руки в течение нескольких десятилетий проходят все важнейшие технические городские проекты, что губернаторы и городские головы, зная его честность и ученость, часто обращаются к нему с просьбой помочь в том или ином деле по благоустройству Москвы.
Выдающийся инженер, опытный гидравлик, знаток городского технического хозяйства, Шпейер провел свою жизнь скромно, в неспрестанном труде, и когда умер в 1915 году, мало кто, кроме сослуживцев, отметил этот факт. Да и они, собравшись помянуть наставника и товарища, ничего необычного в его жизни вспомнить не могли.
Дореволюционный металлический Крымский мост
– В праздник ездил на охоту, в остальные дни – в рабочие канавы.
– Собирались часто у него на квартире, обсуждали вопросы городского хозяйства.
– Он лучше всех знал иностранную техническую литературу и помогал нам, делился своим опытом.
– Каждое утро объезжал все работы, а каждый вечер десятники обязаны были являться к нему с докладом о сделаном за день.
– Его неизменная привычка – строить прочно, надежно и дешево из-за нехватки городских средств.
– Пройти школу Владимира Константиновича – значит научиться профессионально и добросовестно работать.
Не правда ли, обыкновенная жизнь обыкновенного человека?..
Чистая вода для горожан
В Московском Кремле уже в 1601 году был напорный водопровод. Позже он появился и в других местах города. Но основное население вплоть до ХХ века снабжалось водой в основном из рек, прудов и колодцев. Первая городская система водоснабжения – это законченный постройкой к началу XIX века Мытищинский водопровод, который прослужил городу около полутора веков. В 1853 году заработали водопроводы у Бабьегорской плотины и Краснохолмского моста, откуда вода поступала в фонтаны-водозаборы (на Арбатской, Тверской, Калужской и Серпуховской площадях, перед домом Пашкова, на Зацепе, на Большой Полянке и Пятницкой улицах). Во второй половине XIX века были устроены водопроводы на Ходынском поле, Андреевской набережной и в Преображенском. Но все они были маломощными. Новая страница в снабжении водой горожан – это открытие в 1902 году мощной Рублевской водонапорной станции.
Москва осенью 1917 года представляла собой не город смиренных тружеников, а скопище разбушевавшихся бездельников. На площадях ежедневно гремели митинги, завершавшиеся шествиями повсеместно бастовавшего пролетариата к Кремлю с пением «Интернационала». Даже профессиональные карманники собрали свой митинг в цирке Никитина, потребовав от нового общества оказать поддержку ворам и приобщить их к свободной и радостной жизни. Тыловые армейские гарнизоны громили винные лавки, город был переполнен завшивевшими дезертирами.
Пашков дом.
Художник Ф. Дамам-Демартре
Появились бесконечные «хвосты» за хлебом, молоком, калошами. Трамваи встали, фонари погасли, грязь на улицах никто не убирал.
Ленин на трибуне
И лишь одно оставалось как прежде – продолжал работать водопровод, без перерывов подавая воду в городские бассейны на площадях, в жилые дома и бани. Люди испытывали нехватку во всем насущном, кроме чистой питьевой воды. Никто не подметил этой странности, никто не придал значения тому факту, что когда забастовали рабочие заводов и фабрик, хлебопеки, ломовые извозчики, банковские чиновники и прочие, служащие Московского водопровода продолжали работать, как и при «царском режиме».
– Почему солидарность с пролетариатом не поддерживаете? – спрашивали служащих Алексеевской водокачки очумевшие от безделья и свободы соседи-фабричные.
– Дед не велел бастовать. Говорит, людям и так теперь худо, а без воды и совсем осатанеют.
Дед – прозвище, которым все, служившие на Московском водопроводе за глаза называли своего главного инженера и главного механика Владимира Васильевича Ольденборгера. Никто не помнил, кто наградил пятидесятилетнего бородача этим именем, но все были уверены, что оно крепко пристало к нему за его доброту и заботу о подчиненных.
Ольденборгер окончил математический факультет Московского университета, затем Высшее техническое училище (ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана). Умолчав о своих двух высших образованиях, он поступил слесарем на Московскую электрическую станцию. Обучившись инженерному делу не только в теории, но и на практике, он с 1894 года навсегда связал свою жизнь с Московским водопроводом. Занимался Ольденборгер, на взгляд ленивого обывателя, скучной, однообразной работой: проектировал и устанавливал новые котлы, паровые машины, насосы, очистительные сооружения, нефтяные резервуары. Построил поселок для своих служащих…
«За все двадцать восемь лет службы на водопроводе, – вспоминал машинист А. Тимофеев, – он не знал праздников, работал неограниченное время, вообще относился к делу и к нам, рабочим, с любовью».
«Талант его был крайне разнообразен, – вспоминал инженер А. Кондрашев, – он всюду вносил что-то новое, оригинальное. Будучи главным механиком водопровода, Владимир Васильевич, в сущности, был и главным механиком всего бывшего Московского городского общественного управления. Так, в его ведении находилось оборудование городских рынков весами, оборудование отдела благоустройства автомобилями для поливки улиц, ему была поручена выработка основных заданий, приемка и испытание насосов и принадлежностей для городской пожарной команды, и он привлекался в качестве консультанта при решении вопросов о новых механических установках во всех городских предприятиях».
«В товарищеском кружке городских инженеров, – вспоминал инженер Н. Трофимов, – существовало одно ходячее выражение: “Поднимать Иверскую”. Это обозначало, что есть какой-то очень сложный вопрос и что к решению его необходимо привлечь Владимира Васильевича. Это было выражение очень меткое в двух отношениях: как Иверская икона нарасхват приглашалась верующими православными, как трудно бывало добиться ее посещения, также нарасхват брался и Владимир Васильевич, и также трудно иногда бывало его дождаться. Как Иверская несла верующим утешение от скорбей и исцеление от недугов душевных, так Владимир Васильевич нес товарищам-техникам дельный совет и исцеление от волновавших их сомнений».
Вид на Кремль. Хороша видна арка, через которую Неглинка впадала в Москву-реку
«Господа» не оставляют своего следа на земле – лишь банковский счет или долги. Ольденборгер оставил замечательный след в истории Москвы – бесперебойное снабжение города чистой водой, которой и в спокойные, и в лихие времена мог на равных пользоваться и князь, и комиссар, и простолюдин. Когда в 1921 году из-за травли советскими полуграмотными чиновниками он покончил жизнь самоубийством, сослуживцы похоронили своего Деда на Алексеевской водокачке, против окон Главного машинного здания и ремонтных мастерских. Ольденборгер и после смерти был нужен им на своем рабочем месте.
Крах империи
Декабрьское восстание
Письмо жандармского офицера родственнику от 18 декабря 1905 года:
Дорогой Саша!
Спасибо тебе за письмо. Все-таки теперь видно, что ты жив, здоров и особенного ничего не случилось. Отвечаю тебе при странных обстоятельствах.
Сижу вторые сутки на станции Клин, имею в своем распоряжении местных жандармов и должен ловить бегущих из Москвы революционеров. Осуществлению этого предприятия должны помогать филеры нашего отдела, снующие с каждым поездом между Москвою и Клином. Миссия странная.
Между прочим, то, что революционеры в предвидении арестов после неудавшегося восстания должны убегать, идея Дубасова[16], который приказал командировать в Клин офицера. Послали меня.
Страшное, беспримерное и более чем тяжелое время пережили мы в Москве. 7-го была объявлена забастовка, 8-го она была осуществлена при помощи терроризирования владельцев предприятий и магазинов. А 9-го началось вооруженное восстание. Как оно началось, сколько было самых выдающихся, бьющим по нервам случаев, этого сказать и описать нельзя. Короче, я до девяти вечера и не подозревал, чтобы толпа, хотя и организованная, могла бы оказывать сопротивление войскам, да еще артиллерии. Я никак не думал, что они могли проявить столько активности, которая при выработанном плане и зверской жестокости, с которой он приводился в исполнение, могла бы быть роковой для Москвы, если бы они были немного более осведомлены… Каждый раз нас спасало преувеличенное их представление о нашей организации и наших силах.
Федор Васильевич Дубасов (1845–1912)
Итак, для меня лично первым днем явного вооруженного восстания явилось 9 декабря. В этот день было получено известие, что мятежниками занято реальное училище Фидлера в его доме в Лобковском переулке[17] и они предполагают двинуться оттуда на взятие Думы и прочее, что, вероятно, известно тебе из газет. Решено было, конечно, не допустить этого и предложить им оставить здание. Большому наряду полиции был придан военный отряд из трех родов оружия под общим командованием Сумского полка ротмистра Рахманинова. Я с Петерсоном прибыл из отделения к дому Фидлера около одиннадцати часов вечера, когда приставом велись уже переговоры с осажденными. По Лобковскому и Мыльникову переулкам были расположены войска…
Переговоры были довольно любопытны. Пристав требовал, чтобы они вышли из здания, сложив там оружие, и дал им три четверти часа на размышление и решение этого вопроса путем голосования. Через назначенный срок вышли двое уполномоченных и заявили, что «товарищи» (!?) не могут принять этих условий и согласны выйти и оставить оружие только в том случае, если им немедленно после того без всякой переписи будет предоставлена свобода. Конечно, условия эти не могли быть принятыми. Тогда они просили еще полчаса на размышление и голосование, но в таком сроке им было отказано. Ротмистр Рахманинов заявил, что войска мерзнут с семи часов и что за это время можно было решить такой несложный вопрос; а в поведении их он просто видит желание выиграть время. Я подал мысль, что они ждут подкрепления. Рахманинов решительно сказал им, что они имеют еще ровно десять минут, по истечении которых он подвергнет дом бомбардировке, если они не выйдут. Сам Фидлер, бывший здесь же, плакал и умолял их выйти и сохранить его дом от разрушения. Депутаты медлили. Рахманинов вынул часы и сказал им: «Я начинаю считать время, не теряйте его и бегите бегом к вашим товарищам». «Такой срок им недостаточен, мы не успеем даже разобрать баррикады и выйти», – сказали депутаты. «Не теряйте времени, – отвечал им Рахманинов, – минута уже прошла».
Видя такую твердость, депутаты действительно побежали к товарищам.
И вот наступило томительное молчание. Лица солдат были озлоблены, они глядели на окна дома с мрачной решительностью, не оставлявшей мест никакому сомнению. Слышались недовольные замечания: «Разговаривать еще с такой сволочью! Перерезать их всех, да и делу конец!» Рахманинов посмотрел на часы. Пристав бегал взад и вперед, все время твердя, что он сделал все, что только было возможно, и наконец бросился к телефону в соседний дом и позвонил Медему, что он передает дальнейшее выполнение поручений ротмистру Рахманинову. Со стороны Медема последовало решительное согласие: не останавливаться перед необходимостью пустить в ход артиллерию.
Время шло томительно медленно, нервы были напряжены, сердце начинало биться сильнее. Оставалось две минуты! Роковой момент приближался. Все смотрели на Рахманинова и на окна Фидлера. Вдруг отворилась входная дверь, и на пороге ее показалась женщина с Красным крестом на рукаве[18]. «Мы еще просим десять минут времени – последний срок. Есть надежда, что мы придем к соглашению». – «Вы имели достаточно времени, – при гробовой тишине ответил твердо ей Рахманинов. – Однако, я даю вам еще пять минут, причем прошу предупредить, что всякие дальнейшие просьбы об отсрочке не будут приняты во внимание». «Сестра» удалилась. У нас поднялся говор: «Сдадутся!» Слышались замечания: «Конечно. Или уж совсем дураки и мерзавцы, которых и жалеть нечего!»
Заседание Временного комитета Государственной Думы 28 февраля 1917 года
Опять потянулись бесконечные минуты. Картина та же, но нервы достигли высшей степени напряжения. Оставалось две минуты… Никакого ответа. Осталась минута. Из здания послышался шум. Все затаили дыхание. «Ура!» – пронесся по зданию крик революционеров. Все поняли, что они решились умереть. Срок истек. «Горнист! – раздался среди гробовой тишины резкий голос Рахманинова. – Сигнал!» Пехотный горнист подбежал к зданию, растворил входные двери в угловом фасаде, из которых выходили депутаты, и труба его, как это и всегда бывает, сначала зашипела, потом издала еще более неприличные звуки и, наконец: «Тра-та, трата-та, трата-та-та…..» – гулко пронесся по зданию первый сигнал. Никто не шевелился. Эхо, очень далекое, пронеслось ответом по морозному воздуху. Прошло минуты две. «Второй!» – раздалась команда. «…..Та-та!» – умер последний звук. Гробовое молчание. Из дома ни звука!.. Еще три минуты. Может быть, одумаются в последний момент. Но и эти минуты протекли в зловещей тишине и напряженном молчании. Нужно тебе сказать, почему войско не было введено в здание и их не взяли простым приступом. Дело в том, что при входе была большая площадка, забаррикадированная скамьями, партами, вешалками и т. п. хламом, через который с трудом можно было пробраться двоим. Кроме того, лестница шла вверх двумя маршами, под тупым углом, подвергая, таким образом, страшному обстрелу всю нижнюю площадку. Ввиду этого Рахманинов отказался от атаки и предпочел бомбардировку.
Последний сигнал был сыгран, и звуки его еще не успели замереть, как раздалась отчетливая команда: «По окнам второго этажа, рота, пли!» Залп, звон битых стекол, и град пуль из окон были ответом. Я понял, что, не бывая на войне, я имел случай участвовать в бою. Пули свистели кругом. «Орудиями!» – скомандовал Рахманинов. Их было две конных и две артиллерийских бригады. Командовал взводом молодой подпоручик. Первое орудие он навел на угловой фасад, второе на одно из окон. Стояли они во дворе. «Первое, – протяжно и звонко скомандовал подпоручик, – пли!» Передать словами невозможно того впечатления, какое произвел на нас орудийный выстрел из такого каменного колодца, в котором мы находились. Все внутренности от ужасного сотрясения воздуха были встряхнуты. Городовые в ужасе, зажав уши, бросились назад. Страшный треск ударившегося на расстоянии, не превышавшем восьмидесяти-ста шагов, снаряда о каменную стену, падение стекол и крики из здания. «По окнам третьего этажа, рота, пли!» Еще залп. «Орудие, второе, пли!» Град выстрелов из здания, стоны раненых солдат и городовых. Кровь. Крики. Страшное озверение солдат, увидевших павших товарищей. Вдруг одно из окон осветилось, и оттуда полетела ракета. «Бомба, бомба!» – раздался крик. Взрыв подтвердил это предположение. Молодой подпоручик приказал навести на это окно орудие. В перерыве между залпами свет в том же окне опять осветил человека, бросающего ракету. Но прежде взрыва грянуло орудие. Непосредственно за ним разорвавшейся бомбой убило прапорщика Самогитского полка. Великолепный орудийный выстрел, как мы узнали потом, заставил бомбиста смертью заплатить за это. Он был убит гранатой, выворотившей ему весь живот. Вероятно, это обстоятельство произвело на всех потрясающее впечатление; через некоторое время послышались крики: «Сдаемся!» Залпов я не считал, а орудийных выстрелов было двенадцать: как я узнал потом – семь гранат и пять шрапнелей. Стрельба прекратилась, осажденные стали выходить.
Разбитый малый Николаевский дворец в 1917 году
Между прочим, забыл тебе сказать, что мое предположение о подкреплении подтвердилось. Мы были несколько раз атакованны с обоих концов Мыльникова переулка и со стороны Чистых прудов. Но все атаки были вовремя отражены драгунами, которыми Рахманинов командовал с гениальной распорядительностью. Если бы не он, то мы несколько раз были бы перебиты. Был еще один ужасный момент, когда нас и уже сдавшихся и взятых под конвой осажденных по недоразумению атаковал со взводом драгун корнет Соколовский со стороны Чистых прудов.
Катастрофа опять была предупреждена лихостью Рахманинова, который один побежал навстречу несшимся драгунам; махая шашкой и ревя: «Остановитесь!», он действительно остановил их. Жертв было немного, о количестве их ты знаешь из газет. В здании пробита большая брешь. Несколько осколков я взял оттуда и принес домой. Память! Несколько бомб было подобрано на улице неразорвавшимися, и вынесено из здания тринадцать.
Масса оружия – винчестеры с продовольственным магазином, маузеры, парабеллумы, браунинги… Неисчислимое количество патронов. Однако, до составления протокола пистолеты были растасканы городовыми, а может быть, и нижними чинами, так что официально их показано очень немного.
Я до сих пор не могу себе уяснить, какое безумие заставило этих дураков подвергать себя бомбардировке и преступно жертвовать домом Фидлера, так любезно им предоставленным. Полагаю, что это было сделано ради одного исторического эффекта! Ведь не могли же они допустить мысли, что не сдадутся под градом залпов и орудийных снарядов!
Но продолжаю повествование. Около трех часов ночи, во время составления протокола входит какой-то полицейский офицер и докладывает Петерсону: сейчас получили телефонное сообщение, что Отделение ваше взорвано двумя бомбами. Вообрази впечатление. Мы летим к месту другого происшествия, причем не знаем, что увидим. С наружной стороны повреждение оказалось не столь значительным: разрушен один простенок и три оконных амбразуры. Но взрывы вызвали страшное потрясение. Николай находился во время взрыва в кабинете Фуллона. Оба они были выброшены в дверь, выходящую на лестницу, и обсыпаны известкой. Причем Фуллон получил удары по башке столом (письменным). Вся мебель была разбросана. Делопроизводитель вместе с огромным своим столом на тумбах, заваленным делами, был выброшен вперед через всю комнату. Находившимся внизу было, конечно, еще ужаснее. Дежурный полицейский надзиратель был брошен во входную дверь с такой силой, что собой вышиб ее наружу. Конечно, он умер. Еще один из наших служащих был легко ранен. Но как тебе во всем этом нравится охрана отделения в такие дни? Бомбисты подъехали на своем рысаке, остановились за углом лианозовского забора. Затем с бомбами в руках подошли к окнам, вышибли стекла. Но, увидав за ними деревянные ставни, положили бомбы в окнах, затем добежали до саней и, благополучно умчавшись, имели удовольствие дорогой услышать выстрел. Как тебе это нравится?.. Ну, гром грянул, можно, значит, перекреститься, подумал градоначальник вместе с Петерсоном, и поставил у концов нашего переулка патрулей со строгим наказом не пропускать никого. А если бы это сделать днем раньше, не было бы никакого взрыва.
Затем события пошли ускоренным темпом. Отдельных случаев здесь указать уже нельзя. На другой день по всей Москве гремели орудийные выстрелы, казаки и драгуны нещадно шашками крошили всех, кто попадался.
Баррикады росли скорее грибов. Войск оказалось недостаточно. Дома, из которых были выстрелы, подвергались орудийному обстрелу. Главной целью мятежников были сначала двое – генерал-губернатор и градоначальник.
Но потом, оставив массу жертв на Страстной площади, испытали что значит действие шрапнелей по толпе, они бросили это и обратились к окраинам.
Войск оказалось слишком мало, и мятежники быстро завладели Сущевским и Пресненским районами. Там они были полными господами. Ни одно объявление генерал-губернатора не могло быть там опубликовано среди жителей, при первой возможности бежавших в паническом страхе. Там выходили только «Известия совета рабочих депутатов». Население не имело других «Известий», поверило, что новое правительство образовалось и, уже примирясь с этим, говорило: «Только не было бы оно хуже старого!» Там все подчинялось законам, издававшимся мятежниками. В Пресненском районе они завладели первым и третьим участками, заняли квартиры чинов полиции и приставов, так что последние переместились во второй Пресненский участок и совместно дали нам оттуда отчаянную телеграмму о своем положении. Но войск было недостаточно.
Пресня оставалась в руках бунтовщиков. Они стали врываться в дома, обыскивать и убивать полицейских, ожидать их возвращения с засадами и т. д. Ты отчасти об этом знаешь по описанному в газетах возмутительному убийству Войлошникова. Он погиб, вероятно, за то, что прежде служил у нас. Вообрази, они громко прочли приговор комитета, коим он приговаривался к смерти, и заставили его прощаться с семьей. Жена и дети рыдали, уцепившись за отца, стоя на коленях, умоляли о помиловании. Но эта подлая сволочь, борющаяся за отмену смертной казни, грубо оттолкнула несчастных детишек и жену, вывела его во двор и у ворот расстреляла из винчестеров. Труп так и был ими оставлен у ворот. Вдова подобрала его.
Через два часа они явились вновь и добавили удовольствие, произведя тщательный обыск во всех комнатах его квартиры. По-моему, эта жестокость не находит себе подходящих выражений. Это уже не зверская, а именно утонченно человеческая жестокость. Войлошникова мы все знали и любили как симпатичного человека. Я видел его последний раз 9 декабря, он был у нас в отделении, осматривал взорванные помещения. Вслед за ним было убито еще несколько чинов полиции, еще большее число квартир было обыскано.
Это терроризировало всех.
Квартиры наши нами оставлены, мы живем в отделении, управленские – в управлении и по меблированным комнатам, без семей. Я изредка забегаю домой на полчаса посмотреть на своих и опять ухожу. Я отметился выбывшим за границу и исчез с лица земли (официально). Войско и полиция озверели тоже и жестоко бьют попадающихся и арестуемых дружинников, иногда даже до смерти. Теперь прибыли два полка и еще артиллерия.
Вчера без меня атаковали Пресню и подожгли весь район артиллерийскими снарядами. Дома большей частью деревянные, весь район пылает; и вся Москва точно охвачена заревом громадного пожара. Баррикады не позволяют пожарным проехать, и пожар растет. Не знаю, чем это кончится.
Конечно, революция проиграна. Восстание подавлено, революционеры заслужили проклятие как рабочих, обманутых ими и втянутых в бойню, так и мирных жителей, пострадавших материально и нравственно. Работы на фабриках начинаются. Большая часть магазинов открыта, электричество работает, и газеты начинают выходить, понемногу ознакомляя подавленное население с истекшим положением дел.
Сегодня в четыре часа утра еду в Москву. Не знаю, что ждет меня там еще.
Между прочим, революция, такая еще молодая в России, уже успела создать свои типы, невозможные в другое время. Это «охотники за черепами». Вооруженные ходят с военными патрулями и убивают каждого встречного.
Как это тебе покажется? Пахнет Смердяковым[19] – сладострастие в убийстве: кровь пьянит!
Видя и наблюдая все это, можно одинаково потерять последнюю степень нервной чувствительности или сойти с ума. Самоубийства и так уже участились. Ну это уже пошла философия, которая может тебе и надоесть. Я и так опасаюсь, дочитаешь ли ты мое письмо. Беззастенчиво – посягать на чужое время, как сделал я. Будь здоров, и не дай Бог тебе испытать и десятой доли того, что все мы тут пережили. Пиши же о себе и кланяйся всем. Ну, еще раз будьте все здоровы. Крепко вас целую.
Петя
Кровоточащий Кремль
– И что же будет дальше? – спрашивает московский обыватель, подходя к командиру отряда анархистов.
– Цель вашего вопроса? – в свою очередь спрашивает анархист, вынимая револьвер.
– Любопытство, простое любопытство… А штучка-то у вас интересная.
– Еще бы! Бьет на двести метров без промаха. Хотите, становитесь к стенке, я вас сниму.
– Нет уж, я вам и так верю.
Отец Иоанн вошел в Москву через Калужскую заставу. В последний раз он посетил первопрестольную столицу четыре года назад, в 1913-м, еще при живой матушке-супружнице, когда ничто не предвещало кровавой бойни с германцем.
– Вот когда удосужился, прости, Господи, – горестно вздохнул отец Иоанн, крестясь на маковки Донского монастыря.
Ныне батюшку мучил страшный вопрос: а крепка ли его вера? Ни полвека назад, когда учился в духовной семинарии, ни в какой из дней долгой пастырской службы этого вопроса не возникало. Первый удар был нанесен восемь месяцев назад, когда в Страстную пятницу государь император – Божий помазанник! – добровольно отрекся от престола за себя и за сына. Отец Иоанн был смущен: можно ли поминать за службой отрекшегося? Не подложный ли, как уверяли крестьяне, напечатали в газетах манифест? Отец дьякон посоветовал по примеру соседнего села возглашать «многие лёта благоверному Временному правительству».
– Не греши, отец дьякон, – не согласился батюшка. – Эдак сатана придет к власти – и ему «многие лёта»?
– Народное правительство воцарилось, сказывают. В городах повсеместное ликование.
– А мы все же повременим.
И продолжал поминать государя императора, как поминали самодержцев и век, и два назад.
Тогда, в марте 1917-го, отец Иоанн впервые испугался, что лишился благочестия. Его не отпускала мысль, что, если так легко государь оставил данный ему Богом престол, не воссядет ли на российский трон антихрист?..
Император Николай II и наследник цесаревич Алексей Николаевич
«И когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на него, заплакал о нем».
Плакать хотелось и отцу Иоанну. Осиротелая, словно вымершая, встретила его первопрестольная столица. Многие дома и даже церкви были изранены ружейными пулями и артиллерийскими снарядами. И чем ближе подходил батюшка к святому Кремлю, тем больше видел разрушений.
Минуло меньше недели, как в городе закончилась братоубийственная война между рабочими и юнкерами, прозванная революцией, и воцарилась новая власть. Из окон старинного барского особняка, на воротах которого трепалось красное полотнище со словами: «Смерть капиталу», неслись пьяная брань и революционная песня:
…А деспот пирует в роскошном дворце, Тревогу вином заливая.На крыше другого особняка потели двое солдат – сбивали герб Российской державы. Отец Иоанн остановился, удивившись ненужному разрушению. Наконец двуглавый орел поддался натиску штыков и рухнул вниз. Один из солдат снял военную фуражку, перекрестился и, увидев священника, рассмеялся:
– Что, отец?.. Жалеешь?.. Не жалей – нынче мировая революция!
Второй солдат тоже глянул вниз, выматерился и, надсаживая глотку нервной злобой, прохрипел товарищу:
– Чего ты с ним болтаешь – это же контра! Ему лишь бы наш хлебушек лопать! – И вниз: – Чего, старик, уставился?! А ну проходи, буржуй недорезанный!
Отец Иоанн сокрушенно покачал головой и зашагал дальше. Среднего роста, сутулый, в вылинявшей нанковой рясе, он устало брел к Кремлю, сжимая в большой крестьянской ладони дорожный посох. По разбитым окнам и выломанным дверям магазинов было ясно, что они разграблены. Некоторые улицы перегораживали окопы и частью уже разобранные баррикады. Обгорелые дома, оборванные провода, очереди хмурых обывателей с затравленными взглядами у хлебных ларьков.
Мимо прокатил грузовик, ощерившийся винтовками. Из кузова заметили священника, весело закричали, хмельные от быстрой езды и свободы:
– Эй, рясник, держи руки вверх!
– Поп, молися за рабочую власть!
– Васька, возьми его на мушку!
Малый государственный герб Российской империи. Начало ХХ в.
«И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим; юноша будет нагло превозноситься над старцем, а простолюдин над вельможею».
Современный герб Москвы
Где же он, быстрый на исполнение приказа и верный присяге солдат? Куда делись смирение и любовь, к которым каждодневно призывают с амвонов всех российских церквей?
Да разве можно вот так, в один день, отторгнуть от себя то, что сияло тысячу лет?
Неужели можно уверовать, что все, что было до нас, – мрак и нечистота?
Неужели в одночасье можно возненавидеть часть своего народа? Сменить веру в Бога на веру в свою ненависть к самодержцу?.. Или ненависть жила в нас всегда, только мы по слепоте своей не замечали ее?
Отца Иоанна нестерпимо потянуло в церковь. Он зашел во встретившийся по пути храм и долго, истово молился.
* * *
Бурые кремлевские стены, казалось, кровоточили от обилия свежих выбоин, оставленных снарядами и пулями. Возле закрытых железных ворот Троицкой башни стояли часовые.
Стены Московского Кремля, поврежденные во время революции 1917 года
– Сынки, как же мне пройти? – удивился отец Иоанн, никогда прежде не видавший Кремля на запоре.
– А у тебя, батя, пропуск есть? – Мне бы в Успенский, Владимирской Божьей Матери помолиться.
– Если ни пропуска, ни пакета – не пропустим, батя.
– Отчего же в святыню не пустите?
– С политикой у тебя, батя, худо. Теперь святыня – наша солдатская власть. На нее и молись.
– Или к господам захотел? – ощерился самый молодой. – Мы, когда твою святыню брали, немало их пулями накормили.
– Не шуткуй, – одернули его. – А ты, батя, иди кругом вдоль стены. Может, где и пропустят.
– Серчает, что его Кремль мы взяли, – услышал отец Иоанн смешки вдогонку.
«Пойдите вокруг Сиона и обойдите его; пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, чтобы пересказать грядущему роду».
Беклемишевская башня стояла обезглавленная, и другие зияли свежими ранами.
На Красной площади – грязь, запахи, как на конюшне, множество солдат и матросов с ружьями.
Тут же толчется разношерстный московский люд, митингуя или слушая, что говорят другие.
* * *
– Вы взяли власть, – требует дама в шляпке, – вы теперь нас и защищайте!
– Нет у нас войск ваши квартиры охранять, – иронически улыбается в ответ командир в кожаной тужурке.
– А раз нет, зачем тогда власть брали?..
– Граждане, я вас прежде обманывал! Теперь заверяю вас: никакого Бога нет! – митингует, забравшись на грузовик, дьякон с красной тряпицей на шее. – Я никогда не верил в литургию! Но надо же было как-то кормиться…
– Если ты нас прежде обманывал, – хитро улыбается мужичонка, – кто ж тебе нынче поверит?
– Ну, и долго мы продержимся? – ведут мирную беседу у костра в центре Красной площади вооруженные рабочие.
– Ленин говорит: навсегда утвердились.
– Чего ты Лениным тычешь? Сам-то что думаешь?
– А зачем мне умничать.
– А я думаю, ничего у нас не выйдет.
– Это отчего же?
– Ну, рассуди: какой из меня или из тебя правитель? Нас и слушать-то никто не станет. Царь почему всех держал в узде? Ему, вишь ты, министры подсказывали. Недаром же они над учеными книгами штаны протерли. А мы, вишь ты, всех министров поганой метлой.
– А мне товарищ Ленин подскажет.
– Нет, товарища Ленина на всех не хватит.
Прожившийся купчик
– Эх, до чего нынче кутерьма дошла, – жалится один купчишка другому, – ничего не пойму.
– Понять труднехонько, – соглашается собеседник, – все вверх дном поставили. Зато, если угадать, в какую сторону повернется, миллионщиком можно стать. Нынче самое время для наживы.
– Это коли угадаешь. А если промашка? Всего капиталу лишишься. – И живота можно, не токмо капиталу.
– То-то и оно. Лучше выждать.
– Жди пожди, а другие обскачут. Золотишко-то скупают вовсю. И хлебушек дорожает.
– Зря надеются запугать нас царские рясники! – митингует солдатик, по виду из студентов. – Советская власть ни в Бога, ни в черта, ни в загробную жизнь не верит!..
– Мил человек, ты не зарекайся, – вступает в спор с оратором пожилой мастеровой. – Я вот смолоду тоже ни во что, кроме денег, не верил. А жизнь пообломала, теперь чуть светает, в церковь бегу.
– Это тебя царская жизнь обломала, – снисходительно улыбается солдатик. – Не бойся, наступает всеобщее счастье, и только буржуазия будет корячиться и бегать в церковь.
– Что ж это за зверь такой: всеобщее счастье?
– Это победа всемирной революции, когда не будет ни эллина, ни иудея – один рабочий класс.
– Да что ты, нехристь, про евреев талдычишь, ты по-людски ответь…
* * *
Отец Иоанн ужаснулся обилию суетных, грешных речей, звеневших со всех сторон здесь, рядом с великими христианскими святынями.
«Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили».
Батюшка стал протискиваться поближе к кремлевской стене, на которой моталось длинное красное полотнище с надписью: «Жертвам, провозвестникам Всемирной Социальной Революции». Под полотнищем зияли огромные свежевырытые ямы.
– Зачем? – вслух удивился отец Иоанн, заглянув в глубину растревоженной земли.
– Хоронить будут, кого буржуазия поубивала, – пояснил молодой, задорно улыбающийся рабочий.
– Здесь?.. Не на кладбище? – оторопел отец Иоанн.
– Теперь, товарищ, все по-новому будет. Сегодня, как от пасхальной свечи, от душ павших затеплится яркий огонь мирового Евангелия – социализма. Вишь, наше районное знамя впереди полощется. А за ним революционный комитет в полном составе. Вот это похороны! И умереть не жалко.
Отец Иоанн увидел колонну, вползавшую на Красную площадь через Воскресенские ворота. Впереди, оседлав кобылу, возглавлял шествие рабочий с красной лентой через грудь. Но что это?.. На плечах рабочих и солдат гробы… красного цвета.
– И правильно, – стал объяснять все тот же словоохотливый молодой рабочий. – Они же на войне погибли, а военная планета Марс красным огоньком по ночам блестит.
– Но вы же православный! – укорил собеседника отец Иоанн.
– Был – да сплыл. Я теперь ни во что, кроме социализма, не верю.
Уже вся рогожская колонна втянулась в площадь и дружно запела, подойдя к ямам под кремлевской стеной:
Слезами залит мир безбрежный, Вся наша жизнь – тяжелый труд. Но час настанет неизбежный, Неумолимо грозный суд.– Товарищи! – ликовал кто-то из толпы. – Первый раз после похорон товарища Баумана пролетарии Москвы хоронят своих боевых друзей без гнусавого поповского пения! Отдадим последний долг жертвам мирового капитала!
Последним долгом оказалась популярная в среде социал-демократов песня:
Мы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной народу.Похороны большевиков в 1917 году у стен Московского Кремля
Гробы по дюжине опускали в каждую братскую могилу, и перед тем как завалить землей, над каждой произносили речь. В этот сумрачный день с легким морозцем говорили об одном – о святой ненависти. Отцу Иоанну подобное словосочетание было так же непонятно, как и «красный пролетарский покров» или «рабоче-крестьянские идеалы». Но воистину страшновато стало, когда подошла колонна Бутырского района. Над площадью поплыли черные гробы, которые несли одетые в черные рубахи анархисты. Один из них, встав у края черной пропасти, куда погрузили усопших, произнес прощальную речь; и от нее повеяло смертью не меньше, чем от черного знамени, древко которого он сжимал в своем кулачище.
– В этой могиле долго и славно будут тлеть трудовые кости наших братьев. Их мозг проточат черви, много-много червей, впивавшихся еще вчера в царские трупы, закопанные неподалеку. Но и червям, и этим стенам прах павших за дело мировой революции бойцов роднее и ближе царского. Ибо не цари копали здесь землю, не бояре клали кирпич на кирпич, а предки тех, кого мы сейчас хороним. Наши товарищи скоро превратятся в прах, сгниют их бренные останки и станут надежным фундаментом отвоеванного у буржуев Кремля. Отныне и вовеки здесь будет всенародный двор, пантеон лучших из лучших революционеров, кладбище для тех, кого еще убьет в беспощадной борьбе кровожадная рука издыхающего капитала. Вы видите наше торжество, нашу славу. Это старый мир угнетения и насилия получил смертельный удар. И мы обещаем вам, мертвые товарищи, что не успеют еще черви обглодать мясо с ваших костей, как наша карающая рука уничтожит всех опричников старого режима. Смерть палачам!
– Смерть! Смерть! Ура! – стреляя из ружей, заголосили чернорубашечники. – Да здравствует товарищ Шмидель! Поручить товарищу Шмиделю организовать боевую дружину!
Старушка, забредшая на похороны из любопытства, перекрестилась и плаксиво запричитала:
– Грех-то какой. Людей, как скотину, хоронят.
– Они, бабка, не признают религию, – пояснил стоявший рядом солдат. – У них заместо нее опиум.
– Тогда бы и закапывали возле боен, – озлилась старушка. – А то: справа – Иверская, слева – Василий Блаженный, впереди – Спасская, позади – Казанская. Выходит, в церковной ограде хоронят, а не по-христиански.
– Ничего, гражданка, – «успокоил» старушку юноша с револьвером на боку, – скоро и до ваших храмов доберемся. Повсюду одни только пролетарские звезды будут сиять.
– Что-то пока, милок, одни могилки вокруг.
– А ты приходи сюда лет через пять и увидишь, что такое счастье.
– Приду, как не прийти, если только до той поры живой не закопаете.
– Такую мелкобуржуазную контру не грех и закопать.
– Не грех, не грех, для вас греха вовсе нет.
Юноша взялся за револьвер, решив арестовать контру, но старушке на этот раз посчастливилось – закидали землей очередную яму, и грянул «Интернационал»:
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов!Юноша подхватил гимн международного пролетариата, а старушка поспешно засеменила прочь. Наткнувшись на отца Иоанна, она подошла под благословение и полюбопытствовала:
– Батюшка, а верно, что антихрист уже здесь? Ведь по Писанию антихрист сядет в храме, как Бог.
– Нет, они малы для антихриста. Тот чудеса творить будет, а они не могут – сами смерть принимают.
– Так если они не с антихристом заодно, а по дурости только, ты бы отслужил над ними панихидку.
– Прогонят, матушка.
– А ты, батюшка, ночью приходи – и потихонечку. Ночью здесь поспокойнее… Кто не без греха? Может, и простит им Господь.
– Простит, матушка. Сегодня же, как стемнеет, и приду.
* * *
Ночью, когда народ разошелся, отец Иоанн пробрался на Красную площадь, к кремлевской стене, и, озираясь, словно тать, тихонько запел отходную по жертвам трагедии, постигшей отечество:
– Упокой, Боже, рабов Твоих, и учини их в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила; усопших рабов Твоих упокой, презирая их вся согрешения.
Отец Иоанн переходил от одной братской могилке к другой и вновь пел. На четвертой его прервали появившиеся из темноты караульные с ружьями.
– Ты что здесь делаешь, товарищ?
– Отпеваю детей несчастных, молюсь за усопших и погребенных в сем святом месте.
– Так ты, значит, пролетарский поп, раз над большевиками молишься?
– Нет, сын мой, я ваших перемен не разумею.
– Но раз молишься, значит, одобряешь?
– Я молюсь об их душах, молюсь об умерших, а не об их делах в земной юдоли.
Праздничная иллюминация колокольни «Иван Великий» в начале XX века
– Значит, не одобряешь. А разве о врагах молиться можно? По-нашему, врагов убивать надо. На то она и жизнь!
– Христос молился о распинавших Его: «Отче, прости им, не ведают бо, что творят».
– Но мы-то, поп, ведаем. Мы, поп, скоро выстроим всемирное счастье для угнетенных.
– Уповаю, что многие из вас, обольщенные своими вождями, не ведают, что творят. Ибо замыслы построить всемирное счастье без Бога подобны замыслам вавилонян: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя». Но Господь не допустил этого и рассеял вавилонян по всей земле.
– Ты здесь, поп, контрреволюцию не разводи. Ты сюда притащился, небось, проклясть наших товарищей? Молельщик нашелся! Революция за них помолится. Давай уноси ноги, пока отходную по тебе не пришлось читать.
Общий вид из Кремля на Москву
Отец Иоанн перекрестил последний раз могилы, перекрестил караульных, шепча: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят», и пошел прочь. Опять нестерпимо потянуло в церковь – помолиться за всех умерших и всех живущих на земле. А потом? А потом побыстрее вернуться в свое село. Батюшка ощутил в себе великую крепкую веру и понял свое предназначение: всю оставшуюся земную жизнь, и там, куда по грехам пошлет его Господь после кончины, молиться за тех, кто не ведает, что творит.
«Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя».
* * *
– Повезло тебе, батюшка, – уезжаешь! – горько вздохнул извозчик, отвезший отца Иоанна к вокзалу. – И я бы подался хоть куда, лишь бы подальше от этой свободы!..
Иллюстрации
Красная площадь. Собор Василия Блаженного и Спасские ворота. 1801 год.
Художник Ф.Я. Алексеев
Вид на Каменный мост и Кремль из Замоскворечья. 2-я половина 1830-х годов.
Художник И.Н. Раух
Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. 1860 год.
Художник К.П. Бодри
Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922 год.
Художник А.М. Васнецов
Спасо-Андроников монастырь. 1856 год.
Художник А. Феррари
Императорский почтамт на Мясницкой улице. 1850-е годы.
Художник Р. Мюллер по оригиналу С.Ф. Дитуа
Вид Николаевского вокзала на Каланчевской площади. 1850-е годы.
Художник Ж. Жакотте Обрен по оригиналу И. Шарлемана
Вид на церковь Илии Обыденного возле Остоженки 1850-е годы.
Художник А. Михайлов
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. XIX век.
Художник Йозеф Вейс
Общий вид Кремля.
Около 1846 года. Художник Л. Бишебуа
Вид императорского Петровского Большого и Малого театров и его окрестностей в Москве. 1824 год.
Художник Р. Курятников
У Мясницких ворот Белого города в XVII веке 1926 год.
Художник А.М. Васнецов
Ильинские ворота Китая-города и церковь Николая Чудотворца «Большой Крест». 1852 год.
Художник Йозеф Вейс
Церковь Гребневской иконы Божией Матери и Владимирские ворота Китая-города. 1800-е годы.
Художник Ф.Я. Алексеев
Донской монастырь. 1852 год.
Художник Йозеф Вейс
Ростовское подворье в Китай-городе, на Варварке. 1790-е годы.
Художник Д. Кваренги
Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве. 1883 год.
Художник Ф.А. Клагес
Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежащий некогда Дмитрию Донскому. 1861 год.
Художник П.П. Чистяков
Стрелецкий бунт. 1862 год.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский
Дьяк Зотов обучает царевича Петра Алексеевича грамоте. 1903 год.
Художник К.В. Лебедев
Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы в 1704 году. 1859 год.
Художник Н.А. Зауервейд
Теремной дворец. Наружный вид. 1877 год.
Художник В.Д. Поленов
Поздравление, приносимое казачьим войском Александру II в Успенском соборе. 1856 год.
Художник В.Ф. Тимм
Коронация императора Николая II Александровича и императрицы Александры Феодоровны. 1890-е годы.
Художник Л. Туксен
Примечания
1
Не принуждаем.
(обратно)2
В те времена Новый год праздновался не 1 января, а 1 сентября.
(обратно)3
1 сентября празднуется память святого Симеона Столпника; оттого-то и Новый год назывался иногда в старину «Семен-день».
(обратно)4
Черт побери! (нем.)
(обратно)5
Полотенце, утиральник.
(обратно)6
Свободные.
(обратно)7
Турецкий.
(обратно)8
Знатный.
(обратно)9
Например, в 1719 году по его внушению Петр издал указ, не иначе дозволять брак лютеранина с православным лицом, как под условием воспитать детей в православии.
(обратно)10
В то время на Спасском мосту, перекинутом от Красной площади через ров к Спасской башне Кремля, были лавки с книгами и лубочными картинами.
(обратно)11
Вон.
(обратно)12
Операция по извлечения камней из мочевого пузыря
(обратно)13
Ныне филиал Ботанического сада МГУ (проспект Мира, 26).
(обратно)14
В 1880-1890-х годах.
(обратно)15
С 1953 года Государственный универсальный магазин (ГУМ).
(обратно)16
Дубасов Ф.В. (1845–1912) – московский генерал-губернатор в 1905–1906 годы.
(обратно)17
Ныне улица Макаренко, рядом с Чистопрудным бульваром.
(обратно)18
Очевидно, это была сестра милосердия, так как в училище Фидлера, как и в других местах города, были устроены санитарно-перевязочные отряды.
(обратно)19
Герой романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
(обратно)


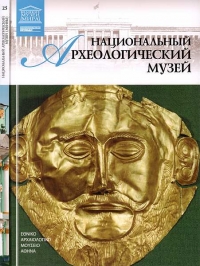


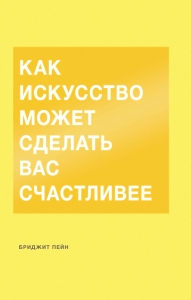

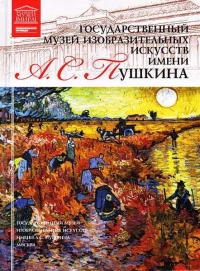
Комментарии к книге «Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи», Михаил Иванович Вострышев
Всего 0 комментариев