Александр Шерель Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки
Маргарите Александровне Эскиной посвящается
От автора
Еще древние предупреждали – отправляясь в мир неведомого, в том числе и в мир новых знаний, очень важно договориться о маршруте и координатах путешествия.
Начиная исследование аудиокультуры XX века, той области человеческой деятельности, в которой люди стремились в словесной и образной форме, но непременно в звуках (что и роднит и отличает аудиокультуру от обычного словесного творчества) отразить реалии мира, окружающего человека и закономерности его собственного индивидуального и общественного бытия – под аудиокультурой мы понимаем совокупность средств и методов передачи информации звуковым путем, как вербальными, так и вневербальными способами, т. е. музыкой и шумами – и представляя на суд читателя результаты нескольких десятилетий поиска исторических закономерностей развития этого вида творческой деятельности, мы считаем необходимым договориться прежде всего о некоторых терминах и датах, которые должны стать отправными координатами в нашем движении по фактам и событиям.
Аудиокультура XX века есть плод индивидуального и коллективного творчества людей, в равной степени зависящего в своем развитии и в своих результатах от персональной человеческой фантазии и от технического развития общества в сфере обмена информацией.
Аудиокультура XX века – искусство звуковых образов, опосредованное техникой. Вне системы замечательных открытий и изобретений человеческого разума не существует. Поэтому и рассуждения об истории аудиокультуры, путях и закономерностях ее развития, ее глобального распространения в жизни людей XX века нам необходимо начать хотя бы с очень краткого напоминания об этих открытиях. Тем более что в силу целого ряда обстоятельств, весьма далеких от истории культуры, здесь утвердилась изрядная путаница в именах, датах и событиях.
Прежде всего об отцах-основателях.
Конец семидесятых годов века, предшествовавшего двадцатому. Америка. Два инженера – каждый, работавший самостоятельно, получают патенты о двух технических изобретениях. Одного звали Александр Грейам Белл, второго – Томас Алва Эдисон. В 1876 году Белл изобрел телефон – аппарат, позволяющий передавать звуки на любые расстояния – правда, пока еще при помощи проводов. Второй – в 1877-м сконструировал фонограф – аппарат, способный записывать звуки и фиксировать («консервировать») их на восковом валике, причем сохраняя большинство основных качественных характеристик звучания.
Соединение двух этих устройств – прообраз будущего массового вещания.
Уже в середине восьмидесятых годов XIX века в двух крупных городах Америки и России появилась своеобразная система передачи музыки и другой художественной информации.
По странным закономерностям истории, практически одновременно в 1885 году в Чикаго и в Одессе появилась «игрушка», которая привлекла чрезвычайное внимание состоятельных людей. И там, и там богатые меломаны увлекались оперными спектаклями и филармоническими концертами, которые шли в местных, к тому времени уже знаменитых оперных театрах.
История, к сожалению, не сохранила ни у нас, ни у американцев имена тех предприимчивых импресарио, которые решили «доставлять искусство на дом», укрепив в театрах и прямо в гостиных состоятельных сограждан телефонные аппараты, а в Одессе пристраивая даже к этим аппаратам небольшие рупоры, хоть немного, но усиливающие звук.
Как только на сцене начиналось оперное или концертное действо, специальные дежурные техники соединяли телефоны, и богатые меломаны, заплатившие за новые «игрушки» весьма солидную по тем временам цену, получали возможность наслаждаться ими, не покидая собственного дома. Когда представление в театре заканчивалось, в его антрактах те же техники переставляли телефонную трубку поближе к фонографу, где заранее были подобраны восковые валики с записью различных музыкальных произведений.
По сути, возникала «вещательная сеть» – прообраз будущего «проводного» радиовещания, которое, между прочим, и в США, и в России, и в крупнейших городах Европы составляло до середины XX века едва ли не львиную долю радиовещания. В Советском
Союзе, например, проводное радиовещание по своему объему во много раз превосходило вещание эфирное. В стране ко второй половине XX века насчитывалось более 90 млн. репродукторов (больше, чем по одному на каждую семью), куда звук приходил не через эфир, а по проводам.
Вторая «стартовая» позиция аудиокультуры XX века – 1895 год -изобретения Александра Попова в России и Гульельмо Маркони в Италии.
Об этом написано так много и разнообразно, что освобождает меня от обязанности конкретизировать описания этих событий. Замечу только, с позиции нашей темы, что ни Попов, ни Маркони радиовещание не изобретали. Результатом их научных прозрений были физико-технические приборы, на основе которых очень быстро появилось принципиально новое средство связи – радио, и только спустя несколько лет эта аппаратура стала пригодна для передачи через эфир слов, музыки и других звуковых реалий. А поначалу Попов и Маркони «переговаривались» со своими ассистентами сигналами азбуки Морзе.
Я обращаю на это внимание, ибо в рамках нашей темы правомерно сразу же отделить подлинные факты истории аудиокультуры вообще и радиовещания в частности от огромного числа распространившихся мифов, порой анекдотического свойства и дурного тона.
Вот только один пример. На палубе революционного крейсера «Аврора», будто бы стрелявшего по Зимнему дворцу в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года (стрелял, но холостыми, т. е. имитируя стрельбу, – к нашей радости, а иначе что осталось бы от нынешнего Эрмитажа?), экскурсантам непременно показывают радиорубку, на стене которой укреплена памятная табличка, свидетельствующая о том, что радисты «Авроры» известили весь мир о победе Октябрьской революции.
Это так и было – действительно, дежурный радист передал в эфир сообщение Военно-Революционного Комитета о взятии Зимнего дворца и аресте Временного правительства.
Тут все правда. Дежурный радист отстукал «сигналами Морзе» сообщение о событиях в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября. Так это и зафиксировано в корабельных документах.
Но когда уже в середине 1930-х годов этот факт стал многократно тиражироваться в различных книгах, в том числе и редактированных лично И.В. Сталиным, вождю такое скромное изложение событий показалось недостаточно пафосным, и он чуть-чуть изменил одну только фразу в тексте, лично написав и подчеркнув своим знаменитым синим карандашом: «голос матроса с „Авроры“ возвестил миру...»
Появление такой формулировки, естественно, вызвало обширную реакцию сталинского окружения, и, прежде всего, среди старых партийных товарищей вождя. Стали появляться и публиковаться воспоминания «особо заслуженных» большевиков о том, как они лично – один в сибирской тайге, в ссылке, другой – в подвале уральской слесарной мастерской, а третий – ему больше других повезло – в комнате за буфетом портового марсельского кафе, «приникнув к старенькому приемнику отечественного производства» («старенькому» и «отечественному» – это казалось особенно убедительным), «слушали голос матроса с „Авроры“».
А потом появились мемуары и самого этого матроса с всевозможными подробностями. А к воспоминаниям стали прибавляться и наукообразные опусы на эту тему.
О том факте, что человеческий голос в российском эфире впервые прозвучал из нижегородской радиолабаратории профессора М.А. Бонч-Бруевича только весной 1919 года, старались не вспоминать, как и о том, что массовое вещание в СССР датировано осенью 1924 года[1], ведь получалась «политическая накладка», а не за горами был уже и 1937-й.
С этой глупостью историки радио мучились, не зная, что делать, почти до самого конца века.
Между тем многие подлинно значимые события в истории радиовещания «уходили в тень». Многие годы мы почти не упоминали или говорили кратко и «с оглядкой» о реальном приоритете отечественной науки, которая в сфере радиотехники и радиостроительства выдвинула выдающихся специалистов, таких, как будущий академик А.Л. Минц, его соавтор профессор Кляцкин; о том, как создавалась мощная сеть радиостанций, среди которых были уникальные по своей мощности и техническому оснащению; о том, как во время войны возле Куйбышева соорудили самую мощную в мире по тем временам 1000-ваттную радиостанцию (строили зеки, и вообще все вопросы радиостроительства курировал лично Лаврентий Берия).
В бериевские застенки уходили многие великие изобретатели, конструкторы и инженеры, работы которых заложили не только основы массового вещания в СССР, но и проложили пути развития аудиокультуры всего века. В лагере, в конце концов, оказался и Лев Сергеевич Термен, который в 1920 году сконструировал первый в мире электронный музыкальный инструмент, названный им «терменвокс», – от которого и пошла вся «электронная» музыка.
Конечно, к числу наиболее значительных событий истории аудиоультуры XX века правомерно отнести и строительство в конце двадцатых годов берлинского, а потом московского «Радиодомов» с уникальной акустикой их речевых и музыкальных студий, опережающей на десятилетия общий уровень технического оснащения радиовещания и звукозаписи, с аппаратными для записи и монтажа звука. Но история технической базы аудиокультуры XX века по сути своей и тем более детальный ее анализ, находятся за рамками нашей темы, и потому мы будем возвращаться к отдельным фактам этой истории в соответствующих разделах нашей книги.
Композиция нашего исследования сложилась следующим образом. Несколько самостоятельных разделов. Первый из них посвящен вопросам истории аудиокультуры, ее эстетическим и технологическим параметрам, анализу восприятия ее произведений в различных направлениях развития, анализу основных эстетических категорий и особенностей восприятия программ и передач -с точки зрения психологии и потребностей различных слоев аудитории. Этот раздел включает в себя основные постулаты анализа эстетики и закономерности эффективности радиоканала.
К нему непосредственно примыкают материалы второй части книги, имеющей название «Эстетика невидимой сцены» с главами «Сцена и студия радио: закономерности взаимного воздействия» и «Взаимовлияние творческих традиций в эстетике аудиовизуальных искусств». Значительную часть этого раздела составляют материалы, раскрывающие сложившиеся исторически пути взаимного влияния радиовещания в России и в других странах с высоким уровнем информационного, образовательного и художественного вещания, в частности взаимовлияние работ радиомастеров Советского Союза и Германии.
В специальном разделе «Поиски оптимальных форм воздействия» мы рассматриваем историю формирования и проблемы взаимовлияния жанровых форм массового вещания и основы программирования радиоматериалов на различных этапах истории вещания (разумеется, и в различных социальных и идеологических условиях существования радиоканалов).
Прямым продолжением раздела теоретического характера становится раздел книги, посвященный опыту многих выдающихся мастеров художественного и образовательного вещания. Этот раздел носит название «Мастера у микрофона» и включает в себя материалы, характеризующие творческую практику многих выдающихся мастеров театра, музыки, кинематографа и собственно радиоработников – художников, полностью сосредоточившихся на творчестве в студии у микрофона.
Рассматривая опыт нескольких поколений выдающихся мастеров культуры, мы стремились найти не просто закономерности творчества в радиостудии, но и проследить преемственность традиций мастеров, в разное время открывавших для себя законы художественного творчества в сфере аудиокультуры.
Большинство материалов этого раздела малоизвестны даже профессиональным искусствоведам. Мы стремились рассказывать о замечательных мастерах радиосцены и опыте радиожурналистов и радиодраматургов, не отрываясь если не от анализа, то хотя бы указания на своеобразие времени, в котором они жили и работали.
Раздел I Времена и нравы
Глава 1 Радио: становление программ
Мы обращаемся к анализу структуры радиосообщений[2] и динамики их композиционных особенностей в начальный период массового вещания. Границы его – 1921-1927 годы.
Исследователи радио расходятся во мнении относительно начала массового вещания в России. Высказываются и суждения – правомерно ли в принципе называть конкретную дату.
21 августа 1922 года начались первые речевые передачи Центральной радиотелефонной станции в Москве.
12 октября 1924 года начались ежедневные передачи московской радиостанции имени А.С. Попова (Сокольническая радиостанция).
23 ноября того же 1924 года открылись регулярные радиопрограммы станции им. Коминтерна. В ряде исследований мы находим различные аргументы в защиту каждой из указанных дат как времени начала массового вещания.
Наиболее убедительной представляется точка зрения В.Б. Дубровина1, который за основу своих рассуждений берет первые радиотелефонные передачи, обращенные к массовой аудитории. К весне 1921 года инженерами Казанской базы радиоформирований А.Т. Угловым, В.Н. Чистовским и их коллегами был сконструирован усилитель, благодаря которому разговор по радиотелефону можно было передать через рупор, наподобие граммофонной трубы. Такие рупоры были установлены на двух площадях Казани 1 мая 1921 года, и через них передавались тексты некоторых газетных статей.
7 мая 1921 года московские газеты напечатали информацию ГОСТА об этом в подборке сообщений о праздновании Первого мая на местах. В тот же день правительство запросило письменный отчет о работе в области радиотелефонии и выступило с предложением распространить казанский опыт на Москву и Петроград2.
С 28 мая до 1 июня громкоговорящая радиотелефонная установка опробовалась в Москве – рупоры были установлены на балконе здания Моссовета, а 17 июня 1921 года передачи Центральной радиотелефонной станции начали транслироваться через рупоры, установленные на шести площадях Москвы. Содержание передачи составляли телеграммы ГОСТА, материалы из газет, а также лекции и доклады, подготовленные специально для вещания из радиостудии, оборудованной на Центральной радиотелефонной станции. Таким образом, эти первые в истории отечественного радио регулярные передачи, обращенные к массовой аудитории, представляли собой вещательную программу вербального характера, выпускаемую в свет с 22 июня 1921 года регулярно и ежедневно (с 21 до 23 часов, за исключением ненастных дней). Она несла в себе контуры современной радиопрограммы, составленной как комплекс сообщений, разнохарактерных по содержанию и структуре.
Особенности первого периода радиовещания вытекают прежде всего из специфических задач, которые стояли перед принципиально новым средством массовой информации. В свою очередь, эти задачи определялись реальными политическими, социальными и экономическими условиями жизни страны.
Развал экономики, отсутствие прочной и быстрой связи центра с районами республики, но более всего – поголовная неграмотность двух правящих классов, которым были обещаны неограниченные права и обязанности в управлении государством, а следовательно, и неограниченные возможности своего политического и культурного развития. Согласно официально объявленной правящей доктрине, процесс политического самосознания трудящихся масс был невозможен без хорошо налаженной информированности этих самых масс обо всех важнейших событиях в стране и за рубежом, а печатные каналы информации и пропаганды были не в состоянии удовлетворить потребности страны.
В 1921 году самое массовое печатное издание – «Известия ЦИК и ВЦИК» выходило тиражом в 350 тысяч экземпляров. Высшая тогда инстанция – партийный съезд – была крайне обеспокоена тем, что «состояние прессы характеризует не только резкое сокращение количества газет и уменьшение тиража, вследствие отсутствия денежных средств, недостатка и дороговизны бумаги, чрезмерности типографских расходов»... но и «полная неналаженность аппарата распространения»3.
В этих условиях радио было призвано не просто дополнять прессу, но выполнять своеобразную функцию замещения ее обязанностей в системе информации. При этом ценность оперативной информации умножалась на возможность массового охвата ею широких кругов населения. «Вся Россия будет слышать газету, читаемую в Москве»4, – объявил В.И. Ленин.
Таким образом, форма газеты по радио как основного вида радиосообщений первого периода общественно-политического вещания порождена не примитивным представлением о возможностях нового канала информации и пропаганды (что в принципе было бы логичным в начальный период его освоения), но выдвинутыми властью требованиями к радио.
Позиция В.И. Ленина, выделившего в делах агитации, пропаганды, просвещения и организации масс радио как «газету без бумаги и без расстояния»5, по его убеждению, должна была помочь только что родившемуся радиовещанию познать «самое себя» в условиях еще крайне ограниченных технических средств.
Первая «Радиогазета ГОСТА» вышла в эфир в воскресенье 23 ноября 1924 года. По своей структуре она была звуковой копией печатного издания, которое читатели получили спустя два дня. По понедельникам газеты не выходили, и вся сумма информации, переданная по радио, опережала газетную на два дня. Эта опережающая способность канала была предусмотрена и заложена в программу деятельности редакции как один из основных принципов «Радиогазеты РОСТА». Ее ответственный редактор Б.Г. Данский писал, оценивая первые три месяца работы редакции: «Мы стараемся сделать радиогазету интересной следующим путем. Мы даем самый злободневный материал. Даем его накануне появления в печатных газетах. Это мы имеем возможность сделать, ибо к услугам радиогазеты громадный информационный материал Росты. И при том, что называется, „со сковородки“. Мы имеем возможность вставлять в радиогазету телеграммы немедленно по получении их Ростой»6.
Следует отметить, что до появления «Радиогазеты ГОСТА», материал, составляющий содержание радиосообщений, как правило, был текстом, уже опубликованным в прессе. Как справедливо замечают П.С. Гуревич и В.Н. Ружников: «С осени 1922 года в передачах Центральной радиотелефонной станции основное место занимали материалы из газет»7, и это были «выступления на политические темы, сообщения метеослужбы, новости экономической жизни и торговли, календари сельскохозяйственных работ, эпизодические лекции на научные темы»8.
Принципиальное отличие аналогичных материалов, сконцентрированных в рамках радиогазеты продолжительностью в 45 минут звучания, было в первичности их обнародования и в том, что из бесформенного собрания разрозненных материалов они превратились в четко сверстанное звуковое издание.
Принципы газетной верстки были для «Радиогазеты ГОСТА» обязательны и незыблемы. Это неоднократно подчеркивали ее руководители. Характеризуя особенности программирования «Радиогазеты ГОСТА» на основе анализа первых двухсот ее номеров, Б.Г. Данский писал: «Если сравнить последние номера радиогазеты с ее первыми номерами, то газеты просто не узнать9. Сейчас ваша радиогазета – совсем как настоящая, заправская газета.
Ежедневно в газете две статейки – о заграничных и о наших советских делах. Телеграмм ежедневно не менее десяти-пятнадцати. Важнейших московских сообщений 15-20. Новостей науки и техники тоже 5-10 заметок. Кроме того, отзывы о театре и кино, о книгах, отдел спорта, юридический отдел, стихи, рассказы, частушки и т. д. Наконец, переписка с радиослушателями – ежедневно помещается 5-10 ответов на письма, интересные не только для написавших письмо, но и для широкой массы радиослушателей»10.
Тематическое разнообразие материалов, а также невозможность вместить всю обязательную для различных социальных групп информацию в рамки 45-50-минутного выпуска привели к реорганизации «Радиогазеты РОСТА».
Смысл этой реорганизации заключался прежде всего в дифференциации аудитории, в увеличении и конкретизации «адресов» радиосообщений.
В октябре 1925 года газеты сообщили о комплексной программе изучения аудитории с помощью специальных анкет, предпринятой Радиосоветом при Главполитпросвете11. Одновременно изучением потребностей различных социальных слоев населения – применительно к массовому вещанию – занялось Общество друзей радио: его активисты вели анализ возрастного состава слушателей, регулярности и нерегулярности слушания в зависимости от содержания передач12.
Несмотря на достаточно упрощенные – с современной точки зрения – методы, которыми велись указанные исследования, они дали основание считать, что материалы, передаваемые в эфир, не могут «удовлетворить всю массу радиослушателей: рабочих, крестьян, учащихся, служащих и интеллигенцию... Именно такой состав радиослушателей от неграмотного крестьянина до хорошо развитого городского интеллигента показывает, что нынешняя Радиогазета удовлетворительной быть не может.
Радиогазета до сего времени держала курс на малограмотных слушателей из рабочих и крестьян. И потому, несмотря на все лестные отзывы, нужно сказать прямо: в полной мере Радиогазета до сего времени не обслуживала и не могла обслуживать ни крестьян, ни рабочих, ни другие социальные группы радиослушателей»13.
Встал вопрос о создании нескольких радиогазет, имеющих каждая свою специфическую аудиторию. Совещание представителей всех заинтересованных учреждений признало такую дифференциацию радиоизданий необходимой. В решении от 26 февраля 1926 года было признано «желательным издание двух газет по радио:
1) рабочей – ежедневной, вместо выходящей радиогазеты, и
2) крестьянской, выходящей 3-4 раза в неделю14.
Редакционные аппараты обеих газет выходили из состава ГОСТА и создавались при редакциях печатных изданий – „Рабочей газеты" и „Крестьянской газеты"15». Ретроспективно это обстоятельство следует, на наш взгляд, оценивать двояко.
С одной стороны – это стимулировало улучшение содержания радиогазет, более аргументированную постановку общественно значимых вопросов, а следовательно, усиление роли радио в жизни людей.
«Радиогазета ГОСТА» имела главным образом характер информационного органа. Главная ценность ее заключалась в том, что она ежедневно, не пропуская праздники, передавала по радио самую свежую заграничную и внутреннюю информацию. Масса благоприятных отзывов о радиогазете доказывает, что свою задачу «Радиогазета ГОСТА» выполнила хорошо. Это обозначило первый организованный период развития массового вещания. Газета «Правда» выступает в этой связи со статьей «Забава или культурная революция», в которой содержится требование, чтобы радиопередачи были «коренным образом переработаны в сторону большей содержательности и привлечения лучших сил»16. В этом смысле опыт печати, привлечение большого количества публицистов, работавших в прессе, к подготовке радиоматериалов, безусловно, оказали влияние на качество текстов, передаваемых в эфир.
Однако закрепление редакций радио как структурной части редакционных коллективов печатных изданий ставило под сомнение необходимость развития находившихся и так в зачаточном состоянии сугубо радийных методов воздействия на аудиторию. А в ряде случаев, особенно на местах, вело к упрощенному пониманию специфики канала.
Возникший в этот период термин «радиопечать », появившийся не только на страницах прессы, но и в тексте ряда официальных документов17, был отражением распространенного представления о микрофоне, как о своеобразном типографском станке, выпускающем дополнительный тираж печатной продукции. Более того, утверждалось, что радио как самостоятельное специфическое средство информации и пропаганды нецелесообразно. (Причем мнение это распространялось уже не только на радиогазеты, но и на зарождающееся художественно-просветительское вещание.)
Подобные взгляды не могли не оказать отрицательного воздействия на практику вещания. Как результат в прессе появился ряд резко критических выступлений по адресу «радиопечати », особенно выпускаемой на местах. Журнал «Радиослушатель», в частности, писал: «В Союзе имеется до трехсот радиогазет, выпускаемых на десятках языков, в десятках городов, десятками радиовещательных станций.
Количество радиогазет все растет. Они возникают, создаются без всякой радиорабселькоровской и слушательской базы, без наличия средств и редакционных сил. Назвать такой рост достижением нельзя.
Только путем жесткого сокращения количества местных радиоизданий и усиления руководства ими можно будет добиться повышения их качества»18.
Уже при выпуске первых номеров «Радиогазеты ГОСТА» были поставлены вопросы стилевого отличия текстов, предназначенных для эфира, от газетных текстов, обсуждались проблемы особого композиционного построения радиосообщений. В своем программном заявлении редакция «Радиогазеты РОСТА» утверждала:
«Радиогазета должна быть не только короткой, но и весьма живой, интересной и понятной, иначе радиогазету не будут слушать... Чрезвычайно важна форма изложения. Для усиления живости радиогазеты мы допускаем в газете музыкальные номера, частушки с пением и балалайкой и прочее.
Наконец, не менее важна передача радиогазеты. Самый лучший номер может быть испорчен вследствие плохой декламации.
Нашу радиогазету передают декламаторы-актеры.
Один из них „ведет“ газету. Он является чем-то вроде конферансье, которые выступают во время концертов, литературно-музыкальных вечеров на „эстрадах“.
На этот „конферанс“, на его текст и передачу редакция радиогазеты обращает очень большое внимание. Конферансье поясняет наименее понятное, оживляет газеты, подымает внимание слушателя, после „скучного“ места пускает остроту и т. д. Наконец, конферансье является объединяющим началом в радиогазете, он дает „лицо“ радиогазете»19.
«Радиогазета – это не только „газета без бумаги и расстояния“, – это вообще газета новых форм. Рожденная от брака эфира с эстрадой, она от отца приобрела молниеносную быстроту пробега, а от матери – театральность, диалог», – писал журнал «Радиослушатель»20 .
Тем не менее анализ сохранившихся текстов показывает, что роль ведущего в абсолютном большинстве выпусков «Радиогазеты ГОСТА» сводилась к простому объявлению им очередной рубрики и чтению материалов, т. е., по сути дела, к бесстрастному дикторскому участию в передаче. Не случайно, характеризуя требования к артистам, приглашенным для работы у микрофона в начальный период существования радиогазет, один из старейших работников Всесоюзного радио Н.А. Толстова пишет:
«Когда самых первых артистов, чтецов приглашали на радио читать информации и даже вести первый номер радиогазеты, от них требовались лишь красивый голос и безукоризненная дикция. Другие требования появились позже, с появлением новых видов передач»21.
Именно в этот период появилась теория «дикторского единообразия», требующая от чтеца максимальной интонационной скупости, всякое выражение чтецом личного отношения к содержанию радиосообщения посредством эмоциональной окраски и голосового грима объявлялось грубым нарушением профессиональной этики. В директивном письме одного из редакторов «Радиогазеты ГОСТА» первому руководителю дикторской группы радио А.И. Турину содержится категорическое требование о «снятии женских голосов с передачи. Эти голоса не подходят для чтения газетного материала... не гармонируют с голосами чтецов и содержанием газеты... Исключением может явиться чтица, у которой голос похож на мужской»22.
Высказывались и противоположные мнения, исходившие из концепции радио как инструмента эмоционального воздействия на аудиторию. «Надо оживить газету, придать ей разговорную форму, писать статьи в форме беседы: это необходимо сделать в ближайшее время, ибо мы застываем»23, – писал А.И. Турин.
Итак, уже в первый этап существования радиогазет появились две противоборствующие концепции их развития – с одной стороны, «концерт из документов» и, как следствие, стремление к яркой эмоциональной окраске текста; с другой – отказ от каких бы то ни было драматургических композиционных построений и соответствующая этому интонационная скупость.
Значительно менее дискуссионной была проблема лексической переработки литературного материала в процессе его адаптации к слуховому восприятию. По этому поводу ни в сфере работников радио, ни у слушателей сомнений не было: стилистическая правка телеграмм РОСТА при подготовке их к передаче по радио была необходима, т. к. сближала язык радиосообщения с живой разговорной речью. Эта правка подразумевала отказ от сложных синтаксических конструкций, замену иностранных и труднопроизносимых слов обычными разговорными, упрощение лексики и т. п. Вопрос этот в нашей литературе достаточно разработан.
Нам же хочется обратить внимание на то, что адаптация литературных текстов на радио во многих случаях включала в себя не только изменение их структуры для наилучшего восприятия на слух, но и придание им таких форм устной словесности, которые соответствуют речевому этикету трибунно-митингового обращения к аудитории; иначе говоря, переработка текстов шла с учетом не просто слухового, но коллективного восприятия радиосообщения. Это соответствовало задаче: «установка приемников для массового слушателя – в первую очередь громкоговорителей в рабочих клубах и домах крестьянина и избах-читальнях»24.
Большинство исследователей, давая характеристику устной речи, обращенной одновременно к большому количеству слушателей, выделяют ее экспрессивность, структурную простоту и, как следствие, – ряд ограничений, связанных с объемом, величиной, синтаксическим построением фразы. При этом экспрессия, эмоциональная напряженность помещаются на первом месте, в соответствии с требованиями классической риторики: «речь оратора... чтобы изменить настроение слушающих и всеми способами их увлечь, должна быть напряженной и страстной; те, кто говорит сдержанно, могут... осведомить, но не взволновать; а все дело в этом» (Цицерон)25, «речь оратора должна обладать некоторой торжественностью и возвышаться (над обыкновенной речью)» (Аристотель)26.
Суждения античных риториков не вступают в противоречие с представлениями современных филологов. Конечно, обращаясь к литературному наследию в области пропаганды – как устной, так и письменной, – К.И. Былинский и Д.Э. Розенталь сильно перестарались, введя категорию, названную ими «принцип революционной страстности речи», и подчеркивая, что «эту страстность, боевой дух как основные черты стиля видим во всех произведениях основоположников марксизма-ленинизма»27. Но это издержки «эпохи триумфа», точнее – издержки правовой и бытовой незащищенности ученых, оказавшихся волей истории и обстоятельств впутанными в идеологию русской лингвистической школы.
Оптимальную технологию придания тексту радиогазеты известной приподнятости и патетичности большинство редакторов видели в максимальном упрощении синтаксических конструкций. Своеобразный кодекс «неоспоримых общих правил для языка радиопрессы»28 утверждал: «В построении текста имеет значение не только его смысловая, идейная сторона, но и его звучание29. Однако в целом ряде случаев мы имеем:
1. Недопустимые длинноты., огромные речевые периоды, пригодные, может быть, для книжной речи, но никак не пригодные для речи разговорной.
2. Непонятные и извилистые обороты речи, где подлежащее поставлено на место сказуемого и т. п., такие обороты нежелательны на радио...»30
Сравнив вышеизложенное с формулировками Аристотеля: «периоды должны заканчиваться вместе с мыслью, а не разрубаться...»31, «иносказательные выражения своей пространностью морочат слушателей»32, «сила речи написанной заключается более в стиле, чем в мыслях»33, мы легко обнаруживаем генеалогию указанных суждений о радиоязыке. Образцом для языка радиопередачи считался так называемый «рваный монтаж» слов, т. е. построение целого ряда фраз, состоящих из одного-двух слов, причем такими фразами пишут подряд 2-3 эпизода34. Необоснованность подобных представлений о языке радиосообщений убедительно доказана современными исследователями35. Однако для исследуемого нами периода массового вещания очевидна бесспорность суждения о том, что радио требует экономного и предельно выразительного языка.
Возможность активизировать эмоциональное состояние аудитории, присущая радио, в еще большей степени проявилась в событийных трансляциях. Оговоримся сразу, что в это понятие мы вкладываем представление о трансляционных программах всех направлений, как общественно-политического, так и музыкально-эстетического содержания.
В профессиональном арго укоренился по отношению к этому виду передач термин «прямая трансляция», подчеркивающий их первое основное видовое отличие: «совместность по времени»36, о котором они рассказывают. Как правило, продолжительность прямых трансляций в начальный период массового вещания совпадала с продолжительностью самого события.
Второе обязательное видовое отличие событийных трансляций – внестудийность, т. е. местом непосредственного рождения радиосообщения является не студия радио, а аудитория собрания, театральный или концертный зал, или вообще открытое уличное пространство.
По социально-политическим направлениям событийные трансляции того периода целесообразно разделить на
– общественно-политические;
– просветительные;
– развлекательные.
Разумеется, в ткани конкретного радиосообщения эти три направления часто существовали во взаимном проникновении, соотносились как части целого.
По форме радиосообщений нам представляется возможным разделить их на
– радиособрания;
– радиопереклички;
– радиолекции;
– радиоконцерты.
Характерно, что большинство исследователей, обращаясь к анализу первой указанной нами формы радиосообщения, непроизвольно подчеркивают ее экспрессивное начало, называя радиомитингом. Мы не склонны вводить термин «радиомитинг», ибо от радиособрания он отличается лишь мерой эмоциональной наполненности, единицы измерения которой не существует: никаких других объективных различительных качеств у этих двух понятий нет. Напомним дефиницию слова «митинг», принятую современной лексикологией:
«Массовое собрание для обсуждения политических и других злободневных вопросов текущей жизни, в поддержку каких-либо требований, для выражения солидарности или протеста»37.
Событийные трансляции имели ярко выраженную агитационную направленность, имитируя вовлечение масс слушателей в сферу важнейших событий политической, экономической, культурной жизни страны. И в то же время радиособрания и радиопереклички, появившиеся в эфире в конце 1924 – начале 1925 годов, привлекали возможностью установления эмоционального контакта.
«Мы прошли первую ступень в радиовещании. Радио перестает быть новинкой... требования, предъявляемые теперь к программам передач, значительно осложнились», – говорил на диспуте 12 февраля 1926 года председатель Общества друзей радио, заместитель наркома почт и телеграфов А.М. Любович. Он утверждал необходимость «перенести микрофон из студии в аудитории театров, концертов, лекций, собраний, съездов и т. д. Участники вечеров, концертов и т. п., зная, что они имеют своей аудиторией радиослушателей всего Союза, будут гораздо внимательнее относиться к их устройству, чувствовать большую ответственность. Радиослушатели будут психологически более спаяны с тем, что происходит у микрофона. Аудитория будет лишена специфической замкнутости»38. Обращаем внимание на то, что этот диспут полностью транслировался по радио из Большой аудитории Политехнического музея.
А.М. Любович подчеркивает важность звуковых атрибутов трансляционных форм вещания для создания эмоциональной атмосферы радиосообщения. Идеологические постулаты, разумеется, мешали, но еще не опровергали реальную практику.
«За границей, частично в Англии, этот второй вид радиовещания35 нашел свое отражение, правда в весьма уродливой форме. Мы видим там ежедневные трансляции из ресторанов. Несмотря на поражающее однообразие, надоедливое убожество всех этих фокстротов – передачи все же дают слушателю своеобразное представление о соответствующей обстановке, откуда производятся трансляции. Так же и передача боя часов Вестминстерского аббатства переносит нас на ночную лондонскую площадь...
Мы, при нашем многообразии жизни, должны пойти по второму пути. Перенести микрофоны в жизнь, приблизиться к ней»40.
Едва ли не важнейшую свою задачу сотрудники акционерного общества «Радиопередача»41 видели в использовании «всех возможностей трансляционной связи своего центрального узла на Никольской, 3, со всеми театрами, концертными залами, университетами»42.
Возможность одновременного выхода в эфир из разных городов стимулировала появление радиоперекличек. Само это слово быстро и прочно вошло в лексикон: форма радиоперекличек показалась чрезвычайно перспективной43.
Мы хотели бы обратить внимание на диалог, являющийся структурообразующей основой жанра. Если сопоставить радиоперекличку с радиолекцией на аналогичную тему, нетрудно заметить, что их различают главным образом элементы драматизации в подаче материала. Заранее готовившиеся тексты выступлений и отдельных реплик, вошедших в окончательный, по современной терминологии – «эфирный вариант» радиосообщения, в сведенном виде представляют собой сценарный план, где драматургическое столкновение мнений, толкований, характеров заложены как составляющие передачи.
Драматургическое начало прослеживается и в эстетических трансляциях радио, к которым мы относим радиолекции по проблемам литературы и искусства, но более всего музыкальные радиоконцерты.
Декларируя программу музыкального широковещания44, его редакторы и организаторы в коллективной статье писали в 1925 году: «Уместны, даже необходимы, цикловые исторические концерты, с краткими, сжатыми пояснениями и широкими музыкальными программами, исчерпывающе охватывающими тот или иной период того или иного композитора, с попутной характеристикой эпохи, в которой композитор жил. В обслуживании всех праздников -одна из ударных задач широковещания...
Как развлечение – здоровый смех, отдых от серьезных программ нужен рабочему особенно, – мы предлагаем серию популярных концертов, где будет уделено время и бытовому рассказу, и народному инструменту, и частушке»45.
Успех концертам по радио сопутствовал с самого первого появления их в эфире. Особенной популярностью пользовались выступления мастеров искусств в так называемых «краснокалендарных концертах», программа которых строилась как монтаж музыкальных номеров и коротких комментариев. Такие концерты предназначались для слушания на улицах – прямо во время демонстраций и гуляний.
С 1924 года при Нарокомпочтеле работала инициативная группа, называвшая себя «Радиомузыка». Своей целью эта группа поставила определение оптимальных условий для передачи музыкальных программ из студии – путем экспериментов, в ходе которых выяснялись достоинства того или иного типа микрофонов, наилучшее расположение артистов в студии, звучание оркестра и отдельных инструментов через микрофон из помещения, не приспособленного специально для исполнения музыкальных произведений и т. п. Время от времени «Радиомузыка» давала концерты в эфир.
Результаты исследований группы «Радиомузыка», а также аналогичные работы специалистов музыкального отдела «Радиопередача», включавшие анализ почты радиослушателей, сформировали мнение о том, что при существовавшем уровне технической оснащенности трансляции музыкальных концертов и спектаклей из театров и специально предназначенных залов значительно более перспективны.
Выступая на упомянутом диспуте о радиовещании в феврале 1926 года, А.М. Любович подвел итоги исследовательских работ в области музыкального вещания: «Мы ведем точный учет всех условий, улучшающих слышимость: расчет мест, занимаемых артистами, специальный подбор голосов, лучше звучащих по радио, составление программ из наиболее подходящих номеров. Музыкант и оратор приспосабливают себя к микрофону46. В результате создается замкнутая группа радиоартистов, которые „согласовывают“ каждое биение сердца с рамками студии.
Слушатель должен ограничиться механическим восприятием преподносимых ему номеров. Радиоартист, находящийся в студии, перед микрофоном, лишенный живого общения с аудиторией, никогда не сможет полностью использовать свои силы.
В результате получается определенная оторванность от окружающей жизни, замкнутая ограниченность»47.
Как видно, речь шла уже не только о плохом техническом оснащении радиостудий, но и о профессиональной подготовленности мастеров искусств к работе у микрофона. На это обстоятельство следует обратить особое внимание. Безусловно, на выводы
А.М. Любовича оказали большое влияние письма радиослушателей, которые стали приходить в адрес редакций радио и газет после «радиопонедельников» – трансляций концертов мастеров искусств из Большого театра. Они начались 8 сентября 1924 года и быстро стали традиционными. В них принимали участие виднейшие певцы, музыканты, драматические артисты; выступления мастеров искусств предварялись короткими лекциями А.В. Луначарского, известных литературоведов и критиков, говоривших о роли радио в культурном строительстве.
По свидетельству многих артистов, участие в «радиопонедельниках», т. е. выступление в привычной им обстановке, привлекало их гораздо больше, чем концерт в студии. Это крайне субъективное на первый взгляд мнение надо учитывать. Такой фактор, как «привычность» условий творчества, имеет огромное значение. Микрофон же был непривычен и, более того, часто стимулировал процесс психологического «торможения» у актера. По выражению актера В.Б. Герцика, ставшего позже известным диктором, «черная коробочка микрофона казалась ему глубоким колодцем, в котором исчезали неизвестно куда улетавшие слова...».
Театральный спектакль, будь то драма, опера или оперетта, рождается и живет в прямой зависимости от реакций зрителей -это истина и для учеников Станиславского, и для актеров Таирова, и для школы Мейерхольда, и для представителей любого направления в искусстве.
Впервые проведенный 12 декабря 1924 года опыт трансляции концерта симфонического оркестра (из Колонного зала Дома Союзов) утвердил и многих музыкантов во мнении, что «на публике» оркестр звучит лучше. К такому, возможно, субъективному выводу следует присовокупить и объективное суждение о том, что по акустическим данным Колонный зал Дома Союзов значительно превосходит студийное помещение.
Необходимо было решить техническую задачу наиболее объемной передачи звука из помещения, где проходит концерт, с тем чтобы добиться минимального вмешательства посторонних шумов в музыкальную ткань исполняемого произведения. Эту сложнейшую техническую и акустическую проблему после ряда экспериментов в зале Большого театра, Колонном зале Дома Союзов, в Большом зале консерватории блестяще разрешила группа инженеров и музыкантов во главе с А.Л. Минцем48. Была разработана схема установки параллельно работающих микрофонов (до шести одновременно); при этом была создана возможность автономно регулировать уровень сигнала, идущего от каждого микрофона. Так родилось микширование – техническое и художественное средство, позволяющее вести звуковой монтаж в процессе не фиксированной на пленку передачи.
С конца 1925 года музыкальные трансляции становятся постоянными и регулярными на всех существовавших тогда каналах советского радиовещания.
Анализ недельных программ позволяет представить место внестудийных радиоконцертов в сетке вещания:
Студия имени Коминтерна (Москва) – 3 трансляции в неделю.
Студия имени Попова49 (Москва) – 4 трансляции в неделю.
Студия МГСПС (Москва) – 3 трансляции в неделю50.
Студия НКПиТ (Ленинград) – 4 трансляции в неделю.
Три из четырех основных радиостанций в стране предлагали своим слушателям радиоконцерты по воскресеньям примерно в одно и то же время – от 19 до 23 часов.
Тематически основную массу радиоконцертов можно объединить в четыре группы.
1. Произведения, отражающие историю разных народов. Как правило, эти программы приурочивались к юбилейным датам. Содержание концерта составляли сочинения классические, народные, реже современные.
2. Песенное творчество русского народа. Эти программы включали дореволюционные и современные песни.
3. Музыкальная этнография – песни и музыка народов СССР. Иногда целая передача посвящалась творчеству представителей одной народности или национальности, музыкальное богатство которой в такой программе выявлялось в возможно полном виде; реже программы этой группы соединяли в себе песни и танцы разных национальностей.
4. Цикловые концерты русской и западной классики.
Во всех указанных передачах словесные пояснения непременно сопутствовали музыке. Принцип композиционного построения радиоконцертов определял профессор С. Бугославский, приглашенный руководить их организацией и проведением:
«Построение программы по комплексному методу (т. е. методу объединения программы на одном тематическом стержне). Этот комплексный метод объединит задачи политические и культурно-просветительские с художественным воспитанием масс»51.
Тем не менее речевой элемент в структуре «комплексных радиоконцертов» имел второстепенное значение. В тех же случаях, когда словесные пояснения к музыке становились равноправными ей или самодовлеющими, передача становилась затруднительной для многих слушателей.
На этом на первый взгляд несколько парадоксальном явлении есть смысл остановиться подробнее.
Многие современные исследователи в области теории информации, обращаясь к проблеме восприятия, утверждают, что всякое сложное сообщение, являющееся продуктом творчества некоего коллектива людей и рассчитанное на коллективное восприятие, должно пройти поэтапный путь развития – от сравнительно однородного по своей структуре до полифонического. «В ходе эволюции таких сложных сообщений каждое последующее произведение опирается на предыдущее, и эта связь гораздо сильнее, чем в простых сообщениях, имеющих индивидуальный характер, т. е. в живописи, скульптуре и т. д.»52. Таким образом, преемственность в развитии всякого сложного сообщения есть обязательное условие его эволюции.
В то же время «причины исторического характера обусловили то, что для таких коллективных искусств53, представляющих собой сложные сообщения, основным является доступность для понимания группой индивидуумов; это позволяет ввести понятие „среднего нормального человека“, которое в этом случае более оправдано, поскольку речь идет о группе54 приемников, тогда как простые искусства рассчитаны на неограниченную емкость восприятия массы, внутри которой все внимание каждого изолированного индивидуума сосредоточено на восприятии сообщения. Следовательно, для всех сложных искусств от греческого театра до кино, понятность выдвигается на первый план»55.
Очевидно, что процесс эволюции сложного сообщения заключается, с одной стороны, в поступательном нахождении им гармоничного сочетания всех структурных элементов, с другой – в постепенном тренинге аудитории.
Нарушение гармонии внутри сложного сообщения сказывается губительно на его восприятии. А. Моль приводит пример, когда неточность музыкального решения кинопроизведения привела к тому, что звуковое сообщение отвлекало внимание от зрительного и тем самым затрудняло восприятие, разрушая самый смысл существования звукового кинофильма.
Нечто подобное происходило в начальный период радиовещания и при восприятии «комплексных радиоконцертов», являющихся по своей природе сложными сообщениями. Формальное соединение речевых и музыкальных элементов, так же как и попытки искусственно ускорить процесс воспитания аудитории – привыкания ее к особенностям принципиально нового для нее коммуникативного канала, не приводили к успеху. Обе стороны – и коммуникатор, и реципиент – должны были потратить определенное время на «накопление». Поэтому слушатели и отдавали предпочтение более простому по структуре радиосообщению перед более сложным, а конкретно – опере перед литературно-музыкальной композицией.
«Согласно общему правилу жанра, „либретто" оперы не должно содержать отвлеченных мыслей, сложных чувств, слишком богатых поэтических образов. Поступки и чувства героев Тетралогии56 просты, они используют в своей речи обычный словарь и логичный синтаксис»57, – приводит пример А. Моль. На эту особенность жанра обращали внимание и специалисты советского музыкального радиовещания в первый период его развития:
«Нет сомнения в том, что опера, будучи по существу своему музыкальной драмой, т. е. омузыкаленным действием, нуждается в восприятии ее не одним только слухом, но и зрением. Недаром же оперные театры так много сил и средств затрачивают на постановку опер. Недаром и радиослушатели, прослушавшие оперу, сплошь и рядом идут смотреть ее. Однако нельзя не признать, что материал для слушания в опере все же преобладает58 по своему значению над материалом зрительным: слепой слушатель несравненно больше возьмет от оперы, чем глухой зритель. К тому же в операх лучших мастеров, как, например, Римского-Корсакова, Вагнера и других, музыка не только прекрасна сама по себе, но и иллюстративна, т. е. обрисовывает ход действия, характеры участников, оттеняет интонацию слова»59.
Эта точка зрения помогает нам объяснить некий феномен программирования радиопередач середины 20-х годов. Он заключается в том, что трансляции опер составляли большую часть содержания радиоконцертов, причем малограмотная и эстетически малоразвитая аудитория высказывала до этому поводу очевидное удовлетворение. А ведь по убеждению многих опера относится к элитарному жанру музыкальной культуры.
Распространение оперных трансляций в рамках радиоконцертов характеризуют следующие данные. За сезон 1927-1928 годов (сентябрь-май) внестудийных радиоконцертов было проведено 108, что составило 259,5 часа звучания в эфире. (Число аналогичных передач из студии – 106, что, соответственно, означает 174 часа 20 минут звучания в эфире.) 60 внестудийных радиоконцертов включали в себя трансляции 27 опер60.
Третий род программ, появление которого относится также к начальному периоду массового вещания, – передачи радиотеатра. Уже в 1925-1927 годах мы встречаемся с оригинальной радиодрамой61, инсценировкой литературного произведения62, фольклорным спектаклем63 и даже с попыткой жанра, который сегодня носит название «драма с открытым финалом» и относится, как правило, к направлению, именуемому политическим радиотеатром64.
Однако эти спектакли были достаточно примитивны с точки зрения возможностей радиотеатра и дают лишь возможность зафиксировать сам факт его рождения. Поэтому радиосообщения этого рода, по нашему мнению, целесообразно рассматривать в совокупности с программами следующего этапа в развитии советского радиовещания – периода становления художественно организованных (драматизированных) форм.
Первый период в развитии массового радиовещания, обозначенный рамками 1921-1927 годов, мы называем аудиовербальным, т. к. в радиосообщениях этого времени мы не встречаемся еще с органическим синтезом звуковых элементов, вне которого невозможно создание звукового образа. Однако следует отметить, что в этот период проявились некоторые тенденции, обусловившие в последующем успешное развитие и распространение методов художественной организации радиосообщений во всех направлениях вещания:
– стремление к эмоциональности радиосообщения;
– выявление в исходном материале, являющемся содержанием радиосообщения, возможностей создать драматургическую конструкцию для его изложения;
– поиск оптимальных сочетаний речевого материала и музыки в структуре одного радиосообщения.
Примечания
1 Дубровин В.Б. К истории советского радиовещания. Л.: Изд-во ЛГУ, 1972.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 53. С. 159-160.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8-е изд. доп. и испр. М., 1970, т. 3. С. 360-361.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 52. С. 54.
5 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 51. С. 130.
6 Данский Б.Г. Радиогазета РОСТА // Новости радио. 1925, № 1. С. 3.
7 Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание. Страницы истории. М., 1976. С. 32.
8 Там же.
9 «Радиогазета» выходила первоначально 4 раза в неделю, но вскоре стала ежедневной.
10 Данский Б.Г. Радиогазета и радиослушатель // Новости радио, 1925, № 30. С. 2.
11 «Правда», 1925, 8 октября.
12 Радиолюбитель, 1925, № 5. С. 103.; № 11-12. С. 235; № 23-24. С. 469.
13 Садовский А. Реорганизация радиогазеты // Новости радио, 1926, № 16. С. 6.
14 КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. М., 1979. С. 503.
15 Соответственно и большинство из последующих центральных и местных радиоизданий – «Комсомольская правда по радио», «Радиопионер», «Врачебно-физ-культурная радиогазета», «Призывник», «Кустарь и артель» и т. п. – базировались в редакциях соответствующих печатных изданий.
16 «Правда», 1925, 1 марта.
17 Дубровин В.Б. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио. В кн.: Журналистика: наука, образование, практика. Л., 1971. С. 122-123.
18 Радиослушатель, 1929, № 3. С. 5.
19 Радиогазета – первая в мире // Новости радио, 1925, № 1. С. 3.
20 Газета рассказывает... поет... играет // Радиослушатель, 1928, № 1. С. 4.
21 Телешова Н.А. Внимание, включаю микрофон! М., 1972. С. 31.
22 Из личного архива А.И. Турина.
23 Толстова Н.А. Внимание, включаю микрофон! М., 1972. С. 17.
24 КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. М., 1979. С. 501.
25 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972. С. 172-173.
26 Античные мыслители об искусстве. М., 1938. С. 194.
27 Былинский К.И., Розенталь Д.Э. Литературное редактирование. М.,1961. С. 38.
28 Рожанский А. Массы слушают радиогазеты// Говорит СССР, 1931, № 6. С. 17.
29 Выделено автором.
30 Говорит СССР, 1933, № 14-15. С. 23.
31 Античные мыслители об искусстве. М., 1938. С. 195.
32 Там же. С. 190.
33 Там же. С. 182.
34 Говорит СССР, 1933, № 14-15. С. 23.
35 Зарва М. Слово в эфире. М., 1977. Автор указанной работы подробно останавливается на спорности большинства представлений о структуре радиогазеты. В частности, она рассеивает распространенное заблуждение, будто сложное предложение всегда труднее для восприятия, чем простое.
36 Выражение В. Даля, применяемое им для обозначения слова «событие».
37 Словарь иностранных слов. М., 1979. С. 324.
38 Новости радио, 1926, № 6. С. 6.
39 Имеются в виду внестудийные трансляции.
40 Новости радио, 1926, N° 6. С. 6.
41 Акционерное общество «Радиопередача» осуществляло организацию всего радиовещания в СССР с октября 1924 года по июль 1925 года.
42 Новости радио, 1925, № 44. С. 2.
43 Дубровин В.Б. К истории советского радиовещания. Л., 1972. С. 26.
44 Термин «широковещание» существовал в начальный период массового вещания наравне с термином «радиовещание».
45 Задачи музыкального отдела «Радиопередача»// Новости радио, 1925, № 7. С. 9.
46 Подчеркнуто автором.
47 Новости радио, 1926, № 6. С. 6.
48 См. интервью А.Л. Минца автору настоящей работы: От искровых передатчиков до квантовой электроники // Советское радио и телевидение, 1970, № 4. С. 8-11.
49 Радиостанция имени Попова выходила в эфир 5 раз в неделю с 1-2 передачами в день.
50 Как правило, эта радиостанция не расшифровывала предварительно своих программ и в печатной программе передач обычно стояло «Трансляция оперы или концерта».
51 Бугославский С. Связь радио с массами // Новости радио, 1925, № 30. С. 7.
52 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966. С. 266.
53 Автор имеет в виду синкретические виды искусств – кино, театр, телевидение и т. д.
54 Подчеркнуто автором.
55 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966. С. 264-265.
56 Имеется в виду цикл опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов».
57 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966. С. 265.
58 Подчеркнуто автором.
59Чемоданов С. Оперные трансляции // Новости радио, 1926, № 27. С. 5.
60 Новости радио, 1928, № 20. С. 5.
61 «Вечер у Марии Волконской», «Люлли-музыкант» и др.
62 «Ветер» по одноименной повести Б. Лавренева. «Тимошка-гармонист» по поэме А. Жарова «Гармонь» и др.
63 Цикл «Старинные посиделки», осуществленный по сценарию П. Казьмина хором под управлением М.Е. Пятницкого и артистами из «Театра чтеца».
64 Инсценировка суда над «Радиозайцами» – гражданами, имеющими приемные и передающие радиоустановки без разрешения властей. «Суд» состоялся 20 апреля 1925 года с участием писателей, радиоработников, юристов и др. В передаче приняли участие несколько человек из публики, специально не готовившихся к выступлению. Таким образом, в радиотеатре впервые появилось импровизационное начало.
Глава 2 Звук в немом кино
А было ли «немое » кино немым?
Сравнение кинематографа начала XX века с человеком не говорящим представляется неточным.
Человек, лишенный дара речи, выражает свои мысли и чувства, объясняется с другими людьми или знаками-символами, понятными такому же индивиду, или пластикой лица и тела, изображая свое желание, состояние, просьбу. Он может быть возбужден или спокоен, но система «показов» через знаки (ребусы и для посвященных) в силу привычной повторяемости, обусловленности стандарта жестов обычно не несет богатой и разнообразной эмоциональной окраски. Скорее, она чувственно монотонна или нейтральна.
Кинематограф начала века, если уж искать наиболее подходящий термин, точнее назвать пантомимическим (Чаплин именно этим словом определял суть и достоинства своего кинотворчества), соотнося с искусством пластики, где каждая поза, жест и движение ориентированы прежде всего на возбуждение фантазии и эмоций зрителя, т. е. должны иметь яркую чувственную окраску.
Это качество непременно и обязательно и для каждого из компонентов отдельного кадра, и для всей ленты в кино. Но тут мы сталкиваемся с привычкой зрителя, обусловленной его элементарными природными психофизическими потребностями видеть и слышать одновременно. Такова данность, оказывающая влияние на развитие любого вида искусств, особенно если оно предназначает себя массовому потребителю. Простой пример: когда художественные музеи в XX веке открыли свои двери не только любителям и знатокам живописи и скульптуры, а толпе, в выставочных залах часто стала звучать музыка. Она помогала главным образом неосведомленному и эстетически неподготовленному посетителю: он меньше ощущал психологический дискомфорт от встречи с незнакомой и часто непонятной ему формой выражения человеческого духа.
Кинематограф изначально обращен к массовой аудитории, он претендует на отражение жизни в ее подлинных физически реальных формах и потому с первых дней своего существования не мог игнорировать естественные для зрителя ожидания. Не зря же во время премьеры люмьеровского «Прибытия поезда» в Лондоне, в 1896 году, за экраном была установлена специальная машина, имитировавшая грохот поезда.
По мнению современного исследователя, «наличие в феноменальном поле восприятия постоянно осязаемого акустического фона является своего рода биологической необходимостью, гарантирующей непрерывность живой связи субъекта с окружающим миром и тем самым обеспечивающей само ощущение реальности последнего». Этот свой постулат Р. Казарян относит к числу закономерностей как звукового, так и немого кино, утверждая, что лишь «передача (или имитация) естественного акустического фона» способна вызвать у зрителя впечатление трехмерности киноизображения, т. е. придать ему жизненную достоверность1.
Что касается зависимости трехмерности изображения в немом кино от наличия или отсутствия звукового сопровождения, то тут можно и поспорить, хотя цитированная точка зрения находится полностью в русле академических утверждений вгиковского курса об обязанностях звука в кино вообще: слово (звучащее, разумеется) движет сюжет, музыка определяет ритм, а шумы, иллюстрирующие физическую реальность обстоятельств действия, создают иллюзию объема на экране (сиречь трехмерность пространства).
Логично, хотя и не избавляет от сомнений. А что, в стереофильме, где трехмерность создается незвуковыми средствами, фоновые шумы не нужны? Информация, которую они несут, – внефункциональна?
То же со словом: известны эксперименты, когда под одну и ту же речевую фонограмму снимали два разных по сюжету фильма...
Сомнительно и с музыкой: кто возьмется определять, чей ритм первичен, скажем – в сцене вертолетной атаки из «Апокалипсиса» Ф. Копполы, – ритм камеры оператора или ритм вагнеровского «Полета валькирий»? Или в танце межпланетных кораблей в «Космической одиссее» С. Кубрика – ритм монтажа или ритм вальса Штрауса? Простой ответ можно получить, узнав у авторов последовательность их замысла и его реализации. Но будет ли этот ответ полным, а главное, раскроет ли он действительно гармонию структуры этих произведений?
В современном кинематографе указанная выше классификация функций звука явно не охватывает всех сложносочиненных композиций, присущих творческой практике различных режиссеров, исповедующих многообразные подходы к возможностям и задачам звуковых компонентов фильма. Но этот спор за рамками нашей темы. Мы упоминаем об «академической концепции» лишь потому, что сама идея строгой дифференциации функций различных видов звукового сопровождения изображения на экране представляется неплодотворной, особенно в немом кино. Все попытки дополнять немую картинку звучащим словом, музыкой, «натуральными» (в звукозаписи) или театрально-имитирующими шумами имели глубокий смысл. Кино стремилось и в своем «немом» варианте имитировать звуковое воздействие. Это был путь к чувствам и эмоциям зрителя, обеспечивающий живую связь акустического фона, действия, восприятия зрителя и его ощущения реальности на экране.
В качестве рабочей гипотезы позволим высказать мысль, что эта стратегическая цель была в полуинстинктивном-полуосознанном стремлении кинематографа приблизить по своему воздействию отдельный кадр или эпизод фильма к фразе (абзацу, эпизоду) литературного сочинения.
Суть воздействия слова в поэзии и художественной прозе в том, как информация, содержащаяся в этом слове, умножается на ритм и контекст фразы и возникает новая целостная лексическая единица, ориентированная на индивидуальное восприятие читателя. Само по себе (в буквальном значении!) слово (фраза) чаще всего не передает глубинную логическую и экспрессивную значимость явления, о котором они несут бытовую (словарную) информацию.
Пушкинская фраза: «Я помню чудное мгновенье, / Передо мной явилась ты...»
Если суммировать непосредственную информацию, содержащуюся в каждом слове, то получим весьма разочаровывающий результат: некто хорошо помнит время (день, час, минуту), когда он познакомился с другим некто, неожиданно ему встретившимся (все-таки «явилась»! а не «увидел», «пришла», «встретил»).
Но вот при чтении этой фразы человек, в меру собственных способностей, отпущенных ему природой или воспитанных обществом, подключает свое чувство прекрасного, умение слышать музыку (в данном случае мелодию стиха), свое воображение, наконец, свои собственные воспоминания... И тогда рождается – непроизвольно! – реакция на прочитанное. Реакция самая разнообразная: гамма эмоций тут бывает от хладнокровного недоумения: «Ну и что? Не понимаю? Чушь сопливая!» – до восторженно очищающих слез. Все дело в чувственной фантазии. Буквальное восприятие слова и фразы в данном случае губительно для литературного текста.
Теперь обратимся к наблюдению С. М. Эйзенштейна над аналогичной ситуацией в немом кинематографе. Размышляя о диалектике восприятия кинокадра, он пишет: «Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом. И чтение свое получает лишь из сопоставления, как и иероглиф, приобретающий специфические значения, смысл и даже устные произношения (иногда диаметрально противоположные друг другу) только в зависимости от сочетаний изолированного чтения...»2
Очевидны аналогии в подходе к проблемам выразительности слова в книге и кадра на экране.
Подобно авторскому слову, кинокадр должен был побуждать зрителя к многозначности его понимания и ощущений, т. е. к сопереживанию, которое возникает, когда человек перед экраном попадает психологически в положение соучастника или хотя бы свидетеля описываемых событий. Звук должен был подтолкнуть фантазию зрителя, помочь ему ощутить реальность происходящего на экране и отреагировать на нее мерой собственных эмоций и размышлений.
Необходимость его была бесспорна. (Мы имеем в виду именно «звук» – в совокупности понятия, а не «говорящее кино», против которого восстали многие киномастера.) Принципы технической и эстетической реализации проблемы дискуссионны. Поляризация мнений (и практических решений) происходила вокруг двух понятий: «натуральный звук в кинозале» или «воображаемый звук в восприятии зрителя».
Кинозвук в физической реальности
Самое простое – посадить перед экраном актеров и пусть они попробуют «озвучить» изображение.
Посадили. Попробовали. Ничего хорошего не получилось. И не только потому, что актеры, держа в руках текст, к примеру толстовского «Живого трупа», физически не успевали произносить синхронно реплики за героев одноименного фильма В. Кузнецова и Б. Чайковского (эксперимент был проведен в Москве в 1911 году). Ничего путного не выходило и тогда, когда асинхронность была заранее обусловлена.
В том же 1911 году нескольких ведущих артистов московского театра Корша пригласили участвовать в премьере фильма «Кавказский пленник», снятого по поэме Пушкина режиссером и оператором Д. Витротти. Музыку Ц. Кюи для оркестра, сопровождавшего показ ленты, специально аранжировал И. Худяков. Предполагалось, что чтение фрагментов пушкинской поэмы «под изображение» на экране создаст необыкновенный художественный эффект.
По свидетельству очевидцев и прессы, вышел полный конфуз. Картинки на экране существовали сами по себе, артисты в ложе перед экраном – сами по себе, и никакой эстетической связи между ними не ощущалось, а оркестр только подчеркивал этот разнобой, вспоминал много лет спустя известный московский театровед В.А. Филиппов.
Соблазн, однако, был очень велик. Надежды прокатчиков обратились к лентам, которые назывались «кинодекламации» или «киноговорящие фильмы». Их выпускали в одном-единственном экземпляре (второй был редким исключением) специально для демонстрации в сопровождении живого актера. Чаще всего их делали кустарно, наспех, показ их в провинции обычно не освещала пресса, вообще-то падкая до кинематографических новостей. Тем не менее с 1909 по 1917 год вышло более 250 таких лент, весьма разнообразных по содержанию: от экранизаций Чехова, Гоголя и Апухтина до юмористической кинооперетты «Конкурс ловеласов», кинооперы «За свободу, за народ» в «четырех отделениях с прологом и эпилогом в исполнении автора и хора певчих» и патетической оратории «Григорий Распутин в великой русской революции», премьеру которой в Ростове обеспечивала целая «труппа кинодекламаторов под управлением П.П. Петрозванцева».
Продукция этого вида (все-таки сложно назвать полноценным фильмом этот гибрид кино и эстрады, где изображение чаще занимало место, аналогичное музыкальному сопровождению в концертной мелодекламации) составляет одну десятую всех кинолент, снятых в дореволюционной России. Это не так уж мало. Но примечательны два обстоятельства. Во-первых, число сеансов «кинодекламаций» было крайне невелико, гораздо меньше, чем могли осуществить занятые в них артисты; если судить по рекламным заметкам в газетах, то с традиционными чтецкими концертами они выступали много больше. Во-вторых, в числе участников «кинодекламаций », за исключением Н. Чардынина, К. Новицкой и В. Пасхаловой, нам не удалось обнаружить ни одного более или менее заметного имени артиста того времени. Это был удел 15-20 провинциальных актеров, как нам кажется, не слишком обласканных театральными антрепренерами.
В 1913 году одна из зарубежных кинофирм сняла небольшую ленту с участием великого русского драматического актера К.А. Варламова, запечатлев сцены из пьес А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», «Не все коту масленица», «Правда хорошо, а счастье лучше» и из гоголевской «Женитьбы». Выбраны были главным образом монологи3. Называлось все это «Коронные роли К.А. Варламова».
Готовили пышную премьеру. Варламов был так популярен, что его юбилейный вечер – к 30-летию на сцене – вынуждены были повторять дважды: все желающие из числа самой высокопоставленной петербургской публики не смогли попасть в зал Александрийского театра 31 января 1911 года, и специально для них торжества были полностью сдублированы 5 февраля в зале консерватории, а потом эту программу по требованию российских любителей театра повезли по разным городам. Кинематографисты запечатлели как раз те роли, которые Варламов играл на юбилее. И за вполне приличное вознаграждение владелец одного из петербургских кинозалов уговорил артиста «озвучить» себя прямо перед публикой. Варламов согласился, подписал контракт, но потребовал репетицию.
Устроили репетицию. Варламов начал читать один монолог, второй... и предпочел заплатить «неустойку, но не позорить седины и ремесло».
Сложность оказывалась не только в том, чтобы успеть за артикуляцией персонажа на экране или «уложить» фрагмент литературного текста в рамки той или иной сцены на экране. Необходимо было найти психологическое равновесие между чувствами живого актера и действием на экране, чтобы интонация его речи соответствовала настроению кадра, его эмоциональной насыщенности. И тут начинается противоборство ритмов и информативной насыщенности кинопластики и звука.
В кинотеории стало трюизмом утверждение, что реальное пространство при фиксации его на кинопленке сильно видоизменяется, равно как в значительной степени видоизменяется фактура предметов и реальное движение, воспроизводимое кинокамерой. Но ведь в полной мере это относится и к воплощению того или иного явления при помощи его звуковых характеристик.
Ритм кинематографической реальности не совпадает с ритмом жизненной реальности, получающей отражение на экране. Это заметил однажды Вс. Мейерхольд: «На экране секунда вами произведенного действия, движения как бы удваивается, так как лента сразу дала много места тому, что снимается»4. Перед актером, которому поручалось в немом кино «озвучание» фильма во время сеанса, возникала не только технологическая трудность (обеспечить синхронность звукового и выразительного ряда), но психологическая проблема совместить логику и многообразие интонаций, заложенных в литературном тексте, и экспрессию ритма киноизображения. Пользуясь театральным лексиконом, можно сказать, что такому актеру приходилось все время «плюсовать», т. е. преувеличивать смысловое значение каждого слова, каждой фразы. В первые минуты это собирало внимание публики (кстати, отвлекая от экрана), потом давала себя знать монотонность подобной манеры речи, она очень быстро «приедалась», и настолько, что слова почти теряли смысл.
А традиционные чтецы в японском кинотеатре? Так называемые бэнси? Они вставали у пюпитра, на котором лежал заранее заготовленный текст (при особой сноровке некоторые и наизусть) и... пересказывали реплики персонажей и отдельные мотивационные нюансы действия.
Все дело как раз в этом глаголе. Они не говорили «за героев», а именно пересказывали их речь своими словами. Возникала параллельная экранной звуковая структура, не синхронизированная с ней, максимально нейтральная по интонационным характеристикам и оттого практически не отвлекающая внимание зрительного зала. По сути, это была работа, напоминающая современный перевод звукового фильма в иноязычной аудитории, только переводили не с английского на русский, а с языка пластики в обыкновенную речь. А может быть, с определенным допущением, правомерно искать аналогию в практике спортивного журналиста, комментирующего футбольный матч по телевидению.
К сказанному позволим добавить предположение: описанная система «озвучания» немого фильма утверждалась прежде всего в тех странах, где очень высокие, можно сказать, «скоростные» темпоритмические основы языка сосуществуют с природными и традиционно этическими ограничениями интонационных характеристик. Иначе говоря, там, где эмоциональная нейтральность речи – вещь обыденная. В Японии к этому следует присоединить и устойчивые театральные традиции.
* * *
Итак, разговаривающий актер не вписывался в структуру немого фильма, хотя С.М. Эйзенштейн и утверждал: «...как самый принцип монтажа, так и все своеобразие его строя суть точный сколок с языка взволнованной эмоциональной речи»’’.
Теоретические и эстетические аспекты этой аналогии несомненно имеют место. Технологические – увы! Желаемое здесь так и не стало действительным. Но была еще музыка для ассоциативной имитации звуковых реалий тех событий, которые демонстрировались на экране. Тынянов писал по этому поводу: «Музыка в кино поглощается, но поглощается не даром: она дает речи актеров последний элемент, которого ему не хватает, – звук»6. Однако у тапера и у оркестра в кинозале возникали те же проблемы, что и у живого актера.
Цель была весьма определенной. Большинство теоретиков киномузыки формулирует ее вслед за Т. Адорно как «стремление создать человеческий слой, связующий беспрерывно разворачивающиеся фотографии и зрителей. Она (музыка. – А. Ш.) выполняет социальную функцию цемента: спаивает воедино элементы, которые в противном случае не объединились бы, но противостояли друг другу, – механический продукт и зрителей, так же, как и самих зрителей, между собой... Она стремится постфактум вдохнуть в изображение немного жизни, которую отняла у них фотография»7.
Весьма дискуссионный вопрос – отнимает или прибавляет зрителю подлинность ощущения жизни само по себе киноизображение и для чего тут нужна музыка?
3. Кракауэр, например, высказывает мнение, противоположное точке зрения Т. Адорно, Г. Эйслера, Т. Левина и др. В своей книге «Природа фильма» он пишет: «Музыкальный аккомпанемент несомненно вдыхает жизнь в немые изображения, но лишь для того, чтобы они выглядели тем, что они есть – фотографиями. Это весьма важное обстоятельство. Не следует думать, будто музыка, добавляя звук к немым кадрам, должна восстановить в них полную жизненную реальность»8.
Позиции спорящих противоположны. Однако синтезирующая роль музыки сомнений не вызывает. Сомнения возникают по иному поводу. Опять – как «успеть» за изображением? И главное – как «уложить» смыслово, а не формально музыкальную фразу в хронометраж монтажной фразы или эпизода?
Техническую задачу (первую из названных выше) в конце концов надеялись решить повышением мастерства приглашенного музыканта и выработкой у него соответствующих навыков. Опыт таперской работы в кино ведет свой отсчет от киносеансов братьев Люмьеров – уже они шли под аккомпанемент рояля. Правда, мы склонны разделить мнение 3. Лиссы9, наиглавнейшей целью музыканта тогда считалась совсем не художественная: он должен был бравурной музыкой заглушать сильный треск проекционного аппарата. В наиболее фешенебельных кинотеатрах собирали целый оркестр. Музыканты импровизировали, каждый по своему вкусу, но изображение на экране менялось с такой скоростью, что они вынуждены были творить винегрет из классических опусов, модных танцев, банальных шлягеров, учебных экзерсисов и т. д. и т. п., причем обрывая мелодию порой на середине. У просвещенной публики это вызывало возмущение, у менее рафинированной и менее образованной – недоумение.
Очень быстро пришло понимание: чем нейтральнее музыка, тем легче «попасть в экран». Появились первые «правила игры»: например, «неуместность веселой музыки во время демонстрации серьезного фильма стала очевидной» (Э. Линдгрен)10, «изображение и музыка должны сочетаться друг с другом хотя бы весьма косвенно...» (Г. Эйслер)11. И яркие экспрессивные мелодии стали уступать место ритмически однообразным этюдам и вариациям. Эстетическая ценность такого музицирования была крайне сомнительна и вполне соответствовала уничижительной иронии И. Стравинского: «Музыка в фильме имеет такое же отношение к драме, как ресторанная музыка к застольной беседе»12.
Как часто бывает в истории культуры, возник парадокс: для сохранения индивидуальности киноизображения и творческого импульса музыканта-комментатора необходима была стандартизация исходного звукового материала. В 1913 году в Америке появилась первая «Кинотека» – каталог музыкальных сочинений и фрагментов, классифицированных с точки зрения их программно-выразительного характера. Составленная И. Замечником для фортепиано, она была продолжена множеством аналогичных сборников для отдельных инструментов, дуэтов, трио, квартетов и оркестров. Музыкант, приглашенный тапером в кинотеатр, мог найти в них рекомендации, что и когда играть, если на экране катастрофа, драматическая любовная ситуация, торжество, картины природы и т. д. Постоянные разделы имели названия: «Ночь», «Борьба», «Страх», «Шумная сцена», «Безнадежность», «Вакханалия», «Буря», «Тайная тревога» и т.п. Словом, на все случаи жизни. Типичная кинематографическая ситуация, таким образом, обеспечивалась заранее типичным музыкальным сопровождением.
Поначалу это был выход, и неплохой. Особенно для зрителя большого богатого кинотеатра, владелец которого имел возможность пригласить достаточно квалифицированного музыканта или приличный оркестровый состав. Но кинотеатров становилось все больше и больше, игра в них оказывалась только заработком для неимущих пианистов или музыкантов, каких уже не брали ни в один хороший коллектив, и результат не мог не сказаться на качестве. В конце 20-х годов Дмитрий Шостакович оценивает сложившееся положение: «Оркестры в большинстве кинотеатров бывают более или менее низкой квалификации... Большей частью вместе с куцым оркестром играет пианист по клавиру и „погромче“ выстукивает партии недостающих инструментов. Вместо тромбонов – рояль. Чайковский, поди, волчком в гробу вертится от такой интерпретации... О так называемых нотных кинотеках (музыкальные кусочки для слез, восстаний, разлагающейся буржуазии, любви и т. д.) – одно только скажу, что это такая же халтура, если не хуже. Единственный правильный путь – это написание специальной музыки»13.
Этот путь был намечен весьма серьезным пунктиром. Молодое искусство привлекало известных композиторов неизвестной им еще формой творчества, и тогда появлялась музыка специально к тому или иному фильму. В 1908 году Сен-Санс пишет опус 128 -интродукцию и пять пьес для струнного оркестра. Это сочинение на самом деле оригинальное музыкальное сопровождение фильма «Убийство герцога Гиза». В том же 1908 году А. Ханжонков договаривается с М. Ипполитовым-Ивановым о музыке к фильму «Стенька Разин» ( «Понизовая вольница»). Композитор соглашается с охотой. Ни одна из сторон особенно не рискует – историческая драма режиссера В. Ромашкова представляла собой экранную версию популярной песни «Из-за острова на стрежень», и Ипполитову-Иванову надо было заново аранжировать хорошо известную мелодию в ритмах киноленты. А Ханжонкова, в случае неудачи композитора, спокойно могла выручить пара гармонистов.
Пример Сен-Санса и его русского коллеги оказался заразителен. Известный исследователь киномузыки 3. Лисса приводит такую цифру: в 1909-1912 годах более трехсот фильмов, снятых в разных странах, сопровождались специально для них написанной музыкой. Тиражируется эта музыка чаще всего с помощью граммофонных пластинок, и справедливости ради следует заметить, что технический прогресс и сочинители киномузыки активно шли друг другу навстречу.
Уже в 1896 году, меньше чем через год после первого сеанса на бульваре Капуцинов, 17, Шарль Патэ в Париже и Месстер в Германии делают попытки соединить кинопроекционный аппарат с граммофоном, изобретенным Берлинером.
В 1898 году в парижском театре «Олимпиа» осуществлен первый «кинофоносеанс». Фонограф Эдисона помещался рядом с проекционным аппаратом, и звук передавался зрителям через телефонные трубки, прикрепленные к каждому креслу в зале.
В первые годы нового века Леон Гомон выпустил несколько десятков короткометражек (примерно по 100 м каждая) под общим названием «Говорящий фильм». В этих картинах снимали певца, который старался артикулировать синхронно с заранее напетой им же граммофонной записью. В кинотеатре граммофон с усилителем ставили возле экрана, и была устроена специальная система сигналов для киномеханика, помогавшая добиться подобия синхронности.
В 1907 году английская компания «Варвик» выпускает свой аппарат – синефон, затем следует вивафон Сесиля Хепуорта и новое изобретение Леона Гомона – кинохронограф. Во всех этих системах основу составляли граммофон и механические приспособления для его синхронизации с кинопроекцией. Но все эти устройства были несовершенны, а размеры обыкновенной грампластинки явно не соответствовали метражу кинофильмов. Да и качество звучания их было неудовлетворительное.
Попытки механического соединения кино и граммофона представляют собой скорее аттракцион, чем художественное средство для творческой деятельности. Тем не менее интерес к так называемым граммофонным фильмам достаточно велик. Только в России в 1914-1915 годах выходят 37 «звуковых» лент этого типа, главным образом музыкальных (всего 5 разговорных – фрагменты «Бориса Годунова», «Преступления и наказания» и комические рассказы в исполнении Я. Южного).
В 1909 году французский изобретатель де Пино пытается записать звук прямо на кинопленке тем же способом, с помощью которого звук фиксируется на валике фонографа. Чуть раньше, в 1906 году, Юджин Лост запатентовал в Англии систему фотографической записи звуковых колебаний на кинопленке, обеспечивающую полную синхронизацию звука и изображения. (Но сама звукозапись оставалась некачественной.) Именно это открытие и сделало возможным спустя два десятилетия рождение современного звукового фильма. Параллельно в Германии разрабатывалась оптическая система звука в кино «Три-Эргон» Г. Фогта, Д. Энгля и И. Массоле, в Америке аналогичная аппаратура Ли де Фореста, «говорящая фильма» «Дженерал электрик компани», в Швеции «осциллографическое звуковое кино» Свена Берглунда...
Рассказ о том, что фирма братьев Уорнер в 1924-1925 годах была накануне банкротства, а купив за бесценок патент «Вайтафон» и выпустив фильм «Певец джаза», получила гигантские барыши и стала пионером звукового кино, не легенда. И может быть, сами братья Уорнер до банкротства не помышляли о производстве звуковых фильмов. Случайности в этом все-таки минимум. Точнее, эта случайность выражает назревшую потребность общества и самого киноискусства в переходе на новую ступень развития экранной культуры.
Но это будет через несколько лет.
Нельзя перепрыгнуть через время. Поступательность технического прогресса подчиняется строгим закономерностям, среди которых фактор накопления знаний и технологических возможностей едва ли не самый главный. В данном случае он не успевал за потребностями нового вида творческой деятельности, и этот новый вид был вынужден вырабатывать свои эстетические критерии и принципы, опираясь на реальность технического обеспечения.
Кинозвук в воображении зрителя
Оценивая язык немого кино, Андре Базен писал: «Немой фильм создавал мир, лишенный звуков, вот почему появилось множество символов, призванных возместить этот недостаток»14. Вслед за М. Мартеном, В. Фурдуевым, Э. Линдгреном, Л. Форестье, М. Шион и другими историками и теоретиками экранной культуры, прибавив к ним опубликованные творческие самоанализы многих великих мастеров кинорежиссуры, можно привести десятки примеров, характеризующих попытку сделать неслышимый с экрана звук «видимым», иначе говоря, стремление автора фильма заставить зрителя «услышать» звук в своем воображении. Эйзенштейн совершенно четко обозначил эту цель: «Пластике немого кино приходилось еще и звучать», - пишет он в четвертой главе «Неравнодушной природы»15.
В его фильме «Стачка» несколько рабочих весело идут по улице. В руках у одного гармонь. Постепенно ее изображение увеличивается, и вот уже меха инструмента, двигающиеся в ритме марша, заполняют весь экран...
У Абеля Ганса в «Наполеоне» аналогичный прием. Во время атаки французов на Тулон постепенно падают замертво один за другим барабанщики наступающего войска. Но тут начинается ливень с градом, и камера выхватывает то один, то другой валяющийся на земле барабан, наезжает на них до максимальной крупности, чтобы продемонстрировать их призывный грохот к бою, возникающий уже не от палочек солдата, а от крупных градин...
В фильме Л’Эрбье «Эльдорадо» превосходно передан оглушительный шум ночного увеселительного заведения: наплывом идет калейдоскоп крупных планов различных музыкальных инструментов и напряженных лиц с широко открытыми, кричащими ртами...
Марсель Мартен приводит отрывок из сценария А. Ганса, где «необыкновенно ярко проявилось желание режиссера передать колокольный звон, звучащий над Парижем:
Четыре различных крупных плана колоколов...
Четыре других крупнее прежних, очень коротких плана колоколов...
Четыре новых плана (еще крупнее и еще более быстрых) колоколов...
Сто колоколов в четыре секунды вперемежку»16.
Так кино искало путь к ассоциации безусловной, примитивной, чисто натуралистической, надеясь подтолкнуть фантазию аудитории к реальному, бытово достоверному звуку.
Но был и другой путь, рассчитанный на более утонченную фантазию: стремление вызвать «ощущение звука» сопоставлением различных по содержанию и пластической тональности изображений.
Эта условная манера имитации звука, более сложная для восприятия, но на практике тем не менее достаточно быстро приучившая аудиторию к «правилам игры» и получившая широкое распространение. В «Ее жертве» режиссера Ч. Сабинского (экранизация ибсеновской «Норы») есть эпизод, в котором один из героев сидит за фортепиано. Пальцы его с необыкновенной быстротой бегают по клавишам – перебивка – на экране бурные волны, разбивающиеся о скалы. Но вот пианист переходит к более плавной мелодии – и перед зрителями широкое поле с еле-еле колышущимися колосьями. Само собой разумеется, ни скалы, ни поле никакого отношения к сюжету, поступкам персонажей или их характерам не имеют. Но они способны передать атмосферу музыки, сделать ее «слышимой». Примеров такого рода можно привести множество.
В какой-то мере они отражают распространенное увлечение «программной» музыкой и опираются на воспитанную у части публики привычку мысленно соединять мелодию с конкретным сюжетом, который, в свою очередь, может иметь «зрительный ряд». Тут следует заметить, что иногда программный замысел музыкального сочинения раскрывается только в названии или в общем колорите, но бывают и такие, где выразительные средства сознательно рассчитаны на определенные зрительные ассоциации. Скажем, в I части Первой симфонии Чайковского «Зимние грезы» совершенно отчетливо звуко-изображение санной дороги, колокольчиков под дугой лошадиной упряжи. В «Море» Дебюсси легко «увидеть» шум волны, накатывающей на берег, и т. п. Исполнение этих и некоторых других произведений и до сих пор часто предваряется конферансом, который должен заранее подтолкнуть фантазию слушателя «в нужном направлении».
Идя по этому пути, кинематограф, без сомнения, воспитывал стереотипы восприятия, приучал к штампам самого примитивного толка. В воображении аудитории фиксировались пары: бурлаки – «Эй, ухнем», Мадонна – «Аве Мария», герб – «Боже, царя храни» и т. п.
Позднее эта тенденция будет очень сильна в звуковом кино, и у зрителя появятся новые штампы: немецкие танки – I часть Седьмой симфонии Д. Шостаковича, цирковое представление – «Выходной марш» И. Дунаевского и т. д. Но если вернуться к немому кино, нельзя не заметить, что в силу диалектики именно такие стандарты обеспечивали в ряде случаев впечатление звучащего экрана.
Наиболее сложную задачу ассоциативному восприятию предлагает звуковое отражение жизненных реалий методом убыстренного монтажа. Теория кино содержит почти исчерпывающую характеристику этого метода: «Очень быстрый монтаж (flashes) в немом кино часто выражает стремление передать звуковое впечатление.
Быстрый монтаж совершенно нереалистичен как зрительное впечатление (мы видим сразу лишь небольшое число предметов из-за ограниченности нашего поля зрения, и, во всяком случае, не в таком темпе), но зато он передает столкновение и смешение всевозможных звуков в окружающем нас реальном мире. Звуки окружают нас со всех сторон, они перебивают друг друга, сливаются и обрушиваются на нас постоянным плотным потоком»17.
В качестве иллюстрации правомерно вспомнить «Октябрь» Эйзенштейна: сапоги пляшущих казаков и планы стреляющих прямо в зрителя пулеметов перемежаются с такой скоростью, что возникает почти реальное ощущение ритма, не просто грохота стрельбы. (Этот эпизод подробно проанализирован М. Мартеном и другими киноведами.) Сам автор фильма объясняет этот и другие аналогичные эпизоды своих лент: «Из монтажных кусков слагался не только ход сцены, но и слагалась ее музыка. Подобно тому как немое лицо „говорило“ с экрана, так с экрана же „звучало“ изображение»18.
Психологическую и художественную соразмерность звука и изображения мастера экрана и теоретики кино понимали и ощущали достаточно отчетливо. В своем знаменитом манифесте-заявке «Будущее звуковой фильмы» С. Эйзенштейн, В. Пудовкин и Г. Александров прокламируют создание «оркестрового контрапункта зрительных и звуковых образов»19, т. е. сопоставление изображения и звука как равновеликих в эстетическом отношении компонентов языка киноискусства.
В то же время (год в год) Гриффит пишет: «Кинокартины являются одним из видов драматического искусства, и им присущи все средства художественного воздействия, которыми располагает драматическое искусство вообще. Экран имеет такие же права на звук, как и сцена»20.
Эйзенштейн писал о прорыве звука к полному слиянию с изображением, утверждая возможность взаимопроникновения ассоциативных рядов у зрителя и, более того, склонность к замене друг друга: «И звук, стремящийся воплотиться в зрительный образ...»21 Примеры такого прорыва давала литература, предупреждая при этом, что звук, рожденный в нашем воображении, возбуждает значительно более широкий круг ассоциаций и способен впечатлять гораздо больше, нежели этот же звук, услышанный «в натуре».
Читаем у Гоголя в «Старосветских помещиках»:
«Но самое замечательное в доме – были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, – но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: „батюшки, я зябну“»22.
Если реализовать описанный Гоголем скрип дверей, то мы получим три натуральных звука, и каждый из них будет единственной реальностью, данной нам в объективных физических характеристиках. Но предоставим это все нашей читательской фантазии: мы получим множество новых реальностей в зависимости от настроения и способностей каждого из нас. Гоголь подчеркивает это, приводя в следующем абзаце повести один из возможных ассоциативных рядов:
«И если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!»23
Кинематографу предстояло учиться прежде всего точности логического и эмоционального посыла при формировании пластической композиции, ориентированной и на зрительное, и на звуковое восприятие. Понимание этого как необходимости пришло задолго до того, как звукозапись и звуковоспроизведение стали художественным средством на экране, напротив, они еще не давали элементарной возможности технически обеспечить даже самую простую эстетическую задачу.
Но ведь бессмысленно спорить с природой. Особенно с природой человека, которому на роду написана способность при малейшем внешнем намеке на часть зрительно-осязательно-слуховой ассоциации воспроизводить в сознании ее целиком. Физиолог И.М. Сеченов доказал, что это явление сопутствует каждому шагу в сознательной жизни человека. Ясно это было и мастерам немого кино. И они искали пути для прорыва ассоциаций, побуждаемых через различные органы чувств. Вспомним эйзенштейновскую оценку спектакля «Кабуки», который он называл «пророческим» для кинематографа: «Расчет (каждого отдельного „куска") на конечную сумму раздражений головного мозга, не считаясь с тем, по которому из путей он идет...»24
Уроки литературы в этом смысле были наиболее плодотворными. Почти хрестоматийный для профессионального киноведения пример – «Война и мир» Льва Толстого, казнь приговоренных военным судом к расстрелу. «Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер сколько ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел»25.
Итак, Пьер ничего не услышал. Но ведь он должен был – по бытовой, а не по художественной логике – услышать и команду офицера (она обозначена Толстым), и грохот ружей. Но не слышал ни малейшего звука - столь сильно было его потрясение от увиденного.
И противоположный пример (его первым привел Э. Линдгрен) -Диккенс, «Холодный дом», Эстер Саммерсон посещает дом миссис Джеллиби: «Поднимаясь наверх, мы прошли мимо нескольких других детей, на которых трудно было не натолкнуться в темноте, а когда предстали перед миссис Джеллиби, один из этих бедных малышей с громким криком полетел кувырком вниз по лестнице и (как я заключила по шуму) прокатился целый марш... Голова ее дорогого отпрыска отмечала свое движение по лестнице, стукаясь о каждую ступеньку, – Ричард говорил впоследствии, что насчитал их семь, да еще площадку, – и нас миссис Джеллиби встретила совершенно невозмутимо»26. Диккенс подчеркивает, что лицо «миссис Джеллиби не отражало и малой доли беспокойства », а между тем состояние ее гостей определялось как раз не лицезрением спокойствия хозяйки, а воплями упавшего (хотя и невидимого им) ребенка.
Уроки литературного приема ассоциативного отражения действительности через иное физическое чувство нетрудно множить, но для нашей темы важен принцип, успешно заимствованный кинематографом.
Молчащим кинематографом! То есть лишенным возможности дать физическое ощущение какого-либо чувства, кроме зрения. (Когда появится звук, то многие мастера не примут его вовсе не потому, что он будет «лишним», а из-за того, что примитивная натуралистическая манера «стопроцентно разговорного кино», все объясняющего словами и не обеспокоенного отбором шумовых реалий, войдет в противоречие с их стремлением к психологически усложненной ассоциации зрителя, которая и базировалась на этом отборе.)
При этом кинематограф чаще опирался на ассоциативные впечатления повествовательно-пояснительного свойства, рожденные музыкой, а не на текст, который мог быть «написан» на экране. Использование слова в качестве пояснения считалось, мягко говоря, непрофессионализмом.
«Музыка, прекрасная музыка всегда будет голосом немой драмы, – пишет Гриффит. – Музыка, как я себе представляю, и через сто лет будет применяться для визуальной амплификации человеческого воображения. А так как в нашем воображении эти невидимые голоса всегда совершенны и мелодичны или же властны и волнующи, то они запечатлятся в уме кинозрителя в виде прекрасной музыки именно так, как этого хотел автор»27.
Ему вторит С. Эйзенштейн: «Функцию обобщенного образа по отношению к изображаемому явлению должна играть музыка»28.
Выражает ли эта позиция противостояние слова-титра и музыки, отрицательное отношение к надписям на экране, к их праву на отклик у фантазии публики?
В определенной мере выражает. В принципе к началу 20-х годов негативное отношение к слову, написанному на экране, было достаточно распространено как реакция на обилие фильмов, в которых реализовался постулат о чисто служебном назначении титра: «Надписи по своему смыслу необходимы, как средство для ориентировки зрителя во времени, месте, причине, качестве, степени и цели драматического действия». И далее: «Надписи есть средство экономного ведения драматического действия, способ наиболее легкой и краткой мотивировки действия в целом и поступков отдельных действующих лиц» (Ип. Соколов)29.
В этой на первый взгляд невинной рекомендации на самом деле таится весьма опасная для кинематографа идея эстетического упрощения пластических решений режиссуры кино, актерской практики, монтажа, операторского искусства, работы художников. Если титр – «наиболее легкий и краткий способ» мотивации, то возникает вопрос, а стоит ли актеру мучиться над постижением характера персонажа, сценаристу – над логикой сюжета, режиссеру и оператору – над воссозданием атмосферы действия... Все их творческие поиски можно заменить, «врезав титр».
И врезали, не слишком заботясь о художественных проблемах. Фильм порой содержал по 200-220 надписей, и занимали они более 25 процентов общего метража. Какое уж тут пластически интонационное решение!
Кино стало массовым искусством, а киноделателей всегда было больше, чем кинотворцов. Гриффитов, Фордов и Протазановых на всех продюсеров не напасешься. Оценивая массовую продукцию, мастера кино не могли не видеть, как «девять десятых» их коллег «занимаются только кинематографической связью отдельных надписей и тем самым совершенно уничтожают весь смысл своей работы»30. Переизбыток титров, по мнению автора цитируемого высказывания, есть не что иное, как кастрация кинематографического мышления. Так считал В. Пудовкин.
Вопрос о функциональных особенностях и эстетике надписей в немом кино многослоен и многосложен и выходит за рамки нашего исследования. Мы рассматриваем его лишь в одном аспекте: в каких условиях и каким образом титры способны вызвать у зрителя ощущение их звуковой реализации. И тут мы неизбежно встречаемся с очередным из парадоксов, которые и есть собственно вехи развития любого искусства.
Нет на первый взгляд никаких сомнений в справедливости В. Пудовкина. Но как быть в этом случае, например, с «Парижанкой» Чаплина (1923 года выпуска, расцвет немого кино, выработаны критерии творческих и психологических взаимоотношений с аудиторией, различные стили и т. д. и т. п.), где 220 титров, не считая вступительного текста, имен создателей картины, актеров, названия прокатной фирмы.
Чаплина не обвинишь в недооценке экранной пластики. Значит, есть нужда в надписях – в словах, хотя и не звучащих. Позднее автор скажет о «Парижанке»: «немой фильм с надписями – это гибрид»31, и выразит надежду, что такая форма дает некую гарантию сохранения выразительности, силы и очарования кинематографа. Пудовкин с Чаплиным, конечно, могут разойтись во взглядах. Но тут ведь не сходятся закономерности, а это уже требует анализа.
Проследим, однако, как распределяются надписи в «Парижанке» и по количеству, и по содержанию: I часть – 30 титров; II – 31; III – 31; IV – 30; V – 37; VI – 24; VII – 6; VIII часть – 31 надпись.
Уменьшение числа надписей к завершающим, кульминационным сценам, очевидно, должно свидетельствовать, что зритель привык к героям, втянулся в обстоятельства сюжета и пояснений не требует. Отбрасывать эту точку зрения полностью нерационально. Но дело не столько в изменяющемся количестве, сколько в меняющемся содержании и экспрессии надписей. Начинает Чаплин с философического, абстрагированного от сюжета вступления. Эта надпись медленно плывет по экрану, задавая ритм всему повествованию: «Человечество состоит не из героев и злодеев, а из обыкновенных мужчин и женщин, и все их страсти, как хорошие, так и дурные, дарованы им природой. Они грешат только из-за своей слепоты. Невежда осудит их ошибки, мудрец окажет снисхождение».
Неторопливость библейской сентенции продолжат титры, в которых интонация автора заявлена совершенно недвусмысленно:
«Мари Сен-Клер, игрушка судьбы, жертва окружающей среды и несчастливой домашней жизни».
«Полночь... строя планы о своем будущем, они возвращаются домой».
Между этими сентиментальными репликами автора с экрана (которые, между прочим, вполне складываются в самостоятельный рассказ экспрессионистского толка) с пулеметной скоростью проскакивают «деловые» – служебные надписи, но и они не дублируют действие, а объясняют ситуацию: «Я заперта»; «Он запер мое окно»; «Не буди ее»; «Я не знаю, что делать»; «Скорее... доктора!»
И снова повествовательное: «Год спустя. Париж – магическая столица, где счастье непостоянно и где ставкой женщины бывает жизнь ».
При внимательном рассмотрении нетрудно убедиться, что в первых частях «Парижанки» титры-надписи выполняют не столько информационную, сколько интонационную задачу. По сюжету многие надписи вроде бы и не обязательны. Но они нужны Чаплину, так как, соединяясь вместе, усиливают эмоциональную окраску действия. Слово изначально используется здесь в многообразии возможностей его прочтения (зависящего от индивидуального восприятия каждого зрителя).
К середине фильма надписи еще больше приобретают не поясняющий, а эмоционально контрапунктирующий иронический характер.
...Фифи говорит по телефону. Мужчина целует ее в шею, в обнаженную спину. Сосед по столику тоже пытается ее обнять.
Надпись: «Небольшое тихое общество». Девицы, усевшись верхом на мужчин, колотят друг друга подушками. Надпись: «Приличные люди». В мастерской художника начинается стриптиз...
Затем надписи снова складываются в трогательный, но уже лишенный всякой авторской иронии рассказ, ибо речь идет о смерти, о настоящей беде и о робких надеждах людей на счастье. Точнее, это уже диалог изображения и титров, в которых соблюдены нормы драматургического противостояния слов, т. е. смысловая нагрузка каждой надписи и каждого кадра по сравнению с обычной речью и повествовательной манерой экранной пластики значительно увеличена, как увеличивается нагрузка на каждое слово в сценическом диалоге персонажей. Реплики точны, действенны, и это скорее традиционная драматическая форма театрального общения, а не комментарий к эпизоду в кино. Попробуем соединить надписи-реплики персонажей одной только сцены – разрыв Мари с богатым любовником. И вот что получается:
Пьер. К чему весь этот темперамент? Что все это значит?
Мари. Это значит, что мы должны расстаться.
Пьер. Кто этот молодой художник?
Мари. Не важно, кто он... Он любит меня и хочет на мне жениться.
Пьер. Ты любишь его?
(Пауза. Так в действии на экране. Герои застыли, смотрят друг на друга.)
Любишь?
Мари. Я люблю его.
Пьер. Увидимся завтра вечером перед ужином.
Мари. Этого никогда больше не будет.
Пьер. Почему бы тебе иногда не звонить мне.
(Уходит.)
Все экранное действие в этом эпизоде ограничено двумя физическими действиями героев: она надевает туфли, а он цилиндр. А между тем внутренний ритм сцены заставляет зрителя «вслушиваться» в экран, в интонации возникающих на нем слов, передающих настроение героев.
По мере того как мелодраматическая история двух провинциалов, не ужившихся в столице, движется к финалу (Жан стреляется, Мари отправляется в деревню воспитывать сирот), Чаплин-рассказчик вновь берет внимание на себя иронически-назидательными надписями:
«Слепая жажда возмездия, которая часто имеет печальные следствия ».
«Время – великий врачеватель, а служение другим людям открывает путь к счастью».
Диалогов уже нет (оттого и надписей много меньше).
И наконец, последний титр фильма, демонстративно некинематографически пространный, с обилием вводных слов:
«Кстати, что же, собственно, сталось с Мари Сен-Клер?»
Проанализировав титры «Парижанки» не как разъясняющий комментарий, уложенный в размер киноэкрана, а как неотъемлемый компонент сюжета, приходишь к выводу, который возвращает нас к идее заимствования кинематографом опыта и навыков литературы. Собранные вместе титры «Парижанки » представляют собой весьма распространенный тип театральной пьесы, в которой один из главных персонажей – «лицо от автора». Такая форма литературного произведения бытовала на драматических сценах и в виде инсценировки (вспомним хотя бы «Воскресение» в Художественном театре) и как оригинальные сочинения. Причем чаще всего это были именно мелодрамы. (Известно множество попыток, в том числе и успешных, постановки драматических спектаклей на основе киносценариев Чаплина. Лидирует среди них «Парижанка». Вряд ли этот факт следует считать случайностью.)
Придавая титрам «Парижанки» эмоциональную наполненность драматургии, стремясь сблизить кинематографическую форму употребления авторского слова с традиционно литературной, Чаплин рассчитывал, безусловно, на способность человеческой фантазии к образному восприятию этого слова. Таким способом он помогал аудитории кинозала услышать слова, написанные на экране.
Принципы, реализованные в «Парижанке», к моменту выхода фильма уже получили распространение в кинематографе: эмоциональная тональность титров была ярким признаком вмешательства литературного (авторского) начала. Преобладало столкновение эпических и иронических характеристик. Вспомним начальные кадры «Блуждающих звезд» И. Бабеля и Г. Гричер-Чериковера:
...Спальня местечкового богача Раткевича. Он спит со своей старухой женой на огромной кровати.
Титр: «И потомство твое, о Израиль, будет многочисленнее, чем песок на берегу моря».
Детская в доме Раткевича. «Множество детей всех возрастов и цветов. Множество кроватей самых разнообразных фасонов».
В фэксовской «Шинели» (Ю. Тынянов, Г. Козинцев, Л. Трауберг) бешеный разгул странных личностей с эксцентрическими движениями и «красоток» недвусмысленного пошиба сопровождает надпись: «Цвет образованности собирался ночью в нумерах». (Парафраз «Парижанки», конечно, не заимствование, а выражение общей тенденции.)
Вырываясь из тисков немоты, неговорящий кинематограф искал интонационное многообразие слова-титра и получал выразительный вариант, когда находил надписи точное место в пластическом и психологическом контексте.
Теоретической базой для такого поиска многим мастерам служила концепция неразрывной связи звука и смысла в слове, разработанная лингвистом А. Потебней. Эйзенштейн, размышляя о понятии нормальной киноречи (в немом фильме), обращался как раз к выводам этого ученого, сформулированным в результате тщательного изучения национального общесловарного запаса и его использования в различных литературных направлениях и стилях: «Оба состояния слова, образность и безобразность, равно естественны... Независимо от слов первообразных и производных, всякое слово, как звуковой знак значения, основано на сочетании звука и значения по одновременности или последовательности»32.
Из этого следует, что любое слово-титр способно оказывать экспрессивно-звуковое воздействие на зрителя, вне зависимости контрапунктно оно изображению или неразрывно (legato) сливается с ним. Дело в том, выходит ли оно на уровень образного обобщения ситуации, которую характеризует.
Так в «Броненосце „Потемкин“ возникает надпись-вскрик «Вдруг», «обрывающая сцену братания, чтобы перебросить ее в сцену расстрела » (Эйзенштейн). Происходит переосмысление показанных на экране сцен. В том же фильме есть момент, когда замена бытового обращения «Братишки» или «Братва» на почти библейское «Братья!» (расстрел Вакулинчука и других матросов) фиксирует момент наивысшего нервного напряжения, неизбежность перехода от оцепенения к взрыву.
Аналогично использование слова-титра в фильмах Д. Вертова и других «киноков». Почти вся первая часть «Шестой части мира» построена на слове «Вижу». Как заметил Ю. Кузнецов, «правильнее было бы сказать: через всю первую часть проходит тема, обобщенная (курсив мой. – А. Ш.) авторским „Вижу“»33. Сами «киноки» характеризовали свои опыты с титрами, как поиск средств их ассоциативно-мысленного звукового воплощения: В «Шестой части мира» появляется надпись «Вижу». Она обычно требует от 1/4 до 1/2 метра. Занимая кое-где длительность от 1/2 метра до 2 метров, она усиливает свое воздействие, как бы вкладываясь в уста самому зрителю, говорящему про себя «Вижу»34.
Поиски образной структуры надписи, слова-символа, способного компенсировать отсутствие живой человеческой речи и воссоздавать эмоциональный фон действия и кульминационные звуковые акценты в воображении зрителя, стимулировали в фильмах Д. Вертова рождение интересных технологических приемов, заставляющих титр «зазвучать». Резко – взрывом! – изменялись размеры надписи (любимый прием «киноков»), ее членили на строки, слоги, отдельные буквы. Растягивали на несколько планов.
Нетрудно увидеть в этой стилистике кинотитров параллель литературной манере прозаиков, выделяющих с помощью шрифтов ключевое слово фразы, чтобы акцентировать внимание читателя. Назовем здесь «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «Для пользы дела» А.И. Солженицына, эссеистику В.В. Розанова, последние романы О.В. Трифонова «Нетерпение» и «Время и место», детективные повести Юлиана Семенова, романы Дос Пассоса и многих их современных коллег.
Надпись в кино стремится стать видом литературы и обретает ее качества, либо поднимаясь до афористичности театральной реплики и юмористической репризы, либо вызывая в восприятии зрителя яркий интонационный всплеск, олицетворяющий философское обобщение или эмоциональный контекст действия на экране.
В статье «Надписи в кино», опубликованной «Киногазетой» в 1924 году, ее автор И. Шпиковский предлагает исчерпывающую, на его взгляд, типологию титров в немом фильме: истолковательные, подготовляющие, усилительные («а в это время»), интригующие ( «в которой автор сценария или монтажер может дать какую-нибудь остроумную фразу, усиливающую впечатление от сцены»), сопоставляющие (такова надпись «бойня» в картине «Стачка») и другие35.
По мнению исследователя, функция определяет экспрессивный или нейтральный характер надписи. Спустя пятьдесят лет эту идею в принципе поддержал и развил И. Кузнецов в интересной уже цитированной нами работе об «авторских» надписях в советском немом кинематографе.
Важность функционального критерия такого компонента киноязыка, как титр, бесспорна. Однако дифференциация надписей прежде всего по функциональному признаку ведет к неизбежному утверждению их подчиненности изображению, тогда как, по нашему мнению, практика многих мастеров дает право вести речь об органическом синтезе и равноправии элементов немого кино – кадра и титра, пластики и слова на экране. Непременное условие этого равноправия – способность «немого слова» вызывать звуковые и прочие ассоциации у зрителя, подобно тому, как будит нашу фантазию слово печатное.
Попытки реализации звуковых реалий в той или иной экранной ситуации, возникающей по ходу сюжета, были опосредованны в большинстве случаев – по отношению к реальности. Но мы так подробно остановились на этих опытах тогда еще кинематографа, лишенного синхронного звука на экране, потому что в этих экспериментах и в этих попытках вызвать у аудитории ассоциативное ощущение того или иного звука или даже слова отрабатывалась не только кинематографическая эстетика, но и закономерности взаимоотношения пластического образа с его возможным звуковым эквивалентом. Это было важно для кино. Но еще более важно для рождающегося звукового искусства – для радио, для разнообразных форм звукозаписи, для развития эстрадной музыкальной исполнительской культуры.
Опыты немого кинематографа со звуком стали невольным, непланируемым художественным результатом в поиске путей художественного, образного обращения к аудитории. И в этом смысле эти эксперименты оказались не только самоценными и эстетически значительными, но и поучительными для разнообразных путей развития аудиокультуры.
Примечания
1 Казарян Р. О мнимой самостоятельности изображения // Киноведческие записки. М., 1988. Вып. 1. С. 81.
2 Эйзенштейн С.М. Избр. произведения в 6 т. М., 1964-1971. Т. 2. С. 46.
3 Вен. Вишневский в своем фильмографическом описании художественных кинокартин в дореволюционной России высказывает мысль, что эта лента вообще была снята в качестве кинопробы артиста – «для его ориентировки в специфике кино». (Вишневский Вен. Художественные фильмы дореволюционной России. М., 1945. С. 291.)
4 Мейерхольд Вс. Объяснение к картине «Портрет Дориана Грея» // ЦГАЛИ СССР. Ф. 2057. Т. 1. Д. 266. Л. 12 об. – 26. Рукопись.
5 Эйзенштейн С.М. Диккенс, Гриффит и мы // Гриффит. М., 1944. С. 82.
6 Тынянов Ю.Н. Поэтика: История литературы. Кино. М., 1977. С. 321.
7 Киноведческие записки. Вып. 1. С. 74.
8 Кракауэр 3. Природа фильма. М., 1974. С. 187.
? Аисса 3. Эстетика киномузыки. М., 1970. С. 33.
10 Аиндгрен Э. Искусство кино: Введение в киноведение. М., 1965. С. 143.
11 Eisler Н. Composing for the films. N.Y., 1947. P. 69.
12 Aucca 3. Указ. соч. С. 24.
13 Шостакович Ą. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран, 1929, № 11. С. 5.
14 Cahiera du cinema, 1952, № 17. P. 60.
15 Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. Т. 3. С. 251.
16 Мартен М. Язык кино. М., 1959. С. 124.
17 Там же. С. 125.
18 Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. Т. 3. С. 251.
19 Там же. Т. 2. С. 316.
20 Гриффит Ą. Применение звука – естественный этап развития // Гриффит. М., 1944. С. 121.
21 Эйзенштейн С.М. Цвет чистый, яркий, звонкий // Лит. газ. 1960. 9 июля.
22 Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 2. С. 11.
23 Там же. С. 11-12.
24 Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. Т. 2. С. 45.
25 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. М., 1963. Т. 7. С. 51.
26 Диккенс Ч. Холодный дом. М., 1955. С. 57-58.
27 Гриффит Ą. Кино через 100 лет // Гриффит. М., 1944. С. 117.
28 Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. Т. 2. С. 463.
25 Анощенко Н. Общий курс кинематографии. М., 1930. Т. 3. С. 550.
30 Пудовкин В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 1. С. 50.
31 Чаплин Ч. Будущее немого кино // Чаплин. М., 1945. С. 190.
32 Потебня А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 203.
33 Кузнецов Ю. Надпись «от автора» в советском кинематографе немого периода// Вопросы истории и теории кино. Л., 1973. Вып. 1. С. 115-116.
34 Надпись и ее развитие у киноков // Советский экран, 1929, № 7. С. 12.
35 Киногазета. 1924. 27 мая. № 22/38.
Глава 3 Радио и становление советского мифа
Радио тоталитарного государства (1928-1941)
1928 год по праву можно считать переломным в истории радио, обозначившим начало нового периода в развитии массового вещания.
В июле 1928 года Совет Труда и Обороны принял постановление «О реорганизации радиовещания», которым акционерное общество «Радиопередача» было ликвидировано, а организацию и управление всем делом радиовещания на территории СССР возложены на Народный комиссариат почт и телеграфов (Наркомпочтель). В структуре наркомата было образовано специальное радиоуправление, которое в 1931 году стало называться «Всесоюзный комитет по радиовещанию (ВКР) при Наркомпочтеле СССР», а с 1932 года в связи с реорганизацией Наркомпочтеля – «ВКР при Наркомате связи СССР».
И наконец, в 1933 году был образован самостоятельный общесоюзный орган управления – Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию (ВРР) при Совете Народных Комиссаров СССР. Вот эту управленческую структуру обычно и называли «Радиокомитет». Все вопросы развития радио постепенно были взяты под эгиду государственной власти. Становилось реальностью составление единого плана радиофикации страны, менялась система руководства и организации подготовки программ. Смысл этих перемен журнал «Радиослушатель», начавший выходить в 1928 году, обозначил в статье «На новом пути» как переход «к наиболее интересной, живой и разнообразной форме пропаганды... чтобы она отвечала насущным запросам широкой массы рабочих и крестьян. Это значит – изыскать и применить новые формы общественно-политического, культурного и художественного радиовещания (рабоче-крестьянский университет по радио, радиотеатр и т. д.) ».
Еще 17 октября 1928 года ЦК ВКП(б) направил в адрес местных партийных организаций циркулярное письмо, в котором потребовал усилить внимание к проблемам радио, так как, указывалось в письме, его роль «значительно увеличивается не только в области техники, но и в области политической».
1928 год обозначен коренными изменениями в техническом и правовом развитии системы массового вещания. 23 октября правительство принимает постановление «Об очередных задачах радиофикации Союза ССР», наметившее большую программу радиостроительства в центре и на местах. В этом же году вступает в строй мощная радиостанция ВЦСПС, переоборудуется радиостанция «Большой Коминтерн», в Ленинграде открывается студия ленинградского радиовещательного узла. В Москве происходит освоение ряда радиовещательных Студий в здании Центрального телеграфа; в течение всего года впервые происходит практическая реализация постановления ЦИК и СНК СССР, предоставляющего радиоорганизациям право устанавливать микрофоны в театральных, концертных и лекционных залах без особой платы за трансляцию.
С 1 ноября 1928 года вводится типовая недельная сетка вещания, зафиксировавшая дифференциацию вещания в зависимости от классовой и возрастной принадлежности разных групп слушателей.
1928 год ознаменовал определенные перемены также в конкретном содержании радиопрограмм и в развитии их форм.
После первой радиопереклички городов 7 ноября 1928 года (Москва – Ленинград – Минск – Баку – Тбилиси) широкое распространение получают радиопереклички соревнующихся районов, городов, заводов. Как показывают исследования, «начиная с 1928 года неуклонно растет удельный вес радиорепортажа», меняется характер комментированных трансляций – из залов съездов, конференций, собраний микрофон перемещается на стройки, заводы и в рабочие клубы, дополняя эфир «трансляциями жизни». Наконец, в 1928 году серьезным изменениям подвергаются программы радиотеатра – появляется цикл радиоспектаклей, в которых уже в комплексе используются выразительные средства радио.
Таким образом, налицо не просто ряд разнородных событий, но система явлений, характеризующих важные изменения, происшедшие во всех аспектах организации и практики вещания – социально-правовом, техническом, организационном, программном и т. п.
Однако все приведенные факты – лишь внешнее выражение тех главных изменений в деятельности радио, которые открытым текстом никак не декларировались. Политические перемены в стране, утверждение режима абсолютной власти И.В. Сталина подразумевали не только запредельную концентрацию законодательных и исполнительных функций в руках диктатора и его ближайших сподвижников, но и практическое утверждение карательного метода как основной формы организации масс. Вполне естественно, что потребовался жесточайший контроль за деятельностью всех средств массовой информации, в том числе и радио. Если контроль за прессой был налажен давно, то в силу чисто субъективных причин Сталин поначалу всерьез радио не воспринимал – этот канал массовой коммуникации контролировался значительно слабее. Теперь пришло время заняться и им.
Впрочем, следует вспомнить, что первые попытки идеологически и тематически ограничить возможности радиоканала были предприняты задолго до 1928 года. Еще в 1921 году (в эпоху пробных вещательных экспериментов и использования радиотелеграфа для передачи и тиражирования информации) появился документ -приказ по ГОСТА, где говорилось, что «за сознательно или несознательно (выделено нами. – Ред.) допущенные ошибки сотрудники, виновные в них, будут немедленно увольняться, а дела о них будут передаваться в ВЧК для привлечения их к ответственности».
В декабре 1925 года Радиокомиссия Агитпропа ЦК ВКП(б) принимает решение о «немедленном контроле радиовещания» со стороны органов Главлита и Политконтроля ГПУ и введении специальной инструкции, регламентирующей эту работу. «Главный комитет по делам печати в целях объединения всех родов цензуры, существующих в России (Главлит)» был учрежден Совнаркомом в 1922 году, а в феврале 1923 года появился «Репертком при Главлите», на который возлагался контроль за работой театра, музыкальных учреждений, кино и любых других зрелищных предприятий.
Все без исключения цензурные органы включали в себя представителей ЧК-ГПУ. 6 октября 1924 года зампред СНК Л.Б. Каменев подписал документ о типовом составе любого Комитета по контролю за репертуаром. Он должен был состоять из трех человек – два назначались Наркомпросом (от Главлита и Главполитпросвета), а третий – ГПУ. Карательное ведомство получило по статусу право первого и решающего голоса при обсуждении любых цензурных вопросов. Пункт 6 этого же постановления гласил: «Наблюдение за проведением в жизнь постановлений Комитета возлагается на органы ГПУ ».
Дошел черед и до радио. Акционерное общество «Радиопередача» практически игнорировало цензурные рекомендации ЦК ВКП(б), полученные в декабре 1925 года. Наркомпрос устраивает несколько обсуждений радиовещания. В частности, 30 ноября 1926 года Н.К. Крупская докладывает на коллегии Наркомпроса проект «Об установлении контроля над вечерами развлечений, передаваемыми по радио» с категорическим указанием: «Часто то, что может быть допущено к исполнению в других местах, должно быть запрещено к передаче по радио».
А 10 января 1927 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О руководстве радиовещанием», где в пункте 2 сказано: «Установить обязательный и предварительный просмотр парткомитетами планов и программ всех радиопередач»; пункт 4 вообще звучит как военная директива: «Принять меры к обеспечению охраны микрофонов, с тем чтобы всякая передача по радио происходила только с ведома и согласия ответственного руководителя» (это кроме обычной цензуры). Еще через год акционерное общество «Радиопередача» было ликвидировано. К этому времени Сталин лично занялся стратегией массового вещания.
База для страха была заложена. Рамки нашей темы не позволяют остановиться на том, как этот страх последовательно и настойчиво внедрялся в сознание работников радиовещания всех профессий и степеней. Отметим лишь, что в описываемый нами период идеологический контроль касался главным образом содержания программ и практически не распространялся на область формальных поисков выразительности. Не стоит забывать и еще одно важное обстоятельство: в начале исследуемого периода, в самой активной его фазе – 1928-1932 годах, еще не проявляли себя в полной мере те закономерности, которые стали очевидны после известного постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Поиск интересных форм вещания пока еще поощрялся.
Выпуски новостей передавались по радио четыре раза в день: утром – оперативная информация из газет, в полдень – новости дня, вечером – подборки сообщений в «Рабочей радиогазете», поздно вечером – хроника дня и наиболее интересные факты из завтрашних газет. По воскресеньям радио давало краткий политический обзор событий за неделю.
По радио шли также своеобразные радиохроники, которые знакомили с работой отдельных предприятий, учреждений, описывали примечательные места. Это были первые зарисовки, которые трудно назвать репортажами с места события. Но требованиям жанра зарисовки они отвечали вполне. От обычной информации их отличала большая изобразительность в изложении новостей, от репортажа – отсутствие свободного и документально трактованного изложения факта в момент его свершения.
Возникновение радиорепортажа в 1928 году связано с появлением в информационных программах, особенно в так называемых «трансляциях из жизни», фигуры журналиста, комментирующего события. Передача по радио интересных и значительных явлений и событий требовала пояснений, индивидуальной окраски в оценке фактов, убедительной интонации. Роль такого журналиста была особенно значительной в «актуальных передачах», где было важно подметить тонкие детали, внести элемент живого и непосредственного рассказа.
В начале 30-х годов в составе радиокомитета организуется редакция «Актуальная передача», позднее реорганизованная в редакцию «Последние известия». На нее была возложена обязанность поддерживать высокий уровень агитационно-пропагандистской обработки населения.
Сектор внестудийных передач, организованный в это время также в структуре ВРК, обеспечивал наиболее сенсационные репортажи для выпуска «Последних известий »: из Арктики – о ходе операции по спасению челюскинцев (группы полярников, оказавшихся на льдине после катастрофы ледокола «Челюскин»), из-под земли – о строительстве метро.
Начиная с 1930 года в СССР проводились опыты звукозаписи оптическим способом. Отныне в эфир шли не только прямые, но и записанные на кинопленку передачи. Сейчас трудно даже представить, что до этого года ту или иную передачу можно было услышать только один раз, а «звуковой сокровищницы» и вовсе не было (если не считать грампластинок). Но вот в августе 1931 года на улицах Москвы появились афиши, возвещавшие о том, что впервые в нашей стране будет звучать документальный радиофильм «Реконструкция железнодорожного транспорта».
Радиофильм – это форма, рожденная новыми техническими возможностями радио. Между радиофильмами конца 20-х и начала 30-х годов есть не только много общего, но и принципиальные различия. Радиофильмы 20-х годов, подготовленные ленинградскими журналистами, внутренне тяготели к радиотеатру, к художественному раскрытию действительности. Каждый из них – это лента звуковых кадров; акустическая палитра еще очень бедна, она ограничена звукоимитацией, закрепить удачное звучание на пленке пока нет возможности. Радиофильм строится по законам сюжетно-игровой драматургии.
Иное дело – радиофильм «Реконструкция железнодорожного транспорта», переданный московским радио 30 августа 1931 года (режиссер B.C. Гейман, один из старейших режиссеров советского радио). Запись фрагментов для радиофильма проводилась во время Всесоюзного съезда железнодорожников в столице и на местах. Этот хроникальный материал, фиксированный на пленку, был использован в качестве документа. Естественно, разработка общего строения радиофильма осуществлялась не по законам игровой драматургии, но с использованием таких выразительных средств, как монтаж, контрастные сопоставления, смена ритмов и т. д.
Вместе с тем надо отметить, что между игровым и документальным радиофильмом много общего. Звукозапись способствовала зарождению не только документальной журналистики (особенно такого жанра, как радиоочерк), но и документально-игровой радиодраматургии.
В 1928 году был создан Рабоче-крестьянский университет по радио. Сначала он состоял из трех факультетов (общеобразовательного, антирелигиозного и кооперативного), а затем возникло еще два – педагогический и сельскохозяйственный. В 1929 году радиоуниверситетов насчитывалось уже значительно больше – рабочий, крестьянский, коммунистический (для партийного актива), комсомольский. По радио систематически передавались уроки иностранных языков.
Десятки миллионов людей стремились с помощью радио овладеть достижениями науки, техники и культуры. Но следовало учитывать, что жили они в разных производственных и бытовых условиях и имели разный уровень подготовки. Поэтому массовость общеобразовательной работы по радио сочеталась с дифференцированным учетом требований аудитории.
Занятия первого радиоуниверситета по программе, рассчитанной на год, начались 15 октября 1928 года. Рабочий радиоуниверситет давал определенные знания по русскому языку, математике и обществоведению, знания и умения по административно-хозяйственному делу, сведения по профессиональному движению и профессиональной работе. Каждый слушатель, выполнивший контрольные и зачетные задания, получал удостоверение об окончании университета. Для проведения занятий в университетах по радио были привлечены лучшие силы страны – крупные ученые и педагоги.
Особой разновидностью художественного вещания стали литературные программы. В их подготовке принимали участие писатели, которые читали по радио свои новые произведения. Кроме того, радио давало в эфир передачи, посвященные творчеству того или иного писателя, а также обзоры журналов, выходивших в нашей стране.
Большую помощь вещанию оказали В.В. Маяковский, А.М. Горький, А.С. Серафимович, М.Е. Кольцов, А.Н. Афиногенов, В.М. Гусев и мн. другие. Писатели К.Я. Финн и А.П. Гайдар являлись штатными сотрудниками редакций радио. В 1931-1932 годах одним из руководителей художественного вещания был поэт Арсений Тарковский.
В этот период проводились опыты по созданию драматических произведений для радио. В журналах 30-х годов одной из первых советских радиопьес, раскрывших новые возможности радиодраматургии, называют инсценировку Виктора Вармужа «Завод». Это произведение было написано по мотивам романа французского писателя К. Лемонье «Костоломка» (Московский радиотеатр, 1930, режиссер Н.О. Волконский). Спектакль рассказывал об изнурительном труде на фабрике, о массовом протесте рабочих против невыносимых условий труда и жизни. Автор написал несколько контрастных сцен, имеющих различную эмоциональную окрашенность: эпизоды безысходного горя, отчаяния, картину похоронной процессии, панораму забастовки. Все эти эпизоды давались в музыкальном оформлении (композитор В.Н. Крюков). Радиоспектакль показал, что музыка может быть не только иллюстрацией, она способна также играть драматургическую роль.
В общем объеме художественных программ музыкальное вещание занимало три четверти всего эфирного времени.
Постепенно на радио складываются свои художественные коллективы, в частности хоровой коллектив Центрального радио под руководством А.В. Свешникова (1928), Большой симфонический оркестр (1930). Формы музыкального просвещения остались прежними: в эфир шли цикловые, комплексные, этнографические передачи, развлекательные концерты; однако значительно расширились его тематика и диапазон, более глубокими стали сами задачи эстетической пропаганды.
18 февраля 1929 года состоялось первое заседание специального художественного совета по проблемам пропаганды музыки при Московском радиоцентре. В его работе приняли участие видные музыкальные деятели: Н.А. Гарбузов, М.М. Ипполитов-Иванов, В.П. Степанов, В.Н. Чайванов.
Огромное значение для художественного просвещения населения имели программы, подготовленные в 1935-1937 годах в связи со 100-летием со дня смерти А.С. Пушкина. Этот юбилей дал возможность реализовать у микрофона глубочайший художественный потенциал литературной, музыкальной и театральной России, объединив его с эстетическими достижениями национальных культур народов, объединенных под флагом СССР. В юбилейных пушкинских программах продемонстрировали свое искусство ведущие художественные коллективы страны, знаменитые актеры и режиссеры. В студиях Всесоюзного радио работали Вс.Э. Мейерхольд и А.Я. Таиров, мастера Московского Художественного театра и звезды вахтанговской труппы – А.Д. Дикий, С.М. Михоэлс, Ю.А. Завадский, Б.В. Щукин, А.Д. Попов и др.
Пушкинский юбилей способствовал развитию жанра «постановочного чтения », сочетающего в себе характерные особенности театра и эстрады. Этот жанр позволял интерпретировать прозу, максимально сохраняя авторские размышления, и в то же время давал возможность актерам глубоко исследовать характеры персонажей, перевоплощаться в соответствии с требованиями психологической драмы.
Звездами радио, работавшими в области литературных чтений, стали В.И. Качалов, И.В. Ильинский, Д.Н. Журавлев, В.И. Яхонтов, Д.Н. Орлов, О.Н. Абдулов, М.И. Бабанова, А.Г. Коонен.
Начало 30-х годов – интереснейший старт детского вещания, в котором сразу же определились три направления: информационно-воспитательные программы о жизни пионеров и школьников -«Пионерская зорька» (под названием «Утренняя зорька» выходила с 1 октября 1934 года); просветительские программы, которые, как правило, в игровой форме несли детской аудитории разнообразную информацию по научным дисциплинам; и радиотеатр, в основе которого были инсценировки отечественной и мировой классики, а также пьесы современных авторов, написанные специально для радио. В качестве режиссеров детского радиотеатра в это время дебютировали выдающиеся мастера радиоискусства О.Н. Абдулов и P.M. Иоффе.
Выявление специфики радиовещания, особенностей звучащей журналистики, эстетической природы радиоискусства происходило в острой полемике, в борьбе представлений и идей. Обсуждение этих проблем велось на страницах специальных журналов, таких, как «Говорит СССР», «Говорит Москва», «Митинг миллионов» и многих других. Любое совещание или конференция показывали, что существуют разные (а иногда и полярные) взгляды на специфику вещания.
Так, состоявшаяся в 1930 году конференция работников радиовещания выявила две основные точки зрения на задачи советского радио в связи с теми или иными представлениями о специфике радиожурналистики. Дискуссия разделила работников радиовещания на два лагеря. Одни (С.А. Бугославский, Р.Ю. Бершадский, О.С. Литовский и другие) утверждали, что радио нельзя считать самостоятельным видом искусства. Оно должно быть звуковым курьером, проводником искусства в массы. Поскольку радио – прежде всего техническое средство, его назначение – в доставке на дом произведений литературы, музыки, театра. Стало быть, важно отказаться от поисков оригинальных выразительных средств радиовещания. Сторонников таких взглядов называли «телефонистами» и «телефоновещателями».
Другие (Я.С. Зайцев, И.А. Залесский, Н.С. Жегулев и другие) -настаивали на создании «радиоискусства» как самостоятельного искусства. Радио, по их мнению, не должно пропагандировать художественные произведения. Они добивались создания оригинальных радиоспектаклей, радиоопер, призывали к поискам новых специфических выразительных средств. Приверженцев таких взглядов называли сторонниками «радиоискусства».
Как показала практика вещания, обе эти позиции были настолько полемически заострены, что в конце концов оказались неприемлемыми в качестве программы развития вещания. «Телефонисты», правильно подчеркивая остроту общественных функций радио, допускали серьезную принципиальную ошибку, поскольку вообще отрицали специфические особенности и возможности вещания. Сторонники «радиоискусства», отстаивая идею о специфичности радио, огрубляли этот тезис, суживая сферу художественного творчества на радио. Практика их деятельности привела к несомненным удачам, но в то же время издержки экспериментаторства, трюкачество заставили критиков и теоретиков того времени слово «радиоискусство» брать в кавычки.
В обсуждении специфики радиодраматургии как самостоятельной сферы художественного творчества интересные мысли высказали советские писатели, в те годы сотрудничавшие на радио, -П.Г. Антокольский, Б.Л. Пастернак, А.Н. Афиногенов, В.В. Иванов и многие другие. Так, П.Г. Антокольский писал об использовании документализма в игровой драматургии: «Совершенно ясно, что мы должны говорить не о приспособлении существующего материала к условиям радио, а о новом искусстве. Чем раньше это будет принято, тем больше ошибок мы избежим. Кино только тогда нашло свой путь, когда оно перестало идти на поводу у театра и копировать его. Поэтому специфику «радиопьесы» следует искать не в ее сходстве с чем-либо бывшим до сих пор, а исключительно в несходстве».
Однако все бесспорные достижения мастеров отечественной радиожурналистики несли на себе отпечаток рабской зависимости от необходимости держать массового слушателя в состоянии восторга от его принадлежности к «самому передовому строю» и страха перед могуществом этого строя, а точнее – перед могуществом его карательных органов.
В начале 30-х годов Н.С. Хрущев, руководитель Московского обкома коммунистической партии, предупреждал радиожурналистов: «Микрофон – это большая сила. Сила и власть. Это средство влияет на людей очень активно. И пользоваться им надо активно, но с умом...»
Прозорливо звучали и предупреждения многих выдающихся деятелей науки и культуры. Академик Н.И. Вавилов писал: «Иногда дела у человека складываются так, что радио оказывается источником знаний и впечатлений, которые, если правдивы, – возвышают, делают лучше, богаче... А если оно лжет, то может и покалечить нравственно».
Ему вторил писатель и публицист Илья Эренбург: «Радио может быть всемогущим. А может – и очень часто – бессмысленно бездарным, из-за трусости и некомпетентности людей, готовящих передачи».
К сожалению, рассказывая о реальной жизни страны, радио в этот период истории часто говорило неправду или, по крайней мере, умалчивало о том, что происходило в действительности. Для радиожурналистики не существовало ни гигантских концентрационных лагерей, которые и составляли основную экономическую структуру государства, ни умирающих от голода миллионов крестьян, ни лжи партийных и государственных чиновников, ежедневно и ежечасно выдававших желаемое за действительное, провалы экономической жизни – за достижения и т. д.
Стремление радио приукрасить жизнь – даже если для этого надо было идти на чудовищную ложь – это стремление было неудержимым и порой, как это ни странно, приводило к нужным пропагандистским результатам. Приведем только два примера. 2 декабря 1930 года радио организовало двухчасовую документальную передачу со строительства Днепрогэса – крупнейшей тогда энергетической стройки в СССР. На разных участках Днепростроя – на плотине, в машинном зале, у входа в здание ГЭС, на площади, где проходили митинги, – было установлено 16 микрофонов и 11 усилителей. Во время передачи 25 раз производились переключения с одного микрофона на другой. Выступали самые разные люди: и малограмотные крестьяне, выполнявшие неквалифицированную работу, и иностранные инженеры, и московские писатели. Представлены были все социальные слои, собравшиеся на этой действительно великой стройке: ударники и прогульщики, «белые воротнички» и чернорабочие...
Возникало впечатление подлинного всенародного энтузиазма. Говорили о бессонных ночах, о трудностях и проблемах, об ударничестве и саботаже – словом, на первый взгляд о подлинной, реальной жизни гигантского строительства. А на самом деле все это было далеко от действительного положения вещей. Сценарий и все без исключения тексты были сочинены и завизированы еще в Москве, потом несколько дней проводились репетиции. Все участники передачи, в том числе и начальник строительства, лицо сугубо доверенное, подходили к микрофонам с проверенными цензурой текстами, и ни один из журналистов-комментаторов не позволил себе в течение ста минут эфира ни единой импровизации.
Так имитация достоверности, хорошо отрепетированный «документальный спектакль» был выдан за репортаж – самый достоверный жанр радиовещания.
4 марта 1931 года все радиостанции Советского Союза транслировали радиомитинг лесорубов Северного края. Один из современных исследователей вспоминает: «Поводом к организации этой передачи явилась кампания лжи и клеветы, поднятая зарубежной печатью о положении трудящихся в нашей стране, „о принудительном труде“, об „ужасах рабского труда“ на лесозаготовках в СССР. Передача велась из нескольких пунктов, отдаленных друг от друга сотнями километров. Микрофоны, установленные на делянках, позволяли лесорубам вести разговор прямо с рабочих мест. В радиомитинге приняли участие, кроме лесорубов, возчики, кухарки, иностранные рабочие, находившиеся на лесозаготовках. Микрофоны донесли до миллионов слушателей настроение участников митинга. На радио пришло много откликов, свидетельствующих о большой убедительности и эмоциональной силе этой формы вещания».
Идиллическая картина! Вот только автор почему-то не указал, из каких именно населенных пунктов Северного края шел этот жизнеутверждающий репортаж. А шел он организованный по тому же «днепрогэсовскому рецепту» – из концлагеря под Воркутой, как раз оттуда, откуда пришло в солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ » определение: «...звали лагерники три недели лесоповала -сухим расстрелом».
Характеризуя 30-е годы в истории отечественного радио, его историки чаще всего отмечают развитие опыта внестудийных программ в передачах с Уралмаша, со строительства Сталинградского тракторного завода, Магнитогорского комбината и многих других мест не менее успешного социалистического строительства, включая Беломоро-Балтийский канал. Но всюду этот прием «театральной» организации действительности был стержнем эфирного материала. Потому, разумеется, на Соловках арестанты представали давно раскаявшимися, переселенцы в Сальской степи (читай – чудом выжившие раскулаченные мужики из-под Орла и Курска) радовались целинным просторам, и ни словом не упоминалось о том, как они с малыми детьми зимовали в сорокаградусный мороз в шалашах; ну а в Комсомольске-на-Амуре вообще никаких зеков не наблюдалось...
И еще правомерно вспомнить об одном излюбленном приеме отечественной радиопропаганды 30-х годов. «Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой» – такой манок был выставлен народу, хотя героем можно было стать, только пройдя строгую мандатную комиссию. Но героев любили, им доверяли и потому их старательно «делали» всеми пропагандистскими средствами, включая радио, чтобы потом возложить уже на их плечи трудную миссию обмана и оболванивания рядового гражданина. Героям поручали выступления порой по самым неожиданным поводам. Одно из последних выступлений знаменитого летчика В.И. Чкалова у микрофона Всесоюзного радио было посвящено... осуждению Вс. Мейерхольда и его театра (текст этого радиодоноса был напечатан в «Известиях»). Почему на Чкалова возложили обязанности театрального критика? Наверное, никто и никогда не даст на это ответ, но принцип был соблюден: всенародный герой высказался на важную для партии тему, раз уж партия решила осудить и расстрелять именно театрального режиссера.
Героев разыскивали и героев делали, и радио принимало в этом самое активное участие. В то время оно старалось чаще выходить за пределы студии. Репортеры, стремясь превзойти друг друга, то опускались в шахту, то забирались на Эльбрус, то вели передачи с борта советского дирижабля, совершавшего двухсуточный полет Москва – Архангельск – Москва. Это были действительно превосходные передачи, и вполне естественно, что каждый раз в центре рассказа оказывались герои-летчики, герои-забойщики, герои-водолазы.
Страна охотно готовилась к появлению Стаханова.
Однако случались и казусы. Так, «Последние известия» решили провести репортаж «со дна моря». В Стрелецкой бухте под Севастополем поднимали суда, затонувшие во время мировой войны. Все рассчитали и подготовили. Один микрофон надо было установить на борту баркаса, а два – поместить в скафандры водолаза и журналиста. Весь Союз должен был услышать, как водолаз работает на дне моря и как он поет популярную в то время песню «Нас побить, побить хотели...»
Провели репетицию. Но передачу отменили властью Севастопольского горкома партии, несмотря на то что водолаз был хороший и пел замечательно. В его анкете оказалось то ли «белое», то ли «черное пятно».
Нашли другого. Опять все отрепетировали. Передача не состоялась – на этот раз Радиокомитет обнаружил пятна в биографии журналиста.
Наконец, кандидатов утвердили во всех инстанциях – журналиста назначили из местной газеты, водолаза – из числа орденоносцев. Опустили их под воду, включили микрофоны... и ничего не произошло: оба – и герой-водолаз и газетчик – были заиками.
Но – на радио, как в цирке: номер должен быть исполнен. И репортаж из-под воды все-таки провели, правда из какого-то подмосковного пруда. Зато водолаз был настоящим героем, отличившимся на эпроновских работах чуть ли не в Ледовитом океане. А как совместились эти два водоема в одной передаче – неизвестно, эфирная папка не сохранилась, текст передачи восстановить невозможно. Но сохранился протокол обсуждения этого происшествия в кабинете у П.М. Керженцева, назначенного руководителем Радиокомитета. Обсудив и осудив «безобразную работу по подготовке столь ответственных передач», Платон Михайлович завершил разговор: «Конечно, нам не надо придумывать героев, их сколько угодно. Нам надо только правильно их выбирать, но при всех обстоятельствах – если уж мы обещали народу, то человека надо выдать, даже если придется подчинить этому какие-нибудь реальные обстоятельства; слушателей огорчать и разочаровывать нельзя».
Вот так и возводилась в эфире стена, отделяющая подлинную жизнь от скорректированной стремлением получше выполнить партийные директивы и желанием не огорчать слушателя...
Постепенно пропагандистская задача полностью потеснила у микрофона какую-либо сдержанность в подборе и оценке событий. Не случайно именно у микрофона И.В. Сталин счел возможным на двенадцатый день войны с гитлеровской Германией 3 июля 1941 года заявить своему народу, что «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты».
Тем не менее именно великая война потребовала от радиожурналистики возвращения к реальности.
Советское радиовещание в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
С начала Великой Отечественной войны возникла необходимость эвакуации многих радиовещательных станций из западных районов страны в восточные. Срочно были демонтированы и переброшены на новые места мощные основные радиостанции Москвы и ряда других городов, оказавшихся в зоне военных действий. В особо сложных условиях приходилось эвакуировать ленинградские радиостанции. Демонтаж одной из них радисты провели под артиллерийским обстрелом.
Эвакуация радиостанций из Москвы потребовала полного перевода Центрального вещания на короткие волны. Центральное вещание перешло от трех программ к одной. Радиопередачи звучали в основном в живом исполнении, удельный вес звукозаписи был незначительным.
К 1943 году объем работы радиостанций не только достиг довоенного уровня, но и превысил его. Чтобы обеспечить качество слышимости передач советского Центрального радиовещания на территориях, оккупированных фашистами, в 1942 году было начато проектирование и строительство новой радиовещательной станции огромной мощности – 1200 кВт. Производство основного оборудования для нее велось в блокадном Ленинграде в труднейших условиях, к месту строительства в Куйбышев (Самара) его отправляли через линию фронта.
В 1943 году, спустя 15 месяцев после выбора строительной площадки, новая сверхмощная радиостанция, выполненная по последнему слову техники, была пущена в действие. Ее голос уверенно зазвучал на большой территории, в том числе и во всех районах, оккупированных врагом.
В годы войны огромную роль сыграли радиотрансляционные узлы в тылу и в прифронтовой полосе. Они позволяли миллионам советских людей принимать радиопередачи, оперативно получать информацию о положении на фронте. Проводное радиовещание выполняло также крайне важную функцию быстрого оповещения населения о налетах вражеской авиации, о приближающейся военной опасности. Огромное значение имела радиофикация казарм, лазаретов, общежитий и бомбоубежищ.
Первый военный выпуск «Последних известий» вышел в эфир через 45 минут после передачи правительственного сообщения о нападении фашистов на нашу страну. В нем звучали лозунги: «Ответим на удар врага сокрушительным ударом!», «Удесятерим трудовые усилия для помощи Красной Армии!», «Сметем с лица земли фашистских поджигателей войны!» 22 июня 1941 года в ночном выпуске «Последних известий» было передано первое сообщение с фронта. 3 июля 1941 года в 8 часов по радио выступил И.В. Сталин, призвавший советский народ мобилизовать все силы для разгрома фашистских захватчиков.
В самые напряженные для страны дни с обращением к народу у микрофона «Последних известий» выступали партийные и общественные деятели.
За период 1941-1945 годов только в выпусках «Последних известий» Центрального вещания было передано до семи тысяч корреспонденций из действующей армии.
Основу программ информационного и общественно-политического вещания в годы войны составляли материалы Совинформбюро. Всего за этот период радио передало 2373 информации, в том числе около двух тысяч ежедневных сводок Совинформбю-ро и 122 сообщения в программе «В последний час». Эти сводки и сообщения многократно повторялись.
Совершенно по-иному, чем в мирное время, строилась вещательная сетка: место многих традиционных довоенных рубрик заняли фронтовые передачи, сводки и сообщения. Радиокомитет находился на военном положении.
7 ноября 1941 года был организован репортаж с Красной площади, где состоялся традиционный военный парад, посвященный годовщине Великой Октябрьской революции. Враг находился в 25-40 километрах от Москвы, фашистские самолеты ежедневно по нескольку раз совершали налеты на столицу, и проведение парада в таких условиях являлось важнейшим политическим актом.
Один из организаторов репортажа, Н.М. Потапов, вспоминал, что подготовка к параду была срочно проведена в ночь на 7 ноября. Предполагалось, что репортаж будет записан на диски и в эфир пойдет в записи. «В ходе передачи, – рассказывает Н.М. Потапов, -нам сообщили, что репортаж дается в эфир. Это сообщение заставило участников передачи – В. Синявского, А. Фетисова, В. Гончарова и других – и встревожиться, и обрадоваться. Значит, Москва была в безопасности...»
Этот прямой репортаж с Красной площади Москвы слушала вся страна. Позже радио неоднократно повторяло его в записи. Участники парада прямо с Красной площади уходили на передовую.
В разгар битвы под Москвой непосредственно на полях сражений Всесоюзным радиокомитетом совместно с Политическим управлением Западного фронта были организованы передачи «Говорит Западный фронт!». 5 ноября 1941 года была сформирована выездная редакция фронтового вещания, редактором которой был назначен Н.М. Потапов, ответственным секретарем и дежурным редактором -М.Ф. Платов. В состав редакции входили также А.Т. Фетисов (погиб во время войны), B.C. Синявский, Г.Е. Красавцев и Л.М. Шмонин. В эти передачи включались репортажи, записи боев, беседы с жителями освобожденных районов и партизанами. В них постоянно звучало горячее, воодушевляющее слово, столь необходимое в то время.
Для вещательных программ военных лет характерна их абсолютная централизация и легко объяснимый обстоятельствами высокий уровень цензуры.
Уже в первые дни войны всем гражданам СССР (за исключением лиц, получивших специальные разрешения) запрещалось использовать дома любые радиоприемники, кроме репродукторов проводного вещания. Чтобы реально выполнить этот запрет, граждане должны были сдать имеющиеся у них радиоприемники на государственное хранение. Гигантские склады радиоаппаратуры организовывались по всей территории СССР (к началу войны на руках у населения было более 1,3 млн радиоприемников). Не сдавшие домашнюю радиотехнику подлежали наказанию по законам военного времени – немедленному аресту. Цель этой акции – лишить рядового гражданина возможности получать какую-либо информацию помимо той, которую сообщало Всесоюзное радио.
Естественно, что такие условия распространения информации позволяли монопольному вещателю – Радиокомитету (самому находившемуся под бдительным надзором цензуры и карательных органов) – корректировать сообщения о том или ином событии по своему усмотрению, а комментарию об этом событии придавать любую меру тенденциозности.
Вопрос о степени достоверности информации, как правило, не возникал – все события рассматривались прежде всего с точки зрения их соответствия или несоответствия генеральной пропагандистской задаче. Она же формулировалась лозунгами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» и «Все для фронта, все для победы! » Сами по себе эти лозунги не вызывали и не могут вызывать сомнений. Но практическое их воплощение в конкретных журналистских материалах, а также страх несоответствия этой лозунговой логике часто приводили к искажению информации. Даже для корреспондента, вернувшегося с поля боя, существовали запреты. Например, нельзя было говорить о том, что немцы умело воюют, что некоторые образцы их оружия лучше наших, отечественных, и т. д.
В сообщениях Совинформбюро о положении на фронтах очень часто реальные факты приукрашивались, а иногда и грубо искажались, что особенно проявлялось в первые месяцы и годы войны. Поздней осенью 1941 года выдающийся русский ученый академик В.И. Вернадский записывает в своем дневнике: «Понять, что происходит на фронте, очень трудно. Радио бессовестно врет, а иного источника информации у нас нет».
Радиопередачи, предназначавшиеся для фронта, обычно носили митинговый, чисто пропагандистский характер. Одна их них -«Слушай, фронт!» – была создана 23 июня 1941 года по инициативе поэта Виктора Гусева. Эта ежедневная часовая программа выходила в эфир до середины октября 1941 года.
В Радиокомитет регулярно поступали корреспонденции из действующей армии. Их писали находившиеся на фронте штатные и нештатные корреспонденты Всесоюзного радио: В.И. Ардаматский, Ю.А. Арди-Мациевский, Е.Я. Барский, П.И. Майзлин, Г.Р. Нилов, М.Ф. Платов, П.А. Рогозинский, B.C. Синявский, Н.П. Стор, В.Г. Усманский, А.Т. Фетисов, А.М. Хамадан и многие другие.
1 июня 1942 года в эфире впервые прозвучали позывные новой передачи, которая открывалась словами: «Братья и сестры по ту сторону фронта, в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго угнетателей! Народные мстители – партизаны и партизанки, ведущие героическую борьбу против оккупантов! Слушайте нас ежедневно!» Так начала свою работу редакция передач для партизан. В передачи включались обзоры центральных газет, информации о партизанском движении и борьбе советских людей на оккупированной территории, сообщения под рубриками «Хроника советской жизни» и «Героические будни советского тыла», рассказывавшие о делах в промышленности и сельском хозяйстве, о достижениях науки и новостях культурной жизни. Под рубрикой «Советы партизанам» в эфир шли передачи «Как уничтожать транспортные средства», «Искусство маскировки», «Противотанковое ружье Симонова», «Засады», «Выход из боя», «Нападение на населенный пункт», «Сбивать фашистские самолеты любым оружием пехотинца», «Снайпер против снайпера».
В эфире постоянно звучали передачи ярко выраженного публицистического характера, уже само название которых было боевым кличем, обращенным к соотечественникам: «Никакой пощады предателям!», «Проклятие и смерть оккупантам!», «Поднимем еще выше знамя всенародной партизанской войны!» Составными частями передач для партизан обычно были концерты, а с начала 1943 года – письма партизанам от родных и товарищей. Редакция передач для партизан существовала до октября 1943 года и была ликвидирована в связи с коренным изменением положения на фронтах. Территория, на которой вели боевые действия партизанские отряды, становилась все меньше. Поэтому исчезла необходимость создавать специальные передачи для партизан.
Наряду с передачами, посвященными боевым действиям армии и флота, постоянно готовились передачи о самоотверженном труде советских людей в тылу. Фронтовики с большим интересом узнавали о жизни родных и близких в освобожденных городах, о восстановлении разрушенных предприятий, о работе заводов и фабрик.
Особое место в радиопропаганде военных лет занимают антифашистские митинги – одна из форм разоблачения идеологии нацизма. Они появились в самом начале войны и получили широкое распространение в последующие годы. Антифашистские митинги имели большой политический резонанс не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах. Так, в ответ на обращение «К ученым всего мира», принятое на первом антифашистском митинге советских ученых 12 октября 1941 года, их коллеги из многих стран прислали телеграммы, в которых восхищались мужеством и героизмом Красной Армии и выражали солидарность.
С 5 августа 1943 года по радио стали передаваться приказы главнокомандующего, в которых отмечались победы советских войск. После чтения приказов звучали артиллерийские салюты.
В годы войны родилась новая форма ежедневных документальных программ – «Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны». Их готовил специальный отдел, возглавляемый В.В. Каблучко. «Письма на фронт» впервые появились в эфире 9 июля 1941 года, а «Письма с фронтов» – в августе того же года. История этих программ такова. С первых дней июля 1941 года в Радиокомитет стали поступать тысячи писем, сообщающих фронтовикам о жизни, здоровье и судьбе членов их семей. Контроль над этой обширнейшей почтой взял на себя военный отдел Радиокомитета. Сначала передачи делались так: дикторы читали огромные, в несколько страниц, списки, где перечислялись фамилии и адреса приславших письма и назывались имена адресатов. Однако эта форма передач просуществовала недолго. В Радиокомитете был организован специальный отдел, который получил название «Письма на фронт и с фронтов Отечественной войны». Новое редакционное подразделение начало свою работу с 11 августа 1941 года. С этого времени ежедневно в эфир выходило шесть передач, а с 9 мая 1944 года выпуски общей продолжительностью 1 час шли четыре раза в день. В передачах начали использовать голоса солдат и офицеров, записанные военными корреспондентами радио. Позднее к ним стали прибавлять голоса родных и близких фронтовиков, записанные в тылу. Таким образом, почти всю войну благодаря переданным в эфир письмам 30 216 семей нашли своих близких.
За время войны редакция получила более 2 млн писем, и ею было подготовлено около 9 тыс. радиопередач «Письма на фронт» и «Письма с фронтов».
Когда в 1945 году Красная Армия вошла на территорию Германии, Отдел политической агитации организовал цикл передач «У карты мира», рассказывавших об Австрии, Восточной Пруссии, Одере и Рейне. У микрофона выступали многие видные люди страны.
Методы работы и формы литературно-драматического вещания изменились с первых же дней войны. 25 июня 1941 года были объединены музыкальный и литературный отделы, а объем их программ значительно сократился. Но и в эти годы в тематическом плане вещания оставались произведения русской классической литературы. Передачи, сделанные по этим произведениям, воспитывали в людях горячую любовь к родине, укрепляли их веру в победу. Ведущим жанром литературно-драматического вещания стала публицистика и документальная проза. Во время войны в работе радио активно участвовали многие советские писатели: И.Г. Эренбург, А.С. Новиков-Прибой, А.С. Соболев, А.А. Сурков, М.С. Шагинян, С.Я. Маршак, К.М. Симонов, Л.А. Кассиль, В.П. Катаев. У микрофона ленинградского радио прозвучали стихи Анны Ахматовой, страстные публицистические монологи Всеволода Вишневского, патриотическая лирика Ольги Берггольц.
Большой популярностью у радиослушателей пользовались острые памфлеты-фельетоны В.А. Дыховичного и А.С. Ленча. Радиофельетоны Дыховичного «Все дороги ведут в Берлин», «Узелок на память», «Москва слезам не верит», «13 стульев», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Два тоста» являли собой пример боевой радиопублицистики, занявшей достойное место в программах литературно-драматического вещания.
В начале войны на радио возникла такая новая форма радиопередачи, как литературный дневник, писатели, журналисты выступали на самые разные темы – от современных до исторических. Дневник выпускался один раз в месяц.
Радио организовало цикл передач для бойцов, командиров и политработников Красной Армии «Московские театры – фронту». В этих регулярных радиопередачах принимали участие лучшие мастера сцены. От коллектива Большого театра СССР, открывшего цикл программ, Красную Армию приветствовал художественный руководитель театра, народный артист СССР
С.А. Самосуд. Для фронта транслировались отрывки из оперы «Евгений Онегин».
Если до Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в программах радиовещания преобладала политическая информация и публицистика, то по мере того, как советские войска одерживали одну победу за другой, в вещании возрастал удельный вес литературно-драматических и музыкальных передач. У радиопублицистики появилась новая тема – восстановление районов, освобожденных от врага.
В программы художественного вещания включалось все лучшее, созданное нашей литературой и искусством. Большими событиями в жизни советского радио тех лет стали цикл программ по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» в исполнении Д.Н. Орлова, чтение А.Т. Твардовским отрывка из поэмы «Василий Тёркин» (30 апреля 1944 года).
Радио активно помогало распространению патриотических, героических и лирических песен военного времени; именно оно дало путевку в жизнь таким песням, как «Священная война», «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Шумел сурово брянский лес...», «Эх, дороги...» и другим.
Большую роль в годы Великой Отечественной войны играло московское вещание на зарубежные страны. До войны оно велось на 13 языках общим объемом 30 часов в сутки. В первые месяцы войны советское радио начало передачи на целом ряде языков, которые раньше не использовались, – словацком, греческом, турецком, иранском, польском, голландском и норвежском. Уже к концу 1941 года программы передавались на 21 языке, а их общий объем составлял более 51 часа в сутки. Параллельно с вещанием из Москвы Всесоюзный радиокомитет организовал передачи и из других городов Советского Союза.
Война поставила перед радиопропагандой на зарубежные страны совершенно новые задачи. Важнейшей функцией иновещания стала контрпропаганда. Определилось несколько направлений вещания на иностранных языках – на вражеские и нейтральные страны. Центральное место в радиопередачах занимали сообщения Совинформбюро и официальные выступления руководителей Советского государства.
Значительную роль во всей работе советского радио сыграли многие видные иностранные общественные деятели, писатели, ученые. Многие из них принимали непосредственное участие в организации вещания, были постоянными комментаторами и обозревателями московского радио.
В течение всей войны в Москву приходили письма от зарубежных слушателей. Они свидетельствовали о том, что в оккупированных фашистами странах коммунисты, бойцы отрядов Сопротивления, а также группы рядовых слушателей регулярно принимали передачи советского радио. Отзывы говорили о том, что советское радио оказывало большую моральную и политическую помощь сплочению патриотических сил, развертыванию подпольной работы и партизанской войны в ряде стран. Великий французский ученый Фредерик Жолио-Кюри, вспоминая военную пору, говорил у микрофона московского радио: «Глубокое волнение овладевает мной, когда я выступаю у микрофона, через который во время долгих лет войны и оккупации летело в эфир столько слов ободрения и надежды. Передачи московского радио оказали большую услугу французскому движению Сопротивления».
15 февраля 1945 года была восстановлена в эфире Вторая программа Центрального радио, ликвидированная в первые дни войны одновременно с изъятием радиоприемников у населения. В ряде городов объявили о том, что граждане могут получить обратно свое радиоимущество. Но полномасштабным этот процесс стал только осенью и зимой 1945/46 года, то есть уже после победы антигитлеровской коалиции над Японией.
2 мая 1945 года в 14 часов 45 минут корреспондент ленинградского радио Лазарь Маграчев сообщил из Берлина: «Дорогие товарищи! Ваш корреспондент говорит у микрофона, установленного на улице Унтер-ден-Линден в центре Берлина... Сегодня советские войска овладели столицей гитлеровской Германии. Над рейхстагом реет красное знамя нашей победы, а по Унтер-ден-Линден шагают наши солдаты. Они пришли сюда от стен Ленинграда, с берегов Волги, из степей Украины... И они добыли победу, за которую так долго боролись...» 8 мая 1945 года в 23 часа 30 минут Л.Е. Маграчев сообщил из Берлина: «Мы находимся в здании немецкого саперного училища в Карлсхорсте, под Берлином, где представители Союзного командования и делегация Верховного главнокомандования немецкой армии сейчас подпишут акт о безоговорочной капитуляции Германии ».
9 мая 1945 года по радио от имени партии и правительства выступил И.В. Сталин с обращением к народу в связи с победой над гитлеровской Германией. В тот же день в 22 часа все радиостанции Советского Союза транслировали торжественный салют в Москве в честь воинов героической Красной Армии и Военно-Морского Флота, одержавших победу над немецко-фашистскими захватчиками. 24 июня 1945 года с Красной площади транслировался репортаж о Параде Победы над гитлеровской Германией.
Радио после войны (1945-1970)
Возвращению к мирному послевоенному труду после победы над гитлеровской Германией сопутствовал ряд факторов, отягощающих жизнь народа. Во-первых, это разруха на бывших оккупированных территориях. Немцы успешно применяли тактику «выжженной земли», оставляя после себя развалины и пепелища. Во-вторых, обострение противостояния СССР и его бывших союзников по антигитлеровской коалиции, названное «холодной войной», и как следствие – гонка вооружений, требующая гигантских материальных, финансовых и людских ресурсов. В-третьих – разочарование населения, ожидавшего достаточно быстрого улучшения условий жизни после победы (только через два с половиной года после победы были отменены карточки на питание; объявляемые ежегодно снижения цен на ряд продовольственных и промышленных товаров на практике представляли собой, скорее, пропагандистскую акцию, чем экономическое достижение: сталинский министр финансов А.Г. Зверев позднее откровенно писал, что снижение цен компенсировалось в бюджете снижением расценок в оплате за труд).
В таких условиях перед радио, как и перед другими средствами массовой информации и пропаганды, ставилась задача объяснить народу, что трудности восстановления народного хозяйства потребуют от граждан СССР дополнительных жертв, но они должны быть уверены, что эти жертвы последние.
Пропагандистская машина, ориентированная на манипулирование общественным сознанием в условиях тоталитарного государства, была запущена на полную мощность.
Еще больше усиливается цензура (теперь ее легче осуществлять и технически), из эфира практически исчезают так называемые «прямые передачи», почти все программы (за исключением новостных выпусков «Последних известий») идут в звукозаписи.
К концу 1946 года, по признанию тогдашнего председателя Радиокомитета Д. Поликарпова, 95 процентов всего времени вещания было занято передачами, заранее фиксированными на пленке. Соответственно усиливается контроль и за подбором кадров радиовещания. Именно в это время в кругу радиожурналистов приобрела популярность слегка перефразированная пословица: «Слово не воробей, поймают – вылетишь!»
Развитие радиовещания и телевидения в послевоенные годы требовало совершенствования организации и структуры этих видов средств коммуникации. В июле 1949 года единый для страны Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию, созданный в 1933 году, был преобразован в два радиовещательных органа всесоюзного значения – Комитет радиоинформации и Комитет радиовещания при Совете Министров СССР. На первый возлагалась задача внутреннего радиовещания, на второй – вещания на зарубежные страны. Реформу обусловила заметно возросшая роль радиовещания на зарубежные страны в военные и первые послевоенные годы (резко увеличились его объемы, расширилось количество языков и зон вещания). В марте 1953 года вместе с проведенной реорганизацией в системе центральных учреждений и ведомств взамен двух комитетов были созданы Главное управление радиоинформации и Главное управление радиовещания в составе только что образованного Министерства культуры СССР.
В первые послевоенные годы из наследия В.И. Ленина руководством партии и лично И.В. Сталиным вновь была востребована политика, суть которой составляли антиинтеллектуальные тенденции и разжигание классовой борьбы, подталкивание к противостоянию с Западом. Культура, наука, образование, даже теоретические принципы государственного устройства директивно были поделены на прогрессивные (отечественные, социалистические) и буржуазные, т. е. вражеские, а потому подлежащие искоренению.
Сталин не останавливался даже перед запретом той или иной отрасли знаний – так, например, запрещены были генетика, а позднее кибернетика.
Организуются пропагандистские кампании против философов-идеалистов, биологов-генетиков, против литераторов, которые пишут «неправильные» стихи и романы, против актеров и режиссеров, которые ставят «не те» пьесы, кинематографистов, которые снимают «неправильные» фильмы, и композиторов, которые сочиняют «неправильную» музыку. По каждому поводу выходят специальные постановления Центрального комитета партии, собираются всесоюзные совещания, где хором травят «провинившихся», демонстрируя верность руководству страны и лично великому вождю всех народов и корифею, т. е. главному специалисту во всех областях науки и культуры товарищу Сталину.
Все это находит свое отражение в программах радиовещания, причем не только в общественно-политических, но и претендующих называться литературно-художественными. Из эфира исчезают имена А. Ахматовой, М. Зощенко, Д. Шостаковича, С. Эйзенштейна и многих других выдающихся мастеров культуры, вина которых заключалась лишь в том, что они нелестно были упомянуты в каком-либо постановлении ЦК ВКП(б).
Среди задач, которые стояли перед радио, была и такая: объяснить советскому народу, что все открытое или изобретенное человечеством, представляющее хоть небольшую ценность, прежде появилось в России, и только потом за ее пределами. Это была часть кампании против так называемых «космополитов», т. е. против интеллигентов, которые считали себя гражданами мира и общечеловеческие ценности ставили выше сугубо национальных. В них видели людей враждебных России, оторвавшихся от своего народа, антипатриотов и т. п.
Так Сталин опускал «железный занавес» между СССР и всем остальным миром, стремясь сохранить и упрочить свою власть. А для этого надо было всеми возможными средствами и способами искоренять инакомыслие и инакомыслящих.
В общественно-политических и научно-образовательных передачах Всесоюзного радио тема борьбы с «враждебным влиянием» занимала одно из первых мест. Однако следует обратить внимание на такой парадокс: не имея возможности привлекать в качестве исходного материала богатство мировой истории и культуры, сосредотачивая силы на исследовании отечественной науки, русского искусства, работники Всесоюзного радио, вынужденно обращаясь к уже известным и часто ранее использованным материалам из истории нашей страны, находили новые глубины, новые интересные аспекты и новые интересные формы их отражения в звуке.
Так, например, в 1952 году родился «Научный радиотеатр» -цикл спектаклей и радиокомпозиций о творческих свершениях отечественных деятелей науки и техники. Прозвучавшие в эфире сценические произведения можно по праву считать плодом тесного творческого содружества на радио литературы, науки и искусства. В спектаклях, подготовленных ведущими режиссерами Всесоюзного радио, были заняты крупнейшие мастера советского театра: М. Астангов, В. Белокуров, М. Болдуман, А. Грибов, В. Ершов, А. Кторов, Н. Плотников, Р. Плятт, Е. Самойлов, Л. Свердлин, Б. Смирнов, В. Топорков, М. Штраух, Ю. Яковлев и другие.
Самое живое и заинтересованное участие в работе над научно-художественными передачами принимали также ученые Московского университета имени М.В. Ломоносова, Института истории естествознания и техники Академии наук СССР и других научно-исследовательских учреждений страны. Лучшие из радиопостановок успешно выдержали испытание временем и вошли в «золотой» фонд Всесоюзного радио или в «Фонд звуколетописи нашей Родины».
25 января 1947 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по улучшению центрального вещания», ужесточавшее требования к радио как средству агитации и пропаганды. Для партийных документов такого рода эти требования не выходили за рамки чисто формальных указаний. Ряд критических замечаний трудно признать несправедливыми – особенно в сфере организации информационного обеспечения общества. Произошла определенная перестройка сетки вещания.
Ведущее место в программах заняла оперативная информация. По радио ежедневно передавались 12 выпусков «Последних известий» и 3 обзора центральных газет. Начиная с марта 1946 года, еженедельно по воскресеньям, в эфире звучала получасовая передача «Новости недели», которую транслировали радиостанции всех республик, краев и областей (затем она трансформировалась в радиожурнал «С микрофоном по родной стране»). Корреспонденты радио выступали у микрофона с «живыми» рассказами о встречах с людьми, о предприятиях, колхозах и стройках. 13 февраля 1956 года, в канун открытия XX съезда КПСС, радио передало необычный по форме и содержанию выпуск «Последних известий»: в нем сопоставлялись события истекшего дня с событиями, происходившими 27 лет назад – в апреле 1929 года, когда XVI конференция ВКП(б) обсуждала первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
Для изучавших марксистско-ленинскую теорию радио регулярно передавало лекции, беседы, статьи о произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина; были организованы циклы по истории партии, диалектическому и историческому материализму, популярные беседы «В помощь слушателям политшкол», передачи «Наша Родина». Ежедневная хроникальная передача «Наш календарь» в яркой лаконичной форме напоминала слушателям о знаменательных событиях прошлого.
Много внимания радио уделяло вопросам экономики, пропаганде передового опыта, популяризации успехов социалистического соревнования. В 1951 году редакция промышленных передач организовала несколько новых циклов и рубрик, в том числе еженедельный «Дневник социалистического соревнования». В радиожурнале «За массовое новаторство», экономических обозрениях, выступлениях у микрофона и беседах «На темы дня» рассказывалось об опыте лучших предприятий и передовых методах труда, об эффективном использовании производственных площадей и оборудования, ритмичной работе и организации производства. Радио старалось помогать повышению уровня экономических и технических знаний работников народного хозяйства.
Ежесуточно в течение тридцати минут звучали в эфире передачи о науке и технике. Их готовила специальная редакция, входившая в отдел агитации и пропаганды. Редакция науки и техники часто использовала метод бестекстовой записи, получившей в те годы широкое распространение. Наиболее популярными были программы, в которых известные ученые отвечали на вопросы слушателей.
После окончания войны активно развивался процесс восстановления всех видов художественного вещания. В программах Центрального и местного радио быстро возрастал удельный вес литературных и музыкальных передач, радиотеатра. В вечерние часы и по воскресным дням было увеличено число концертов, расширен общий объем литературно-драматического вещания. Широкая пропаганда лучших произведений русской классической и советской литературы, ознакомление слушателей с литературой социалистических стран и произведениями прогрессивных писателей Запада – эти задачи определяли работу редакции литературно-драматического вещания.
Продолжало развиваться и музыкальное вещание. В июне 1947 года передавался первый концерт-загадка, программа которого была составлена радиослушателями. Диктор объявлял название произведения и автора не перед исполнением, а после него. Такой способ ведения концерта вызывал интерес к музыке, развивал слух и музыкальную память. 21 октября 1952 года был открыт радиофестиваль русской песни, который продолжался полтора месяца. В нем участвовали коллективы художественной самодеятельности 27 городов РСФСР. В этом же году по программам Центрального радио ежедневно шло 45-50 концертов, общий объем звучания которых превышал 25 часов. Систематически выпускались музыкально-образовательные передачи, концерты-лекции, концерты по заявкам слушателей, музыкальные обозрения, концерты художественной самодеятельности, музыкальные радиожурналы и радиосборники.
К сожалению, уже в предвоенные годы опыты по созданию спектаклей на основе пьес, написанных специально для радио, проводились все реже и реже. В послевоенные годы они полностью прекратились. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, многие маститые авторы пренебрегали работой для радио, считая ее литературной поденщиной и творчеством «второго сорта». Во-вторых, потому, что за нее платили гораздо меньше, чем в театре (любое произведение, прошедшее по радио, считалось собственностью государства в лице Радиокомитета и при повторе никакого вознаграждения ни авторам, ни исполнителям дополнительно к начальному гонорару не выплачивалось, тогда как за постановку пьесы на сцене автор получал процент со сбора от каждого представления). Кроме того, отпугивала жесточайшая цензура, куда более капризная и строгая, чем общая издательская и театральная.
В свою очередь и Радиокомитет, а точнее курирующие его инстанции не стимулировали появление оригинальных радиопьес. Этот жанр, по мнению доморощенных социопсихологов из различных партийных инстанций, вообще мало подходил для культурного развития советского человека. Радио в своих эстетических реалиях ориентировалось не только на слово, но и на звук, на сочетание музыки и шумов, позволяющих управлять фантазией слушателя. А эту фантазию, ассоциативные ряды, выстраивавшиеся под воздействием радиопроизведения, контролировать было много сложнее, чем обычный текст, где цензор мог заранее вычеркнуть все сомнительные слова и фразы. В условиях жизни в стране, ориентированной на подавление инакомыслия и воспитание стандартов мышления, та свобода воображения, которую подразумевала истинная радиодраматургия, кое-кому казалась социально опасной.
Тем не менее в 40-е годы еще больше утвердилась рубрика «Театр у микрофона», включавшая в себя не только трансляции из театров, но и другие формы пропаганды сценического искусства: монтажи спектаклей, обозрения, тематические вечера, творческие портреты актеров и режиссеров и т. д. При выпуске такой передачи имело место некоторое послабление бдительности цензоров на радио: театральные представления уже прошли цензуру литературного ведомства и Комитета по делам искусств, и, таким образом, мера ответственности охранителей гостайны и идеологических ценностей на радио резко снижалась.
Такая цензурная политика давала о себе знать совершенно отчетливо. Например, в 1951 году под рубрикой «Театр у микрофона» Центральное радио передало 215 спектаклей, тематических передач и творческих вечеров. Больше половины постановок было посвящено современной теме. Редакция записала 32 спектакля московских и местных театров по пьесам А.М. Горького «Враги», «Егор Булычев и другие», В.В. Иванова «Бронепоезд 14-69», А.А. Крона «Глубокая разведка» и другие. Отдельные спектакли радиотеатра все же появлялись чаще на основе театральных пьес советской классики. В июне 1951 года в постановке народного артиста СССР Р.Н. Симонова звучал по радио спектакль «Баня» по пьесе В.В. Маяковского, в котором участвовали народные артисты СССР И.В. Ильинский, А.Н. Грибов, В.П. Марецкая, а музыку написал композитор В.Я. Шебалин.
Это был важный факт общекультурной жизни, ибо сатирическая пьеса В.В. Маяковского о коммунистическом чванстве и глупости всевозможных главначпупсов – главных начальников по управлению согласованиями – была негласно запрещена театральной цензурой. И в этом случае радио выступило не только первооткрывателем давно забытой и много лет не печатавшейся пьесы, оно взяло на себя и успешно выполнило миссию бунтаря и возбудителя общественного мнения. Цензура попросту просмотрела эту радиопремьеру, по собственной некомпетентности решив, что «лучший, талантливейший поэт советской эпохи», как охарактеризовал Маяковского сам Сталин, ничего антисоветского себе не позволит. К тому же и «звездный» состав участников «ослепил» цензора -и у постановщика, и у исполнителей главных ролей на груди сверкали как минимум по четыре медали лауреатов Сталинской премии.
Премьера «Бани», по сути, вернула в радиоэфир целое направление отечественной аудиокультуры, в которое вскоре придут работать выдающиеся мастера театра и кино: А. Баталов, Андрей Тарковский, А. Эфрос, Г. Товстоногов, Ю. Любимов, М. Захаров, чтобы продолжить традиции В. Качалова, О. Абдулова, М. Бабановой, В. Сперантовой и их коллег.
К 1955 году относится возникновение новой передачи – устного рассказа у микрофона. С такими рассказами по радио выступали С.В. Образцов, Н.К. Черкасов, В.П. Чирков, В.М. Инбер. В непринужденном рассказе у микрофона, в разговорной интонации ярко проявилась специфика радиопублицистики.
Одним из наиболее характерных процессов развития советского радиовещания после войны стал интенсивный рост объема вещания для детей, юношества и молодежи. В программах возобновляются некоторые передачи и рубрики, появившиеся еще в довоенный период, и создаются новые передачи различных форм и жанров, адресованные детской и молодежной радиоаудитории. Отметим наиболее значительные и интересные из них.
В декабре 1945 года Центральное радио начало выпускать детский географический радиожурнал «Клуб знаменитых капитанов» в форме пьес, где главные действующие лица – герои любимых детских книг: Капитан Немо, Гулливер, Робинзон Крузо, Дик Сенд, Барон Мюнхгаузен и другие.
Почти 40 лет знаменитые капитаны на заседаниях рассказывали школьникам о великих путешественниках, об истории географических открытий, о последних достижениях науки и чудесных явлениях природы. На многочисленные письма юных слушателей они отвечали в специальной передаче «Почтовый дилижанс» (авторы передач – В.М. Крепе и К.Б. Минц).
В октябре 1946 года на радио стал выходить ежемесячный литературный журнал «Невидимка», адресованный школьникам среднего и старшего возраста. Назначение этой периодической передачи состояло в том, чтобы знакомить слушателей с новинками отечественной и зарубежной литературы, расширять и углублять знания, которые давала школьная программа. Радиожурнал включал критические статьи, обзоры, рецензии, очерки, написанные видными литературоведами и критиками. В состав редколлегии журнала входили Л.А. Кассиль (ответственный редактор), В.М. Инбер, В.А. Каверин, С.В. Михалков, К.Г. Паустовский.
3 мая 1947 года в эфир передавался первый выпуск географического радиожурнала «По родной стране» – этот радиожурнал, рассчитанный на детей старшего и среднего школьного возраста, выходил один раз в две недели. Он содержал большой познавательный материал об экономике, почвенно-климатических условиях, природных богатствах нашей страны. Его ответственным редактором был академик А.А. Григорьев.
В декабре 1947 года в эфире прозвучала новая передача для детей «Радиоклуб юных географов». На собраниях клуба ученые -географы, геологи, зоологи и ботаники – рассказывали юным слушателям о пионерских экспедициях, о своих научных работах и открытиях, отвечали на вопросы и давали полезные советы. В актив радиоклуба входили также моряки, летчики, студенты-географы и геологи.
6 апреля 1948 года – день рождения «Музыкальной шкатулки» -одной из популярных музыкальных передач для детей.
В ноябре 1949 года вышла в эфир радиопередача по любимой детьми сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик», в которой роли всех действующих лиц сыграл Н.В. Литвинов (режиссер передачи – P.M. Иоффе). Музыку для передачи написал композитор В.П. Ширинский.
В марте 1954 года Центральное радио начало новый цикл научно-популярных передач для юношества под названием «Мир, в котором мы живем». В популярной форме ребятам старшего возраста рассказывалось о целостном материальном мире природы, взаимосвязи явлений микро– и макромира, познаваемости Вселенной. Цикл состоял из четырех разделов: «В мире невидимого», «Вселенная и атом», «Руками человечества», «В мире миров», каждый из которых включал несколько бесед и очерков.
XX и XXII съезды партии в 50-е – начале 60-х годов, осудившие культ личности Сталина, указывали на необходимость радио стать не формальным, а подлинным аккумулятором общественного мнения, средством общения миллионов людей, которым надо было вернуть ощущение достоинства и чувство личной ответственности за дело всей страны. Иначе говоря, перед радио была поставлена задача обратиться к формам и методам работы, которые не противопоставляли бы его слушателям, а соответствовали реальным потребностям аудитории.
Задачи были сформулированы, но реализовывались они с большим трудом. Груз наработанных навыков и страх ошибки были чрезвычайно сильны. Достаточно привести один пример.
После XX и особенно XXII съездов встал вопрос о том, что партии и народу необходимо возвратить их собственную историю без тех «белых пятен», которые возникли на месте имен и событий, преданных забвению по воле Сталина и его окружения. А это было множество событий и десятки тысяч имен – людей, расстрелянных в подвалах ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ.
Чтобы выполнить эту задачу хотя бы в минимальном объеме, журналисты Главной редакции пропаганды выступили с идеей создания цикла радиобиографий замечательных людей и событий: подразумевалось, что о каждом из них радио создаст спектакль в жанре документальной драмы – эта форма социального и политического просвещения представлялась куда более эффективной, чем традиционные лекции. Идея была реализована, и в рамках «Ленинского университета миллионов» (постоянная рубрика Всесоюзного радио) начали проводиться интересные радиопредставления об истории плана электрификации России, о нэпе, о подлинных обстоятельствах строительства Днепрогэса и Магнитки и еще о многом, о чем раньше предпочитали умалчивать; вышли в эфир театрализованные (на строгой документальной основе) радиобиографии ряда известных в прошлом деятелей государства. Но все это произошло только через десять лет – во второй половине 60-х, – столько лет понадобилось работникам редакций, чтобы убедиться в своем праве работать по-новому. К тому же мешала и постоянная организационно-административная наразбериха, которая сопутствовала в этот период работе радиовещания.
В 1957 году радиовещание и телевидение выделились из системы Министерства культуры СССР. 16 мая 1957 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР был образован Государственный комитет по радиовещнию и телевидению при Совете Министров СССР. Руководство радиовещанием на зарубежные страны в это же время было передано Государственному комитету по культурным связям с зарубежными странами, куда оно вошло в качестве специального Главного управления. Однако в мае 1959 года иновещание вновь включили в состав Радиокомитета. Кроме центрального радиовещания и центральной студии телевидения в его систему входила также широкая сеть вещательных организаций – 14 комитетов союзных республик, 19 комитетов автономных республик, 125 краевых и областных комитетов и редакций, 183 городские и районные редакции. Таким образом, структура Государственного комитета по радиовещанию и телевидению к началу 60-х годов включала в себя 341 вещательную организацию. Крупнейшей среди них было Центральное радиовещание.
С 1 октября 1960 года Всесоюзное радио впервые стало круглосуточным. Его объем возрос до 77 часов 15 минут в сутки. 15 октября 1962 года было введено новое расписание передач Центрального радио, основная особенность которого состояла в том, что в нем содержательно определялся характер передач, шедших в предусмотренные расписанием отрезки времени.
15 апреля 1963 года начала функционировать V (круглосуточная) программа Всесоюзного радио, предназначенная для советских людей, находившихся за рубежом, и для зарубежных слушателей, владеющих русским языком или изучающих его. Коренные изменения претерпели и другие программы. С 7 до 12 часов в сутки увеличился объем III программы. Была перестроена и IV программа: она передавалась для населения Дальнего Востока и Восточной Сибири 20 часов в сутки (IV-A-программа) и отдельно в таком же объеме для населения Западной Сибири и Средней Азии (IV-Б-программа).
Стремясь к большей оперативности и более полному удовлетворению запросов слушателей в политической информации, редакция «Последних известий» с 1 января 1958 года ежедневно стала передавать в эфир 18 выпусков (вместо прежних 12); в них содержалось 120-130 оперативных сообщений о событиях внутренней и зарубежной жизни. Значительное место занимала экономическая информация. Радио информировало слушателей о борьбе за технический прогресс, вело большую организаторскую работу, используя для этого радиомосты и радиопереклички.
Замечательные страницы в истории советского радиовещания -передачи, посвященные завоеванию космоса. Широко и оперативно освещались в «Последних известиях» запуски искусственных спутников Земли и космических ракет. Через несколько минут после официального сообщения о запуске спутника по радио звучали его сигналы, записанные на пленку; слушатели получали информацию о движении спутников над различными районами страны; у микрофона «Последних известий » с комментариями выступали видные ученые. Радио передавало также многочисленные отклики советских ученых, рабочих и общественности зарубежных стран. В ночь со 2 на 3 января 1959 года радио сообщило об успешном запуске первой в мире советской космической ракеты. 12 апреля 1961 года в 10 часов 02 минуты все радиостанции Советского Союза передали сообщение ТАСС, в котором говорилось, что 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту и что пилотом-космонавтом является майор Гагарин Юрий Алексеевич. (Лучшие «космические» и другие передачи, фрагменты из радиоспектаклей, песни-репортажи Юрия Визбора были зафиксированы на гибких пластинках звукового журнала «Кругозор», его Радиокомитет выпускал с 1964 по 1970 год).
Конечно, и в этих передачах пропагандистские задачи играли главную роль, и, естественно, происходила определенная коррекция информации: всячески затушевывались любые сложности, возникавшие на пути человека в космос, о неудачах умалчивалось, да и в рассказах об удачных полетах подлинная атмосфера событий, как правило, до слушателей не доходила. Например, во время полета в космос Валентина Терешкова вышла в эфир прямо с орбиты с целым рядом претензий к наземным службам, к своим учителям и руководителям полета, и сделала это в очень откровенной и достаточно нервной форме. Разумеется, этот диалог с Центром управления в радиорепортажи не попал – разрушать героический образ советских космонавтов, у которых ни на земле, ни в небе никаких проблем не существует, не было дозволено никому.
И все же к началу 60-х годов, а особенно после XXII съезда партии «послесталинская» перестройка жизни стала давать свои плоды и на радио. Радиожурналисты уже не только стремились своевременно освещать крупнейшие события, но и искали новые формы и приемы подачи информации. Так, отдел международной информации Главной редакции «Последних известий » ввел в постоянную практику передачу репортажей и телефонных разговоров, являющихся убедительной иллюстрацией к той или иной политической теме. 27 февраля 1962 года Центральное радио ввело новую передачу «Международные обозреватели за круглым столом», организованную по просьбам радиослушателей.
Летом 1962 года в газетах появилось сообщение о предстоящем в Москве Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир; в подготовке к конгрессу приняли участие все редакции Центрального радио. Была задумана и магистральная передача – тематический радиодень. Вещательная программа одного дня, составленная по общему сценарию, предусматривала разнообразную информацию: оперативные репортажи, ответы на письма из многих стран, радиоанкету, проведенную среди государственных и общественных деятелей, ученых и писателей. Этот «Радиодень» был назван «Мы живем на одной параллели».
К 1964 году число ежедневных выпусков «Последних известий» по основным программам Всесоюзного радио возросло до пятидесяти. Но и такой значительный объем радиоинформации далеко не полностью мог удовлетворить информационные потребности миллионов радиослушателей. Остро ощущалась необходимость в создании новых передач, в резком увеличении объема передаваемой информации, в повышении оперативности. Эти причины и обусловили появление в структуре радиовещания новой программы «Маяк», созданной на основании постановления ЦК КПСС от 24 июня 1964 года «Об улучшении информации на радио». В постановлении говорилось: «Радиопрограмма «Маяк» должна содержать оперативную информацию (не реже двух выпусков в час) о важнейших событиях экономической, политической, культурной жизни в СССР и зарубежных странах, краткие комментарии на тему дня, новости спорта, репортажи, интервью, создавать путем тщательного отбора и продуманного повторения наиболее важных новостей политически верную картину событий внутренней и международной жизни». Радиопрограмма «Маяк» должна состоять также из коротких передач симфонической и эстрадной музыки; народных, советских и зарубежных песен, номеров эстрады, коротких рассказов и композиций».
Так была сформулирована концепция принципиально новой радиопрограммы. Новизна «Маяка» проявилась и в его нетрадиционной для советских радиопрограмм структуре, в основе которой лежал часовой отрезок вещания, включавший в себя два кратких выпуска новостей – в начале и середине каждого часа. За выпуском новостей следовала музыка или какой-либо другой материал, преимущественно развлекательного характера.
Характеризуя концепцию нового канала, надо сказать также и о своеобразии его стиля. Это программа быстрого и напряженного ритма, соответствующего ритму жизни современного человека. Ее отличают краткость информационных и музыкальных передач, лаконизм сообщений, экономичность в использовании речевых средств. «Маяк» начал функционировать 1 августа 1964 года.
Заметным явлением в программах Всесоюзного радио в 1965 году стали передачи, посвященные 20-летию победы советского народа над гитлеровской Германией. Здесь прежде всего следует назвать большой документально-художественный цикл «Подвиг народа». Радиожурналисты провели огромную работу по розыску и переписи сотен уникальных записей, сделанных в Москве, на освобожденных территориях нашей страны и за границей во время войны и после ее окончания. Эти передачи шли ежедневно с 20 марта по 15 мая (всего за этот период в эфир прошло более 60 выпусков общим объемом в 61 час). Они представляли собой художественно-документальные рассказы, радиокомпозиции, радиоочерки и радиофильмы, в художественную ткань которых органично входили документальные звукозаписи: рассказы у микрофона прославленных полководцев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, голоса бывших партизан и подпольщиков.
Главными пропагандистскими кампаниями радио в конце 60-х годов были подготовка и проведение двух юбилеев – 50-летия Октябрьской революции в 1967 году и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году. Все планы вещания составлялись прежде всего с учетом этих дат, все редакции работали в первую очередь на эти темы. Все это, естественно, привело к «эффекту бумеранга», т. е. вызвало негативную реакцию у аудитории. То, что пытались утвердить в сознании слушателя как социально значимое событие, порождало анекдоты такого типа:
«– Петров, почему вы сегодня пришли на работу небритым? -спрашивает начальник у подчиненного.
– Я электробритву включил, а оттуда про Ильича говорят...»
Радиожурналисты еще раз смогли убедиться, что аудитория воспринимает пропагандистский материал лишь тогда, когда для него найдена интересная и неожиданная форма. Практика показала, что наиболее интересными в этом плане оказались драматизированные радиохроники, в которых литературные тексты, документы, комментарии журналистов и музыка, соответствующая случаю, выстраивались по законам театрализованной композиции.
В 1956 году из Главной редакции радиовещания для детей и юношества выделилась в качестве самостоятельной редакция вещания для молодежи. Это позволило более четко определить возрастной состав слушателей и разграничить тематику передач, рассчитанных на различные возрастные группы. Внутри молодежной программы появилась дифференциация: специальные рубрики адресовались учащимся школ рабочей и сельской молодежи, студентам, воинам Советской Армии. В октябре 1962 года на базе этой редакции была создана радиостанция «Юность».
Литературно-драматическое вещание пропагандировало наиболее значительные произведения советской и зарубежной литературы, драматургии и русской классики; регулярно привлекались к выступлениям у микрофона писатели и публицисты. В эфире появились часовые передачи «Мастера советской поэзии». В «Литературных вечерах» был создан раздел «Звуковые публикации», в котором прозвучали записи голосов В. Маяковского, С. Есенина, Э. Багрицкого. Его вел писатель Ираклий Андроников. «Библиотека новинок советской литературы» информировала слушателей о новых книгах.
Широкое признание у слушателей получил созданный в сентябре 1959 года «Радиоуниверситет культуры». Передачи университета представляли собой новую и интересную форму: они давали слушателям возможность систематически и последовательно накапливать знания, необходимые для современного человека.
Второе рождение переживала к тому времени радиодрама. Аудитория радиотеатра по своим размерам превышала аудиторию не только театра, но и кино. Но задача создания оригинальной радиодраматургии продолжала оставаться нерешенной. Центральное вещание привлекло в качестве авторов радиопьес известных писателей и драматургов. При Главной редакции литературно-драматического вещания была организована сценарная группа, задачей которой было создание оригинальных радиопьес.
В 60-е годы работа в этой области активизировалась. Оригинальные произведения радиотеатра создавались не только в редакции художественного, но и общественно-политического, молодежного и детского вещания.
Развитие радиотеатра происходило по нескольким направлениям.
После 30-летнего перерыва в эфире вновь зазвучали оригинальные отечественные радиопьесы – этим жанром занялась группа авторов, среди которых были А. Вейцлер, А. Мишарин, С. Гансовский, А. Кучаев и другие. В большинстве своем это были люди, хорошо владевшие спецификой радиожурналистики, и потому их литературные опыты в постановках, как правило, штатных режиссеров радио успешно завоевали внимание аудитории.
С инсценировками крупных литературных произведений отечественной и мировой классики в студию радио пришли многие видные режиссеры кино. Среди замечательных работ этого периода -радиоспектакль Андрея Тарковского «Полный поворот кругом» по У. Фолкнеру; цикл «Герой нашего времени» по М. Лермонтову, поставленный А. Баталовым; радиотрагедия «Верность» по пьесе Ольги Берггольц, записанная на пленку Г. Товстоноговым; инсценировки рассказа К. Паустовского «Телеграмма» и романа Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», написанные и срежиссированные у микрофона Л. Веледницкой.
Важным эстетическим и программным открытием стал цикл документальных спектаклей С.Н. Колосова, первым утвердившего в отечественном эфире жанр многосерийной доку-драмы. С.Н. Колосов осуществил постановку «Вызываем огонь на себя» – о подполье времен войны с фашизмом (позднее эта радиоверсия подлинных событий 1941-1942 годов получила свое экранное воплощение).
«Литературные чтения», особенно многосерийные, ориентировались прежде всего на встречу слушателей с известным актером. Так появились 18 серий «Хождения по мукам» А.Н. Толстого с Л.И. Касаткиной и В.В. Тихоновым, «Повесть о настоящем человеке» с П.П. Кадочниковым и 54 передачи «Тихого Дона» М.А. Шолохова в исполнении М.А. Ульянова.
Среди всех видов вещания в программах Всесоюзного радио первое место по объему занимали музыкальные передачи: ежемесячно в эфире звучало до двух тысяч таких передач – более половины всего объема. В создании столь огромного количества передач самых разных форм и жанров решающую роль играли собственные музыкальные коллективы Всесоюзного радио: Большой симфонический оркестр, оперно-симфонический и эстрадно-симфонический оркестры, Академический большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, оперный хор, ансамбль песни, хор русской народной песни, оркестр народных инструментов, вокальная группа, которые входили в структуру Главной редакции музыкального радиовещания.
Сетка Центрального радиовещания, введенная осенью 1962 года, открыла вечернее время для трансляций концертов и спектаклей, способствовала упорядочению музыкального вещания.
Два раза в месяц, по воскресеньям, по Первой программе, в эфир шли часовые передачи «Радиоуниверситета культуры». Это был основной канал музыкального просвещения. Занятия университета строились по двум циклам – «Художник и время» и «Традиции и новаторство советских композиторов». Радио привлекало ведущих советских музыковедов, что обеспечивало высокий уровень занятий. Лекции содержали разнообразный и интересный материал, освещали важные проблемы связи творчества художника с его временем, традиций и новаторства в советской музыкальной культуре. Для пропаганды музыки на радио привлекался материал и других видов искусств. Таковы были, например, передачи «Чехов и музыка», «Коненков и музыка».
Классической музыке были посвящены также циклы «Творчество композиторов-классиков», «История вокального искусства», «Русский балет», «Рассказы об оперном театре», «Концерты-бесе-ды», «Концерты-загадки», «Знаете ли вы?». Передачи «Просто о сложном» учили пониманию классической музыки, «В мире прекрасного» – знакомили слушателей с классическими произведениями, с жанрами музыкального творчества. Традиционными и популярными формами знакомства слушателей с национальным творчеством стали «радиодни» и радиофестивали.
Стремясь повысить популярность передач, редакция уделяла много внимания развлекательным программам. Так, в радиорубрике «В мире музыкальных инструментов» различные народные инструменты как бы олицетворяли героев небольшого игрового сюжета. К этому виду передач относились «На веселой радиоволне», «У нас в гостях», «Веселая лотерея», «В кругу веселых друзей».
Пропаганде различных форм народного творчества, художественной самодеятельности был посвящен радиосборник «В свободный час», знакомивший с клубными исполнителями, с новым репертуаром различных коллективов художественной самодеятельности.
Организация информационно-музыкальной программы «Маяк» потребовала значительной перестройки работы музыкального вещания, ибо объем музыкальных передач только по этой программе составил 16 часов в сутки. По «Маяку» в течение суток проходили около полусотни музыкальных программ, в которых звучало до 350 произведений, при этом музыка «Маяка» по своему характеру должна была соответствовать профилю программы. Столь высокая потребность в музыкальных произведениях малых форм обуславливала необходимость постоянного пополнения и обновления репертуара на радио.
С 1967 года в стране стало развиваться трехпрограммное проводное вещание – у владельцев радиоточек появился выбор: на 1-й кнопке – I программа, на 2-й – «Маяк», на 3-й – комплекс разнообразных программ: литературно-художественных, музыкальных и детских художественно-просветительских передач, спектаклей, обозрений и т. п.
Глава 4 Парадоксы техники и законы искусства
Прежде всего попробуем опровергнуть легенду. Расхожее определение – A.C. Попов (в западном варианте добавляется Г. Маркони) изобрел великое средство информации и культуры – справедливо только наполовину. Никакого средства культуры Попов и Маркони не изобретали, что никоим образом не умаляет исторического значения их технического открытия – средства связи.
Точно так же историю радиовещания можно вести от создателя телефонного аппарата А. Белла: до сих пор большая половина аудитории радио, по крайней мере в нашей стране, слушает программы, передаваемые по проводам, а не через эфир.
В систему аргументов правомерно ввести и такой. Меньше чем через пятнадцать лет после изобретения А. Белла оно использовалось и в Америке, и в России для экспериментальных попыток передавать с его помощью оперные спектакли прямо со сцены театров. (В расчете, разумеется, на крайне ограниченное число абонентов-слушателей.) Что же касается собственно радио, то еще через четверть века после первого сеанса связи в эфире звучали только точки и тире азбуки Морзе. Человеческий голос по радио прозвучал впервые лишь в 1919 году. Это обстоятельство свидетельствует, что техническое возникновение радиоканала массовой коммуникации и появление нового вида творческой деятельности -у микрофона, есть по сути своей два самостоятельных процесса, не совпадающих во времени. А следовательно, логично усомниться в априорности широко распространенной методологической установки – всякое «техническое» искусство необходимо с момента его рождения рассматривать в неразрывном единстве его природы, функций, структурных особенностей и как средство массовой коммуникации, и как оригинальную отрасль культуры.
Такой подход вполне справедлив к кинематографу. Уже в первых лентах – будь то «фотографический реализм Люмьера»1 или «фантастические и художественные инсценировки... особый жанр, совершенно отличный от программ», состоящих из уличных или бытовых сцен2 Мельеса, – экран продемонстрировал в зачаточном состоянии технико-творческие возможности киносъемки, позднее сложившиеся в ходе их развития в оригинальный язык нового искусства. Вслед за М. Голдовской мы склонны заметить, что сложная и диалектичная взаимосвязь технических и творческих аспектов эволюции кинематографа прослеживается с момента рождения кино и, в частности, с первой программы люмьеровских фильмов, где было несколько сюжетов, которые можно считать первыми опытами публицистики на экране3.
Применительно к радиовещанию такая позиция, увы, абсолютно неверна и для исследователя неплодотворна, если, конечно, не вгонять реальные факты жизни в умозрительную схему и изучать предмет без откровенного насилия над его историей. Подобные попытки между тем имели место и оставили следы в различных изданиях (преимущественно второй половины 30-х и начала 50-х годов) в виде анекдотических рассказов о том, как «голосом матроса с „Авроры“ корабельная радиостанция провозвестила...» и других не менее завлекательных воспоминаний. Даже в конце 70-х годов вышла в свет методическая разработка (!) под названием «История советского радиовещания»4, где рассказывается о «ряде радиопрограмм в период борьбы за Брестский мир», о «звукозаписи в самые напряженные дни Октябрьского восстания» и т. д. и т. п. Все это, по убеждению автора разработки, происходило за полтора года до 27 февраля 1919 года, когда в 10 часов 02 минуты по среднеевропейскому времени вместо сигналов азбуки Морзе в эфире впервые прозвучала человеческая речь: «Алло! Алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория...»
Нетрудно убедиться, что ни о каких эстетических категориях, параметрах, возможностях радиоискусства до указанного срока рассуждать не приходится, т. к. не существовало самого предмета для рассуждений. Современный исследователь выводит следующую морфологическую основу аудиокультуры у микрофона: «в синтезе литературы, музыки и авторского искусства, т. е. всех звучащих и слышимых искусств, который осуществляется по радио, роль структурной доминанты играет именно искусство слова»5 (выделено авт. – А.Ш.). С позиции опыта, накопленного массовым вещанием почти за шесть десятилетий, цитируемая формулировка вовсе не безупречна. Но бесспорно, в ней есть указание на «звучащие и слышимые» компоненты радиопередачи.
Надо заметить, что в качестве коммуникационного канала, способного выполнять и просветительско-пропагандистские задачи, радио заявило о себе еще на стадии использования точек и тире Сэмюэля Морзе. Тут только важно указать, что радиотелеграф в этом свойстве был не автономным средством массовой информации, а составил звено в информационно-пропагандистской цепочке. Так, в 1914-1917 годах из Зимнего дворца передавали сообщения высшего руководства страны, распоряжения двора, имевшие политико-воспитательное назначение, – радиограммы шли на все фронты, где полевые типографии печатали их содержание в листовках и военных газетах. По той же схеме распространялись отдельные постановления и декреты советского правительства.
«Радиовестник ГОСТА» в 1918-1921 годах включал разнообразную информацию – от оперативных сводок до фельетонов на бытовые темы, передаваемых азбукой Морзе. В первые годы советской власти «Радиовестник ГОСТА» был основным поставщиком материалов для местной прессы.
Начальные признаки будущего вещания можно увидеть в текстах этого своеобразного «издания»: авторы его из-за необходимости быть максимально лаконичными (все-таки телеграф!) стремились к простоте композиции и лексики, избегали метафор, сложных фразеологических конструкций и т. п. (Всего, что потом будет мешать «восприятию на слух».) Но это все еще предыстория радиовещания, как зоотроп и эдисоновские кинескопы – предыстория кинематографа, а не первая ступенька его бытия.
Первая ступень истории радиоискусства датирована 1924– 1928 годами. В это время массив регулярных программ в эфире становится достаточно плотным, чтобы начать самовыявление специфических свойств и категорий нового вида творчества. Публицистические радиообозрения и радиогазеты, «комплексные концерты» и спектакли, о которых мы писали выше, развивают «синтез литературы и музыки», определяя и демонстрируя оптимальные для данного искусства композиционные структуры, сочетания выразительных возможностей воздействия на аудиторию, психологические параметры восприятия и т. д. И опять-таки природа этого искусства проявляла себя не сразу, лишь по мере его постепенного технического оснащения.
В 1927 году начинает работу коммутационный узел московского радиоцентра на Никольской ул., 3 – он позволял включать микрофоны, установленные в крупнейших драматических и музыкальных театрах и концертных залах столицы. К акустическим возможностям маленькой студии добавилась аудиопомощь лучших театральных помещений. В 1928-1930 годах регулярными стали «внестудийные» передачи – новая аппаратура позволяла вести репортажи и трансляции с любой открытой площадки – от Красной площади до парка «Эрмитаж». В 1928 году в распоряжение работников радио поступают Студии на Центральном телеграфе в Москве -спроектированные и оснащенные И.И. Рербергом «по последнему слову» тогдашней техники: два павильона, речевая студия и аппаратная, предназначенные для драматических и музыкальных постановочных передач. Акустические характеристики этих студий были выше всяких похвал.
К этому надо прибавить завершение в 1927 году строительства под Москвой самого мощного в Европе, по тем временам, передатчика, и появление первых нескольких тысяч ламповых приемников6, которые позволяли слушать дома художественные программы в виде, скажем так, приближенном к тому, что производили их авторы в студии.
Специфическая особенность этого канала массовой коммуникации заключена в том, что по сравнению с печатью он способен отражать явление действительности в большей конкретности и с большей чувственной полнотой. Происходит это потому, что, отражая реалии материального мира и общественного бытия, слово переносит их в сознание человека иллюзорно, опосредованно, часто метафорически. Звук, представляющий собой суть природы радио, напротив, воспроизводит факты и явления действительности в их непосредственной звуковой характеристике, т. е. в более чувственно конкретной форме. Поэтому радио не должно ограничиваться только словом как средством выражения; оно способно воздействовать на аудиторию целым комплексом выразительных средств, создаваемых возможностями звукового отражения действительности.
Иначе говоря, в отличие от прессы, радио в равной степени ориентировано и на логическое, и на эмоциональное воздействие, опираясь на воображение и фантазию человека.
Ретроспективный же взгляд на историю радиовещания позволяет утверждать: по мере того как радио теряло монополию на наиболее оперативную передачу всевозможной информации, его программы оказывались малоэффективными, а то и бесполезными, если не вторгались в сферу чувств. Отсюда и тяга радио к образной форме общения с аудиторией. В принципе это хорошо понимали и организаторы и авторы передач, размышлявшие над взаимоотношениями техники и эстетики аудиокультуры у микрофона на рубеже 30-х годов – в то время, когда радио обретало право называться искусством.
В эфире начали складываться три направления, три стиля, отличавшиеся различным пониманием технических возможностей радио показать жизнь, события, характеры – реально существующие в действительности или рожденные авторской фантазией.
Первое из них правомерно именовать вербализм. Его сторонники провозглашали абсолютный примат слова в радиопередаче. Любое обращение к музыке и шумам как равноправным компонентам в эфире ими отрицалось из-за ненадежности радиотехники, дававшей основания для таких, например, отзывов аудитории: «Слушал трансляцию оперы «Гугеноты» из Большого театра, гуги дошли все; ноты – ни одной», – это телеграмма 1928 года из Поволжья. Или: «Спасибо, товарищи! Бас и виолончель звучали прекрасно!» – благодарность после выступления тенора и скрипача. И уже трагикомический пример: телеграмма из Клина организаторам радиотрансляции из Большого театра – шли фрагменты одного из балетов П.И. Чайковского: Ипполит Ильич Чайковский выражал искреннюю признательность за пропаганду музыки своего великого брата, но вынужден был признаться, что ему не удалось «опознать» с достаточной вероятностью, какое именно сочинение звучало.
Примат слова представлялся единственным магистральным путем, которым, по мнению сторонников этой идеи, должно было пойти радио в создании передач любого жанрово-тематического направления. Напомним: «чтобы слова заменили мимику, жестикуляцию и обстановку»7.
Второе направление формировали, напротив, оптимисты, искренне верящие в прогресс, во всемогущество ученых, конструкторов и инженеров. Их идейно-эстетические пристрастия принимали вид наивного натурализма, соответствующего немецкому направлению «хербильд» («слуховые картины»), о котором подробно мы будем говорить в 7-й главе.
Идею «всеобъемлющего отображения жизни в эфире посредством звуковых картин» поддерживали многие ведущие теоретики культуры. Президент Академии художественных наук профессор П.С. Коган писал: «Я считаю, что в будущем будет создано совершенно новое радиоискусство для радио. Все звуковые впечатления будут доведены до максимальной выразительности»8. Сторонники направления мелодизма считали, что «все знаки звукового алфавита принципиально должны быть для радиохудожника равными и в момент выбора их, и в момент их использования. Отбор их должен исходить из принципа наивысшей выразительности, наибольшей целесообразности для данной суммы содержания в каждый отдельный момент»9. Публикуя в 1930 году так называемые «16 требований-условий» развития радиоискусства, журнал «Радиослушатель» писал: «... 10) Техника должна прийти на помощь авторам радиопьес в том отношении, чтобы создать звуковой фон, акустическую декорацию, подчеркивающие, выпячивающие значение слова и органически сливающиеся с содержанием пьесы»10.
Но при всем этом слово должно существовать не само по себе, но в определенном ритме, вытекающем из совпадения или противопоставления ритмических основ литературного текста, музыки и «рисующих шумов». Только в этом случае, утверждали в своих теоретических работах и на практике сторонники «мелодизма», возникает ведущая и единая интонация радиопредставления.
В любом случае на первый план выходила проблема достоверности звукового воплощения жизненных ситуаций и сюжетных положений. А следовательно, возникал вопрос о технологических способах этого воплощения.
На первых порах ни у кого не возникало сомнений в правомерности театральной имитации. Это было весьма логично.
Когда в начале 30-х годов проводилась дискуссия о том, как «драматургией и монтажом» сделать наиболее выразительными и доходчивыми самые разные по исходному материалу передачи, впервые было отмечено, что процесс развития радиовещания есть прежде всего процесс театрализации его форм. Начали с обыкновенного деления «на голоса», затем в ткань передачи постепенно вводились музыка и шумы. Следующий этап – усложнение драматургической композиции, соединение в различных пропорциях документального и игрового материала, становление радиорежиссуры как профессии. Вот путь радиопередачи от простого чтения к режиссированному действию, каким она становилась по мере эволюции программ.
Приглашенные на радио актеры приносили опыт театра, обстоятельства «живого вещания» стимулировали воссоздание в студии технологических и психологических ситуаций, присущих традиционной сцене. Вполне естественно, что и воссоздание звуковой среды действия в эфире пошло привычным театру путем, разумеется, с поправкой на микрофон.
4 сентября 1929 года руководством Радиокомитета был подписан приказ № 104 «О мероприятиях в связи с введением в систему радиовещательной работы радиофонической режиссуры»11. С этого дня ведет свою биографию профессия звукорежиссера, и всевозможные эксперименты художественно-технического свойства вменяются в обязанность работникам, занимающим эту должность по штатному расписанию.
Эксперименты ставились с увлечением. Воспоминания очевидцев и материалы прессы позволяют восстановить атмосферу этой работы.
В студии – энтузиаст «звукомонтажа», так именовали шумовое оформление: в аппаратной и других комнатах с наушниками и у репродукторов сидят режиссеры – радиофонические и просто постановщики, техники, редакторы. Задача – через микрофон передать зажигание спички и треск костра, выстрел, цоканье копыт, шуршание льда, закуривание папиросы, шум приближающегося поезда и целый ряд других, более хрупких и тонких звуков, которые даже простым ухом плохо улавливаются.
В списке – свыше тридцати опытов.
Первые три: зажигание спички, закуривание папиросы и разрывание бумаги – не вышли. Однако никто не обескуражен: отрицательный результат – тоже результат.
В одну длинную коробку насыпана дробь, в другую – деревянные бирюльки. «Изобретатель» равномерно трясет обе коробки, и тогда простому уху кажется, что идет поезд.
Шум поезда получается гораздо удачнее, чем следующий опыт -выстрел. Звук выстрела из игрушечного пистолета отдается звуком разрывающейся бомбы в ушах радиослушателей. Пытаются изобразить выстрел другими способами: стучат по барабану, линейкой по столу, хлопают дверью и т. д. Пробуют просто похлопать рукой по стулу, резонно соображая:
– Здесь стул, а там, может, выстрел получится... По радио не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
У самого микрофона ломают и мнут между пальцами хрупкую корзиночку из-под пирожных, и эта корзинка неожиданно передает звук горящего костра: слышно даже, как трещат сухие ветви под напором огня...
Стремление радистов не уступать в достоверности звуковому кино приводило к поиску «сверхнатуральности» звучания. В качестве образца рассматривались опыты американской радиокомпании «Эдисон», где для нужного эффекта в студии была выпущена стая голубей: в другой раз перед микрофоном «устроили» настоящую драку кошки с собакой! Правда, и в Нью-Йорке, и на Московском телеграфе подобные эксперименты продолжались недолго.
В 1930 году звукорежиссер Евгений Рюмин сконструировал «универсальный звуковой станок», при помощи которого «можно извлечь 37 основных групп звукоподражаний или свыше 70 отдельных звуков»12.
История умалчивает, были ли рюминские чертежи воплощены в металле, стекле, дереве, картоне, проволоке и т. д. и т. п., но совершенно очевидно, что режиссеры радиотеатра ожидали этот уникальный прибор с нетерпением. И пока шли переговоры с промышленностью, Е. Рюмин и его товарищи на страницах служебных и специальных изданий охотно делились друг с другом и с коллегами из провинции сорока двумя способами отображения реальных «жизненных» шумов с помощью деревянного корыта, машинки для сбивания яичных желтков, разорванной футбольной камеры, ручки от граммофона, гречневой крупы, папиросной бумаги, сломанной и работающей фисгармоний и прочих не менее занятных вещей. Перед публикацией все описываемые звуковые эффекты – «и стандартно слышимые – привычные, и трюковые» проходили проверку в передачах из большой и малой Студий на Телеграфе. Не могло же такое богатство без дела пылиться в углу или на студийных антресолях, оно шло в ход мощно, хотя и не всегда разумно.
В принципе описанные здесь поиски звукошумовых реалий у микрофона, конечно, принесли большую пользу. Создавались основы той звукорежиссуры, которая обусловила художественную и жизненную убедительность многих разнообразных циклов и программ 40 – 70-х годов, т. е. в условиях предварительного подбора «шумовых» звукозаписей. Эффект достигался порой поразительный: за два года до запуска первого искусственного спутника Земли радио «отправило человека в космос». И весь мир чуть было не поверил – так точно были воспроизведены все полагающиеся звуковые реалии.
«Школа» такой звукорежиссуры закладывалась в экспериментах на Телеграфе. Однако не случайно же говорим мы о том, что наши недостатки рождаются из наших достоинств. Оригинальность звукошумовых приемов становилась в некоторых спектаклях если не самоцелью, то фактором, определяющим режиссерскую самооценку. Порой литературная первооснова рассматривалась прежде всего с позиции: достаточно ли в тексте описательных моментов, позволяющих демонстрировать широкую палитру шумовых эффектов? Уже и редакторско-режиссерский анализ прозаического или поэтического первоисточника шел главным образом по линии выявления именно таких структурных элементов.
Проницательный критик по этому поводу писал:
«Перед нами открыты богатейшие возможности использования звука как носителя семантики, т. е. смыслового значения использования звука как носителя определенной эмоции и т. д. Звук в радиоискусстве – не простой привесок к слову...»13
Появление звукозаписывающей аппаратуры обострило дилемму – документальность или жизнеподобие звуковой среды радиопередачи – до неспровоцированного выбора дуги всего аудиоискусства: оставаться верным традициям в методологии театра или двинуться вслед за неведомыми еще возможностями кино. Оговоримся сразу, что в качестве путеводной звезды работники радио в тот период избирали лишь хроникальный экран – опыт игрового кинематографа казался им бесперспективным: его ленты были в абсолютном большинстве еще немые.
Вообще, процесс освоения звукозаписи на радио напоминает внедрение звука в кино. Подмастерья схватились за новую технику сразу и с восторгом14.
Мастера отнеслись к возможностям звукозаписи настороженно. Соединение театральной условности в работе актера и документальной достоверности звуковой структуры не казалось им простым механическим процессом.
В 1930 году Э.П. Гарин принимает участие в научно-популярном моноспектакле «Путешествие по Японии». Специально для этой передачи на улицах Токио и Киото были записаны на пластинки шум транспорта, говор, крики торговцев, бытовая музыка и т. д. По ходу рассказа Путешественника (Э. Гарин) в Студии на Телеграфе включался граммофон.
Позднее артист напишет, что ограничения, вызванные техникой и этим конкретным режиссерским приемом, ему очень мешали.
«Как воздух нужна была свобода у микрофона», а введение каждый раз непосредственно в живую актерскую речь граммофонных пластинок требовало особого напряжения для точного ритмического их освоения15. К этой работе Гарина на радио мы еще вернемся в главе о нем.
В начале 30-х годов В.Э. Мейерхольд разрабатывает режиссерскую партитуру радиоверсии пушкинского «Каменного гостя». Музыка и шумы в этом радиоспектакле выполняли функцию декораций.
Более подробно об этом мы расскажем в главе о В.Э. Мейерхольде, а пока обратим внимание на такой эпизод в работе. Звукорежиссеры радио предложили В.Э. Мейерхольду повторить прием, использованный Н.О. Волконским, и добиться абсолютной звуковой реальности.
В ответ Мейерхольд напомнил им историю, произошедшую с А.П. Чеховым на репетиции «Чайки» в Художественном театре.
«Сцена, – говорит А.П., – требует известной условности... Сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни...»16
Время покажет, что это чеховское высказывание и для невидимой сцены радиотеатра выражает один из наиболее плодотворных творческих принципов. Но произойдет это лишь по мере того, как звукозапись из разряда пугающе всеобъемлющего новшества культуры превратится в привычное, «подручное» средство технологии искусства у микрофона.
Отметим несколько важных дат в этом совместном движении техники и искусства.
В 1931 году была организована по типу киностудии фабрика «Радиофильм» специально для подготовки передач, фиксированных предварительно на кинопленке. Название фабрики стало обозначением разновидности художественных и художественно-публицистических передач, которые представляли собой «тот же звуковой кинофильм, но на ленте радиофильма отсутствуют кинокадры. Это обыкновенная стандартная кинопленка с нанесенной на ней сбоку фонограммой, фотографией звука»17.
Экспериментальные работы фабрики «Радиофильм» появились в эфире в том же 1931 году. Это была уже упомянутая «Реконструкция железнодорожного транспорта» и другие.
Регулярно оперативная звукозапись стала использоваться при подготовке передач с 1936 года – с момента внедрения аппарата механической записи звука конструкции инженера Шорина. (Кинопленка, склеенная в кольцо, перемещалась мимо резца, соединенного с рупором, – разновидность грамзаписи. С каждым оборотом пленочного кольца резец смещался ниже и так, пока не использовалась вся ширина пленки. Воспроизведение – обратным образом. Монтаж был невозможен.) В мае 1938 года были открыты первые курсы звукооператоров, на которых занималось около 50 человек из всех местных радиокомитетов страны.
К концу 30-х годов на радио появились репортажные шоринофоны. «Это были еще несовершенные аппараты, но появление их намного расширило возможности применения механической записи на радио. Эту возможность быстро реализовали сначала товарищи из «Последних известий», а затем из литературно-художественных редакций, т. к. подлинность их передач могла быть удостоверена новой техникой, а результаты работы звукорежиссеров часто использовались как художественные аргументы»18, – пишет очевидец.
В конце тридцатых годов началось использование звукозаписи для фиксации на пленке театральных спектаклей. В 1939 году осуществляется запись (полностью) спектаклей МХАТа «Анна Каренина» и «Горе от ума», положившая начало «золотому фонду» Всесоюзного радио.
Технологической основой вещания звукозапись стала лишь в первые послевоенные годы, когда в Москву привезли трофейную немецкую аппаратуру и запасы пленки. Документы свидетельствуют: «К концу 1946 года значительное большинство программ по всем редакциям радио шли в эфир «в записи на пленку», «Звукозапись прочно и властно вошла в радиовещание. 90 процентов всех материалов, передающихся в эфир, звучит в записи...»19
И тем не менее принципиальные особенности этой новой технологии творчества познавались и достаточно успешно использовались мастерами радиорежиссуры уже с момента появления новой аппаратуры. Часто в порядке эксперимента. Но как много значили эти эксперименты и для текущей практики художественного вещания, и для будущего радиоискусства.
Открывались уникальные возможности «дублей», монтажа, выявления качественно новых эстетических характеристик, неведомых прежде композиционных построений.
Выяснилось, к примеру, что, монтируя документальные записи и их имитированные в студии аналоги, можно выстраивать звуковой ряд с четким, легко усваиваемым сюжетом – без единого комментирующего слова. Сцена из предвоенного детектива:
...Сквозь пургу и вой ветра прорывается морзянка разведчика. На окраине маленького города в тени старой церкви притаился домик, на втором этаже которого расположился радист. Остервенелая растерянность штаба, «упустившего» вражеского связника. Приказы, исходящие из разных кабинетов. Настороженно ощерились машины «перехвата». И вот уже мчатся по городу мотоциклы и грузовики с солдатами. После короткой, но ожесточенной схватки они врываются в дом. Очередь из автомата разбивает рацию...
И ни единой реплики, кроме военных команд, обращенных солдатам.
Совсем другое направление поиска – расширение интонационно-речевых возможностей исполнителя с помощью технических способов звукообразования. Самый известный из ранних экспериментов такого рода – «Приключения Буратино». Передача вышла в эфир уже после войны, но первые «пробы» режиссер Р. Иоффе сделала во второй половине 30-х годов, определив оригинальные художественные возможности радио при помощи убыстрения или замедления хода магнитной пленки.
Но конечно, самое главное, что привнесла техника звукозаписи в эстетику радиоискусства – дополнительные и чрезвычайно обильные возможности принципиально нового отражения времени и пространства. Как справедливо указывает Т. Марченко, именно для радио трансформации времени и пространства «особенно органичны, ибо стремительно монтажно само наше мышление, оно монтажнее, чем всякое зримое действие. Если бы автор попытался подчинить зрительный ряд театрального спектакля или кинофильма монтажной логике непосредственного мышления, зритель столкнулся бы с хаосом, не поддающимся восприятию и осмыслению»20. Радио в силу обращения прежде всего к воображению человека, к его мышлению, более мобильно, и потому обратимость времени и пространства ему свойственна в большей мере, чем театру и даже кинематографу.
Итак, да здравствует техника звукозаписи? А вслед за ней техника стереофонии, позволяющая придавать звуковым образам физический объем... И новые сверхчувствительные микрофоны, и микроминиатюрные приемники... Ибо если радиоискусство есть вид творческой деятельности, опосредованный техникой, то, логически рассуждая, прогресс этой самой техники должен вести к прогрессу искусства.
Но если бы жизнь подчинялась правилам формальной логики!
Парадокс во взаимоотношениях техники и творчества в сфере радиоискусства как раз в том и заключается, что воздействие первого на второе – отнюдь не прямо пропорционально и вовсе не однозначно.
Впрочем, этот парадокс дает себя знать не только у микрофона. Как часто теперь в лучах лазерных установок и в звучании фонограмм растворяются индивидуальности исполнителей, скажем, на музыкальной эстраде, где техника помогает скорее стереотипизировать имидж певца или ансамбля, нежели проявить его неповторимость.
Нечто подобное – с меньшей, разумеется, интенсивностью -происходит и в драматическом театре. Огромное пространство зрительного зала, сложнейшая световая и звуковая аппаратура при не слишком сдерживаемом режиссерском темпераменте (если есть техническая возможность постановочного эффекта, от него очень трудно удержаться) встают между актером и зрителем уже как барьер, разрушающий самое дорогое, что может быть в этом виде искусства, – живое общение.
Не случайно возникновение «малых сцен» – в тот самый момент, когда театральная машинерия получила подкрепление в виде нового пополнения аппаратуры для разнообразия «зрелищных сторон» сценического действия. В этом тяга к модели «театра-коврика», на котором актер может сыграть без всяких приспособлений (и без всяких препятствий на пути к зрителю) и Гамлета, и Арлекина, и Бориса Годунова – любую по масштабу предлагаемых обстоятельств пьесу. (Нам кажется, что интерес к «прямому» эфиру, возникший в середине 80-х годов, – сродни этому процессу.)
Но и трюизм – чем беднее художник, тем богаче его фантазия -тоже малопригоден для объяснения ситуации, складывающейся в радиостудии. Противоречия тут более глубокие, имеют природную, а не только субъективную основу.
Уже несколько раз мы говорили, что радио опирается на воображение слушателей, каждый из которых в меру своих способностей и развития ассоциативного мышления пытается перевести звуковые впечатления в зрительные. Процесс этот неизбежен, ибо выражает объективную закономерность природы восприятия окружающего мира. Физиолог И.М. Сеченов указывал, что малейший внешний намек на часть влечет за собой воспроизведение целой ассоциации. Если дана, например, ассоциация зрительно-осязательно-слуховая, то при малейшем внешнем намеке на ее часть (то есть при самом слабом возбуждении зрительного, или слухового, или осязательного нерва формой или звуком, заключающимся в ассоциации) в сознании воспроизводится она целиком. Это явление встречается на каждом шагу в сознательной жизни человека. Следовательно, звук в передаче радио через слуховое восприятие способен вызвать ощущение пластического облика предмета – формы, линии, цвета, его движения в пространстве, воспроизвести облик человека и разнообразные чувства, владеющие этим человеком, -радость, горе, боль, наслаждение и т. д.
Реалии подлинной жизни мы воспринимаем через радио не только как слышимое, но и как видимое, ощущаемое и т. д.
Развивая эту идею, на заре массового вещания профессор Н. Подкопаев провел исследование, озаглавленное им «Радиопередача с точки зрения физиологии». В отчете он писал: «Воссоздание целостной синтетической картины путем одного наличного раздражителя (звукового) требует от мозга гораздо большей работы, чем восприятие через многие наличные раздражители»21. И далее ученый высказывает сомнение в том, что обилие раздражителей или их структурная сложность плодотворны для сохранения художественной целостности передачи с точки зрения ее восприятия.
Техника радио позволяет с безграничной широтой воссоздать реальную атмосферу практически любого события или явления. Качественная магнитофонная пленка уже к концу 30-х годов «выносила» до полутора десятков совмещений различных речевых, музыкальных, шумовых звучаний. Качественные динамики типа «Телефункен», давали возможность различать эти множественные «наложения ».
Но, оказывается, эта самая множественность не развивает, а затормаживает фантазию человека. Чем локальнее звуковой сигнал -речевой, музыкальный или шумовой, безразлично, – тем шире круг ассоциаций у слушателя. Эта гипотеза получила подтверждение в ряде экспериментальных исследований, в том числе и в опытах, проведенных автором настоящей работы.
Трем группам слушателей, каждая из которых включала десять человек, были предложены для прослушивания пять фонограмм. Четыре из них представляли звукозапись реальных событий, пятая была записью звука метронома.
В первых четырех фонограммах были изъяты реплики, по которым можно было определить суть, место и время события.
Фонограммы были подобраны по степени сокращения звукоряда.
Первая отражала перекрытие реки на строительстве ГЭС.
Вторая – шум улицы с проходящим военным оркестром.
Третья – сложную медицинскую операцию в травматологической клинике.
Четвертая – взлет авиалайнера, записанный в кабине пилотов.
Пятая, как мы уже указывали, представляла собой звук метронома.
В описанном эксперименте шумы была использованы в качестве адекватных музыке возбудителей ассоциативного мышления. Такое условие соответствует их природным возможностям в смысле воздействия на слух человека. Не случайно психологи ставят знак равенства между музыкой и шумами, имея в виду их способность отражать явления материального мира «ритмически и интонационно организованными звуками»22.
Выдающийся дирижер и музыковед XX века Леопольд Стоковский одну из глав своей монографии о природе музыкального искусства озаглавил «Все звуки могут стать музыкой». Рассматривая тональную окраску и ритмическую структуру различных шумов, сопутствующих тем или иным явлениям природы или цивилизации – рев океанского прибоя, плеск речных волн, свист ветра, грохот работающих станков, шелест листьев, постукивание колес поезда, топот лошадей, гул автомобильных моторов, звон капель, падающих с весел лодки, плывущей по тихому озеру, и т. д., -Л. Стоковский утверждает, что все шумы, с которыми сталкивается человек, обладают своеобразной ритмической пульсацией и нередко приобретают значение своеобразной музыки23.
Участникам прослушивания было предложено описать те события и объекты, которые, по их мнению, могли быть охарактеризованы звуками, запечатленными на фонограммах.
Эксперимент проводился в несколько сеансов, с временным разрывом от семи до десяти дней, причем на каждом сеансе слушателям предлагалась для прослушивания только одна фонограмма. Реальное содержание фонограммы слушателям не было сообщено заранее.
Ответы слушателей фиксировались в письменной форме и суммировались. В результате выносилось общее число объектов, возникших в воображении слушателей под воздействием фонограммы (за исключением повторов – совпадающие объекты засчитывались за один).
По составу слушателей и по возрасту каждая из трех групп была однородна. В первую из них входили рабочие, во вторую – студенты, в третью – актеры.
Прилагаемая ниже таблица характеризует результаты проведенного нами опыта. Понятие «объект» в нашем эксперименте означает место действия, ассоциативно возникшее в воображении слушателя в результате прослушивания.
Таким образом, наибольший круг ассоциаций вызывал наиболее локальный звуковой сигнал – стук метронома. Более того, расшифровка характера объектов, рожденных фантазией слушателей под воздействием этого конкретного сигнала, показывает, что он нес весьма значительное семантическое наполнение. Вот только один вариант:
«Я представляю себе холодную зиму сорок первого года, замерзшую Неву, вид на Ленинград с высоты Исаакиевского собора. Танк, выползающий из цеха Кировского завода. Трамвай на углу Литейного и Невского. Вижу лица в очереди за хлебом. И снова танк... Лицо Ольги Берггольц. Лицо Анны Ахматовой. Томик стихов Ахматовой, где напечатан ее ответ на звуковое письмо Берггольц. И опять улицы Ленинграда...»
Автор этого ответа – студент 3-го курса Политехнического института.
Приписка: «Я пытался проанализировать свои видения. Очевидно, в подсознании выстроилась такая цепочка: метроном – Ленинград в блокаде – если звучит метроном, значит, есть энергия – следовательно, работают предприятия – значит, город живет и воюет... Остальное за меня сделала память».
Таблица показывает и весьма определенную закономерность -круг ассоциаций не пульсирует спонтанно: он убывает, когда «расширяется» фонограмма, и, напротив, возрастает при ее локализации.
Может быть, где-то здесь следует искать и ответ на вопрос о том, почему не получают широкой популярности стереофонические радиопрограммы. При том, что бытовая аппаратура для слушания музыки в абсолютном своем большинстве стереофоническая.
(К началу 80-х годов IV радиопрограмма (стереофоническая) охватывала около 15 процентов населения страны, проживающего на территории около 1 процента. Планами предусматривалось ее увеличение в расчете на 60 процентов населения. От этой цели отказались по многим причинам, среди которых немаловажной было заключение экспертов о крайне низком интересе к передачам стереофонического звучания.)
Еще одна группа противоречий. Возможность выбирать варианты исполнения, монтировать в единое целое записи, разные по характеру, по времени их осуществления, по интонации, соединять слово и музыку в наиболее выразительных пропорциях – все это составляет бесконечные достоинства технологии радиоискусства. В этом смысле возможности действительно беспредельны. Тут нам хочется привести пример с постановкой А. Эфроса на радио «Маленьких трагедий» Пушкина. (Подробно об этом мы расскажем в главе 23.)
Осенью 1980 года в студии был записан черновой набросок постановки. В роли Дон Гуана – В. Высоцкий. Летом Высоцкого не стало. А. Эфрос с помощью превосходного ассистента и монтажеров возобновил случайно сохранившуюся запись репетиции и превратил в блестящий спектакль, записав, разумеется, актеров в ролях Лепорелло, Лауры, Доны Анны.
Нескольких реплик Дон Гуана не хватало – их произнес вместо Высоцкого другой артист. Какие именно это реплики – при прослушивании не смог определить ни один из почитателей таланта покойного.
Прекрасный и роковой пример технического и технологического всемогущества.
Почему прекрасный – расшифровывать не надо. Почему – роковой? Потому что неповторимость и значительность творчества у микрофона поставлены под сомнение. Если опытный и талантливый звукооператор способен «собрать» на пленке целую фразу, соединяя и отсекая даже не слова, а звуки, вздохи и междометия, разве так уж важно, кто и как произнесет эти звуки?
Так совершенство техники и технологии программирует инфляцию актерского, а в результате и режиссерского искусства на радио.
Этот процесс нетрудно проследить. Миниатюрная техника звукозаписи и аппаратура, позволяющая изощренно монтировать пленку, с одной стороны, облегчают работу, но с другой – освобождают от необходимости максимально концентрировать внимание на слове, сказанном в микрофон по ходу события; иначе говоря, снижают порог ответственности за это слово – его нетрудно «заменить в монтажной».
В результате – это отмечали многие серьезные исследователи -постепенно терялись точность и культура речи у микрофона.
Во время репортажа журналисты, особенно молодые, чаще ограничивали свою задачу не четким описанием и аналитичным разбором события, а формальной его фиксацией с весьма приблизительными комментариями. В ходе интервью подразумевающаяся возможность поменять последовательность, а иногда и само содержание вопросов и ответов уже на стадии подготовки передачи к эфиру в аппаратной – как свидетельствует практика – вели к неточным, приблизительным формулировкам, бедности лексики и интонаций.
А постольку поскольку в сфере радио различные направления существуют по принципу сообщающихся сосудов, нетрудно заметить, что лингвистические интонационные примитивы общественно-политического вещания сильно и дурно повлияли на художественный язык радиотеатра.
Но пожалуй, самый неожиданный парадокс во взаимоотношениях техники и творчества у микрофона заключается в том, что скорость научного и технического прогресса в этой области оказывается одним из главных тормозов нормального развития искусства, т. к. затрудняет естественный и необходимый процесс передачи эстетических норм и традиций от одного поколения работников к другому. Характерная черта эстетики радиоискусства – отсутствие преемственности в творческом процессе. Она если и прослеживается, то в случайном совпадении отдельных стилистических навыков и приемов у отдельных мастеров. Избирательное освоение опыта предшественников в качестве ориентиров непреходящей ценности, кажется, всегда было обязательным условием поступательного движения в любом виде художественной деятельности. На радио каждое поколение режиссеров, редакторов, актеров попадало практически в принципиально новые условия технологии производства.
Более того – людям, посвятившим себя творчеству у микрофона, за активный период работы в 15 лет минимум дважды приходилось почти полностью переучиваться, т. к. более совершенная техника требовала иных психологических и профессиональных навыков -иногда прямо противоположных уже наработанным.
Технологическая реформа в искусстве порой выглядит невинно и незаметно.
Вот, скажем, при монтаже магнитофонной записи сначала склеивали концы ленты специальным клеем. А потом появились улучшенные магнитофоны и улучшенная пленка и склеивать ее надо было уже другой лентой – липким «скотчем», и уже не накладывая один конец на другой, а соединяя на специальной подставке.
Мелочь? На чей взгляд.
Вместо 6-7 секунд на одно монтажное соединение даже опытные звукооператоры стали тратить более 30-40 секунд. Изменился ритм работы в монтажной, а это уже повлияло на ритм и темп всего творческого процесса. А в результате и на его качество24. Режиссеры, к примеру, стали избегать дополнительных дублей, чтобы избежать потом затяжки монтажа. Актеры очень быстро почувствовали, что у них стало меньше шансов повторить сцену, исправить ошибку.
Сталкиваясь с новой технологией, волей-неволей приспосабливая к ее требованиям свое мышление, творческий работник радио каждый раз вынужденно оказывается в положении Галилея, обязанного доказывать самому себе, что от усиления линз его телескопа строение Вселенной не меняется. Но ведь гораздо проще и спокойнее убедить себя в том, что Вселенная существует только в том виде, в котором ее можно узреть с помощью данной модификации «зрительной трубы». И возникает аура, в которой уютно изобретать велосипед.
Однако пора заметить, что эстетические и образные начала современного радиоискусства хотя и эволюционируют частично под воздействием технических усовершенствований производства, но в своей основе остаются такими же, как и при появлении на свет, – т. е. в условиях непосредственного («живого») вещания. Продемонстрировать это наиболее удобно на примере любого из видов монтажа (о чем мы будем говорить ниже).
До сих пор наиболее сложный синтез звуковых элементов по принципу акустического коллажа считается детищем звукозаписывающей техники и фантазии специалистов и режиссеров радио середины 60-х годов.
На особенность метода коллажа обратил внимание еще А. Белый в своих размышлениях о сценической практике режиссеров МХАТа, воплощавших чеховскую драматургию: «Смешение порядков последовательности, сравнение этих порядков друг с другом -все это обусловливает так называемый „фантастический“ элемент, с которым мы сталкиваемся в искусстве... Разность порядков единой последовательности вырастает благодаря разнообразию в способах сложения тех же дифференциалов. Элементы различных последовательностей объединяются пристальным рассмотрением в единую реальность»25.
Если с этих позиций соотнести любую из коллажных программ радиотеатра 60-х годов, появившуюся благодаря техническим возможностям звукозаписи, с передачами 30-х годов, то совсем не сложно увидеть их генетическую связь, а то и откровенное сходство, ибо метод коллажа утверждался и в «живом» вещании – только не с помощью ножниц в монтажной, а на стадии драматургической разработки материала на письменном столе автора.
В 1931 году О.Н. Абдулов ставит на радио документальную драму Арс. Тарковского «Повесть о сфагнуме» и так определяет стилистику спектакля: «Лирически, перемежаясь реальными цифровыми данными»26.
Акустический коллаж – наиболее совершенный, на наш взгляд, результат плодотворных взаимоотношений техники и личности в радиоискусстве. Доминанта этих отношений – режиссерское мышление у микрофона, аккумулирующее не только и не столько изощренность технологических решений и изыски человеческих реакций на окружающую действительность, сколько опыт целесообразности их соединения в той или иной пропорции. Ретроспективный подход дает основание выделять два основных направления в поисках этой целесообразности – оба имеют прочные корни в «живом» вещании.
В первом случае режиссер стремится воссоздать достоверно звуковую среду, где существуют и действуют его герои, чтобы слушатель с максимально возможной полнотой ощутил, почувствовал, пережил конкретные бытовые обстоятельства, определяющие конкретные поступки персонажей. Через физическую реальность жизни режиссер ведет аудиторию к пониманию психологии и мировоззрения персонажа.
Это направление радиоискусства, получившее название «слуховая пьеса», успешно разрабатывалось в конце 20 – начале 30-х годов В. Марковым, О. Абдуловым, Э. Гариным, Н. Волконским и рядом других режиссеров. Затем оно оказалось забытым – о причинах особый разговор, и он будет позднее. Реабилитировал его полностью и с огромным успехом (хотя и запоздавшим – премьера в эфире состоялась через 22 года после завершения работы) кинорежиссер Андрей Тарковский своим радиоспектаклем «Полный поворот кругом» по рассказу У. Фолкнера. О нем мы будем рассказывать в главе о Тарковском.
Второе направление – оно идет от радиоработ Л. Леонидова, Д. Горюнова, Г. Рошаля, А. Дорменко, А. Таирова, В. Яхонтова и других режиссеров – наиболее четко и выразительно продемонстрировал в 70 – 80-х годах Анатолий Эфрос.
Внешние обстоятельства, бытовые реалии в этом случае не имеют принципиального значения: из палитры выразительных средств выбирается минимум, необходимый для символического обозначения атмосферы действия. Внимание аудитории направляется на речевые интонационные характеристики: локальные музыкальные (и совсем редко шумовые) дополнения лишь поддерживают их, сохраняя общий ритм спектакля. Звуковые эффекты исключены почти полностью. Режиссер помещает героев в некую условную среду, которую они должны оправдать и создать жизненно реальной и узнаваемой слушателю искренностью и правдивостью своих чувств и своих слов.
Не случайно А. Эфрос, а вместе с ним А. Баталов, С. Любшин и многие другие режиссеры театра и кино, регулярно работающие в радиостудии, не приемлют физической звуковой реализации авторских ремарок, чаще всего заменяя их простым чтением «от автора».
Пример такого рода – работа над спектаклем «Мартин Иден» по Джеку Лондону.
Шум моря, далекий протяжный гудок паровоза... Скрежет ворот типографии... Гудки...
Даже этот минимум «служебного свойства», использованный на записи спектакля, при окончательном монтаже был с неумолимой жесткостью изъят из звуковой ткани радиопредставления, ибо он, по мнению постановщика, «мешал слушателям слушать» исполнителей. Вместо всего этого музыка Д.Д. Шостаковича – две или три темы из IV симфонии. Они несколько раз повторяются, возникая не более чем на 15-20 секунд, но этого оказывается достаточно, чтобы сохранить напряжение рассказа трагической наполненностью, присущей музыке Шостаковича.
Названные здесь два направления в радиорежиссуре поляризованы нами, разумеется, условно, как условна любая классификация. Нам хотелось лишь подчеркнуть многообразие возможностей радиосцены, определенное ее техническим оснащением. Нельзя только забывать, что самый поразительный технический эффект на этой сцене обретает цель и смысл лишь в подчинении логике и диалектике творческого процесса. Этому радио училось у мастеров русской драматической сцены.
Эстетическая эффективность радиопередачи, мера ее художественного воздействия на аудиторию находятся в прямой зависимости от точности и мастерства в выборе комплекса выразительных средств, накопленных в арсенале радиожурналистики. При этом следует всегда помнить, что успех человека у микрофона зависит не только от того, как логично, умно и аналитично он рассказывает о событии или об окружающем мире, но в равной степени и от того, насколько эмоциональным будет его эфирное повествование, в какой степени затронет он и разум, и чувства слушателя. Это касается всех видов журналистики – и прессы, и электронных СМИ, но для радиовещания является непременным условием его существования. В силу самой своей природы радио тяготеет к образному общению со слушателем, ибо, как мы уже говорили, звуком побуждает активную деятельность человеческого воображения.
В связи с этим вполне естественно возникает вопрос о самом понятии «звуковой образ». Опираясь на многолетнюю и разностороннюю практику вещания, можно сформулировать такое его определение: звуковой образ – это совокупность звуковых элементов (речи, музыки и шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций представление (в обобщенном виде) о материальном объекте, жизненном событии, характере человека.
Итак, совокупность элементов, равно значимых, равно важных. Поиск оптимального их сочетания в каждом конкретном случае и составляет суть творчества в аудиоискусстве, стремящемся достичь наиболее доходчивой и выразительной формы для передачи авторских и исполнительских мыслей и жизненных наблюдений. Собственно говоря, здесь как раз и обретается индивидуальность, вырабатывается неповторимый или, напротив, стандартный профессиональный почерк.
В практике вещания прослеживаются разные тенденции в отношении к звуковому образу, в том числе и к его упрощению, к «скупости красок», доходящей порой до полного отказа от всех выразительных средств, кроме слова. Появлялись даже попытки подвести «теоретическую базу» под это явление, в которых любое проявление индивидуальности журналиста или диктора у микрофона, любое его стремление придать радиосообщению эмоциональную окраску расценивались как подрыв авторитета официального органа пропаганды: – Радио ведь не ваше, а государственное.
В 30-е годы на страницах журнала «Говорит СССР» проходила длительная дискуссия о том, как «драматургией и монтажом сообщений» сделать выпуски «Последних известий» и радиогазет наиболее выразительными и доходчивыми.
Познание возможностей радио как системы образного общения с аудиторией началось с обыкновенного деления «на голоса». Затем в ткань передачи стали вводить музыку и шумы. Следующий этап -усложнение драматической композиции, соединение в определенных пропорциях элементов различных жанров, относящихся к документальному и художественному видам вещания, становление радиорежиссуры как профессии. Вот путь становления звукового образа.
Отметим любопытный факт: профессиональная терминология радио полностью заимствована у театра и кинематографа, хотя первому из них уже тысячи лет, а второй – ровесник радио. Случайно ли это совпадение в терминах? Не является ли оно естественным, логически обоснованным выражением не соседства, а органического родства вышеназванных видов искусства и СМИ? «Надо и вне представления на сцене слагать фабулу так, чтобы всякий, слушающий о происходящих событиях, содрогался и чувствовал сострадание по мере того, как разворачиваются события». Не правда ли, как точно обозначены принципы искусства звуковых образов? А ведь это Аристотель, начало 14-й главы его «Поэтики».
В любом материале, в том числе и информационно-хроникаль-ном, автор стремится найти свой сюжетный ход, выстроить выгодную композицию материала, определить эффектный момент для кульминации – словом, он следует тем самым законам воздействия на ум и чувства человека, которые были сформулированы как основы драматического искусства еще Аристотелем.
Выразительные средства радиожурналистики составляют две группы, находящиеся в неразрывной связи друг с другом.
К первой группе – стабильной, не подверженной количественным изменениям, относится тот исходный звуковой «материал», которым оперирует радиожурналист, – это четыре элемента: слово (;речь), музыка, шумы (студийные) и документальные записи, сделанные вне студии. В свою очередь, документальные записи также включают в себя речь, шумы и музыку, но, в отличие от студийных, последние не могут поодиночке самостоятельно составить содержание радиопередачи.
В отдельную передачу они чаще всего могут превратиться или в комплексе, или в сочетании с записанными в студии речевыми комментариями.
Эти четыре элемента системы мы называем природными, или формообразующими. Они неизменны, стабильны, их природа не подвластна субъективному воздействию радиожурналиста.
Вторая группа, напротив – мобильна, ибо находится в полной зависимости от воли и субъективных творческих потребностей автора радиосообщения. Поэтому входящие в нее выразительные средства радиожурналистики мы называем техническими, или стилеобразующими. К ним относятся монтаж, голосовой грим, звуковая мизансцена, ряд технических способов звукообразования (реверберация и т. п.) и другие.
По мере развития радиотехники и изменений в технологии производства радиосообщений, а также в зависимости от творческой фантазии авторов радиосообщений число стилеобразующих выразительных средств, безусловно, будет изменяться: увеличиваться (благодаря техническому прогрессу) или уменьшаться (в соответствии с реальными функциональными потребностями вещания, конкретной станции или личными вкусами автора).
Рассмотрим более подробно каждое из выразительных средств.
Формообразующие выразительные средства радиожурналистики
Слово (человеческая речь). При выборе слов перед журналистом возникают сразу три задачи. Они должны точно описывать событие, которое является объектом журналистского внимания; достоверно передавать его атмосферу. Сравним, например, фрагменты из репортажей нескольких журналистов с места одного и того же события.
...Аэродром, зима, на летном поле кучка людей ждет приземления самолета, который должен доставить из Афганистана «груз 200» – цинковые ящики с телами наших солдат, погибших в боях.
Репортажи явно делаются впрок – для эфирных программ они не предназначаются, ибо правительство и военные вовсе не собираются сообщать широкой общественности правду об афганской войне, она еще в самом начале.
У микрофона журналист из радиостудии Министерства обороны: «На летном поле холодно. И наверное, так же холодно в душах людей, которые мужественно преодолевают трудности момента, еще несколько минут, и приземлится самолет с печальным грузом».
У микрофона корреспондент Всесоюзного радио из числа специализирующихся на пропаганде армейских успехов:
«Печальные лица у мужчин в форме и в гражданском. Среди них несколько женщин с грустными, заплаканными глазами...»
В этих фразах двух приведенных отрывков на первый взгляд все правда, на самом же деле слова лживы. Разве понятия «грусть», «печаль», «мужественное преодоление трудностей момента» соответствуют той трагедии, о которой рассказывают репортеры? Родители – достаточно высокопоставленные, отобранные политической Системой среди «обычного населения» (иначе они просто не попали бы на этот аэродром и это летное поле, а получили бы повестку в морг или в лучшем случае в военкомат) – ждут, когда привезут трупы их детей.
Есть кинохроника этого трагического эпизода, и есть третий комментарий события – кинодокументалиста:
«Окаменевшие от ужаса и горя лица. Молодая женщина лет двадцати – ей везут останки ее мужа – у нее, как у старухи, трясутся обе руки, и она не может удержать в руках сумочку.
...Генерал-майор в распахнутой, несмотря на мороз и метель, шинели. Он все время вытирает слезы и что-то беззвучно шепчет, будто молится; в глазах у него мертвая пустота, словно там, в Афганистане, убит он сам, а не его любимый сын».
Сравнение трех приведенных текстов показывает, как важно не просто правильно найти слово, но найти его честно, а значит, точно по отношению к сути происходящего.
Вторая задача – найти наиболее точную интонацию, которая часто несет ничуть не меньше информации, чем само содержание материала. Бернард Шоу когда-то заметил, что есть только один способ написать слово «да» или слово «нет», но есть 50 вариантов его произношения – причем часто с прямо противоположным значением.
Говоря о звуковом языке и огромной роли интонации, выдающийся русский философ А.Ф. Лосев указывал, что интонация и экспрессия как приемы лексического общения возникают одновременно со словом и что вне интонации любое слово просто не имеет смысла.
Слово, устное или письменное, если оно несет значительный смысл, может (с учетом особенностей и приемов использования того и другого) эффективно воздействовать на воображение человека в понятийной форме, минуя зрительные ассоциации, т. е. не нуждаясь в «подкреплении» визуальным рядом. Большая часть материала радиожурналистики, особенно в информационной сфере, доходит до аудитории именно таким образом.
В то же время что слово, будучи основным носителем содержания как в литературе, так и в журналистике в целом – включая и радиотелевизионную, – всегда ориентируется на эмоции человека, на образность, которую нельзя сводить лишь к зрительному представлению. Образ, возникающий в сознании человека, сложен по своей природе: он являет собой сплав эмоционального и смыслового, рационального и интуитивно-ощущаемого. М.В. Ломоносов, отмечая роль эмоции и имея в виду, конечно, письменные и устные литературные жанры, писал: «Больше всех служат к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в чувство ударяют, а особливо как бы действительно в зрении изображаются ».
Еще в начале 30-х годов выдающиеся мастера Художественного театра, пришедшие на радио в качестве педагогов по речи, обратили внимание, что любой текст – от метеорологических сводок до сообщения о спасении полярников, оставшихся на льдине после гибели ледокола, от перечня имен участников совещания до характеристики тактико-технических данных нового истребителя – можно формально и пассивно-добросовестно проговорить и можно сказать так, чтобы слушатель испытал волнение, радость или грусть.
Но для этого нужно, чтобы журналист был творческим работником и в зависимости от темы умел перевоплощаться – во влюбленного в науку физиолога, в энтузиаста-шахматиста, в музыковеда и т. д. Он должен сам быть увлечен своим текстом.
Для работников радио очень важно наблюдение основателя Художественного театра К.С. Станиславского о способности человека при словесном общении с другими людьми видеть «внутренним взором то, о чем идет речь». «Если же мы слушаем других, то сначала воспринимаем ухом то, что нам говорят, а потом видим глазом услышанное». Таким образом, слушать, по Станиславскому, означает видеть то, о чем говорят, а «говорить – значит рисовать зрительные образы».
Третья задача, которая стоит перед журналистом в работе над словом, – поиск логических и экспрессивных акцентов (ударений).
Учение Станиславского о действии словом ставит на первое место в процессе достижения выразительности и убедительности речи не силу голоса, а умение говорящего пользоваться чередованием интонаций (повышением и понижением), чередованием ударений (фонетическим акцентом) и пауз (полной остановкой). Что же касается громкости, то, как свидетельствуют эксперименты, проведенные великим реформатором театра в зрительном зале, силой звука можно оглушить, но вызвать нужные эмоции трудно. Практика радио подтвердила точность этого вывода не только для общения актера с публикой в зрительном зале, но и для работы у микрофона.
Ударение охарактеризовано К.С. Станиславским как элемент смысловой точности в речи. Правильное использование ударений заключается не только в умении поставить его на том слове, где ему надлежит быть, «но и в том, чтобы снять его с тех слов, на которых ему не надо быть».
Важнейшим критерием качества работы у микрофона можно считать и открытую Станиславским психофизическую зависимость речи говорящего от понимания им важности сообщаемой информации и его искренности: «Неверие в то, что говоришь, отсутствие подлинной задачи... все это укорачивает голосовой диапазон». Последний тезис применительно к радиожурналистике переводит учение о действии словом из сферы сугубо эстетической в область нравственную.
Эффект вовлеченности слушателей в передачу опытные журналисты создают, приближая ее к естественному речевому общению людей. Одна из основных форм устной речи – диалог, т. е. разговор двух или нескольких лиц, обменивающихся информацией или занятых коллективными поисками решения какой-либо проблемы. Ąнaлогичность свойственна многим материалам радио, она вытекает из его акустической природы, хотя и имеет некоторые особенности. Ее своеобразие определяется тем, что собеседники разделены пространством, между говорящим и слушающим, как правило, отсутствует непосредственная связь. Однако журналист у микрофона всегда обращается к слушателю, предполагая в нем собеседника, активного участника двустороннего контакта, как бы предугадывая его реакции, ход мысли, возможные вопросы, строя систему информации и логических доводов таким образом, как он делал бы в условиях беседы. Некоторые практики вещания в этой связи рекомендуют избегать в высказываниях у микрофона слова «радиослушатели » – оно подчеркивает пассивную роль аудитории.
Существуют стилистические приемы внесения элементов диалогичности в радиопередачу: это прямое и косвенное обращение к аудитории с использованием соответствующих речевых оборотов, риторических вопросов, интонация, приближенная к разговорной, неправильный (свойственный живому разговору) порядок слов, естественное использование пауз, возникающих в речи человека, когда он задумывается, ищет нужное слово. Перечисленные приемы сами по себе еще не решают проблемы, они станут органичными лишь при условии диалогичности способа мышления самого радиожурналиста. Диалог присущ демократическим формам общения, в которых мысль движется и развивается, а мнение вырабатывается в процессе беседы с учетом различных точек зрения и многосторонней аргументации, по выражению известного литературоведа М.М. Бахтина, – в «диалоге сознаний». Установка на диалогическую интерпретацию идеи сообщения подводит к необходимости сделать слушателя соучастником размышления журналиста.
Работая со словом, особенно в том случае, когда журналист не импровизирует непосредственно в эфир, а готовит текст заранее для записи, необходимо помнить, что, оставаясь, как правило, наиболее распространенным звуковым элементом передачи, оно не является единственным носителем идейного и художественного смыслов. Более того, часто для эффективного воздействия на аудиторию важным оказывается не только прямое значение слова, а его способность к контакту с музыкой и шумами.
Музыка и шумы. Много лет потратила отечественная радиожурналистика на то, чтобы освоить широкую палитру возможностей музыки в радиопередаче. Недооценка роли музыки и шумов, их способности самостоятельно выражать смысл, атмосферу и сюжетные линии аудиоповествования – явление не новое. Время от времени и в практике вещания, и в теоретических работах утверждался взгляд на музыку и шумы лишь как на дополнение к слову.
Еще в 1930 году режиссер радио В. Марков утверждал, что музыка может быть введена лишь «для отдыха мыслительного аппарата слушателя от сосредоточенности на смысловом содержании речевой передачи». Если оставить в стороне витиеватость стиля, который К. Чуковский образно и емко называл «канцеляритом», то главная мысль одного из руководителей вещания очевидна: «Не стоит обращать внимания на музыку: она только отвлекает от слов ».
И эта позиция вполне понятна: во-первых, так безопаснее (с точки зрения цензуры – мало ли какая ассоциация возникнет у слушателя); а во-вторых, проще – не надо мучиться, пытаясь органично соединить слова и музыку, найти звуковой образ, работать над композицией передачи и т. д. Все это было вызвано социально-психологическими обстоятельствами жизни страны, примитивностью пропагандистских задач и условиями, самой атмосферой работы на радио.
Обстоятельства, задачи и условия работы менялись, идея «второразрядное™» музыки и шумов оставалась и продолжала развиваться специалистами. Так, режиссер А. Платонов утверждал, например, что музыку в любой передаче целесообразно вводить «не более чем на 15-20 секунд, после чего уводить ее на фон или убирать совсем». Что же касается шумов, то подчеркивалось, что «шумы на радио – вещь подчиненная».
Даже в художественном вещании, при постановке радиоспектаклей, значительность и синтетичность звукоряда (сочетание музыки и шумов в передаче) ставились под сомнение.
Каковы же причины, породившие такой подход, почему он получил широкое хождение у профессионалов-практиков и у теоретиков радиовещания. В основе его лежат две тенденции, на протяжении многих лет достаточно активно проявлявшие себя в вещании.
Первая – стремление иллюстрировать действие музыкальными фрагментами и шумовыми эффектами, вводить их в структуру передачи в качестве некоего звукового аккомпанемента. Например. В радиоочерке идет речь о молодом офицере, отправляющемся к месту службы:
Журналист. Петя, вернее, теперь уже Петр Сергеевич Волин смотрел в окно вагона. Поезд подходил к мосту через Волгу.
(Звучит фрагмент мелодии песни «Издалека долго течет река Волга...»)
Журналист. Петр никогда прежде Волгу не видел, да и теперь она проскочила со скоростью курьерского...
Никакой внутренней логической связи между текстом и музыкой здесь нет – ее появление сугубо формальное.
Еще пример – из радиокомпозиции, прошедшей в программе «Юности». Действие происходит на стройке, герой рассказывает о пожаре, зовут героя Миша:
Миша. Неожиданно я услышал удары в рельс.
(Слышны три удара в рельс.)
Миша. Потом я услышал женский крик.
(Слышен женский крик.)
Миша. Это звали меня.
Женский голос. Миша! и т. д.
При разборе цитированной передачи выяснилось, что если изъять из нее шумы, по содержанию своему дублирующие слова, то она сократится ровно на одну треть, при этом ее эмоциональный настрой не пострадает. И в первом и во втором случаях мы имеем дело с иллюстративностью, т. е. не с продолжением мысли, формулированной словом, а с попыткой ее дополнительного пояснения, по сути дела, – с повтором.
Вторая тенденция затрагивает уже не методологию вещания, а его идейно-эстетические основы. Она выражается в упоминавшейся нами тяге к интонационной бесстрастности передач. По мнению сторонников эмоционально нейтральной манеры обращения к слушателю, музыка (а следовательно, и шумы) может быть включена только в ткань художественных программ: «...музыку следует вводить в основном лишь в постановки, насыщенные эмоциями, в постановки с романтическим или психологическим содержанием», – пишет один из приверженцев сторонников «бесстрастного радио». По его мнению, большинство передач должны быть написаны «деловым стилем и просто не позволяют использовать в них музыку». Цитированный постулат получил развитие в практике как центрального, так и местного вещания на различных этапах истории советского радио. Это обстоятельство и послужило причиной отношения к музыке и шумам как к элементам дополнительного оформления, отнюдь не претендующим на самостоятельную роль в радиопередаче.
Такой подход неправилен, ибо он игнорирует возможности музыки и шумов как смысловых структурообразующих элементов радиосообщения. В процессе художественной организации материала музыка и шумы могут представлять собой самостоятельные части сюжетной конструкции, благодаря заложенной в них семантической информации. При этом в ряде случаев музыкальные фрагменты и шумы превращаются в синонимы логического утверждения.
Наиболее ярким примером такого рода служат позывные. Так, музыкальная фраза песни «Подмосковные вечера» эквивалентна объявлению: «В эфире круглосуточная программа „Маяк“. Прошло еще полчаса. Сейчас вы услышите новости и погоду».
Таким образом, музыка выполняет роль слова, и происходит это вследствие того, что в сознании слушателей уже выработан соответствующий код.
Психологи давно доказали и теоретически и экспериментальным путем, что объем семантической информации в музыке практически равен содержанию речевого сообщения.
Все сказанное в равной мере относится и к шумам, т. е. к звукам, сымитированным в студии или подлинным (заранее записанными на пленку). Они также могут нести смысловую и сюжетную нагрузки. В литературе о радиожурналистике можно встретить определение рисующие шумы - так пишут, когда хотят подчеркнуть возможность не словами, а звуками «описать» место действия. Такой термин возможен, но справедливо заметить, что он очень обедняет представление о содержательном значении шумов, включенных в передачу. Между тем правильно найденный звук без речевого комментария может стать абсолютно самостоятельной передачей, обладающей огромным информационным зарядом. Наиболее убедительный пример – метроном в дни Ленинградской блокады 1941-1944 годов. Премьер-министр Великобритании, один из руководителей антигитлеровской коалиции Уинстон Черчилль в спальне и в кабинете держал радиоприемники, настроенные на волну Ленинграда, и часто включал их, чтобы проверить, продолжается ли в эфире звук метронома из города на Неве, потому что его удары означали, что части Красной Армии продолжают удерживать немцев на границах Ленинграда.
Из всего сказанного следует, что музыка и шумы в структуре радиопередачи могут выступать как самостоятельные элементы композиции, равноценные друг другу и слову. Они способны уточнять, дополнять и развивать как идейную, так и эстетическую информации, высказанные словом, нести необходимые логическую и эмоциональную нагрузки, требующиеся для движения сюжета. Поэтому представляется принципиально неверным утвердившийся в 50-70-е годы термин «музыкальное (шумовое) оформление передачи» – правильнее говорить о целостном музыкально-шумовом решении радиосообщения. Определение места и функционального назначения каждого музыкального (шумового) фрагмента – задача чрезвычайно ответственная в процессе организации исходного фактического и литературного материала, составляющего содержание передачи.
В структуре передачи музыка и шумы, если они заменяют человеческую речь, наиболее распространены при выполнении следующих функций.
1. Обозначение места и времени действия. Например, в спортивном обозрении звуки гонга и топот копыт, нарастающий и стихающий шум толпы обозначают, что репортаж ведется с ипподрома, и корреспонденту не обязательно тратить время и слова на описание места действия. Или другой пример – гудок теплохода и плеск воды обозначают пристань. Обозначением местонахождения репортера, ведущего рассказ о заповедной зоне сибирского озера, может стать мелодия песни, скажем, «Славное море, священный Байкал...» и т. п.
2. Обозначение перемещения действия во времени и пространстве. Современный репортаж, как правило, проходит завершающую стадию подготовки к эфиру в монтажной, и репортер часто совмещает в своей композиции фрагменты, записанные в различных местах и в разное время; музыка помогает наиболее четко и понятно слушателю осуществить это объединение. Знаменитый эстонский радиожурналист И. Триккель пишет об этом так: «Чаще всего в репортажных передачах музыка используется для переходов, которыми связываются отдельные части, тематические куски репортажа, подчеркивается переход из одного времени в другое. Музыка заменяет ведущего в переходах... в этом отношении музыка незаменима».
В качестве примера можно привести репортажи самого И. Триккеля, рассказывающие о соревновании двух рыболовецких коллективов. Музыкальным лейтмотивом, обозначающим перенос места действия с берега в океан, стала музыка Вагнера из «Летучего голландца».
3. Выражение эмоционального характера описываемого события. Точное сочетание звуковых элементов позволяет воссоздать атмосферу действия с большой полнотой. В качестве примера сошлемся на широко известный репортаж, в котором журналист без единого комментирующего слова, только посредством документально зафиксированных шумов и отдельных уличных реплик нарисовал трагическую картину жизни югославского города Скопле в первые часы после землетрясения.
В одном из репортажей о празднике пушкинской поэзии корреспондент «Маяка» Г. Седов целую минуту отдал звучанию шагов тысяч людей, поднимавшихся к могиле поэта на холме Святогорского монастыря. Благоговейно и трепетно звучали шаги и приглушенные (неразборчивые для слушателя – это было сделано специально) разговоры «в очереди к Пушкину» – атмосфера действия была передана с волнующей и впечатляющей достоверностью.
Еще один репортаж (автор К. Ретинский) – о захоронении воинов, павших в боях с китайскими провокаторами на острове Даманском, воссоздал атмосферу происходящего с помощью шумов следующим образом: отзвучала короткая траурная речь, и в тишине раздался стук молотков по гробовым крышкам. Никаких слов и никакой музыки в этот момент журналист в ткань репортажа не включил – была найдена только одна звуковая деталь, точно передающая горе людей, потерявших своих близких.
Стук молотков сменился залпом ружейного салюта, и лишь после этого прозвучало несколько музыкальных фраз из гимна Советского Союза, завершивших репортаж.
Один из авторов репортажей, на которые мы ссылаемся, пишет: «Конечно же, звук „работает“ не только в таких исключительных, трагических ситуациях. Ежегодно в день 9 мая на сквер у Большого театра идет с „Репортером“ корреспондент „Маяка“. Сам он говорит там очень мало. Говорят те, кто встретился в этот день после долгих лет разлуки. Звучат поцелуи, иногда слышны неудержимые рыдания, громкие дружеские объятия... „Звучок“? Нет. Хорошая документальная запись на месте события, в которой ярко выражен эффект присутствия. Для чего это? Для самого главного, что должно отличать радиодокументалистику, – для достоверности, для правды!»
4. Выражение психологического состояния участников события или самого журналиста. Приемы, используемые в этом случае, распространены как в общественно-политическом и информационном, так и в художественном вещании. Вспомним публицистический радиорассказ А. Ревенко «Люди Трехгорной мануфактуры». Процитируем начало передачи:
Корреспондент. «Один умный человек посоветовал мне начать знакомство с „Трехгоркой“ с проходной. Я так и сделал».
(Начинает звучать музыка. После слов «Я так и сделал» вступает прозрачная, рассветная мелодия, которая переходит в маршевую, приподнятую, бодрую.)
Корреспондент. «Идут молоденькие и почему-то все как на подбор симпатичные, очень милые девчата, идут чуть тяжеловатой походкой пожилые женщины – ветераны „Трехгорки“, идут парнишки, похожие на школьников, и грузноватые старики – сотни, тысячи лиц. Они все разные. И все-таки есть в них что-то неуловимо общее. Что-то, делающее их похожими друг на друга и отличными от других...»
По замыслу автора, в том месте передачи, где звучит музыка, должен был звучать довольно длинный монолог о просыпающемся городе, об утреннем солнце, о том, как бодро идет на «Трехгорку» рабочая смена все более и более широким потоком и т. п. Текст монолога был написан и записан на пленку, но впоследствии А. Ревенко от него отказался – музыка передала настроение и журналиста, и его героев более выразительно, чем слова. Она вошла в круг психологических обстоятельств действия, «озвучила» связи журналиста и окружающего его мира, тем самым участвуя в рассказе как его активный движущий элемент.
Указанный прием широко используется в художественных программах вещания. Методологическое обоснование его эффективности дал известный режиссер Г.А. Товстоногов: «...в театре для меня чаще бывает дороже молчание актера, чем его речь. Потому что в хорошо подготовленной сценической паузе продолжается особенно напряженная внутренняя жизнь героя, движутся его мысли, чувства... Но в театре зритель ВИДИТ... Как „говорить мол-ча“ в эфире? И вот возникла мысль об особом применении музыки... Она должна была заменить сценические паузы, неся в себе поток мыслей и чувств героя. Эти принципы пришли ко мне после знакомства со многими чисто журналистскими работами у микрофона».
Шумы в этом плане не менее выразительны, особенно когда они обретают меру обобщения, близкого к символу. На ленинградском радио режиссер С. Россомахин сделал документально-публицистическую программу о декабристах – «Сто братьев Бестужевых». Он создал звуковую партитуру, где голос актрисы Нины Ургант (она читала текст жены Рылеева) сливался с «поединком» флейты и барабана – лейтмотивом казни. «Августейший» дуэт царя и великого князя продолжался скрипучим голосом самого трона Российской империи и какофонией кандалов на руках солдат, идущих по этапу в Сибирь.
Здесь правомерно говорить о взаимном влиянии радиожурналистики и радиоискусства. Поиск звуковой выразительности, который вели радиожурналисты, оказывал большое влияние на мастеров, приходивших к режиссерскому пульту в радиостудию из театра и из кинематографа. В свою очередь, их художественные эксперименты и находки входили в число приемов наиболее опытных и творчески активных репортеров и радиопублицистов. (Уникальным в этом смысле стал опыт работы кинорежиссера Андрея Тарковского над радиоверсией рассказа У. Фолкнера «Полный поворот кругом», рассматриваемый нами в IV разделе книги.)
Выполняя функцию психологической характеристики ведущего радиопередачи (журналиста, рассказчика, действующего лица – «от автора»), музыка иногда становится основной деталью композиции.
Журналист взялся за такую трудную тему, как несостоявшееся семейное счастье. Часами он фиксировал диалоги людей, которые пришли в загс, чтобы официально оформить свой разрыв (разумеется, все записи производились с разрешения всех участников этих разговоров). Иногда эти разговоры были столь кратки, почти односложны (персонажи тем не менее представляли бесспорный интерес), что журналист не побоялся продолжить рассказ уже не в форме диалога, а включив в текст описание людей, не нарушая при этом эмоциональной атмосферы взаимоотношений в их «критической точке». А когда текста явно не хватало, то журналист искал логическое продолжение своего повествования в музыке. Для всей передачи – а в ней рассказ о семи неудачных браках, о семи парах, по разным причинам потерявших свое счастье, – была выбрана одна-единственная мелодия – «Осенняя песня» П.И. Чайковского. Она возникала в передаче неоднократно, но каждый раз в новом звучании – рояль, виолончель, гобой, гармошка, оркестр, – и каждый раз автор вместе с режиссером находил ту неповторимую ритмическую, мелодическую и тембровую краску, которая позволяла музыке продолжить мысли и чувства журналиста и его героев.
Этот прием впервые был использован в радиотеатре, в спектакле знаменитого радиорежиссера Лии Веледницкой «Телеграмма» по рассказу К. Паустовского. В радиоспектакле тоже звучала «Осенняя песня», и художественный прием, который на первый взгляд, казалось, полностью принадлежит арсеналу художественно-постановочного вещания, великолепно прижился и в радиожурналистике.
Опыт показывает, что мера смыслового и эстетического воздействия любой радиопередачи в значительной степени зависит от цельности ее интонационной структуры, от точности в соотношении всех его звуковых элементов – слова, музыки и шумов.
Первую группу выразительных средств мы называем формообразующей потому, что сочетание указанных элементов образует форму и жанр радиопередачи, диктует наиболее выгодные по задаче и структуре материала композиционные акценты.
Стилеобразующие выразительные средства радиожурналистики
Как мы уже говорили, эта вторая группа выразительных средств в радиожурналистике мобильна, т. е. число выразительных средств может меняться по выбору самого журналиста. Именно с их помощью формируются стиль программы, индивидуальные особенности манеры журналистского изложения материала, ритм рассказа и т. д.
Рассматривая группу стилеобразующих выразительных средств, мы идем от более простого к наиболее сложному, от чисто технических приемов – к приемам усложненного мышления, к комплексу эмоций и выделяем прежде всего специфические способы звукообразования.
Реверберация – с помощью пульта управления процессом звукозаписи журналист может придать звучанию голоса или записи события дополнительную объемность, эффект «эха». Этот прием часто используется для того, чтобы акцентировать внимание слушателя на речи персонажа, на какой-либо фразе журналиста, на какой-нибудь звуковой детали события. Например, в журналистском репортаже в годовщину гибели великого режиссера Вс.Э. Мейерхольда (50-летие со дня его расстрела отмечалось как трагическое событие в истории России, и программа радио включала репортаж из Бутырской тюрьмы) корреспондент записал звук капель, падающих из крана в камере, где содержался Мейерхольд, и при монтаже передачи этот звук пропустил через ревербератор и через усилитель. Это был поразительный эффект: капли, падающие в железную раковину, прозвучали сначала как отсчет времени, а потом как выстрелы, как удары судьбы, прервавшие жизнь гениального театрального мастера.
Подобного эффекта, но уже совсем в другой звуковой атмосфере (создавая ощущение радости и счастья) добился известный журналист А. Ермилов в репортаже из загса. Через ревербератор им были пропущены звон обручальных колец на подносике у регистратора загса и фраза невесты: «Понимаете, я не могу без него жить...» Повторенная несколько раз с постепенно усиливающейся реверберацией эта фраза, заполняющая все эфирное пространство, и далее как бы всю Вселенную, становилась символом всепобеждающей любви.
Эффект «буратино» как выразительное средство был открыт выдающимся режиссером отечественного радио Розой Иоффе. Она установила, что убыстрение или замедление хода магнитофонной пленки может из «технического брака» превратиться в сильнейший художественный прием, который и был реализован при записи детского радиоспектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (отсюда и название этого приема). С его помощью были созданы и обаятельная скороговорка маленького деревянного человечка, и грубые вопли и стоны Карабаса, и звонкие голоса кукольных артистов, и дуэты, и квартеты, и шум толпы, и еще многое, многое другое. А все это был голос одного актера.
Из художественного вещания прием «буратино» достаточно быстро перешел в арсенал средств журналиста. Он позволял подчеркнуть ироническое отношение корреспондента к речи кого-то из интервьюируемых. Приведем два примера. Корреспондент «Маяка» готовил репортаж с заседания московского совета, на котором тогдашний руководитель городского хозяйства очередной раз обещал слушателям золотые горы. Дав самое начало его выступления, чтобы аудитория почувствовала, какими заезженными, заштампованными выражениями пользуется городской голова, журналист «перевел» его речь в другой ритмический регистр: убыстрил ее – и она сразу же потеряла и солидность, и значительность, а сам оратор в восприятии слушателей превратился в кукольный комический персонаж.
Этот эффект и дал возможность журналисту не тратить слова на подробный комментарий о несерьезности и лживости обещаний собеседника-чиновника, а ограничиться лишь одной фразой на фоне «буратинившего» начальника: «Обещания, данные с такой скоростью, и сам Иван Иванович не успевает запомнить».
В другой раз этот же журналист использовал прием «буратино », но уже не убыстряя, а замедляя пленку, на которой опять-таки очередной начальник произносил речь, состоящую из банальных истин, давно набивших оскомину у людей.
Министерский чиновник держался на трибуне очень уверенно, говорил энергично, но, когда эта бойкая речь – через несколько фраз от начала – стала постепенно замедляться, у слушателей возникло ощущение, что сам оратор засыпает, изнемогая от бессмысленности того,что он произносит.
Профессиональный журналистский и социальный эффект с помощью такого репортажного приема был достигнут без дополнительных комментариев. Потребовалась лишь одна короткая реплика корреспондента: «А сам-то Иван Иванович разве верит в то, что говорит?»
Звуковая мизансцена – положение микрофона по отношению к участникам события, о котором идет речь в эфире. Микрофон можно установить так, чтобы всех было одинаково слышно, можно передавать его из рук в руки, можно приближать и отдалять от работающего механизма (скажем, от мотора трактора или автомобиля и т. д.), создавая эффект присутствия на событии в самом общем представлении. А можно выбрать для микрофона такую точку, чтобы один какой-то звук или один чей-то голос выходил на первый звуковой план, как на крупный план в кино. И тогда именно этот звук или голос становится сюжетным, смысловым и эмоциональным стержнем передачи.
Это очень эффектно бывает именно в репортаже, с такого значительного события, как, скажем, демонстрация новой модели самолета. Микрофон в этом случае устанавливается как бы в центре события, например на гостевой трибуне, где собрались производственники, представители авиационных компаний, будущие пассажиры. Слышен оркестр, свист и гул начинающих работать двигателей новой мощной машины, журналист берет интервью прямо на трибуне у конструкторов – словом, событие представлено в звуке объемно и разносторонне. Но несколько раз микрофон берет в руки и почти шепчет в него (оказываясь на том самом звуковом «крупном плане») старый летчик-испытатель, который поднимал в воздух еще первые реактивные самолеты этой фирмы при жизни ее великого создателя. Он вспоминает конструктора и размышляет, как бы он оценивал новую машину, что ему наверняка бы понравилось, а что, видимо, вызвало сомнения. И этот голос, максимально приближенный к слушателю, существующий как бы отдельно от события (хотя совершенно очевидно, что герой-летчик находится на этой же трибуне), придает журналистскому рассказу еще большую убедительность, а самому событию – еще большую историческую значимость.
Описанный здесь прием впервые в отечественном эфире был использован в радиорепортаже о первом полете сверхзвукового лайнера, а потом стал привычным для журналистов, рассказывавших, как сходили с конвейеров новые автомобили, со стапелей – новые теплоходы, а потом в репортажах и о менее редких событиях.
Голосовой грим – одно из выразительных средств радиожурналистики, заимствованное ею из арсенала радиотеатра. Это придание речи журналиста эмоциональных красок и ритмических особенностей, которые передают атмосферу события. Так, например, репортаж о гонках на автомобилях может быть разным. Можно вести репортаж, удобно устроившись в кресле комментаторской кабины и ровным спокойным голосом объясняя слушателям, что происходит на дорожке, почему тот или иной гонщик допустил ошибку и т. д. и т. п. А можно и самому как бы оказаться в одной из этих машин, бешено рвущихся к финишу и каждую секунду бросающих водителей на грань катастрофы, на грань жизни и смерти. Тогда речь журналиста становится прерывистой, сбивчивой, напряженной... Конечно, это требует от репортера определенных актерских способностей, ибо он сам, в действительности оставаясь в удобном комментаторском кресле, должен представить себя за рулем гоночной машины или на острие хоккейной атаки, чтобы донести атмосферу азарта до слушателей. Не случайно Николай Николаевич Озеров, спортивный комментатор, вел футбольный репортаж так, будто он сам был непосредственным участником событий, – ведь он был прекрасным актером мхатовской школы.
Но голосовой грим бывает нужен журналисту не только в тех случаях, когда он ведет спортивный репортаж. Практически любое событие, достойное внимания общественности, обладает своей неповторимой эмоциональной атмосферой. Найти нужный тон для передачи этой атмосферы – грустный или веселый, быстрый или, напротив, замедленно значительный, при котором каждое слово, «как удар молотом или капля падающей росы», – все это творческая задача, которую помогает решить точно найденный голосовой грим. Иногда журналист ищет и находит голосовой грим – контрапунктный по отношению к атмосфере события. Такой подход к материалу позволяет придать репортажу иронический оттенок. Но это уже область методики работы радиожурналиста, о которой будет говориться в одной из следующих глав.
Главное место в группе стилеобразующих выразительных средств радиожурналистики занимает монтаж (от фр. Montage «сборка»).
Как технологическое средство монтаж появился на радио в условиях предварительной записи передач. Но это не значит, что в живом вещании монтаж как выразительное средство не использовался.
Это была своеобразная форма композиции, в которой отдельные части соединялись друг с другом не на пленке, а прямо в эфире.
Существовала очень четко разработанная режиссерская партитура, где было указано, на какой минуте журналист начнет интервьюировать своего гостя, на какой секунде вступит сидящий в этой же студии оркестр и в какой момент для пущей убедительности шумовики запустят имитатор полярного ветра... Все это репетировалось, иногда даже с участием главного героя, подлинного полярника, и шло в эфир, создавая весьма эффектную звуковую картину очередного подвига советского человека и демонстрируя достижения отечественного радиовещания.
Но конечно, это была, скорее, имитация монтажа, а принципиально новый период развития радиожурналистики начался с массовым внедрением звукозаписи с конца 20-х годов.
Внедрение с начала 40-х годов магнитофонной записи означало переход от непосредственного («живого») вещания к фиксированному, что открывало перед радиожурналистикой новые возможности. Предварительная фиксация радиосообщения на магнитофонной пленке изменяла его эстетическую природу, придавая качественно новые характеристики.
Прежде всего это касается отражения времени и пространства в структуре радиосообщения. В прямом репортаже – так большинство исследователей называют репортаж с места события, совпадающий по времени с моментом самого события и идущий непосредственно в эфир, – продолжительность репортажа буквально совпадает с тем отрезком времени, которое это событие или его часть занимают в реальной действительности. В репортаже, фиксированном на пленке, существует возможность выключить слушателя из реального течения времени монтажной сменой звуковых картин, прессуя время или растягивая его в сознании слушателя. Точно так же монтажная смена звуковых картин способна выключить слушателя и из реального пространства.
Проиллюстрируем это следующим примером.
Рассказ о машиностроительном заводе, выпускающем тягачи, был построен как серия микрорепортажей из разных точек планеты, где работают машины с маркой этого завода. Зимовка в Антарктике и поселок геологов в Обской губе, джунгли Вьетнама и красноярская тайга, песчаный карьер в Таврии и горная дорога на Памире – географические точки, откуда журналисты вели свое повествование, записанное на пленку. А драматургическим стержнем всего репортажа стал рассказ водителя-механика, испытывающего новую марку тягача.
Рассказ этот был записан на заводском полигоне, однако никакие заводские «производственные» шумы в это радиосообщение не были включены. Аудитория слышала лишь, как по-разному звучат моторы и гусеницы в различных по месту действия звуковых фрагментах. При этом голос интервьюируемого и репортера-ведущего не просто стыковался с текстом и звуковыми картинами, запечатленными в разных концах света, но в необходимых по композиции местах накладывался на них. Таким образом пространственная точка, из которой велся репортаж, оказалась сугубо условной, но эта условность не только не мешала репортеру, а помогла ему вместить дополнительную информацию в то реальное время, которое было отведено для радиосообщения.
Время события, отраженного в этом репортаже, также было условным, ибо за 12 минут, которые продолжалось радиосообщение в восприятии слушателя, были спрессованы факты, в реальной жизни занимавшие разные отрезки времени – от нескольких минут до нескольких лет.
Подобные временные и пространственные сдвиги в восприятии информации углубляют философское осмысление действительности, что в конечном результате и является одной из основных целей автора передачи.
В принципе разложение времени и пространства, их трансформации, вызванные возможностями монтажа, не являются привилегией лишь радио. Это довольно обычное явление и в литературе, и в театре, и в кино. Но именно для радио трансформации времени и пространства особенно органичны, ибо стремительно монтажно само наше мышление, оно монтажнее, чем всякое зримое действие. Если бы автор попытался подчинить зрительный ряд театрального спектакля или кинофильма монтажной логике непосредственного мышления, зритель столкнулся бы с хаосом, не поддающимся восприятию и осмыслению. Радио в силу обращения прежде всего к воображению человека, к его мышлению более мобильно, и потому обратимость времени и пространства ему свойственны в большей мере, чем театру и даже кинематографу.
Однако сам принцип монтажа, как способа создания условного времени и пространства, заимствован радио у театра и кинематографа в силу исторической последовательности научно-технического оснащения современных искусств и средств массовой коммуникации. При этом, заимствуя способ творческой технологии, радио не могло не перенять и эстетических закономерностей, которые несла с собой эта новая технология.
Театр и кинематограф условны по своей природе, ибо представляют собой не саму реальную действительность, а лишь ее отражение в образах. Отказ от условности в театре и в кино ведет к механическому воспроизведению явлений жизни, к натурализму. То же происходит и на радио, ибо здесь мы имеем дело с отражением реальной действительности в звуках, ее характеризующих. С этой позиции мы рассматривали появление звукозаписи не столько как возможности для демонстрации жизни в подлинных формах ее звуковой реальности, сколько как возможности для осмысления и обобщения жизненных явлений в звуковых образах.
В процессе работы над передачей автор обращается чаще всего именно к тем стилеобразующим средствам, которые способны стать организующим началом эмоциональной среды данного конкретного радиосообщения. А наибольшие возможности в этом смысле предоставляет акустический монтаж. Так мы называем технический процесс, позволяющий соединять на пленке отдельные звуковые элементы или звуковые фрагменты радиосообщения в целостную композицию; под акустическим монтажом мы понимаем также систему взаимосвязей содержания и звуковой структуры -систему, выполняющую функцию драматургической конструкции.
Монтаж есть прежде всего выражение идеологических и эстетических позиций автора, метод его художественного мышления, творческого осмысления действительности. В этой связи следует заметить, что суть того или иного жизненного эпизода, запечатленного на магнитофонной пленке, может существенно изменяться в зависимости от монтажного контекста.
В передачу об истории одного из уральских заводов был включен фрагмент репортажа, записанного в 1943 году о 15-летней девочке, пришедшей в кузнечный цех и проработавшей там много лет. Передача была посвящена лучшим людям индустриального Урала. Рассказ о женщине-кузнеце, овладевшей мастерством лесковского Левши, сопровождала бравурная музыка, он звучал мажорно, несмотря на то что сам материал повествовал о трудностях, которые ей приходилось преодолевать, особенно на первых порах.
Репортаж начинался и заканчивался такими словами героини, произнесенными через 25 лет после описываемых событий: «И вот уже 25 лет прихожу я в свой кузнечный цех, встаю к многотонному молоту, и огромные раскаленные металлические болванки превращаются в детали теперь уже мирных машин».
Этот же звуковой фрагмент получил совсем иную эмоциональную окраску, будучи включенным в другую передачу – о детях, которых война лишила детства, позвав их в фабричные цеха заменить отцов и матерей. Репортаж из 1943 года, прокомментированный его героиней спустя 25 лет, превратился в страстный и гневный антифашистский документ, который шел после музыки, трагической по своему настрою.
И наконец, еще один смысловой и эмоциональный оттенок тот же самый звуковой фрагмент получил, когда был использован в передаче критического характера. Радиожурналист, готовивший программу о нравственных аспектах нашей экономики и проблемах трудового воспитания молодежи, вместо мажорного марша (как в первом случае) продолжил его беседой с руководителем предприятия, которому задал вопрос: а так ли уж необходимо немолодой женщине, спустя несколько десятилетий после войны по-прежнему «вставать к многотонному молоту и огромные раскаленные металлические болванки превращать в детали»? А перед тем, как задать этот вопрос, встык с пленкой 1943 года журналист смонтировал короткий репортаж из дома героини, где прозвучал голос ее внука: «Бабушка у меня добрая, а со мной совсем не играет, устает очень на работе...»
В практике современного вещания завершающая часть работы над радиосообщением часто проходит в аппаратной и представляет собой процесс творческого осмысления и обработки звукозаписей, произведенных на этапах, предшествующих окончательному монтажу. Отсюда и та драматургическая роль, которую неизбежно выполняет монтаж, особенно в передачах, где предварительная сценарная разработка представляет собой в основном конспект содержания. Чаще всего так бывает при подготовке информационно-публицистических радиосообщений. При этом заранее задуманная журналистом форма часто меняется под воздействием требований, которые выдвигает логика монтажа и звуковая совместимость отдельных эпизодов – форма и функция взаимообусловливают друг друга, – и в таком изменении первоначального журналистского замысла проявляется диалектичность, присущая процессу осмысления действительности.
Монтаж как способ художественной организации фактического материала используется и в прямом эфире – в передачах, которые посвящены ныне главным образом массовым торжествам по тому или иному поводу или, напротив, событиям трагического характера, затрагивающим интересы широких слоев населения. Вот как строилась радиопрограмма о захоронении останков российского императора Николая II летом 1998 года.
11.30 – 11.35 Репортаж из Петропавловской крепости. Толпа людей на подступах к собору.
11.35 – 11.43 Репортаж с аэродрома, где приземляется самолет Президента Российской Федерации.
11.44 – 11.50 Петропавловская крепость. Интервью с иностранными гостями, собирающимися на похороны.
11.50 – 11.55 Улицы Санкт-Петербурга, репортаж о проезде президентского кортежа.
11.55 – 12.05 Репортаж с улицы Екатеринбурга. Выступление историка, который занимался поисками захоронений императора Николая II и членов его семьи.
12.05 – 12.15 Репортаж с улиц Санкт-Петербурга о том, как Президент едет на похороны.
12.15 – 12.22 Выступление одного из членов императорской фамилии.
12.15 – 12.23 Репортаж из Москвы, из зала Дворянского собрания.
12.25 – 12.30 Репортаж из подмосковного села, где установлен памятник Николаю II. Выступление скульптора -автора памятника.
12.30 – 12.35 Репортаж из Петропавловской крепости, о прибытии Президента и начале церемонии... и т. д.
Таким образом, радиослушатель знал, что в данную минуту конкретно происходит на площади Петропавловской крепости и вместе с тем совершал «радиопутешествие» по стране.
В данном случае мы имеем дело с традиционным, наиболее простым и, очевидно, потому наиболее часто встречающимся в практике видом монтажа – параллельным монтажом, где объединение событий, различных по времени и месту, происходит главным образом в зависимости от желания автора. Звуковые фрагменты сами по себе не имеют в данном случае директивной власти с точки зрения последовательности их включения в ткань радиосообщения. Показателен в этом смысле репортаж с космодрома о запуске космического корабля «Союз-22» с экипажем на борту. Время, предоставленное для репортажа, было реальным временем, которое проходит от момента объявления команды: «Объявляется пятиминутная готовность» – и до доклада об отделении космического корабля от ракеты-носителя. В данном конкретном случае это были 20 минут, которые и должен был заполнить в эфире журналист. Он привез с собой на полигон шесть предварительно подготовленных звуковых фрагментов: беседу с участниками полета, запись прощания их с родственниками, короткий репортаж с одной из тренировок, документальную запись одного из выступлений Ю.А. Гагарина и др.
По ходу репортажа (передача не шла прямо в эфир, а записывалась на пленку, но для корреспондента условия работы были те же, что и при непосредственном вещании) журналист включал эти записи в свой рассказ. При этом последовательность включения одного из нескольких магнитофонов с той или иной пленкой определялась им на ходу, интуитивно, в зависимости от ситуации на космодроме и в космосе. В результате из шести заранее заготовленных звукозаписей в репортаж вошли только четыре, одна запись была повторена дважды.
Параллельный акустический монтаж не требует четко выстроенной звуковой монтажной фразы. В отличие от него, последовательный монтаж как раз и заключается в построении четко развивающегося смыслового и эмоционально завершенного звукового фрагмента, сохраняющего самостоятельность и внутреннюю присущую ему логику и вне контекста всего радиосообщения. Аналогом «радийной » звуковой монтажной фразы в кинематографе следует считать такую структурную единицу, как эпизод.
В кинематографе монтажная фраза состоит из монтажных элементов и в завершенном виде представляет их чередование. Каждый из этих элементов является самостоятельным кадром. Например, лицо женщины, поезд, плачущий ребенок, фигура мужчины за окном вагона, гнущиеся от ветра деревья – все эти кадры, ритмически чередуясь, и составят монтажную фразу. Очевидно, что такая монтажная фраза сама по себе может:
а) представлять сценарный эпизод;
б) входить в сценарный эпизод как его часть;
в) включать в себя несколько сценарных эпизодов в зависимости от последовательности чередования отдельных кадров. «Сценарный эпизод может состоять из нескольких монтажных фраз, или, наоборот, несколько эпизодов могут уложиться в одну большую монтажную фразу», – пишет С.И. Юткевич.
На радио звуковая монтажная фраза всегда равнозначна завершенному сценарному эпизоду. Составляющие ее звуковые элементы могут самостоятельно нести сюжетную нагрузку, но не способны каждый по отдельности сформировать у слушателя полное представление о событии, завершенном в своем драматургическом развитии; такую функцию они способны выполнить лишь в сочетании друг с другом. Будучи же завершенной, звуковая монтажная фраза вызывает у слушателя комплекс ассоциаций, позволяющих ему представить зрительно событие, о котором идет речь; смена ассоциаций тем самым означает для него переход к новому эпизоду действия.
При последовательном акустическом монтаже особое значение приобретает смысловой и звуковой контрапункт, ассоциативным ходом возбуждающий фантазию, чувства и разум зрителя.
Обратимся к примеру, взятому из передачи на тему Великой Отечественной войны «1418 дней». В распоряжении журналиста, помимо письменных источников, были и звуковые документы, музыка, записанные голоса актеров и голос диктора Ю.Б. Левитана, вызывающий у миллионов слушателей круг вполне определенных ассоциаций, – словом, весьма разнохарактерные звуковые элементы.
Вот как сложилась монтажная фраза при последовательном акустическом монтаже.
(Звучит фашистский марш.)
Женский голос (по-немецки, перевод накладывается на немецкий текст). (Баронесса Ольдергаузен – сыну Куно фон Ольдергаузен.) Вы теперь вступите в плодоносные края, где, может быть, не встретите никакого сопротивления. Присмотри жеребцов для наших конюшен, и хорошо бы попасть на большой склад меховых манто...
(Продолжает звучать фашистский марш.)
Второй женский голос (по-немецки, перевод накладывается на немецкий текст). (Гертруда Гольмен из Аахена – своему жениху Густаву Рейзенбергу.) Русские все равно тупы и не понимают радостей жизни. Зачем им красивые вещи. Пришли мне розового шелка на блузочку и на рубашонку. Это моя давнишняя мечта...
(Продолжает звучать фашистский марш.)
Третий женский голос (по-немецки, перевод накладывается на немецкий текст). (Фрау Кайгефер – мужу на восточный фронт.) Говорят, русские стали драться. Трудно себе представить, чтобы такой невоспитанный народ требовал от нас жертв. Но надо его раз и навсегда выкинуть из мировой истории.
Посылку с веником и шваброй получила. В следующий раз пришли:
1. Свиной окорок. 2. Беличью шубку. 3. Шелковые чулки 16 пар, можно поношенных, только без крови, как в прошлый раз...
(Продолжает звучать фашистский марш.)
Голос Левитана. Виктор Абрамов, деревня Городня Свердловского района.
Голос Абрамова (документальная запись). Старосту нашего Козлова и его соседа Никифорова обвинили в связи с партизанами. Расстреляли их. А маленькую дочку Никифорова засыпали живьем в большой воронке. Когда первую лопату земли кинули, она как закричит: «Дяденьки, зачем мне в глаза песок сыплете?» Хозяйство их разграбили – у Никифоровой хорошее пальто было, с беличьим воротником – перед самой войной справила, – так это пальто тот эсэсовец, что дочку ихнюю засыпал, сразу в пакет и адрес написал...
(Продолжает звучать фашистский марш. На него накладывается голос Левитана.)
Голос Левитана. Рива Краснюк, город Черновцы.
Голос Краснюк (документальная запись). Немцы пришли в наш родильный дом и потребовали отдать им все постельное белье и всю одежду матерей и рожениц. Главврач Вера Сергеевна спросила: «А как же они сами?» Вместо ответа высокий фашист в черном мундире выстрелил в главврача Веру Сергеевну и рассмеялся: «Им она больше не понадобится».
А второй взял новорожденных малышек и стал убивать их – головкой об стенку. Одного за одним... Больше я не помню ничего. Меня, наверное, тоже убили...
(Продолжает греметь фашистский марш.)
Экспрессия процитированного фрагмента возникает, с одной стороны, за счет контрастного сочетания высказываний лиц, имеющих противоположные представления о нравственности, с другой – вследствие столкновения различных интонационных характеристик и голосовых данных, с третьей – из контрапункта смыслового посыла текста и характера музыки. Соединение бодрого марша с интонационно бледными, бесцветными голосами подлинных участников событий – пленка зафиксировала эту безучастность, вызванную психическим срывом, – создали взрывной эффект, безусловно оказывающий огромное воздействие на слушателя.
Заметим, что каждый из элементов, составляющих рассматриваемую акустическую монтажную фразу, может быть использован самостоятельно или в количественно меньшем сочетании с другими элементами для создания подобного эмоционального эффекта у слушателей. Социально-психологическая установка аудитории стимулирует в данном случае необходимое для коммуникатора восприятие. Однако с такой же очевидностью можно утверждать, что сила эмоционального воздействия во втором случае будет намного ниже.
В теории кинематографического монтажа существует такое понятие, как «метод столкновения». В приведенном примере акустического монтажа нетрудно увидеть явление аналогичного характера: столкновение разнохарактерных элементов имеет своей целью создание драматургической композиции, где функцию непосредственной организации материала выполняет ритм.
Ритм процитированного фрагмента, как и ритм передачи в целом, возникает не сам по себе. Он продиктован не ритмом отдельных звуковых элементов – это фактор важный, но подчиненный, а общим идейно-художественным замыслом автора передачи. Ритмически, т. е. монтажно, журналист должен ощущать будущую передачу уже на стадии ее сценарной разработки. В идеале запись или подбор того или иного звукового элемента передачи должны проводиться в соответствии со «звуковым видением» автора, включающим в себя не только звуковые характеристики будущего радиосообщения, но и его ритмическую конструкцию. В противном случае это приведет к тому, что многие ценные звукозаписи, сделанные в процессе подготовки к монтажу, окажутся лишними на завершающем этапе работы, ибо как отдельные части они не складываются в целое и разрушают темпоритмическое единство радиопередачи.
Выше мы уже обращали внимание на разность звуковой фактуры текстовых и музыкальных элементов процитированного фрагмента из передачи «1418 дней». Остановимся на этом подробнее.
С момента появления оперативной звукозаписи и монтажа как двух основных этапов подготовки радиосообщения не прекращались споры о принципах совместимости различных звуковых элементов. Речь прежде всего шла о том, что различие в звучании отдельных частей передачи не позволяет соединять их непосредственно друг с другом, а лишь через соответствующее дикторское пояснение.
Тот факт, что в этом случае неизбежно возникали замедленный ритм, однообразие интонаций и как следствие снижался эмоциональный посыл радиосообщения, сторонников указанной точки зрения не смущал. Они рассматривали монтаж лишь как техническое средство для соединения в одной передаче звуковой информации «однотонного характера».
Отсюда возникла целая теория, ставившая под сомнение вообще необходимость монтажа как творческого процесса. Эта теория получила и идеологическую поддержку – использование художественных методов и приемов в радиодокументалистике объявлялось стремлением подменить факты реальной действительности вымыслом и тем самым исказить правдивый характер журналистики. Теория эта получила достаточно широкое распространение в практике на рубеже 40 – 60-х годов, хотя формально официальные документы прокламировали «необходимость поиска новых художественных средств, помогающих... более яркому отображению высоких идейных и моральных качеств советских людей, их трудовых подвигов» и т. п.
Но даже от такого формального поощрения творческого поиска была определенная польза: легче было бороться с цензурными претензиями официальных представителей Главлита и со страхом собственного начальства. Наиболее талантливые и ответственно относящиеся к своей работе репортеры и корреспонденты понимали, что разнообразие материалов, используемых ими в рамках цикловых программ и отдельных передач, настоятельно требовало смелости монтажного мышления, без которого важные акции в эфире превращались в унылое и однообразное словоговорение. Они понимали также, что каждая их программа должна была синтезировать, вбирать в себя самые разные компоненты вещания.
Такое понимание давало силы журналистам и помогало им добиваться успеха. В качестве примера обратимся к передаче о строительстве Братской ГЭС, удостоенной диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе радиожурналистов в 60-е годы.
Один из эпизодов этой передачи включал в себя репортаж о перекрытии Ангары. Звуковой контрапункт рождался из сопоставления двух записей: громоподобного шума Падунского порога до его перекрытия и плеска волн на месте бывшего Падуна после перекрытия.
Две записи, сделанные «на натуре», разделяли в реальности двенадцать часов; в эфире же они «сталкивались» без временного промежутка. Кроме этих звуковых элементов журналист использовал в своем монтаже звукозаписи, выполненные совсем в другое время, в другом месте и по другим поводам: гудок парохода на Братском водохранилище (что было крайне условным приемом, так как, разумеется, никакие пароходы сразу же после перекрытия водохранилища ходить не могли); шум пожара – запись, сделанная во время уничтожения старого Братска; старинную народную песню; митинг, посвященный завершению одного из этапов строительства; а также текст научного комментария. Все эти элементы были введены в ткань передачи без каких бы то ни было специальных подводок, методом, который в кинематографии получил название «коллажный монтаж», с тем чтобы полифонией звуков наиболее образно отразить философскую, а не только бытовую многомерность события.
Метод акустического коллажа, т. е. соединение разнофактурных звуковых элементов, завоевавший прочные позиции в радиожурналистике с середины 60-х годов, оказался одним из самых современных и мощных средств логического и эмоционального воздействия на слушателя, ибо создавал максимально благоприятные условия для возбуждения широкого круга ассоциаций в его воображении. Коллаж пришел в радиожурналистику из театра и кинематографии, где он означал «причудливое переплетение лозунгов, цитат, портретов, газетных вырезок, фотографий, рабочих моментов съемки, подражаний телеинтервью и собственно игровых сцен... с целью синтетического осмысления действительности»25.
Отражение всех указанных компонентов в звуке вне визуального ряда могло бы привести к звуковому хаосу и фонетической бессмыслице, если бы речь шла о фактографическом отражении материальных явлений, а не о создании обобщенного (выраставшего иногда до символа) социально-философского представления о целом комплексе явлений, нашедших отражение в конкретном событии. Эта новая единая реальность, возникшая в результате акустического коллажа, является целостным выражением философских, эстетических и этических воззрений коммуникатора.
Так, приведенный выше пример акустической монтажной фразы, организованной методом коллажа (в передаче о Великой Отечественной войне), есть выражение социально-политической и идейно-эстетической концепций автора, в обобщенной форме звукового символа представившего античеловеческую сущность фашизма, нравственное растление носителей его идеологии и тем самым опосредованно – значение великого подвига, совершенного в этой войне народами и армией нашей страны.
«Разнообразие способов изложения» отдельных элементов коллажа, безусловно, не имеет пределов, ибо речь идет не о готовой математической формуле, а о творческом постижении внутренних духовных и художественных ресурсов фактического материала, запечатленного в звуке. Актуальность любого фактического материала лишена непрерывности во времени, она возникает из потребностей общества, и то, что ранее казалось безвозвратно непригодным, часто возвращается в качестве необходимого художественного и иделогического аргумента.
История учит, что всякое событие, запечатленное в звуке или в письменной форме, представляет собой документ или художественное произведение, которое продолжает жить благодаря своим метаморфозам и в той степени, в какой могло выдержать тысячи превращений и толкований... Оно черпает жизнеспособность в некоем качестве, от автора не зависящем и обязанном не ему, но его эпохе или народу, – качестве, обретающем ценность благодаря переменам, которые претерпевают эпоха или народ.
Таким образом, вопрос целесообразности использования того или иного звукового или текстового элемента в радиопередаче -это всегда вопрос его концептуальной транскрипции, т. е., иначе говоря, всегда обусловлен журналистской задачей.
Документ и обобщение в структуре радиопередач
Документальная запись, включающая, как уже говорилось, человеческую речь, музыку и шумы, отражающие реальную звуковую атмосферу жизни в том или ином конкретном месте, в то или иное конкретное время, выступает в радиожурналистике сразу в двух ипостасях. Во-первых, как выразительное средство, как краски с журналистской палитры, помогающие корреспонденту радио рассказать с возможной полнотой об этом событии, передать его психологическую атмосферу, акцентировать внимание на том или ином обстоятельстве времени, места и действия.
Во-вторых, всякая документальная запись является фонодокументом, выступающим самостоятельным или дополнительным аргументом для доказательства подлинности фактического материала передачи.
Широко известно утверждение знаменитого немецкого журналиста Герхарда Шойманна: «Часто используемая репортерами фраза: „Я здесь со своим микрофоном..“ – заключает в себе всю волнующую тайну радио, ибо микрофон гарантирует: да, это было так, а не иначе».
Никаких сомнений в справедливости этого утверждения нет. Безусловно, звуковое воссоздание фактов реальной жизни позволяет полнее и ярче представить картину события. Кроме того, поскольку эти факты зафиксированы звукозаписывающим устройством в момент их совершения, они и воспроизводятся в звуковом документе с большей объективностью, чем в любом другом виде документальных материалов. При этом не имеет принципиального значения (если речь идет лишь о достоверности в радиожурналистике) то обстоятельство, что событие отражается в звуковом документе не всегда полностью, а чаще всего отдельными деталями, связанными между собой внутренним единством, а не обязательной последовательностью.
Таким образом, при анализе возможностей использования фонодокумента в передаче в первую очередь, как правило, говорят о юридическом аспекте подлинности зафиксированных им событий и затем – о способности эмоционально подчинить аудиторию.
Однако такая точка зрения на фонодокумент представляется несколько упрощенной. Ведь документальная запись, равно как и письменный документ, способна составлять в структуре радиосообщения сюжетно-смысловой стержень, или, иначе говоря, выполнять функцию основного структурообразующего элемента.
На современном этапе развития массового вещания использование письменных документов и фонодокументов в качестве основы сюжетно-смысловой конструкции радиосообщения как раз и стало одним из ведущих средств творческой организации материала.
Остановимся сначала на формах использования текстовых документов. Наиболее простой из них – введение в ткань передачи без каких бы то ни было изменений текста и композиции всего радиосообщения. Например, в одном из репортажей о пуске новой АЭС журналист включил отрывки из нескольких государственных постановлений, принятых на различных этапах электрификации страны. Умело и точно вмонтированные, эти документы, прочитанные диктором, а не репортером, придали событию историческую масштабность.
Подобных примеров сегодня в эфире много. Упреки авторам таких репортажей в эклектике – они, дескать, разрушают «чистоту жанра» – не кажутся нам правомерными. Прием, использовавшийся прежде в радиокомпозиции, не разрушает репортаж, но обогащает его; эволюция любого жанра – во взаимном обогащении с другими жанрами.
В рассмотренном репортаже об АЭС текстовые документы явились дополнением к рассказу журналиста. Но бывает и наоборот, когда один, а чаще серия текстовых документов составляют смысл и сюжетную основу всей передачи (как правило, по форме представляющей одну из разновидностей жанра радиокомпозиции). В этом случае авторские обобщения, репортажные записи, музыка и т. д. несут дополнительную нагрузку, документ же полностью выполняет функцию структурообразующего смыслового элемента. Наиболее известный пример – историческая хроника, посвященная рассказу о революции 1917 года – цикл из нескольких десятков радиопередач, неоднократно повторяемый в эфире. Тексты постановлений и директив, приказов, донесений и рапортов, телеграммы, письма, стенограммы заседаний и переговоров и т. д. и т. п., в которых отражены события 1917 года, были собраны в определенной последовательности и составили композицию как каждой передачи в отдельности, так и всего цикла. Небольшие авторские комментарии, короткие беседы с участниками событий, несколько игровых сцен и музыкальные фрагменты лишь усиливали эмоциональное впечатление, которое создавалось самими документами.
В конце 60-х годов в среде радиожурналистов получила хождение и активное воплощение в практике (в частности, на Эстонском радио) теория так называемого «параллельного сюжета». Смысл ее был в следующем: композиция радиосообщений выстраивалась как две непересекающиеся самостоятельные сюжетно завершенные линии, одна из которых полностью состояла из текстов документов, а другая – из комментариев, игровых эпизодов и т. д. Использование параллельного сюжета, как отмечал популярный мастер радио Ивар Триккель, дало хорошие результаты в репортажах, очерках и радиорассказах, но наиболее часто он употреблялся в радиокомпозициях.
До сих пор речь шла о непосредственном введении документа в радиопередачу без каких-либо его трансформаций. Гораздо чаще в современном вещании документ используется опосредованно, как основа, во-первых, авторского комментария, публицистического выступления, беседы (опять-таки в сочетании с музыкой и игровыми элементами), а во-вторых – инсценированного действия.
В первом случае мы имеем дело с методикой, которая аналогична построению уже упомянутого параллельного сюжета. Развивая тему передачи в документально-публицистической беседе, можно одновременно вести литературный сюжет с вымышленными лицами. По такому принципу были построены многие передачи на исторические темы в конце 60 – начале 70-х годов. Это был период, когда после разоблачения культа личности Сталина восстанавливались многие несправедливо забытые события и имена подлинной истории Российского государства. Радио не сразу оказалось готовым к восполнению искусственно образовавшихся «белых пятен», но когда оно наконец созрело для этой работы, то принялось за нее активно и с использованием своих богатых выразительных возможностей. Например, в передаче о февральской революции 1917 года и обстановке, сложившейся после нее в России, действовали два вымышленных персонажа, приехавшие из провинциального городка и из деревни в Петроград. Их наблюдения и бытовые, жизненные ситуации, в которые они попадали, комментировал по ходу передачи реальный персонаж – видный историк. Его выступление было построено главным образом на текстах документов того времени.
Однако наибольшее распространение в современном вещании текстовой документ получил в качестве основы для инсценировки, где подлинный фактический материал неразрывно соседствует с авторским домыслом. В этом случае мы имеем дело с передачей, в которой сохраняются имена участников описываемых событий, но в сюжетную канву наряду с подлинными ситуациями, фактами и событиями, происходившими в действительности, могут быть включены эпизоды (а иногда и персонажи), вымышленные автором.
Непременное условие такой передачи – наличие в ее структуре текстового документа в его первозданном виде, что, собственно, и отличает ее от традиционного литературного произведения, относимого к разряду исторических новелл или пьес.
По этому принципу были построены, к примеру, цикл радиобиографий выдающихся политических и культурных деятелей России и мира, осуществленный на Всесоюзном радио в 60-70-е годы, многие публицистические и образовательные программы радиостанции «Юность». Наиболее показательной в этом смысле представляется серия программ на научно-просветительские темы, включавшая в себя радиосообщения разных жанров – очерки, рассказы, композиции, пьесы; они были посвящены самым разнообразным событиям истории науки и ее современным достижениям – от путешествия Афанасия Никитина до проблем современной генетики, от биографии Галилея до системы тренировок испытателей космических кораблей. Но во всех передачах выдерживался единый принцип: все, о чем рассказывалось, было строго документировано, достоверность всего происходящего в эфире подтверждалась максимально возможной четкостью в датировке события и точностью в цитировании существующих письменных материалов, свидетельствующих об этом событии и его главных участниках.
В то же время «как вид передач, находящийся на грани документального и художественного, он, не допуская отступления от твердо установленных фактов, невозможен без домысла», – указывал один из ведущих авторов радиосерии Р. Глиер. Домысел касался, как правило, описания малоизвестных исторических обстоятельств, в которых происходило событие, и выражался также во введении вымышленных второстепенных персонажей, которые помогали более четко прояснить авторскую концепцию. Нельзя было, к примеру, волей журналиста приписать уральским умельцам Черепановым создание парохода; но, основываясь на исторических фактах, воспоминаниях очевидцев и других данных, можно было домыслить разговор, который Черепановы вели с неким вельможей, заинтересовавшимся их проектом паровозного котла, и атмосферу приема, оказанного изобретателям.
Мера допустимого вымысла в каждой передаче определялась многими факторами: темой, существом научного открытия, о котором шла речь, характером фактического материала, оказавшегося в распоряжении автора. Многие исследователи отмечают, что в практике современных средств массовой информации и пропаганды документ не находится в антагонизме с художественной фантазией, поскольку он утверждается не только за счет насыщения фактами традиционных форм, но и путем развития самостоятельных документальных жанров. Таким новым жанром, в основе которого лежит инсценированный текстовой документ, является документальная драма, получившая распространение во всех видах вещания.
Документ утверждался как драматургическая основа передачи. Причем в «хорошие» для радио годы, когда оно не боялось аудитории, а шло ей навстречу, методом проверки достоверности журналистского поиска было первое прослушивание передачи в кругу людей, о которых и шел рассказ. Так, программу «Подарок наркома» по сценарию А. Пахомова и Л. Митрофанова предваряло объявление, что она создана по просьбе рабочих Новокраматорского машиностроительного завода – и сдача ее «заказчику» происходила прямо на комбинате. Не нужно было придумывать конфликты – сама жизнь, действительная история рабочего коллектива содержали их в таком избытке, что журналистам требовалось лишь определенным образом организовать этот жизненный материал в единую композицию. Достоверность – и текстовая, и звуковая, и интонационная, основанная на скрупулезном исследовании подлинных событий, – обусловила успех. Подобное обращение к фактам получило развитие в целом ряде передач, посвященных волжским речникам, строителям одного из крупнейших химических комбинатов в Сибири, людям, возводившим Токтогульскую ГЭС. Основу этих и аналогичных радиопрограмм составляли рассказы реальных участников, а их имена были сохранены в передачах.
Стилистика документальной драмы всегда с наибольшим успехом завоевывала позиции в «криминальных» сюжетах. Так, в молодежном вещании появилась передача, в основе которой оказалось достаточно типичное уголовное дело. Школьница обвинялась в нападении на пожилую женщину «с целью похищения сумочки». Девочка была избалована родителями, слишком занятыми своей работой, чтобы обращать внимание на воспитание дочери. Но к концу следствия (и к концу передачи) выяснилось, что преступление это «она взяла на себя» из любви к молодому человеку, который оказался опытным уголовным преступником.
В передаче нет массовых сцен. С юридической точностью воспроизведены допросы, очные ставки, беседы следователя с учителями и друзьями обвиняемой. Все диалоги строго соответствуют стенограммам, протоколам и звукозаписям, сделанным в процессе расследования подлинного уголовного дела (по вполне понятным причинам изменены фамилии участников, но мера достоверности от этого не пострадала). Домыслены журналистами лишь размышления следователя, его монологи. Разумеется, в те дни, когда следователь вел дело, он никакие свои размышления на пленку на записывал. Они появились позднее как результат длительных диалогов с авторами передачи. Потом «свои» тексты журналисты вымонтировали, а ответы следователя превратились в сюжет программы.
Отдельное направление в использовании письменного документа – инсценирование писем. Эта форма получила свое рождение и первоначальное развитие в 70-80-е годы на Всесоюзном радио в передаче радиостанции «Юность» «Час интересного письма», постоянными авторами и ведущими которой были журналисты Г. Ершова и В. Соколовская. Передача выходила в эфир по мере поступления в редакцию интересной и ценной корреспонденции, но не реже одного раза в месяц. По признанию авторов передачи, право на инсценировку получало то письмо, которое наиболее ярко отражало личность автора.
«Это могло быть признанием в любви городу, своей профессии, работе или человеку; иногда не все письмо, а какая-то одна деталь, удачно найденная фраза или спорная мысль становится поводом для постановки проблемы, отправным моментом для дискуссии или стержнем комментария», – пишет В. Соколовская.
Для трансформации писем в этой передаче наиболее типичны два варианта.
Первый – когда текст письма не подвергается никаким изменениям, – творческая переработка материала заключается в интонационно-эмоциональной окраске, которую придает тексту актер-исполнитель и введение музыки и шумов.
Второй вариант сценарной трансформации письма – диалог автора письма (его роль исполняет актер) и комментатора. В роли комментатора иногда выступает журналист, иногда другой радиослушатель, чьи суждения, с точки зрения авторов передачи, более авторитетны и интересны.
Письмо Наташи Д. читал токарь Мытищинского машиностроительного завода Владимир Иванович Катречко. Читал и сопоставлял с фактами собственной биографии.
Актриса (за Наташу). ...В прошлом году окончила я десятилетку, и надо было выбирать: учиться дальше или пойти работать. Планы с учебой провалились – не сдала приемные экзамены, а работы по душе не нашла.
Катречко. У меня не было возможности выбирать: учиться или работать. Надо было работать, помогать семье и вообще... чувствовать себя полезным человеком.
Актриса (за Наташу). И вот до сих пор не работаю. Да и зачем бы я пошла работать? В семье моя зарплата не очень-то нужна. Живем мы неплохо, и какая-то сотня рублей погоды не сделает. И родители говорят: успеешь, еще наработаешься...
Катречко. Ну, для меня такие вещи звучат довольно странно!
Актриса (за Наташу). Сижу дома и, знаете, не испытываю особых угрызений. Кому плохо от того, что я сижу у телевизора или хожу в кино?
Катречко (иронически). Родители кормят...
В ряде передач диалог с автором письма ведет не реальный человек, а литературный персонаж. Авторы «Часа интересного письма» используют этот прием, чтобы придать диалогу сатирический, фельетонный оттенок. Так, в одной из передач письмо Ольги Н. звучало (текст был приведен без изменений) параллельно с отрывками из рассказа А.П. Чехова «Ванька Жуков». Передача называлась «На деревню – бабушке».
Актер (за Ваньку). ...Милый дедушка, Константин Макарыч. И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты один у меня остался...
Актриса (за Ольгу). ...Так я живу, я у бабушки, потому что из дому ушла, поругалась с родителями. Надоели они мне, все с угрозами да с оговорами: «Не будешь учиться -пропадешь», «Ничего тебе не купим...»
Итак, мы определяем следующие наиболее распространенные способы включения текстового документа в передачу, а именно введение одного или нескольких документов:
– для придания содержанию передачи большей достоверности и масштабности;
– в качестве сюжетно-смысловой основы радиосообщения;
– в качестве одного из двух структурообразующих элементов (по принципу параллельного сюжета);
– в качестве материала для инсценирования.
Все вышеуказанные методы действительны и перспективны и для фонодокументов. Фонодокумент часто включается в радиосообщение, чтобы придать ему особую эмоциональность и подчеркнуть историческую преемственность и важность события, о котором идет речь. Скажем, в репортаж о проводах новобранцев в армию включается фрагмент из записанных на пластинку выступлений легендарных маршалов – И.С. Конева и К.К. Рокоссовского.
Один или несколько фонодокументов способны образовать главный структурообразующий элемент радиопередачи – составить ее сюжет. В качестве примера рассмотрим цикл передач «Подвиг народа», подготовленный к очередному юбилею Победы над фашистской Германией. Под этой рубрикой прозвучало несколько композиций, движение сюжета в которых обеспечивали звукозаписи времен Великой Отечественной войны.
Пример того же ряда – популярный радиоочерк Г. Шерговой «Солдатки», также построенный полностью на фонодокументах времен войны. Две совсем маленькие – по двадцать секунд! – записи: письмо раненого солдата с фронта и репортаж о танковой атаке, сделанной прямо с «тридцатьчетверки »:
– «„Эстрада“, „Эстрада“, я „Гром“, я „Гром“, слева отдельное дерево – батарея гадов. Подавить. Батарея гадов. Подавить! Огонь!..»
А в качестве комментариев к ним – раздумья женщин, воевавших в тылу и на фронте, – трактористок и пилотов, санитарок и сталеваров, кочегаров и дровосеков. Но говорят они не о работе, а о самом трудном, что выпадает на долю женщин в войне, – об ожидании. Так создается эмоциональный контрапункт передачи. Задача же ведущего – коротко и тактично представить эти записи, которые сами по себе составляют единое целое – коллективный портрет большой социальной группы.
Наиболее дискуссионен вопрос об использовании фонодокумента как материала для инсценирования. Процесс перевода звуковой фактуры в текст, с тем чтобы затем его исполняли актеры, кажется на первый взгляд неправомерным. Однако и такой процесс в определенных обстоятельствах не лишен смысла. К подобной форме использования звукового документа приходится прибегать по причинам этического свойства, а также из-за плохого технического состояния материального носителя фонодокумента.
Обратимся к такому примеру. Известный радиожурналист Л. Маграчев работал над передачей о разведчике Милетии Малышеве. В его распоряжении был записанный на пленку рассказ самого Малышева. Однако этот рассказ касался событий настолько необычных и героических, что журналист не решился просто представить его слушателям, – он задумал его инсценировать, чтобы не ставить своего героя в неловкое положение. В ходе передачи, когда настал момент рассказать о самом удивительном, что произошло с Малышевым, журналист прервал рассказ, сказав, что это, наверное, лучше представить в лицах артистам: «...наверное, все было вот так...» Началась инсценировка. А когда она кончилась, вдруг прозвучал голос самого Малышева: «Нет, не совсем так», -с последующим уточнением некоторых деталей. Слушатель написал после передачи в редакцию: «Парадокс, но таким способом включенная инсценировка действовала на меня больше и сильнее, чем сам звуковой документ».
Рассматривая художественную функцию письменного и звукового документа в структуре радиосообщения, следует отметить, что на практике они чаще всего сосуществуют вместе в ткани одной передачи. С конца 60-х, в 70 – 90-е годы в общественно-политическом вещании проявляет себя следующая тенденция: в структуре радиосообщения разнофактурные документы объединяются в свободной последовательности по принципу акустического коллажа. При этом наиболее перспективным оказывается непосредственное включение фонодокумента в инсценированный текстовой документ.
Возможности соединения фонодокумента с литературным текстом, построенным на письменном документе, безграничны – они определяются творческими пристрастиями журналиста, его трактовкой материала, его вкусом и мерой владения эстетикой и технологией монтажа.
Вот как, например, сталкиваются звуковой, текстовой документ и игровая (т. е. исполняемая актерами) сцена в одной из передач, посвященной трудному периоду восстановления народного хозяйства после окончания Гражданской войны.
Один из эпизодов программы построен следующим образом. В кабинете Г.М. Кржижановского идет обсуждение плана ГОЭЛРО – сцену, написанную на основе стенографического протокола заседания, играют артисты московских театров. Диалог прерывает звук работающего телеграфного аппарата. В бесстрастном дикторском чтении звучат подлинные телеграммы: «В Петрограде прекращена работа на 64 предприятиях», «Выдача хлеба по карточкам в Москве резко сокращена», «Вследствие недоедания в деревнях Курской и других губерний Поволжья еженедельно умирают 15-20 семей» и т. д.
Стихает телеграфный аппарат и голоса дикторов – слушатель вновь оказывается в кабинете Кржижановского. Продолжается обсуждение плана ГОЭЛРО: один из участников сообщает о том, что летом 1920 года в Шатуре, возможно, состоится пуск временной электростанции на торфе мощностью пять тысяч киловатт.
Неожиданно начинает звучать музыка. Она вместе с короткой репликой ведущего переносит слушателя в другое время: «5 тысяч киловатт. Спустя тридцать четыре года недалеко от Москвы начала работать первая в мире электростанция на атомной энергии. Ее мощность тоже пять тысяч киловатт. Академик Курчатов говорил...»
Затем идет пленка с записью голоса Курчатова – интервью в день открытия АЭС в Обнинске. Академик говорит о той прозорливости, которая была присуща ученым в 1920 году, когда были заложены не только основы отечественной энергетики, но и база для научных исследований, позволивших овладеть мирным атомом. Кончился фонодокумент – запись выступления И.В. Курчатова.
Подобная форма изложения насыщенного фактического материала расширяет кругозор слушателя, придает содержанию передачи историческую масштабность и эмоциональную остроту, которой трудно было бы добиться простым чтением даже очень интересных, исторически важных письменных документов.
Как видно из вышесказанного, способы использования документа в структуре радиосообщения чрезвычайно разнообразны. Следует, однако, сделать крайне важное замечание. Художественную организацию материала вообще и обработку документа в процессе его включения в ткань радиопередачи, в частности, нельзя смешивать с встречающейся еще в практике подменой реальных событий вымышленными фактами и обстоятельствами. В этом случае искажается самый принцип документализма, лежащий в основе радиопублицистики. Инсценирование документа, то есть восстановление фактов реальной действительности с помощью игровых сцен – как одно из средств структурной организации фактического материала, – не следует путать с попыткой отразить действительность с помощью вымысла, не имеющего документальной основы. Иначе говоря, документ может быть «разыгран», чтобы конкретный факт поднялся до обобщения, но вымысел не может выдаваться за документ.
Примечания
1 Кракауэр 3. Природа фильма. М., 1974. С. 59.
2 Там же.
3 Голдовская М. Творчество и техника. М., 1986. С. 4-8.
4 Шалашников М.С. История советского радиовещания. М., 1977. С. 19, 21.
5 Каган М. Морфология искусства. Л., 1972. С. 384.
6 В 1927-1928 гг. в связи с совершенствованием массового выпуска электронных ламп промышленность приступила к серийному выпуску многоламповых приемных конструкций Борусевича (БТ, БЧ, БШ), обеспечивающих воспроизведение передач на выносной громкоговоритель типа «Рекорд». В 1930 г. завод им. Козицкого выпустил первый отечественный супергетеродинный приемник на лампах «микро» (СГ-6). В начале 30-х гг. завершается разработка массового приемника СИ-235.
Подробно см.: Палшков В.В. Развитие радиоприема в СССР. В кн: Из истории энергетики, электроники и связи. Вып. 10. М., 1979. С. 73-86.
7 Новости радио, 1926, N° 47. С. 6.
8 Новости радио, 1928, N° 42. С. 4.
9 Канцель А С. Звуковой язык – ведущий радиоискусства // Митинг миллионов, 1931, № 4-5(8-9). С. 32.
10 Радиослушатель, 1930, N° 18. С. 6.
11 Архив Гостелерадио СССР. Оп. л/с. Д. 11. Л. 112.
12 Информационный бюллетень радиовещания. М.: Радиоуправление НКПТ. 1930, № 1. С. 17.
13 Новогрудский А. Против потока скуки// Говорит СССР, 1932, N° 35-36. С. 4-5.
14 Это был тонфильм «Реконструкция железнодорожного транспорта» – запись звука на кинопленке без изображения.
15 Гарин Э. С Мейерхольдом, М.. 1974. С. 219-222.
16 Мейерхольд В.Э. Чехов и натурализм на сцене. // В мире искусств, 1907. № 11-12. С. 24.
17 Что такое радиофильм? // Говорит СССР, 1932, N° 22. С. 4.
18 Спасский А.М. Как создавался наш цех оперативных записей. – В кн.: Вспоминают ветераны, вып. 5. М.: Гостелерадио СССР, 1978. С. 34-35. (На правах рукописи.)
19 Советское радио и телевидение, 1961, N° 7. С. 33.
20 Марченко Т. Радиотеатр. М., 1970. С. 141.
21 Подкопаев Н. «Радиопередача с точки зрения физиологии» // Радиослушатель, 1930, № 18. С. 3.
22 Такое определение музыки дает современное языкознание. См.: Ожегов СМ. Словарь русского языка. М., 1963. С. 355.
23 Стоковский А. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 43.
24 В архиве компании Останкино в фонде распорядительных документов сохраняются акты ОТК Гостелерадио СССР. Наибольшее число актов по поводу брака при монтаже приходится на время внедрения описанной новинки. На этот же период приходится и большинство заявлений об увольнении или с просьбой о переводе на другую работу от работников монтажного цеха.
25 Белый А. «Иванов» на сцене Художественного театра // Весы, 1904, № 11. С. 29-30.
26 Абдулов О.Н. Как звучит торф? // Радиодекада, 1931, № 1. С. 14.
Глава 5 Отечественное радиовещание на рубеже XX-XXI веков
Радио России в канун отказа государства от монополии на эфир
1970-е годы в книгах по истории культуры и журналистики получили у исследователей горестное определение «эпохи социального застоя», а так как радио по своей природе и общественному статусу всегда было достаточно объективным зеркалом общественной жизни и, соответственно, весьма полным и выразительным отражением социальных проблем, которые определяли общественное развитие, то правомерно термин «застой» соотнести и с деятельностью самого радиовещания. Причины этого застоя разнообразны. Немалое значение имела перестройка средств массовой информации, когда в 1970 году руководителем реорганизованного Гостеле-радио СССР стал С.Г. Лапин, начинавший свою радиокарьеру еще в годы Великой Отечественной войны в должности заместителя председателя Радиокомитета, осуществлявшего руководство и контроль за политвещанием ВРК.
Лапин был опытным работником и широко образованным человеком, прекрасно знал музыку, поэзию, заслуженно числился «своим» в кругу даже самых строгих знатоков и ценителей изящной словесности. Однако его личные художественные увлечения весьма своеобразно, а точнее сказать, однообразно отражались в его профессиональной практике руководителя вещания.
Достаточно было, например, редактору литературно-драматического вещания включить в художественную передачу о русской поэзии «серебряного века» стихи Н. Гумилева, которого Лапин любил цитировать с разных трибун радиокомитетских совещаний, демонстрируя действительно блестящее знание предмета и судьбы поэта, как издавался приказ руководства Гостелерадио, которым упомянутый редактор увольнялся со своей работы «за подбор стихов, не соответствующих просветительским задачам Всесоюзного радио».
Апеллировать было не к кому – приказ вступал в силу немедленно. Подобные «карательные» распоряжения издавались десятками и часто касались творческих работников радиовещания, верой и правдой прослуживших в Радиокомитете по многу десятилетий.
Вполне естественно, что атмосфера, сложившаяся в Радиокомитете, никак не стимулировала ни творческую инициативу редакторов и корреспондентов, ни художественные поиски режиссеров и обозревателей, которые готовили свои цикловые или разовые программы под дамокловым мечом увольнения разгневанного невесть чем руководителя в ранге министра и члена ЦК КПСС.
Все это очень сильно аукнется многим, даже очень опытным работникам, которым после реорганизации радиовещания и телевидения в начале 1990-х годов и отказа государства от «монополии на эфир», придется искать работу в новых структурах и на новых, уже не государственных радиостанциях. «Кадровый голод», остро ощутимый отечественным радиовещанием в конце 1980-х – начале 1990-х годов, – явление не спонтанное, а социально запрограммированное практикой работы Гостелерадио СССР в последние годы его существования под руководством С.Г. Лапина.
По традиции, основные задачи радиовещания – информирование населения, просвещение, нравственное и эстетическое воспитание, детское и юношеское художественное образование и т. п. – на словах оставались неизменными. Но на практике, и это многократно заявлял председатель Гостелерадио С.Г. Лапин, главной задачей всех органов массовой информации становилась пропаганда достижений социализма, агитация за скорейшее и наилучшее выполнение разнообразных задач, сформулированных в партийных решениях и других документах ЦК КПСС, откровенная апологизация деятельности партийного и государственного аппарата и руководства страны и абсолютно нетерпимое отношение к проявлению инакомыслия, к принципам и идеям, имеющим общечеловеческие, гуманистические ценности и содержание. Все это дополнялось усилением контроля за настроениями в кругу работников радиовещания.
Руководство Радиокомитета, выступая перед журналистами радио и телевидения, не скрывало свой испуг перед теми демократическими преобразованиями, которые нарастали в глубине социальной и духовной жизни государств так называемого «социалистического лагеря». Естественно, что больше всего руководящие чиновники Гостелерадио СССР были испуганы событиями конца 1960-х годов в Чехословакии и ряде других восточноевропейских стран.
С.Г. Лапин неоднократно повторял с различных трибун свою генеральную мысль о том, что радио нужны не высокие профессионалы, не талантливые люди, способные и готовые в процессе творческого поиска открывать новые методы общения с аудиторией, новые способы и средства различного интеллектуального и прежде всего просветительского воздействия на людей, а верность «идеям коммунизма», пусть догматическая, но неизменная методика идеологически и тематически выверенной агитации. Именно в это время не случайно, а в прямом развитии партийных и правительственных директив вместо СМИ (средства массовой информации) или СМК (средства массовой коммуникации) радио и телевидение снова, как и в «сталинские времена», стали именовать СМИП (средства массовой информации и пропаганды).
На практике это означало жесткое усиление цензуры, исчезновение из эфира пусть небольшой, но все-таки существовавшей части дискуссионных передач на острые социальные темы, почти полный отказ от сатирических программ и замена их юмористическими, чисто развлекательными передачами.
Следующим этапом реорганизации массового радиовещания стало усиление – на всех его уровнях – так называемого «тематического планирования», которое включало в себя заблаговременное утверждение в аппарате Гостелерадио СССР и ЦК КПСС не только сетки вещания того или иного радиоканала, но и тематики жанров и списков конкретных участников каждой передачи, а иногда и ее текстов. Разумеется, список участников утверждался во всех инстанциях с особой тщательностью. Непосредственный выход участника передачи со своими наблюдениями, суждениями и мнениями по принципам тематического планирования был невозможен, и если и занимал небольшую часть объема суточного «эфирного времени», то представлял собой скорее исключение из практики подготовки программ, даже так называемого «прямого эфира».
Резкое усиление цензуры, которая стала визировать даже пояснительные комментарии к трансляциям спектаклей и концертов, привело к тому, что из эфира постепенно исчезли любые журналистские импровизации. Только очень ограниченное число работников различных редакций сохранили за собой право, да и то в исключительных случаях, подойти к микрофону и провести репортаж с актуального события без предварительного утверждения в цензурных инстанциях текста, который они произносили в микрофон.
Все это не могло не сказаться прежде всего на уровне информационного вещания и вещания для молодежи. Очень немногие, даже популярные программы, родившиеся в эфире в 1960 – 1970-е годы, с колоссальным трудом сохраняли свое место в эфире.
Но вырос уровень передач, подготовленных, завизированных и заранее записанных на пленку. Они тоже испытывали жесточайшее цензурное давление руководства Радиокомитета. Их очень часто подвергали перемонтажу, сокращениям и т. д. Однако тут следует отметить парадокс профессионального развития радиожурналистики и радиовещания: чем жестче была предварительная цензура, тем изобретательнее были авторы и режиссеры в поиске наиболее эффективных способов воздействия на аудиторию. Особенно это свойство было очевидно в практике радиостанции «Юность», в работе литературных, театральных и музыкальных редакций.
Существование «черных списков», в которых часто упоминались выдающиеся мастера литературы, театра, музыки и кино, не помешало редакциям привлечь многих замечательных мастеров к работе у микрофона. В 1970-е и начале 1980-х годов в студии радио приходят для реализации своих творческих идей киноактер и режиссер А. Баталов, кинорежиссер Савва Кулиш, театральные режиссеры и актеры Г. Волчек, О. Ефремов, О. Табаков, А. Эфрос, С. Любшин, актеры Т. Шмыга, М. Миронова, Ф. Раневская и многие другие.
Ситуация, сложившаяся в Гостелерадио, не стимулировала их творческие поиски у микрофона. Более того, очень часто их творческая работа после завершения и приема ее официальными комиссиями и художественными советами отправлялась «на полку».
Опыт в этом деле был накоплен значительный. Напомним, что еще раньше двадцать лет ждал своей очереди в эфир спектакль А. Тарковского «Полный поворот кругом» по У. Фолкнеру с Н. Михалковым и А. Лазаревым в главных ролях, музыку для которого написал композитор В. Овчинников. (А между тем эта работа, прозвучавшая ныне в эфире нескольких десятков стран мира, открывает список достижений мирового радиовещания второй половины XX века, как эксперименты Орсона Уэллса в конце 1930-х годов в США обусловили и предсказали многие достижения аудиокультуры – и на радио и в кино.) Та же судьба постигла радиоспектакль С. Кулиша «Ринг» по пьесе румынского драматурга И. Гри-гореску – признанный одной из лучших радиопьес второй половины XX века во всем мире. Много лет ждал своей очереди в эфир спектакль С. Любшина по пьесе А. Вампилова «Дом окнами в поле». Этот «скорбный» список «полки Радиокомитета» составляет десятки страниц. Та же участь постигла цикл передач о русской поэзии, подготовленный известным литературоведом 3. Паперным.
Таким образом, чрезвычайно разнообразна в нравственном и профессиональном смысле была ситуация, когда после распада СССР государство отказалось от «монополии на эфир», а новая Конституция Российской Федерации запретила всякую цензуру.
Конец 1980 – начало 1990-х годов стали переломными в деятельности СМИ, и в том числе радиовещания.
Последняя четверть XX века в отечественном радиовещании характеризуется большими творческими и организационными изменениями. В области программирования, методики и эстетики массового вещания эти изменения связаны с появлением новой техники звукозаписи и воспроизведения звука, процесс обусловлен активным внедрением так называемых «цифровых» технологий, которые позволяют, с одной стороны, усложнять эстетические и технологические характеристики радиопроизводства, и прежде всего монтаж аудиозаписей при помощи разнообразных и быстро распространяющихся компьютеров, давая режиссерам радио и звукотехникам гораздо большие, чем прежде возможности монтажного соединения звуков, слов, музыкального и шумового материала, с другой – технологически упрощать этот процесс.
На искусстве монтажа на радио все больше сказывалось влияние и опыт кинематографа в этой сфере художественного производства – монтаж все чаще происходил при помощи компьютеров, стирались грани профессионального искусства монтажеров в кино и на радио. Этому процессу способствовал и приход в радиостудию и аппаратные звукозаписи и монтажа многих крупных кинорежиссеров, которые приносили на радио свой опыт кинематографического осмысления жизненных реалий в документальном и игровом кино. Уроки А. Тарковского, С. Кулиша, А. Баталова и их коллег получили развитие в работах нового поколения режиссеров радио, на которых мы остановимся ниже.
К концу 1980 – началу 1990-х годов XX века назрели и организационные перемены в отечественном радиовещании.
Рождение радиорынка
С распадом СССР, появлением новой Конституции России эти изменения оказались необратимыми. Стало ясно, причем очень быстро, что централизация всей системы вещания и многоступенчатая система цензуры – как предварительной, так и оперативной – тормозит развитие форм и методов радиовещания в России.
Совершенно очевидным и для организаторов радиовещания, и для ведущих работников различных творческих профессий стал тот факт, что государственная монополия, жестко внедрявшаяся в течение многих десятилетий в сфере массового вещания, далее нецелесообразна со всех точек зрения. Социальные перемены в стране привели к переменам и в области массового радиовещания. Появилось и быстро стало развиваться негосударственное радио.
На рубеже 80 – 90-х годов появилась сначала в УКВ-FM-диапазоне в Москве и ряде других городов первая в стране независимая коммерческая российско-французская радиостанция «Европа Плюс», а вскоре зазвучало «Эхо Москвы».
С распадом СССР и ликвидацией общесоюзных министерств и ведомств был ликвидирован и Государственный комитет по телевидению и радиовещанию. На короткое время часть функций этого министерства взяла на себя организация, называвшаяся Государственная телерадиокомпания «Останкино», но очень быстро она продемонстрировала, что сам по себе принцип централизованного планирования и управления телерадиопроизводством во всей стране нерационален. Управление вещанием, включая стратегическое и оперативное планирование, полностью перешло к самим производителям программ и передач.
Значительным событием стало образование государственной радиоорганизации «Радио России», которое начало вещание 10 декабря 1990 года. С первых дней существования «Радио России» оказалось в положении альтернативного, оппозиционного источника информации, политически острого, противостоящего официальному, правительственному Гостелерадио СССР.
Почти вся работа новой организации, основу которой составили журналисты, пришедшие в штат этого подразделения из радиостанций «Юность» и «Маяк», велась в прямом эфире.
Предварительная запись на пленку перестала быть основой производства вещательных программ и на государственном радио.
В 1995 году после ликвидации телерадиокомпании «Останкино» «Радио России» стало основной государственной радиоорганизацией, управляемой правительством. Фактически ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиовещательная компания) приняла на себя часть функций бывшего Гостелерадио, конечно в значительно меньшем объеме и без права директивного руководства в области организации местного, регионального радиовещания. В частности, ВГТРК не имела и ныне не имеет права финансового контроля за негосударственными радиостанциями. Вопросы лицензирования радиовещательных организаций, т. е. выдача права на эфир, были переданы другому ведомству, позднее реорганизованному в Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
Таким образом, государственный аппарат частично вернул себе функции управления массовым вещанием, но в более демократических формах. Так, в частности, вопрос о выдаче лицензий на право вещания решает теперь специальная Федеральная конкурсная комиссия при министерстве, куда наряду с работниками государственного аппарата входят представители различных общественных организаций, учебных заведений, культурных центров и т. д.
Надо отметить, что реорганизацию большинство вещательных редакций бывшего Гостелерадио встретили в значительно «ослабленном виде». Дело в том, что еще 7 октября 1995 года тогдашний Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ о реорганизации всей системы Центрального государственного телерадиовещания. Намерения были самые благие. Главные редакции Центрального радиовещания – «Маяк», «Юность», музыкальное радиовещание, подлежали полной реорганизации, превращаясь в практически самостоятельные радиостудии – самостоятельные в выборе тематики, объемов и стиля вещания.
Самостоятельными государственными радиостанциями становились «Литдрама», получившая название «Радио-1» (позднее она стала называться «Радио-1 Культура»), Главная редакция музыкального вещания, кроме традиционного для нее набора программ, получила право выхода в эфир под названием «Радио Орфей». Главная редакция детского радиовещания вообще растворилась среди подразделений «Радио-1» и т. п.
Структура Всесоюзного радио – конгломерат редакций, каждая из которых имела и свою производственно-техническую базу, и свой собственный творческий коллектив, была рассыпана, как карточный домик. При этом вещательные редакции были оторваны от самой важной части своей производственной базы – от фондов звукозаписи.
Государственный телерадиофонд стал самостоятельной организацией, унитарным предприятием, работающим, естественно, на коммерческой основе. Для того чтобы редакция литературнодраматического вещания могла поставить в эфир ею же созданную передачу, спектакль, который здесь задумывался, репетировался, записывался, монтировался и т. д., эта самая редакция должна была теперь не просто снять с полки соответствующую пленку, а заплатить в Телерадиофонд кругленькую сумму. (Между прочим, из того же самого бюджета.)
О том, как это ударило по качеству и разнообразию вещательных программ, я думаю, много говорить не стоит.
В то же время сам Телерадиофонд «эфира» не получил и не имеет его до сих пор. Хотя совершенно ясно, что такая уникальная коллекция аудиодокументов, которая собрана, хранится, реставрируется и научно обрабатывается в Гостелерадиофонде, конечно, должна иметь постоянный выход в эфир, причем в эфир, обращенный к самой широкой аудитории. Об этом много писали в прессе, говорили на различных конференциях и заседаниях, но с места дело не двигается до сих пор.
Однако вернемся к моменту реорганизации Всесоюзного радио в 1995 году.
Оторванные от своих «производственных запасов» и одновременно лишенные необходимого финансирования, вещательные редакции бывшего Всесоюзного радио быстро пришли в упадок. К тому же началась распродажа производственно-технической базы, неизвестно кому достались права на помещения и техническое оснащение уникального Дома звукозаписи. Странные хозяева появились и у здания Радиокомитета на Пятницкой улице. С легкой руки коммерсантов и «новых русских» из Правительства Российской Федерации вся система радиовещания в стране оказалась распроданной. Началась перепродажа технических элементов системы -передатчиков, вещательных и трансляционных узлов, релейных линий, систем космической связи и т. п.
Впрочем, эта тема находится за рамками нашего исследования. Мы же обратим внимание на то, что отечественное радиовещание сохранило некоторые свои профессиональные качества и традиции с помощью наиболее крупных коммерческих радиостанций, таких как «Эхо Москвы», «Европа Плюс», «Наше радио», «Русское радио» и др.
Отечественное радио вступило в совершенно новый этап своей истории. К середине 1990-х годов в Центральном регионе (Москва и прилегающие к ней области Российской Федерации) действовали несколько десятков частных радиостанций, а по стране их число обозначалось цифрой в несколько сотен.
Одновременно с появлением коммерческих радиостанций в языке организаторов новых вещательных центров и журналистов радио появился новый термин – «формат радиостанции».
Об этом явлении мы подробно пишем в главе о программировании вещания.
Радиосети
Еще одна характерная черта развития современного радиорынка в России – постоянное стремление наиболее мощных и крупных коммерческих радиостанций увеличивать зону своего влияния, свою аудиторию, превращаясь в своеобразные радиоконцерны. Их называют «сетевые радиостанции».
Образование мощных вещательных корпораций – важная черта развития СМИ в России на рубеже XX и XXI веков. Почти каждая столичная радиостанция стремится приобрести влияние на территории различных регионов страны: «Европа Плюс», «Русское радио», «Серебряный дождь», «Авторадио», «Эхо Москвы», «Наше радио», «Шансон» и другие московские радиостанции являются сетевыми и вещают через системы космической спутниковой связи на другие города России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Первой завоевывать FM-пространство в регионах стала радиостанция «Европа Плюс». К 2002 году в зону вещания «Европы Плюс» вошло более 700 городов в России и странах СНГ, а общее число ее передающих станций достигло 167.
С «Европой Плюс» успешно конкурирует радиостанция «Русское радио», и к 2002 году ее сеть насчитывала уже более 150 партнеров, которые транслировали программы «Русского радио» не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Из крупных радиокорпораций начала XXI века также можно назвать «Наше радио», в городах вещания которого к началу 2002 года работало более 204 радиостанций. Сеть «Нашего радио» – третья по величине среди негосударственных радиостанций РФ.
Масштабы остальных радиоконцернов значительно скромнее. Практически все московские радиостанции FM-диапазона стремятся наладить вещание на многие города России. К началу 2002 года насчитывается 140 городов в сети радиостанции «Серебряный дождь»; в 90 городах России слушают радистанцию «Хит-ФМ»; радио «Ретро» вещает в 35 городах; на 32 города вещает «Авторадио»; у радио «Шансон» за два года существования радиостанции появилось 24 региональных партнера и т. д.
Один из лидеров этого процесса – радиостанция «Эхо Москвы». К моменту завершения этой книги ее можно было слушать в 70 городах России, и тенденция к расширению зоны влияния этой станции сохранялась четко и уверенно.
Из нестоличных радиостанций можно отметить Санкт-Петербургскую Всероссийскую спутниковую сеть «Радио Модерн», зона охвата вещания которой к 2000 году составляла 19 городов.
В 2001 году «Радио Модерн» прекратило существование, а сеть городов его вещания перешла к корпорации «Наше радио».
Подводя промежуточные итоги процесса превращения крупных радиостанций в радиоконцерны – холдинги, исследователь этой ситуации А. Кириллина отмечает, что именно этот процесс максимально возможного на определенном историческом этапе структурирования радиорынка в России, отражает естественные закономерности развития массового вещания на новом историческом этапе. К таким же объективным факторам эволюции радиовещания относятся и ряд перемен уже не организационного, а эстетического характера – изменения в стилистике общения радиокоммуникаторов с аудиторией. Перемены эстетические, разумеется, по своему количеству, объему и скорости внедрения и распространения, конечно, уступают организационным изменениям, обусловленным прежде всего возможностью новых финансовых вливаний.
Влияние процессов глобализации на развитие отечественного радио
Важнейшим фактором современного развития отечественного радиовещания – и тут оно подвержено влиянию мировых тенденций в развитии культуры вообще и средств массовой коммуникации в частности, является тенденция к глобализации во всех сферах современной жизни человеческого общества. Под воздействие этих тенденций попадают и все без исключения отечественные средства массовой коммуникации, в том числе и эволюция информационного поля, и каждое из самостоятельно развивающихся средств массовой информации.
Особенность процесса глобализации в культуре, а конкретнее -в том ее направлении, которое соотносится с понятием «массовая культура» и связано непосредственно с развитием и эволюцией средств массовой информации и их воздействием на аудиторию, состоит в том, что унификация творческих результатов выражается и в унификации восприятия художественных явлений различными слоями общества, различными сегментами аудитории радио и телевидения и в выработке локального экономически выгодного и структурно унифицированного комплекса художественных приемов в том или ином направлении массовой культуры. Такое явление правомерно обозначить как условие того или иного художественного процесса, как непременное условие оптимального существования произведения и его воздействия на аудиторию в той или иной области культуры вообще и аудиокультуры в частности.
Это условие обязательно для любого направления творчества, и прежде всего на том этапе, когда этот вид творчества формирует элементы своеобразия на стадии перехода к условиям бытования и эволюции под воздействием процессов глобализации.
Главный инструмент глобализации – информационный обмен, осуществляемый при помощи различных средств массовой коммуникации, оказывающих постоянное, хотя и неравномерное воздействие на литературу, зрелищные, в том числе экранные искусства (обратим внимание здесь на «взрывное» развитие спутникового и кабельного телевидения, многофункциональность Интернета, постоянное расширение радиовещания, прежде всего за счет новых «эфирных» диапазонов), – все вместе эти средства информационного обмена составляют систему, элементы которой взаимосвязаны, что позволяет им оказывать суммарное или индивидуализированное воздействие как на всю систему информационного обмена в целом, так и на отдельные ее компоненты или группы составляющих элементов.
Бурное развитие науки и вызванные этим процессом изменения средств массовой коммуникации, обеспечивающих многообразие информационного обмена, унификацию критериев и форм этого обмена, обусловлено, в частности, и изменением самой структуры этой системы. Процесс развития информационного поля в зависимости от конкретных социально-исторических условий существования того или иного ее сегмента мобилен – выдвигая каждый раз на первые позиции то или иное средство массовой информации.
С одной стороны – постоянно увеличивающееся число каналов, каждый из которых концентрирует ему присущие формы информационного обмена, методы воздействия на аудиторию, принципы комплектования вещательных программ, их эстетическое и композиционное своеобразие и т. п.
С другой – история радиовещания в России и в мире с момента перехода от экспериментальных программ в первое двадцатилетие XX века к массовому вещанию, рассчитанному на одномоментное воздействие на миллионы, а в ряде случаев на десятки миллионов слушателей, – эта история убедительно свидетельствует, что с самых первых опытов массового вещания ведущее место в тематике программ разного рода занимали передачи, опирающиеся на этнокультурную базу художественного творчества, которая формировалась с учетом прежде всего этнической базы, образования и восприятия различных сегментов аудитории.
Унификация, а в ряде случаев и сокращение палитры художественных средств – процессы, идущие параллельно с расширением технических возможностей современной культуры, – и это тоже не парадокс, а объективная реальность развития искусства и СМК под влиянием глобализации – и вызванная этими процессами определенная примитивизация как самого художественного творчества, так и социально-эстетических правил и норм его восприятия -и есть еще один результат единого процесса глобализации в области художественного творчества, равно как и его восприятия.
Глобализация художественных коммуникаций приводит к тому, что аудитория разных стран, этносов, постигает стандартизированный язык единых культурных ценностей. С одной стороны -производители, уловив эти потребности аудитории, стандартизируют их сознательно, на стадии заказа авторам программ, передач и отдельных произведений.
Достаточно вспомнить, как во второй половине 1990-х годов, объявляя открытый конкурс на создание новых оригинальных телепрограмм, обращенных к возможно более широкой аудитории (то есть программ, претендующих на наиболее высокий рейтинг), один из ведущих каналов отечественного телевидения предупреждал в специальном пункте условий этого соревнования: «Проекты передач, не имеющих аналога на зарубежном телевидении, жюри конкурса не рассматриваются».
А с другой стороны – эти потребности формируются с учетом того, что они опираются на стандартизированные элементы культуры и стандартизированное под их влиянием восприятие большого количества людей. Конечно, уже сегодня это, как говорят современные политики, «улица с двухсторонним движением». В то же время нельзя не заметить, как элементы произведений элитарной культуры все больше и больше проникают в структуру произведений массовой культуры. Это относится ко всем видам искусств: в кино усложняется монтаж, базирующийся теперь на возможностях компьютерной техники; в музыке получают развитие «усложненные» виды гармонического сочетания инструментов и форм мелодического конструирования, усложняется гармоническая структура; в аудиокультуре появляются новые эстетические направления, отличающиеся не только усложненными монтажными соединениями, присущими звуковым коллажам; на радио и в кино все больше получают развитие новые «технические» способы звукоизвлечения.
Вообще, техника и эстетика «коллажного» соединения разнообразных приемов – явление, присущее прежде только образцам «высокого» искусства, получает все большее распространение в произведениях массовой культуры. Но справедливо заметить, что пока все эти упомянутые явления, требующие сугубо индивидуального художественного мышления и авторского своеобразия в использовании тех или иных выразительных художественных средств в том или ином виде искусства, – эти явления скорее исключения из правил и из практики художественного творчества, чем закономерности. Влияние «высоких» образцов художественного творчества пока еще уступает воздействию процессов унификации и стандартизации – прежде всего потому, что в условиях глобализации они менее выгодны экономически и далеко не всегда востребованы самой аудиторией.
Аудитории всех видов современной культуры сегодня легче воспринять привычный стандарт, чем эстетическую новацию, в которой сконцентрировано «непривычное», а следовательно, и не всегда понятное «потребителю».
Остается надеяться, что аудитория вернется к желанию думать, рассуждать, чувствовать, постигая эстетический замысел и художественный почерк творца, выражающий сугубо индивидуальный, новый, а потому еще незнакомый взгляд на мир. К этому призывает весь опыт мастеров аудиокультуры XX века, на котором более подробно мы остановимся в следующих разделах нашего исследования.
Нравственные и профессиональные проблемы радиорынка в современных условиях
Суммируя практику радиовещания на рубеже веков, правомерно указать на следующее.
Первое. Коммерческая основа «нового радио», т. е. прямая зависимость вновь созданных вещательных организаций прежде всего от рекламы и рекламодателей, привела к сужению жанрово-тематической палитры массового вещания и сужению спектра адресного вещания.
Из эфира ушли почти полностью передачи для детей и юношества – направление, отмеченное в отечественном радиовещании выдающимися достижениями.
Правда, довольно быстро наиболее крупные коммерческие радиостанции почувствовали ущербность такой эфирной политики и сначала в виде исключения, потом и на постоянной основе стали включать в свои программы интересные детские передачи бывшего Всесоюзного радио, используя коллекции Гостелерадиофонда. Так, на радиостанциях «Наше радио», «Эхо Москвы» и других появились в эфире десятки цикловых передач.
Сначала «Клуб знаменитых капитанов», вышедший в эфир впервые 31 декабря 1945 года и просуществовавший с колоссальным успехом много десятилетий, – оказалось, что и новым поколениям юных слушателей он может быть интересен, что подтвердили сотни школьников, захотевших принять участие в радиоконкурсах «Эха Москвы», построенных на сюжетах «Клуба знаменитых капитанов». «Эхо Москвы» передало 50 выпусков «Клуба», провело несколько десятков игр и викторин.
Опыт этот получил развитие на многих региональных информационно-музыкальных радиостанциях. Затем, к «Клубу знаменитых капитанов» добавились программы «Радионяни» – веселого урока для школьников, который когда-то вели «радиоволшебник» Николай Литвинов вместе с артистами Александром Лифшицем и Александром Левенбуком.
Несколько радиостанций заново транслировали легендарные радиоспектакли «Маленький принц» Р. Иоффе, «Золушка» Л. Веледницкой с Аркадием и Екатериной Райкиными.
Нашлось место в программах новых радиостанций радиоспектаклям А. Тарковского «Полный поворот кругом», А. Эфроса «Мартин Иден» и некоторым другим произведениям радиоискусства, относящимся к «золотому фонду» отечественного вещания.
Ряд коммерческих радиостанций, почувствовав явную ущербность своих вещательных программ, лишенных передач для детей и юношества, принялись сами записывать на пленку фрагменты или целые радиокниги для детской аудитории. Дебютировало в этой работе «Эхо Москвы» с радиоспектаклями по книгам «Хоббит» Р. Толкиена и «Три толстяка» Ю. Олеши. Затем к ним добавились радиоверсии произведений Б. Акунина, для взрослой аудитории прозвучала новая радиоверсия «Мастера и Маргариты» М. Булгакова в исполнении В. Смехова.
К январю 2002 года в программы крупнейших коммерческих станций вошли в дневном и особенно вечернем эфире литературно-драматические передачи, а сказки для детей стали естественной органичной частью эфирного репертуара. (Радио «Ультра», например, открыло рубрику «Сказка на ночь».)
К 2001 году лидерами в воскрешении жанров литературного радиотеатра стали религиозные радиостанции «Радиоцерковь», «Радонеж», «София» и другие. Разумеется, у них достаточно специфический репертуар, чаще всего связанный с библейскими текстами и библейскими историями. Но это не мешает им транслировать новые радиоверсии романов и повестей Булгакова и Тургенева, Гончарова, Григоровича, Чехова и других русских классиков. И эта тенденция представляется нам достаточно плодотворной для эволюции отечественного радиовещания на рубеже XXI века.
Второе. Если жанрово-тематические «прорехи» в сетке вещания той или иной станции не так уж трудно «залатать» собственной продукцией или материалами из коллекций Гостелерадиофонда или архивов местных региональных радиокомитетов, то проблему качественной «радиоречи » оказалось решить достаточно сложно.
По целому ряду причин коммерческого и организационно-творческого характера новые радиостанции в большинстве своем не смогли привлечь к своей практической деятельности хорошо образованных и подготовленных журналистов и дикторов, обладающих опытом работы у государственного микрофона.
А свято место пусто не бывает.
И в радиостудии появилось множество энергичных, но профессионально плохо подготовленных молодых людей обоего пола, не обладающих ни соответствующим образованием, ни культурой речи, необходимой для работы у микрофона.
Хозяева коммерческих радиостанций по доброте душевной, а скорее всего из-за отсутствия профессионального опыта сделали ставку на бойких ди-джеев из модных дискотек, а то и просто на тщеславных юношей и девушек с улицы, легко рассуждающих на любые темы. В результате в эфир пошел малограмотный сленг, который «русской речью» можно назвать с очень большой натяжкой. В эфире появилось «эканье» и «меканье», а то и откровенная грубость, вплоть до нецензурных выражений и площадных неологизмов.
Министерству печати и информации пришлось издать ряд циркулярных писем и внести множество предупреждений различным радиостанциям – угрожая лишением лицензии на вещание, чтобы хоть таким образом обратить внимание радиодеятелей на необходимость и обязательность сохранения в эфире должного речевого этикета. Впрочем, задача эта оказалась гораздо более трудно решаемой, чем померещилось в первый момент. До откровенного мата дело в эфире доходит редко, но «воляпюка» и обычных словесных глупостей еще хватает.
Третье, огорчительное, на наш взгляд, хотя и достаточно спорное с точки зрения некоторых коллег, наблюдение. Речь пойдет о весьма определенно обозначившей себя тематической криминализации отечественного эфира – особенно в сфере коммерческого вещания.
Есть две точки зрения – является ли тенденция, отчетливо проявившаяся на рубеже XX и XXI веков, порождением требований радиорынка, конкуренции радиостанций, борьбой за аудиторию, а следовательно, удовлетворением запросов наименее культурной части слушателей, или результатом деятельности идеологов этого самого рынка, частью хорошо образованных политологов, прекрасно понимающих смысл и предназначение своих далеко идущих и весьма научно обоснованных, хотя и нравственно сомнительных разработок в области общественной психологии, культурологии и в сфере перспектив социального управления обществом.
Будущее покажет – являлся ли процесс криминализации культуры спонтанным или умело организованным, но уже сегодня мы вправе говорить о той мощной атаке, которую в сфере массовой культуры на традиционные гуманистические ценности – уважение к знаниям, ответственность художника перед обществом и т. д. и т. п. – повели носители и активные пропагандисты культуры криминальной, исповедующей антигуманные цели, действующие под девизом, распространенным в уголовной среде, криминальных сообществах и особенно в лагерных коллективах сталинского периода: «Умрем все, но ты сегодня, а я только завтра».
Пребывание и длительное нахождение в условиях криминальных сообществ разного рода (тюрьмы, лагеря, поселения, «ссыльные» города и поселки и т. д.), через которые прошли десятки миллионов людей, не могли не создать и соответствующую условиям жизни философию, и сопутствующие ей образцы «криминальной» литературы. В течение многих десятилетий они существовали если не подпольно, то на очень ограниченном культурном пространстве, по крайней мере не демонстрируя себя откровенно ни в области литературы, ни в сфере массовой информации.
И если в литературе отзвуки этой субкультуры появились после разоблачения сталинской криминальной политики, затрагивавшей десятки миллионов человек, как аргументы, характеризующие «лагерный быт и нравы» в произведениях А. Солженицына, В. Шаламова, В. Максимова, в ряде кинофильмов типа «Холодное лето 53-го...» и других, то в радиовещании особенно (в меньшей степени на телевидении) так называемая «криминальная культура» стала занимать огромное место на рубеже XX и XXI веков.
То, что раньше казалось стыдным – не запрещенным, а именно стыдным с точки зрения общепринятых представлений о назначении человека, о его достоинстве и соответствии «общечеловеческим» моральным и духовным ценностям, стало утверждаться как норма жизни, как экзотика человеческих отношений в разных социальных условиях. Утверждается принцип, который прежде был свойственен лишь психиатрам да врачам-урологам и гинекологам -«все, что естественно, все не стыдно».
И в полном соответствии с этим тезисом «криминальная» культура стала занимать место в эфире радио как полноправный участник и компонент общекультурного «просвещения».
Стилизованные и горько иронические произведения лагерного и «окололагерного» фольклора в литературе, в музыке и особенно в песенном творчестве сначала робко, а потом все более откровенно стали завоевывать место в эфире.
Организаторы подобных радиопрограмм ограничили поле допустимого лишь отсутствием откровенно вульгарной нецензурной лексики – да и то не всегда – самый дух, эмоциональная и философская направленность произведений, суть которых мы уже обозначили, – пошли в эфир в десятках, сотнях и без преувеличения -тысячах образцов.
Отказ от принципов радиовещания как просветителя и воспитателя масс (как будто эта функция исчезла вместе с отказом от ее прокламирования) привел к тому, что радио стало настойчивым, если не сказать назойливым пропагандистом «криминальной» культуры и философии.
А если учесть, что время «радиовозрождения» и «блатной» лирики совпало (а может быть, правильнее сказать, стимулировало его) с периодом активной криминализации жизни в стране, то легко объяснить появление радиовещательных организаций, принципиально специализирующихся на этой самой «блатной» лирике в эфире.
Приведу только один пример: с 2000 года одной из ведущих и очень быстро развивающихся радиостанций Центрального региона России, имеющей распространение в нескольких городах и регионах страны, стала радиостанция «Шансон», специализирующаяся главным образом на этой самой «блатной» лирике. Трудно пересказать, с какой настойчивостью в сознание миллионов слушателей внедряются идеал лагерной жизни и соответствующей ей тюремной лирике.
Весной 2002 года, например, в некоторые дни и ночи на радиостанции «Шансон» так называемые «блатные» песни чисто лагерной тематики сороковых-шестидесятых годов занимали от 85 до 92 процентов вещательного времени – в самые слушаемые часы эфира. Звучали «тюремные» песни, популярные в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы, слегка разбавленные современной нам «блатной» лирикой. Причем использовались для заполнения эфира не только и не столько «старые» записи, но главным образом произведения давно минувших лет, заново обработанные и исполненные популярными певцами конца 1960-х годов, и, что примечательно, совсем юными исполнителями, реконструировавшими криминальную песенную лирику прошлых лет современными средствами аранжировки и звукоизвлечения. Разумеется, воздействие на аудиторию постоянно звучащей криминальной лирики оказывается огромным.
Многие криминалисты, отмечая рост и разнообразие преступности в первые годы нового века, отмечают в своих наблюдениях «горестно воспитательное» значение многих радиопрограмм типа «Ночные радиоревю» радиостанции «Шансон».
Но напомним, что цензуры не существует почти десять лет, и программные директора радиостанции «Шансон» и других подобных вещательных организаций вольны выбирать материалы для эфира по собственному вкусу и по своему разумению, исходя из того, какой именно эфирный материал даст им приумножение числа слушателей. А бывшая в течение многих десятилетий «запретная» для массового вещания «криминальная» субкультура безусловно привлекает многих слушателей, особенно молодого возраста.
Так радио помогает криминальному миру вербовать новых рекрутов. И этот весьма огорчительный факт и является характерным признаком развития массового вещания на рубеже двух веков.
Раздел II Эстетика невидимой сцены
Глава 6 Сцена и студия радио: закономерности взаимного воздействия
В 1926 году за подписью «Театрал» газета «Новости радио» помещает статью, которая утверждает: «Если вопрос о передаче опер, благодаря музыке, решается в положительном смысле, то вопрос о трансляции пьес из театров почти наверняка следует бросить -нестоящее это дело! Надо ближе подойти к вопросу о создании радиотеатра... Нужны пьесы, написанные специально для исполнения по радио. Они должны быть написаны так, как пишутся пьесы для слепых, т. е. чтобы все было выражено в словах; чтобы слова заменили мимику, жестикуляцию и обстановку»1.
Это была первая ласточка. За ней не замедлили и другие. Из множества писем и статей по поводу нецелесообразности передачи драматических спектаклей по радио выделим заметку следующего содержания: «Утром 10 апреля будет передаваться комедия Гоголя „Ревизор“. Кстати, нужно отметить, что вопрос о передаче драматических произведений по радио среди слушателей встретил самое противоречивое отношение. Мы считаем, что вопрос о передаче драмы по радио требует еще дополнительного обсуждения его радиослушателями и ждем от них дополнительных материалов»2.
Трансляция «Ревизора» привлекла внимание многих деятелей культуры, в том числе и А. В. Луначарского, который вскоре высказался весьма определенно: «Совершенно не стоит передавать пьесы по радио, когда не видишь действующих лиц, не видишь выражения их жестов, мимики»3.
В обобщенном виде позиция противников передачи в эфир театральных спектаклей выражена была в широко обсуждавшемся «Открытом письме в редакцию „Комсомольской правды4'» от лица одного из руководителей радиовещания А. Садовского.
«Комсомольская правда» выступила с критикой в адрес радиовещания, упрекнув его, в частности, за пренебрежение к театру и плохое качество трансляций. В ответ А. Садовский писал: «Наша линия – создание таких форм художественной работы, которые вполне соответствовали бы специфическим условиям радио, другими словами, перед нами громадная задача создания особого вида радиоискусства»4.
Итак, первоначально речь шла главным образом о литературнодраматических трансляциях, причем остракизму подвергались в равной мере как произведения современные, так и классика. К числу явных ошибок радиовещания были отнесены трансляции спектаклей «Любовь Яровая» К. Тренева из зала Малого театра, «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина и «Человек с портфелем» А. Файко, передававшиеся из студии со специальными пояснениями (1927), «Разлом» Б. Лавренева из театра им. Е. Вахтангова (1929), «На дне» А. М. Горького и «Горячее сердце» А. Н. Островского (1929) в исполнении артистов МХАТа5.
Сторонники театральных трансляций были озабочены тем, что при таком подходе к программированию передач за бортом окажутся многие эстетические ценности, и прежде всего замечательные достижения русской театральной культуры. Не случайно среди сторонников трансляций из драматических театров мы видим многих выдающихся мастеров МХАТа – И.М. Москвина, В.И. Качалова и др., писателя Л.М. Леонова и других.
6 марта 1927 года газета «Новости радио» сообщила, что ЦИК и Совнарком СССР вынесли специальное постановление о праве трансляционных центров устанавливать микрофоны в любом театральном помещении для передачи всех спектаклей и концертов. В тексте документа, в частности, было указано: «1. Имеющим право на радиовещание учреждениям и организациям, перечисленным в особом списке (ст. 2), предоставляется передавать по радиотелефону исполняемые в театрах, концертных залах, аудиториях и других публичных местах произведения музыкальные, драматические, музыкально-драматические, лекции, доклады и т. п. без особого за это вознаграждения как в пользу авторов и исполнителей, так и в пользу театров, антрепренеров и т. п. ...»6
Скрепили документ своими подписями М. Калинин, А. Цюрупа и А. Енукидзе.
По сути, этим актом узаконивалось пиратство радиоорганизаций. Его иногда в специальной литературе называют «Декретом о свободе микрофона». И. В. Ильинскому принадлежит популярное в те годы более точное определение – «Декрет о свободе разбоя».
На страницах центральных и периферийных изданий еще до принятия этого закона регулярно появляются постоянные рубрики типа «Микрофон – неотъемлемая часть рампы», заполненные такого рода заметками:
«Примеры заразительны.
Несколько времени тому назад вернувшийся „из дальних стран-ствий“ артист Д. Смирнов воспротивился передаче по радио оперы, в которой он выступал, и потребовал вознаграждения в 5000 рублей.
Конечно, в этой сумме ему было отказано, и опера в этот вечер не транслировалась.
Но „примеры вообще заразительны“, а скверные в особенности. И вот 15 мая в Харькове артистка Нежданова тоже отказалась петь перед микрофоном, и рабочие в клубах Украины вместо ожидаемого концерта услышали... шум в зале до концерта и больше ничего.
Артистка Нежданова потребовала дополнительной оплаты за право передачи концерта по радио»7.
А почему ей, собственно, не потребовать гонорар в Харькове, если в Перми и Казани ей платили за трансляцию ее выступления? До тех пор пока вопрос не был разрешен общегосударственным актом, путаницы было много и страдали все заинтересованные стороны.
Принятие «Декрета» автоматически лишало исполнителей не только гонораров, но фактически и авторских прав – уже не они, а редакция решала вопросы о качестве «интеллектуального товара», о целесообразности тех или иных купюр в спектакле и т. д.
Попытки судиться с радиоорганизациями – они были на первых порах неоднократны – к успеху не приводили. Реализация «Декрета» активно началась сразу же после его опубликования.
Как часто бывает, организационные решения в сфере творческой деятельности дают неожиданный эффект. Своеобразной реакцией на государственный акт «о свободе микрофона» явилось появление «радиотеатров с публикой» в Ленинграде, а потом в Москве. (Здесь артистам платили как за обычный концерт.) Вопросы этические и организационно-финансовые сомкнулись с проблемами чисто профессиональными.
В радиостудии не было ни зрителей, ни привычной атмосферы спектакля – шепота кулис, потрескивания софитов, не было необходимости в костюме и гриме, – а значит, исчезал тот, столь необходимый артисту процесс «вживания» в образ перед выходом к рампе.
И проваливались у микрофона.
Этим в значительной мере объяснимо и то неприятие «театра у микрофона», которое высказывали во второй половине 20-х годов даже самые дальновидные люди.
Трансляции спектаклей прямо из театров скорее огорчали, чем радовали. Инженеры студии на Никольской улице очень гордились коммутационным узлом, который уже в двадцать седьмом году позволял включать микрофоны, установленные в Малом театре, в МХТ, в помещениях театра Революции, имени Вахтангова и целом ряде других. Но пользовались этим коммутационным узлом нечасто, несмотря на то что уже первая афиша «Театра у микрофона» включала представления весьма разнообразные, привлекательные и значительные. Ее открывает в 1927 году «Любовь Яровая» К. Тренева из зала Малого театра с участием В. Пашенной; затем «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова из Художественного театра (1928) с В. Качаловым и Н. Баталовым; затем вахтанговская постановка «Разлома» Б. Лавренева с участием Б. Щукина, М. Державина...
В театральном зале была публика, и ничто не мешало артистам. Но слушателям эта публика мешала своей реакцией на невидимое человеку у репродуктора, усложняя для него действие иногда до ребуса.
От инженеров-радиотехников требовалось разрешить целый комплекс акустических загадок, чтобы драматический спектакль из театрального помещения зазвучал в эфире объемно и четко.
Попробовали «перенести» театральный спектакль в радиостудию.
Один из первых опытов – спектакль «Простая вещь» – трехактная пьеса, переделанная Б. Лавреневым из одноименной повести. Пьеса шла в студии Ю.А. Завадского, популярном в Москве коллективе, где уже проявили себя Вера Марецкая, Нина Герман, Ростислав Плятт, Николай Мордвинов. Режиссер и актеры специально подготовили спектакль для исполнения в радиостудии и с этой целью ввели множество дополнительных звуковых эффектов: стрельбу, музыку, пение, всевозможнные стуки в дверь и т. д.
В продолжение трех актов разворачивается перед слушателем история большевистского комиссара Орлова, остающегося в городе при белых, чтобы вести подпольную работу под именем француза Леона Кутюрье.
О результате критик Н. Кальма написал так: «Маленький уездный город в эпоху Гражданской войны. Власть переходит из рук в руки. Тревожное ожидание. Вдруг: ббум! Тррах!!
Радиослушатель, настроенный лирически, вскакивает, как ужаленный. Что-нибудь разорвалось? Молния ударила в антенну?
Нет, оказалось – так начинается передаваемая по радио в постановке Ю. А. Завадского пьеса Лавренева «Простая вещь».
Вслед за выстрелами подымается хаос звуков, человеческих голосов, каких-то бормотаний – происходит страшнейшая путаница. По пьесе это должно изображать панику обывателей, тревогу и разговор на улице»8. Первые картины, построенные на массовых сценах, совершенно пропали для слушателя: слышен был только общий гул, изредка заглушаемый такой пальбой, что, как рассказывают очевидцы, «на минуту надо было снять свои наушники и переждать, пока кончится стрельба».
Недоумение вызывали две ключевые сцены. Комиссар Орлов под видом французского коммерсанта пирует в ресторане «Олимп» с Соболевским – офицером контрразведки. Внезапно Соболевский замечает на манжете Кутюрье какие-то знаки, которые пробуждают в нем первые подозрения.
На сцене этот волнующий момент захватывал зрителя напряженностью мизансцены, выразительностью актерской пластики. А в эфире – междометия, хмыканья, странный скрип стула и томительная цезура в речи Соболевского.
Ускользал и момент полного разоблачения Орлова в контрразведке. Соболевский говорит начальнику контрразведки:
– Позвольте, генерал, представить вам нашего милого собутыльника, французского коммерсанта... комиссара Орлова!
На сцене Орлов от неожиданности выдавал себя, пытаясь убежать. В эфире: вслед за словами Соболевского раздавался шум, крики, полная неразбериха, и слушателю оставалось лишь гадать, что произошло.
Неумение актеров работать у микрофона умножалось на неумение создавать звуковую среду, в которой движется сюжет. Эмоциональный посыл театрального спектакля пропадал. Оставалась схема, причем выполненная неразборчиво.
Мы были бы несправедливы, относя трансляцию «Простой вещи» к неудаче театра и радио. Ведь это был поиск – обогащающий, увлекательный, и наиболее терпеливые слушатели его достойно оценили.
Однако таких терпеливых было не слишком много.
Тогда и появилась идея – простая до гениальности – совместить театр и радиостудию, поставив в последней несколько рядов кресел и пригласив зрителей.
Сделали это в Студии на Телеграфе.
Напомним еще раз, что к концу 1927 года основные строительные работы в здании Телеграфа были завершены, здесь были практически готовы два павильона и аппаратная, предназначенные для драматических и музыкальных спектаклей у микрофона. Акустические характеристики этих студий были выше всяких похвал.
Сюда первоначально и пустили публику, поставив уже упоминавшиеся тридцать кресел.
Организаторы передач уговорили инженеров поставить микрофон и в клубном зале Телеграфа. Тут было 600-700 мест, небольшая сцена и... никакой акустики. А давали здесь главным образом музыкальные спектакли. Этот опыт вызвал у многих артистов открытое сопротивление.
«Я предпочитаю привычную театральную обстановку (наличие публики, большой зал и прекрасная акустика), – писала А.В. Нежданова. – Затем студию (сосредоточенность внимания и спокойная, несколько „торжественная“ обстановка). Менее всего мне нравятся выступления в радиотеатре (имеется в виду клубный зал Телеграфа. -А.Ш.). Здесь плохая акустика, какая-то неуютность, раздвоенность внимания – публика и микрофон»9. Ей вторила Ольга Ковалева -знаменитая исполнительница народных песен: «Перед микрофоном я чувствую себя хорошо только в студии. В радиотеатре публика отвлекает меня от той сосредоточенности, от того внимания, которого требует от меня микрофон»10. Подобные суждения высказывали и драматические артисты, например В.И. Качалов:
«Легче всего выступать мне, конечно, одному в студии: не раздваивается внимание на публику – близкую и далекую»11. Два обстоятельства – плохая акустика и «избыточное» влияние большого количества зрителей послужили причиной того, что радиотеатр с публикой постепенно полностью сосредоточился в специальных студиях, где двадцать пять – тридцать человек если и не помогали актерам, то, по крайней мере, не мешали никому. Они и создавали иллюзию зрительского зала, никоим образом не превращая студию в таковой.
В Клубном, или, как его иногда называли, Большом, зале Телеграфа некоторое время еще шли оперные произведения, вечера камерных сочинений; однако чаще здесь устраивались разнообразные совещания и заседания, в том числе и с трансляцией в эфире, а в начале 30-х годов это помещение стали использовать по его прямому назначению, как место отдыха работников связи.
О радиотеатрах с публикой и прежде и теперь много пишут и спорят. Обнародованы разнообразные теории по поводу специфики звукового зрелища на аудитории и без оной, родства и противоположности радиоспектакля «на публике» традиционному театральному представлению. Время от времени возникают предложения о реставрации таких спектаклей у микрофона.
Зрители в Студии на Телеграфе были необходимы, пока актеры привыкали к принципиально новым условиям творческой работы. Когда студия была ими обжита и уже не раздражала тишиной и пустотой, зрителей спокойно попросили уйти. Искусство радио перестало быть аттракционом и деловито приступило к разработке своих собственных принципов и критериев.
Доказательством служит и история ленинградского радиотеатра с публикой в доме на Мойке, где сейчас находится Институт связи имени Бонч-Бруевича. Открыт он был на две недели раньше столичного.
Этот зал был гораздо лучше, чем Клубный на Московском телеграфе и по звучанию, и по оснастке.
Тут устроили передвижную разборную сцену – для удобства при передаче обычных театральных представлений. Наверное, поэтому период увлечения «открытыми» – то есть с публикой – музыкальными, оперными, эстрадными спектаклями и литературно-драматическими монтажами в Ленинграде оказалось дольше, чем в Москве.
И все же как быть с таким парадоксом? В городе на Неве в конце двадцатых, первой половине тридцатых годов было поставлено множество интереснейших радиоспектаклей – «Прометей» Эсхила и «Царь Эдип» Софокла, «Коварство и любовь» Шиллера и «Тартюф» Мольера, «Иванов» Чехова и «Тимон Афинский» Шекспира, целая галерея советских пьес, написанных и для театра, и для радио, и все они разыгрывались не в зале на Мойке, а в студии ленинградского вещательного узла, что на площади Искусств.
Что же оставалось зрителям радиотеатра?
Исследователь пишет по этому поводу:
«Весь интерес для зрителя мог заключаться здесь только в возможности созерцать микрофоны, дикторов, чьи голоса уже были знакомы слушателям по эфиру, и т. п. Ничего нового к содержанию передачи ее „зримость“ не добавляла. Недаром у автора заметки об этом событии вырвалось ненароком знаменательное признание: „Закрывая глаза, кажется, будто сидишь дома, плотно прижав к ушам трубу“.
Казалось бы, коли ты попал зрителем в радиотеатр, зачем же глаза закрывать? Смотри не отрываясь.
В том-то и дело, что смотреть, в сущности, было не на что...
Студия превратилась в своеобразную стартовую площадку для массового митинга по эфиру. Но опять-таки ничего зрелищно-театрального в этом, естественно, не было. Первое в СССР помещение радиотеатра не стало функционировать как театр для зрителей, и это было абсолютно закономерно»12. Надо заметить, что падение интереса к радиотеатру с публикой совмещается по времени с таким обстоятельством: на радио была разработана достаточно мобильная система гонораров, учитывающая и уровень исполнителя, и сложность подготовленной работы к передаче. Большинство ведущих музыкантов, певцов, драматических артистов получили возможность готовить свои исполнительские сольные и коллективные программы по заказу радио – с вполне приличной оплатой. Это немного сняло остроту вопроса о безгонорарных трансляциях из театров и концертных залов. Они начинали занимать все большее место в эфире и очень радовали значительную часть слушателей, не имевших физической возможности бывать в столичных театрах, но потянувшихся к культуре.
Наиболее типичные отзывы на «Театр у микрофона» со стороны именно этой группы слушателей содержали восторги такого рода:
«Я с небывалым интересом, с затаенным дыханием слушал эту пьесу, прикованный к стулу, и как в театре, живо воспринимал образы. Это ничего, что изображаемые типы не видны. Большое мастерство артистов игрой голоса создало их так ярко, что оставалось мысленно одеть их в воображаемые костюмы, и вот они перед глазами ».
«Я весь следующий день находился под впечатлением „Пурги“. Эта юрта с ее обитателями до сих пор не выходит у меня из памяти»13.
Это из писем слушателей после радиопремьеры спектакля студии Малого театра «Пурга» по пьесе Д. Щеглова.
Успех у радиослушателей театральных спектаклей давал иногда основания для слишком поспешных выводов. Так, например, Н. Базилевский в статье «Радио в театре» писал: «Сейчас мы уже можем найти целые театральные коллективы, которые приспосабливают свою работу к требованиям радиовещания. Это было не только техническое приспособление к специфическим условиям, но и желание найти наиболее удачную манеру сделать спектакль наиболее выразительным, наиболее легко воспринимаемым радиослушателем.
Такими коллективами, несомненно, являются группа артистов студии Малого театра со своими постановками „На дне“ и „Квадратура круга".
Среди патриотов радиодела нередко можно встретить людей, заявляющих, что недалеко то время, когда театры станут просто студиями, в которых артисты будут играть главным образом для радиослушателей, а со временем и для радиозрителей. Пожалуй, это время действительно не за горами»14.
Эпизодичность выступлений московских театральных коллективов у микрофона Всесоюзного радио постепенно сменялась систематической работой в Студии на Телеграфе. «Сейчас за редким исключением нет ни одной интересной постановки, которая не передавалась бы в эфир»15, – отмечала пресса результат этого процесса в 1935 году. Добавлялись новые названия и в афише радиотеатра.
Лидировал во всей этой работе Московский Художественный театр. Анализ театрального репертуара и программ радиовещания, проведенный автором настоящей работы, свидетельствует: в течение 1928-1941 годов МХАТ им. Горького выпустил 39 театральных премьер. За это же время 25 своих работ театр сыграл у микрофона. Это были радиоверсии семнадцати из тридцати девяти указанных премьер. Среди них «Анна Каренина», «Воскресение» и «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого, «Мертвые души» по Н. В. Гоголю, «Страх» А. Афиногенова и другие.
По радио прозвучали 7 спектаклей прошлых лет, составляющих «золотой фонд» мхатовского репертуара: «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого, «Смерть Пазухина» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Горячее сердце» А.Н. Островского.
Таким образом, самая широкая аудитория была ознакомлена с наиболее популярными спектаклями Художественного театра, ибо в эфире прозвучала большая и лучшая часть его репертуара.
Следует добавить, что приведенные цифры свидетельствуют число названий, а не число представлений в эфире – в течение исследуемого периода многие спектакли МХАТа передавались по радио несколько раз.
Успешно конкурировал с МХАТом в эфире только Малый театр. Остальные ведущие столичные коллективы (а рубрика ориентирована на московские театры прежде всего) не выходят за пределы 15-20 спектаклей в год, включая повторы.
Я привожу эти цифры, чтобы еще раз подчеркнуть – мхатовская «школа» словесно-звуковой выразительности, ее критерии и культура остаются ведущими на радио и сегодня.
Уже первая «обойма» мхатовских спектаклей в эфире в 1929 году поставила множество вопросов, среди которых генеральным был – всякий ли спектакль можно и нужно передавать по радио? Стало очевидно, что далеко не всякое зрелище подвластно эстетике эфира и законам восприятия на слух.
Мало кто помнит, что вахтанговскую «Принцессу Турандот» пытались приспособить для радио еще в начале 50-х годов. Полвека идут эксперименты: спектакль транслируют из зала; записывают в театре со зрителями и без них; в тишине студии; полностью и единовременно, чтобы не прерывать творческого процесса у актеров; сценами; отдельными фрагментами; фрагментами отдельных ролей; отдельными репризами! ... Все мимо! И не случайно: «Турандот» несет в себе откровенно импровизационное начало, здесь так очевидно рассчитана реакция зрительного зала на ту или иную реплику или мизансцену, что сотворчество зрителей – непременно сиюминутное – есть обязательное условие атмосферы спектакля.
Выделяю здесь слово «сиюминутное». Зритель «Турандот» воспринимает спектакль в атмосфере зала, а если пользоваться современной терминологией – в эмоциональном контексте конкретного представления, в полной зависимости от настроения и реакции людей, находящихся в этот момент рядом друг с другом. Таковы «вечные» законы театральной заразительности. Слушатель, которому предлагают «консервированное» на пленке веселье, неизбежно оказывается несчастным мальчиком из рождественской сказки, стоящим у забора и наблюдающим за тем, как из плотно закрытых окон доносятся отдельные и непонятные звуки музыки, а за занавесками мелькают тени танцующих.
Постановка вопроса, «радийно» или нет, автоматически рождала проблему – что из себя должна представлять радиоверсия: новое сочинение «по мотивам» театрального представления или его звуковой аналог. Вопрос заключает в себе и эстетическую, и этическую проблемы.
Мне кажется, что слова «аналог», «радиоверсия» точнее выражают суть процесса радиоадаптации, чем «радиовариант спектакля». Театральный спектакль есть некая сумма эстетической информации, которая, по А. Молю и ряду других исследователей, чью точку зрения мы разделяем, непереводима на язык другого канала информации (в отличие от информации семантической). Поэтому целесообразно говорить об аналоге, несущем не адекватную, а однонаправленную совокупность ассоциаций и эмоций.
Образ спектакля может быть перенесен в эфир с максимальной достоверностью, а может стать лишь базой, отправной платформой для нового художественного явления – это задачи различные, если не противоположные. Отсюда и методы радиоадаптации неизбежно кристаллизовались в противоположных направлениях.
О работе мастеров Художественного театра мы поговорим в главе «МХАТ» у микрофона, а пока повнимательнее рассмотрим опыты других театров в сфере адаптации драматических спектаклей.
И что же? Эксперименты Таирова, Мейерхольда и многих их коллег оказались гораздо удачнее «художественников».
В январе 1930 года исполнилось пятнадцать лет со дня основания Московского Камерного театра. И в связи с юбилеем 7 января 1930 года станция имени Попова передала из своей студии таировский спектакль «День и ночь» по Ш. Лекоку. Поставленный в 1926 году, он встретил восторженный прием у публики и прессы, которая охарактеризовала его как «образцовый опыт реформированного опереточного спектакля». Камерный театр акцентировал иронию, веселую насмешку, доводя ее до хлесткой издевки. Таиров выпустил яркий, красочный, полный движения и темперамента, бодрый и жизнерадостный спектакль.
И, готовя его к передаче на радио, он сохранил атмосферу сценического действия за счет ритма и неразрывности музыкального рисунка театрального действия.
Те же принципы использованы А.Я. Таировым при создании радиоверсии оперетты Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля». «Слово, музыка, действие, движение, ритм, краски – все великолепно соединялось в спектакле. Но это – область видимого восприятия, которое остается за пределами радиопередачи, по радио же прекрасно звучали диалоги под музыку – полные жизнерадостности, наивно трогательного, немного смешного веселья жизни»16. Таково описание критика, заставляющее нас задуматься над вопросом о закономерностях технологии радиоадаптации сценического действия. Тем более что на практику Камерного театра у микрофона ссылались многие коллеги А.Я. Таирова, объясняя причины успешного «преодоления сложностей радиостудийного действия». Среди них режиссеры «Семперанте» – реализовавшие адаптацию для эфира спектаклей «Гримасы» и «Кровь предков», студийцы Р.Н. Симонова – они исполняли у микрофона музыкально-драматический коллаж по спектаклю «Энтузиасты», Н.П. Охлопков с «Разбегом», сыгранном сначала в Реалистическом театре имени Красной Пресни, а потом в Студии на Телеграфе.
Колоссальный успех сопутствовал передаче по радио мейер-хольдовской «Дамы с камелиями».
Очевидно, дело не в большей или меньшей степени дарования «художественников» и мастеров других театральных «школ» и направлений, а в разности подхода к задачам и процессу радиоадаптации. Для мхатовцев принципиально важным было передать радиоаудитории не только «дух», но и «букву» театральной постановки, – причем передать без каких-либо новаций. По выражению М. М. Яншина, «в те годы для нас самым главным было, чтобы те, кто видели спектакль на сцене, а потом слушали его по радио, никакой новой информации не получали бы, а лучше всего, если бы они, закрыв глаза, просто-напросто вспоминали бы спектакль и восстанавливали свои ощущения»17. Мейерхольд, Таиров, Охлопков ставили перед собой совсем иную цель: они ориентировались, напротив, на человека, который в их театре не был, их спектакля не видел и ничего о нем не знает. Для них спектакль на подмостках представлял конкретный реальный факт, художественную действительность, которую нужно было «перевести » на язык «сопредельного искусства», найти звучащий аналог. Отсюда их гораздо меньше заботила «буква» и гораздо больше «дух».
«Буквализм „художественников“» имел под собой различные основания (и это, конечно, тема специального разговора). Разумеется, здесь срабатывали и традиционно высокая самооценка, и стремление быть верным сценическому оригиналу, созданному основателями, и этические представления об ответственности художника перед своим творением.
Были и субъективные причины, связанные с тем, что именно актеры Художественного театра в массе своей много больше, чем другие, были заняты в различных радиопередачах и свои представления об искусстве у микрофона могли реализовать в самых разнообразных программах. («Ну а наш спектакль – это должен быть наш, мхатовский спектакль и ничего другого», – такую фразу повторяли автору этой работы и А. К. Тарасова, и М. М. Яншин, и Б. Н. Ливанов, да, пожалуй, все, без исключения, «коренные мхатовцы», с которыми шли беседы на тему «МХАТ и радио».)
Немаловажным в этом смысле было отношение К.С. Станиславского к работе его актеров вне сцены Художественного театра. А отношение это было, мягко говоря, настороженное. В том числе и к радио. Но об этом подробнее мы поговорим в главе «МХАТ у микрофона».
Но таковы парадоксы истории – именно Станиславскому в первую очередь радио обязано умением общаться со всеми слушателями, быть понятным и понятым. И тут необходимо сделать одно важное отступление от основной темы.
Привлечение актеров Художественного театра, мастеров «действенного слова», позволяло радиовещанию вести поиск наиболее приемлемых и эффективных конструкций и форм передач, стимулируя – это уже следующая ступень – жанровое разнообразие программ. Методологической базой творчества у микрофона всех трех «амплуа» стало учение К.С. Станиславского о словесном действии. Влияние МХАТа на радио нетрудно увидеть и в эволюции речевых художественных жанров, и в становлении «Театра у микрофона» как оригинальной ветви радиоискусства. Здесь главным побудительным стимулом явилось соответствие идейно-эстетических принципов «системы» Станиславского и практики МХАТа требованиям невидимой сцены радиотеатра.
Появление в 1938 году книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения», где сформулированы основные положения учения о действии словом, совпало с периодом, когда радио осознавало свою природу художественно организованных радиопередач во всех без исключения видах вещания. Совпадение это случайное, но оказавшееся крайне полезным, ибо творческие наблюдения Станиславского были непосредственно утверждены в практике вещания его учениками и последователями.
Для радио было очень важно наблюдение Станиславского о способности человека при словесном общении с другими людьми видеть «внутренним взором то, о чем идет речь». «Если же мы слушаем других, то сначала воспринимаем ухом то, что нам говорят, а потом видим глазом услышанное»18.
По Станиславскому, «говорить – значит рисовать зрительные образы»19.
Учение о действии словом ставит на первое место для достижения выразительности и убедительности речи не силу голоса, а умение говорящего пользоваться чередованием интонаций (повышением и понижением), ударений (фонетическим акцентом) и пауз (полной остановкой). Что же касается простой громкости, то, как свидетельствуют эксперименты, проведенные в зрительном зале, она в большинстве случаев способна оглушать силой звука, но никаких эмоций не несет. Практика радио засвидетельствовала точность этого вывода не только для общения актера с публикой в зрительном зале.
Ударение охарактеризовано К.С. Станиславским как элемент смысловой точности в речи. Он подчеркивает, что правильное использование ударения не только в том, чтобы поставить его на том слове, где ему надо быть, «но и в том, чтобы снять его с тех слов, на которых ему не надо быть»20.
Важнейшим фактором развития радиоискусства в целом можно считать и открытую К.С. Станиславским психофизическую зависимость речи говорящего от понимания им важности сообщаемой информации и искренности: «Неверие в то, что говоришь, отсутствие подлинной задачи... – все это укорачивает голосовой диапазон»21. Последний тезис применительно к радиоискусству выводит учение о действии словом из сферы сугубо эстетической – оно соотносимо уже с категорией этической. И тут невольно вспоминаешь еще одно наблюдение К.С. Станиславского из книги «Работа актера над собой »:
«Многие из нас пользуются текстом для того, чтобы показать слушателям качество своего звукового материала, дикцию, манеру декламировать и технику речевого аппарата. Такие актеры имеют мало отношения к искусству. Не больше тех приказчиков музыкальных магазинов, которые бойко разыгрывают на всевозможных инструментах замысловатые рулады и пассажи не для того, чтоб передавать произведение композиторов и свое понимание их, а лишь для того, чтобы демонстрировать качество продаваемого товара»22. Это написано вовсе не по поводу радио, но более точной формулировки основной этической нормы работы актеров у микрофона еще никому придумать не удалось.
«Путем систематических наблюдений и тренировок необходимо осознать выразительное значение отдельных фактов речевого звучания и целостных фонических стилей... и научиться преднамеренно вызывать звучанием своей речи определенную эмоциональную и волевую реакцию»23 – таков вывод, к которому теоретики и практики радиоискусства пришли еще в начале 30-х годов.
Обращает внимание совпадение цитированного постулата с одним из аксиоматических условий актерского творчества, сформулированного К.С. Станиславским. Он утверждал, что графика и ритм письменной речи должны быть настолько освоены в звучащей речи актера, чтобы, войдя в подсознание, «стать частью нашего „я“, как правила правописания»24. При этом подчеркивал: «Найти какой-то новый тон – это значит найти выражение новым задачам»25.
Я не абсолютизирую влияние мхатовских мастеров на эволюцию речевой стилистики радиовещания 30-х годов. Свой вклад внесли и «старики» Малого театра, и вахтанговская молодежь. Но воздействие мхатовской школы, ее лидерство было определяющим – и по количеству практических «уроков» – числу выступлений у микрофона, – и по воздействию теоретических высказываний.
В марте-июне 1931 года группа ведущих артистов МХАТа выступила со статьями на страницах журнала «Говорит Москва». Подборка имела общее заглавие «Актеры – друзья радио».
В 1933-1935 годах появилась целая серия интервью, бесед и статей о проблемах творческого освоения специфики радио, принадлежащая перу мастеров МХАТа. Собранные вместе, их суждения составили первое серьезное пособие по радиоискусству – по крайней мере, в той его сфере, которая касается творческого процесса актера и режиссера перед микрофоном.
Вернемся к основной нашей теме – о формах и способах радиоадаптации театрального спектакля. Заочный «теоретический» спор – трансляция или монтаж – каждая из сторон подкрепляла аргументами живой художественной практики.
Огромный резонанс получает трансляция пьесы «Бронепоезд 14-69» со сцены в Камергерском. Ее будут несколько раз повторять. Затем Литовцева и Судаков делают специальную редакцию постановки для передачи из Студии на Телеграфе – она идет в эфир 1 марта 1930 года. Но это не радиоверсия, а по-прежнему трансляция – даже декорации на Телеграф привезут – ну будто на «выездной» спектакль.
Про успех «Воскресения» у микрофона написано выше. На волне этого успеха редакция радио составила целую программу трансляций мхатовских спектаклей, включающую «На дне», «Горячее сердце», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Квадратура круга» и другие постановки классических и современных пьес.
Противоположная концепция утверждала себя разнообразными экспериментами, среди которых первое место занимает, безусловно, радиоверсия «Дамы с камелиями» в постановке В.Э. Мейерхольда. В ней сконцентрированы не только многие художественные открытия, обусловившие на десятилетия вперед развитие «Театра у микрофона», но и принципы монтажа театрального действия, сохранившиеся и при переходе вещания от т. н. «живого» к фиксированному на пленке. На этой работе мы остановимся подробнее в главе «Мейерхольд в студии радиотеатра».
Премьера радиоверсии «Дамы с камелиями» состоялась в канун Второго театрального фестиваля, назначенного на осень 1934 года.
В Москву съехались свыше 300 иностранных гостей, в том числе ряд крупных актеров, режиссеров и критиков из Западной Европы и Америки. Радиопередачи, посвященные фестивалю, были рассчитаны как на советских, так и на зарубежных слушателей. В их программу вошли впечатления представителей артистического мира заграницы о фестивале и отрывки из фестивальных постановок. Передача 2 сентября была посвящена выступлению художественного руководителя Камерного театра А. Таирова и руководителя Московского театра для детей Наталии Сац, изложивших творческие установки своих театров, 8 сентября состоялись две передачи. Первая была посвящена показу творчества мастеров Малого театра и МХАТа. Во второй – выступление В. Э. Мейерхольда и радиомонтаж «Дамы с камелиями». 9 сентября в фестивальной радиопрограмме прозвучали отрывки из постановок ГОСЕТа и театра им. Вахтангова.
Генеральный секретарь Международного театрального объединения Андре Мопра на закрытии фестиваля заявил: «Искусство дает людям возможность расширить свои знания, совершенствоваться, познавать друг друга»26.
Опубликовав речь А. Мопра, журнал «Говорит СССР» прокомментировал ее: «Это особенно верно сейчас, когда крепнет связь театра с радиовещанием, когда постановки и актеры лучших театров становятся широко известны... Достоянием всех стал, благодаря радио, и театральный фестиваль»27.
Театральный сезон 1934-1935 годов прошел «под знаком освоения классического наследия». «Театр у микрофона», как бы передавая «биение театрального пульса», не мог не отразить и увлечение театра классикой.
На 1936 год план литературно-драматического сектора предусматривал по разделу театра главным образом повторы. С этого времени начали резко ограничивать круг театров и их постановок, отбирались лишь те, что соответствовали политическим доктринам. Решено было повторять в течение года каждую постановку не менее трех раз, а лучше – пять-шесть раз.
Наряду со спектаклями прошлых лет, радиослушателю предлагался целый ряд новых работ столичных театров и периферийных коллективов, приезжавших на гастроли в Москву. Были переданы «Гроза» А.Н. Островского, «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу, «Платон Кречет» А. Корнейчука из МХАТа им. М. Горького, «Растеряева улица» по Г. Успенскому и «Бойцы» Б. Ромашова в постановке Малого театра.
В течение сезона планировались передачи в эфир спектаклей «Враги» Горького, «Мертвые души» по Гоголю – МХАТ, «Отелло» Шекспира, «Ревизор» Гоголя – Малый театр, «Далекая» А. Афиногенова, «Трус» А. Крона, «Флорисдорф» Фридриха Вольфа в обработке Вс. Вишневского – театр им. Евг. Вахтангова, «Умка -белый медведь» И. Сельвинского и «Концерт» А. Файко – театр Революции, «Горе от ума» по Грибоедову – театр им. Мейерхольда, «Родина» Левина и «Не сдадимся» Семенова – Камерный театр, «Кармен» – «Ромэн» и другие.
Для повышения качества театральных программ к составлению и написанию театральных монтажей привлекались авторы пьес, намеченных к передаче. Переработки своих пьес для радио сделали А. Афиногенов, Вс. Вишневский, А. Корнейчук, Б. Ромашов, И. Сельвинский, А. Файко. В «Октябрьские дни» 1936 года проводился смотр работы московских театров на радио. Показу театрального спектакля в эфире предшествовало вступительное слово художественного руководителя о творческом пути руководимого им театра. Рубрика «Театр у микрофона» к 1935-1936 годам завоевала прочное положение в программах радиовещания.
Теперь обратим внимание на то, что в этом списке нет Булгакова, Бабеля, Даниэля, Шкваркина, Зощенко, чьи пьесы пока еще занимали весьма достойное место в столичном репертуаре. Из числа классиков исключены Достоевский, Сухово-Кобылин, А.К. Толстой, Леонид Андреев, хотя на сцену они допущены пока практически без ограничений. Политизация вещания выражается в усилении идеологической цензуры, во все увеличивающихся списках «нежелательных авторов» – эти списки совершенно официально на радио появились начиная с декабря 1934 года. Назначенный в 1933 году председателем Радиокомитета П.М. Керженцев уделял этому вопросу особое внимание и перед своим уходом в 1936 году в Комитет по делам искусств при СНК СССР оставил целую папку с рекомендательными списками по поводу «своих» и «чужих» (то есть «идейно полезных» и «идейно вредных») авторов, названий и даже исполнителей.
П.М. Керженцева, претендовавшего на роль эрудированного марксистского художественного критика, сменил К.А. Мальцев, который главным своим достижением лично объявил «сокращение трансляционных пунктов в московских театрах»28 и «Приказ о реорганизации сектора литературно-драматического вещания», главным пунктом которого было «до 1 июля с. г. пересмотреть авторский состав... и представить список авторов мне на утверждение»29.
Поэтому, суммируя наблюдения над развитием «Театра у микрофона» в исследуемый период и обозначая критерии его репертуарных принципов, мы вынуждены на первое место ставить не художественные, а идеологические характеристики.
Незыблемость этого положения дорого обошлась истории нашей культуры. Практически не были записаны на пленку ни один из театральных шедевров Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, нет записей «раннего» Товстоногова, не существует на пленке ни лучших работ молодого «Современника», ни первых спектаклей Ю.П. Любимова на Таганке... Да много чего нет в фондах нашего радио, в музейных, театральных, звуковых архивах из-за непоколебимой верности редакторов радио идеологической посылке о том, что только апробированное политическими и пропагандистскими целями искусство достойно права на распространение и фиксацию.
Действительно, важное условие успешной радиоадаптации театрального представления – это его природная, сущностная способность к трансформации по законам восприятия на слух.
Третье – грамотная адаптация спектакля с сохранением сценической атмосферы может быть осуществлена, только если есть художник, способный профессионально провести эту трансформацию. Иначе говоря, практика многих лет убедительно продемонстрировала крайнюю необходимость участия самого режиссера-постановщика или кого-то из ближайших его ассистентов в процессе работы над радиоверсией. Никто не сможет передать режиссерский замысел лучше, чем сам автор театрального спектакля. Режиссер радио может и должен быть лишь его помощником. Иначе при любой форме и способе радиоадаптации возникает уже не «вторая», а «третья» реальность – в большей или меньшей степени не просто отдаляющая радиоверсию от оригинала, но достаточно резко и неизбежно искажающая последний.
И еще об одном критерии «Театра у микрофона». Актерская «школа» должна соответствовать требованиям, которые выдвигаются перед исполнителем у микрофона. От этого во многом зависит успех спектакля в эфире. Суть наиболее четко сформулирована К.С. Станиславским в «Работе актера над собой»: «Слово „вперед“, оживленное изнутри патриотическим чувством, способно послать целые полки на верную смерть. Самые простые слова, передающие сложные мысли, изменяют все наше мировоззрение. Недаром же слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли... На сцене не должно быть бездушного, бесчувственных слов. Там не нужны безыдейные, так точно, как и бездейственные слова.
На подмостках слово должно возбуждать в артисте, в его партнерах, а через них и в зрителе всевозможные чувствования, хотения, мысли, внутренние стремления, внутренние образы воображения, зрительные, слуховые и другие ощущения пяти чувств.
Все это говорит о том, что слово, текст роли ценны не сами по себе и для себя, а тем внутренним содержанием или подтекстом, который в них вложен»30.
Развивая идеи учителя применительно к конкретным особенностям работы у микрофона, его ученики сформулировали основные методологические положения этой «школы».
Следование этой «школе» и обозначенным выше эстетическим критериям объясняет жизнеспособность «Театра у микрофона» даже в эпоху жесточайшего идеологического террора конца 30-х годов. Это направление радиоискусства выжило, хотя и не без потерь.
Примечания
1 Новости радио, 1926, № 47. С. 6.
2 Новости радио, 1926, № 15. С. 5.
3 Луначарский А. В. Радио в культурной революции. Цит. по: Радиослушатель, 1928, № 14. С. 1.
4 Радиослушатель, 1928, № 4. С. 2.
5 Радиослушатель, 1928, № 5; Радиослушатель, 1929, № 48; «Пролетарский музыкант», 1932, № 5 и др.
6 О праве передачи по радиотелефону публичного исполнения музыкальных, драматических и других произведений, а равно лекций и докладов. 16 марта 1927 г. -СЗ СССР, 1927, № 16. Ст. 171.
7 Новости радио, 1926, № 22.
8 Радиослушатель, 1928, № 10. С. 9.
9 Радиослушатель, 1929, № 48. С. 10.
10 Там же. С. 9.
11 Там же. С. 9.
12 Марченко Т. Радиотеатр. М., 1970. С. 39-40.
13 Радиослушатель, 1928, № 8. С. I 1.
14 Базилевский Н. Радио в театре // Радиослушатель, 1929, № 31. С. 11.
15 Говорит СССР, 1935, № 8. С. 28.
16 Митинг миллионов, 1930, № 2. С. 47.
17 Из бесед автора работы с М.М. Яншиным (декабрь 1979 г.).
18 Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 т. М., 1955. Т. 3. С. 88.
19 Там же.
20 Там же. С. 331.
21 Там же. С. 326.
22 Там же. С. 83.
23 Бернштейн С.И. Языковая сторона радиолекции. Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М., 1972. С. 119.
24 Театр, 1940, № 8. С. 109-113.
25 Там же.
26 Говорит СССР, 1934, № 20. С. 4.
27 Симский М. Театральный фестиваль по радио // Говорит СССР, 1934, № 20. С. 5.
28 Архив Гостелерадио СССР. On. 1 л/с. Д. 81. Л. 27-27 об. – Подлинник.
29 Архив Гостелерадио СССР. On. 1 л/с. Д. 88. Л. 152-154. – Подлинник.
30 Станиславский К.С. Соч. в 8 т. Т. 3. С. 84—85.
Глава 7 Взаимовлияние творческих традиций в эстетике аудиовизуальных искусств
Эрнст Толлер на московском радио
Вопрос о взаимном влиянии мастеров немецкого и русского и советского искусства в процессе формирования выразительных аудиосредств кинематографа 20-х годов позволяет говорить о той эстетической ситуации, которая возникла на перекрестке – в пространстве сразу трех искусств: кино, театра и радио.
Характеризуя свою работу над спектаклем-обозрением «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н. Островского, режиссер Сергей Эйзенштейн ставил знак равенства между выразительными возможностями театральных шумов и всеми остальными, как он говорил, «составными частями театрального аппарата». «Удар в литавры – столько же, сколько и монолог Ромео», сверчок на печи – (Эйзенштейн имел в виду эффект, любимый К.С. Станиславским и использованный в I студии МХАТа) – и «пушечный выстрел под местами для зрителей» во всей их разнородности приведены к одной единице. Они равнозначные элементы режиссерской партитуры спектакля. Спектакль поставлен Эйзенштейном весной 1923 года в Московском театре Пролеткульта, а в мае 1923 года им написана цитируемая нами статья.
В те же годы в Германии Э. Пискатор работает над спектаклями-обозрениями «Бурный поток» и «Тонущий корабль», над шиллеровскими «Разбойниками». Оценивая эти работы в интервью по московскому радио вскоре после приезда в Москву в 1931 году, говоря о стилистике своего театра, Пискатор подчеркивал важность звукового языка спектакля, который складывается из традиционных театральных шумовых эффектов и из включения в ткань спектакля фрагментов радиопередач – мало знакомых или, напротив, хорошо знакомых зрителю – по принципу их ассоциативных связей с сюжетом представления или настроением действующих лиц. Этот прием – включение радио в сценическое действие – был использован Пискатором в одной из ключевых сцен спектакля «Гоп-ля, мы живем!» в 1927 году, в «Похождениях бравого солдата Швейка» (тот же 1927 год).
Совпадение позиций выдающихся мастеров театра и кино по поводу звукоизобразительных решений на сцене не случайно. Напротив, оно симптоматично, ибо в поисках новых путей к массовому зрителю возникали здоровые сомнения в исключительности вербального обращения к зрительному залу. Примерно в то же время Бертольт Брехт напишет: «Метод Станиславского, пытаясь создать настроение, превращает актера в „сосуд для слова“... Источники света и звука укрываются, театр не хочет быть театром, он выступает анонимно. В этих условиях декорация нисколько не заинтересована выступать в роли декорации: она имитируется под природу, а при случае и под природу возвышенную»1. А Эйзенштейн заявит протест по поводу того, что коммерческий успех стимулирует в кино «запись звука в плане натуралистическом, точно совпадая с движением на экране, создавая некоторую „иллюзию“ говорящих людей...»2.
Если вдуматься в то, что стоит за этими оценками – а возникает в памяти гигантский массив эмпирического материала, – то вполне правомерно, на наш взгляд, высказать идею о стремлении различных видов искусств к самоопределению за счет генерализации той или иной группы выразительных средств.
Жизнеподобие театра обеспечивалось прежде всего словом и подчинением ему сценографических решений; жизнеподобие кино – его пластикой, даже в самом экспрессивном варианте монтажа.
Как только кино получило слово, а театр – возможности экранной пластики, родился конфликт. Звук в кино – дополнение к картинке или органическое соединение пластики и звука? Звук – элемент комплекса выразительных средств или средство для дидактического толкования, необходимого неразвитому зрителю?
Если дополнение, «раскрашивание статуй» (по выражению Чаплина), то тогда и говорить особенно не о чем. Я напомню, что Эрнст Ягер требовал, чтобы шумы и звуки «впрямую иллюстрировали» события и явления, показываемые на экране, не вмешиваясь в структуру образа. Но правомерно вспомнить не менее категоричную статью, появившуюся в апреле 1930 года в журнале «Дер фильм», где декларировался примат звука над изображением -идея, получившая развитие у американских теоретиков У. Питкина и У. Марстона в их книге «Искусство звукового кино». То, что истина посередине, было ясно большинству не экстремистски размышлявших практиков и теоретиков. Но путь к этой истине на экране оказался достаточно сложен, ибо потребовал и теоретического обоснования, убедительного, а не просто декларируемого, и практической проверки, столь же художественно убедительной.
Если звук – лишь вопрос технологии, то никоим образом не следовало покушаться на монтажный метод съемки, подразумевающий работу на площадке короткими фрагментами, где длина кадра не превышает 2-3 метра (4-5 секунд). В этом случае ни о какой серьезной работе с актером говорить не приходится, ибо не только непрерывности действия, но даже элементарной возможности для того, чтобы собрать внимание, у актера не было.
С другой стороны, опора на актера, и прежде всего на слово сказанное, приводила к одной из основных потерь кино – оно переставало ориентироваться на непрерывную работу воображения, на сознательное, активное сотворчество зрителя. Не случайно одна из глав книги 3. Кракауэра «Природа фильма» озаглавлена «Господство речи ведет к сомнительной кинематографической синхронизации ».
Спор о функциях и возможностях звука был чрезвычайно актуален даже для самых тонких, глубоких и темпераментных мастеров экранной пластики. В 1930 году в беседе с Г. Рихтером Эйзенштейн говорил: «Я вырастаю из рамок кино, кинематографические средства (имея в виду пластические возможности немого кино) слишком примитивны для меня»3. Рудольф Арнхейм остро ощущал необходимость найти между двумя крайностями – немым фильмом и фильмом «стопроцентно говорящим» – «истинно звуковое кино, которое в равной мере использует различные выразительные средства: изображение, слово и звук».
Очень остро стояла задача выявления закономерностей совместного функционирования этих выразительных средств. И здесь кино обращается к опыту радио.
Еще в 1940 году в книге «Очерк психологии кино» Андре Мальро указывал:
«Современный фильм не родился из той возможности, что будут слышны слова, которые произносит герой немого фильма, но из новых возможностей совместной выразительности изображения и звука. Покуда эта выразительность только фотография -она так же смешна, как был немой фильм, пока оставался только фотографией. Искусством она станет только тогда, когда кинохудожник поймет, что дедушкой кинематографического звука является не граммофонная пластинка, а композиция радио»4.
Применительно к нашей теме – к разговору о взаимном влиянии мастеров немецкого и русского искусства – правомерно сказать, что радио было полигоном обработки опыта театра и передачи его кинематографу. Обратим внимание на такую временную и событийную цепочку.
Вторая половина 20-х годов. Эрнст Толлер работает над пьесой-обозрением, которая получает воплощение в театре Пискатора. Опыт, накопленный в этой работе – по его собственному признанию, – аккумулируется в радиопьесе «Новости Берлина» – остросюжетном экспрессивном повествовании, построенном на актуальнейшем и политически значимом жизненном материале. Премьера в Берлине 4 декабря 1930 года. А 25 января 1931 года, то есть менее чем через два месяца, «Новости Берлина» звучат по московскому радио в постановке русского режиссера, с новой, специально написанной музыкой и с участием группы видных советских актеров.
Режиссер московского радио не копирует чрезвычайно «богатое» звуковое решение берлинского спектакля (берлинский Радиодом к этому времени был едва ли не лучшим по своему техническому оснащению в мире, а в Москве лишь начиналось освоение возможностей новых радиостудий в здании Центрального телеграфа на улице Горького). Но он следует главному принципу, разработанному Толлером и постановщиком немецкого радиоспектакля – музыка, шумы в этом представлении равны слову, выполняя столь же эффектно сюжетообразующие функции.
Успех спектакля был огромен. Среди рецензентов, писавших об этой премьере в эфире, обращает на себя внимание обилие теоретиков и критиков кинематографа. В частности, несколько раз к этому спектаклю возвращается в своих статьях и выступлениях
В. Шкловский. Именно по его рекомендации в то время на советском радио устраиваются просмотры картины Рихтера «Все вертится, все движется» (1929), где звуковой ряд обозначен коллажным соединением музыки, человеческих голосов и акустических эффектов, и короткометражки В. Руттмана «Звучащая волна» (1926), снятой по тому же принципу в качестве рекламного ролика концерна звукозаписывающей аппаратуры.
В 1931-1932 годах в советском эфире появляются одна за другой две радиопьесы замечательного поэта, классика русской поэзии Арсения Тарковского – отца кинорежиссера Андрея Тарковского – «Повесть о сфагнуме» и «Стекло». Арсений Тарковский рассказывал, что он опирался в своей работе на опыт Толлера -и в той сфере, которая касается драматургических принципов построения радиодрамы на документальном материале, и особенно «в области использования звука, как продолжателя слова: это касается и музыки, и шумовых эффектов».
Весьма популярными в это время в кругу профессионалов радио становятся дискуссии вокруг вышедших в 1932 году в Германии книг «Гороскоп радиопьесы» Кольба и «Радиовосприятие» Лампе. Публикации в журнале «Говорит СССР» и других изданиях формировали три направления в радиоискусстве. Мы обозначим их следующим образом:
– наивный натурализм, соотносимый с немецким направлением «хёрбильд» («слуховые картины»); оно впрямую связывалось с акустическим конструктивизмом X. Рихтера и В. Руттмана в кино;
– вербализм, провозглашающий абсолютный примат слова в радиопьесе;
– и, наконец, третье направление, которое условно можно назвать мелодизмом; суть этого направления в том, что слово в радиопередаче существует не само по себе, но в определенном ритме, вытекающем из общего ритма спектакля, из контекста литературного материала.
Разработка принципов и приемов оптимального соединения слова, музыки и шумов, выявление закономерностей этого процесса в радиоискусстве принадлежит прежде всего режиссеру Вс. Мейерхольду. С позиции нашей темы интересно обратить внимание, что приезд в СССР Э. Пискатора и его дружеские контакты с Вс. Мейерхольдом совпадают по времени с активным интересом последнего к работе у микрофона. В 1931-1934 годах Пискатор бывал не только на спектаклях Мейерхольда, но и на его репетициях. А сравнивая сохранившиеся в архивах административно-распорядительные документы, удалось установить, что Пискатор присутствовал в радиостудии на репетициях радиоверсий постановок Мейерхольда. К. Рудницкий – крупнейший знаток жизни и творчества Мейерхольда – подтвердил нашу гипотезу об участии Пискатора в работе над радиоверсией спектакля «Дама с камелиями».
Летом и осенью 1934 года Мейерхольд готовил радиопрограммы Всемирного театрального фестиваля, который намечался в Москве. Пискатор был занят съемками и монтажом кинофильма «Восстание рыбаков» в Берлине. Он не смог участвовать в передачах фестиваля – они были намечены на первую декаду октября, а на 5 октября назначили премьеру фильма Пискатора. Но на этапе подготовительном сотрудничество двух мастеров было плодотворным. Определился главный принцип работы режиссера в области звукового отражения действительности -умение обозначить ведущую и единую интонацию произведения. Стремясь выявить в речи и музыкальном сопровождении акценты, точки возможного пересечения, при совмещении которых возникает единая мелодия, Мейерхольд при участии Пискатора вывел принцип организации эмоциональной среды радио– и звукового кинопредставления. Особая роль в создании этой среды придается совпадению или противопоставлению ритмических основ литературного текста, речи исполнителя и музыки. Примат слова, человеческой речи здесь необязательно – обязательна их способность к контакту с музыкой определенного, заданного настроения.
В практике радио Мейерхольд наиболее полно реализовал эту концепцию при постановке спектакля «Русалка» по А. С. Пушкину в 1938 году. Теоретической статьи сам Мейерхольд по этому поводу не успел написать.
В теории – и радио, и кинематографа – концепция получила разработку и фиксацию в замечательной работе С. М. Эйзенштейна «Монтаж тонфильма» (1937). Статья эта не вошла в собрание сочинений мастера и известна пока узкому кругу специалистов, т. к. издана лишь в 1985 году в сборнике научных трудов Института киноискусства в Москве. Эйзенштейн формулирует принципы всеобъемлющих возможностей звука в кино, подробно анализирует разнообразные возможности «подлинного внутреннего единства изображения и звука»5.
В 1965 году кинорежиссер А. Тарковский поставил на московском радио спектакль «Полный поворот кругом». Режиссер взял за образец к тому времени уже забытые «слуховые пьесы», популярные на берлинском и московском радио в конце 20-х годов. Он знакомился с радиопьесами Бишофа, Дукера, Кесснера. Выпущенная в 1960 году на английском языке книга Кракауэра «Природа фильма», особенно ее главы «Диалог и звук» и «Музыка», были, – по неоднократным признаниями самого Андрея Тарковского – «толчком и поводом к поиску, который хотелось реализовать сначала в радиоэфире, а потом в пространстве и времени киноэкрана»6.
Вот так – от театральных спектаклей Эрвина Пискатора, от первых радиоопытов Толлера и Карла Мартина, от первых теоретических исследований Кольба, Кракауэра и их коллег – непрерывная и неразрывная нить протягивается в настоящее время и прослеживается в творчестве многих выдающихся киномастеров на экране и у микрофона.
Прорываясь сквозь легенды и мифы
Хотя история российского радиовещания и составляла к концу 30-х годов всего около двух десятилетий, но в силу реальных обстоятельств развития российского общества – особенно в эпоху сталинизма, мы вынуждены констатировать, что к подлинным фактам, событиям, обстоятельствам реальной истории российского радиовещания приходится прорываться, – прорываться в буквальном значении этого слова – сквозь нагромождение легенд, исторически недостоверных фактов, а то и просто выдумок и фантазий, возникших по разным причинам, но имеющим общие корни: представить историю великой страны не такой, какая она была на самом деле, а такой, как удобно ее декорировать, чтобы скрыть ошибки, а то и откровенные преступления властей.
Этот процесс затрагивает любую страницу отечественной истории России в XX веке. Не случайно еще в 40-е годы в кругу профессиональных историков СССР появилась горькая поговорка: «Каждый день историю государства Российского мы воссоздаем заново, в зависимости от передовой статьи свежего номера главной партийной газеты „Правда“ или главной газеты советской власти, которая называется „Известия“».
А старики добавляли:
«При условии, что в „Известиях“ нет правды, а в „Правде“ нет никаких известий ».
История российского радиовещания – с точки зрения исследователя наших дней – это сложнейший процесс противоборства пропагандистских догм и стремления работников вещания, прорываясь сквозь жесточайшие цензурные и организационно-творческие запреты, все-таки нести действительно многомиллионной аудитории, разумеется, не в полном объеме, но хотя бы крупицы информации о реальной жизни страны и всей планеты.
Удавалось это не всегда, но все-таки удавалось – пусть опосредованно, пусть иносказательно, и часто намеками. Но удавалось.
И потому история российского радио XX века – это сложнейший коктейль, где правда часто перемешана с выдумками, исторический анекдот оказывается на поверку достоверной информацией, а многократно проверенное и официальное заявление властей, подкрепленное научными исследованиями историков, – безудержной фантазией, рядом с которой меркнут изыски незабвенного барона Мюнхгаузена.
Радио как средство массовой информации в силу своей природы легко подчиняется всевозможным мифологическим построениям.
Но история вещания, особенно в России, на изломе всевозможных обстоятельств в экономике и культуре, свидетельствует, что радио с огромным удовольствием и само рождает разнообразные мифы, получающие развитие и постепенно закрепляющиеся в истории культуры едва ли не как аксиомы исторического процесса развития человеческого общества.
Для нашей же темы они тем не менее важны, ибо свидетельствует о том, как живучи были различные легенды, связанные с историей отечественного радио.
Более подробно этой темой историкам еще предстоит заниматься.
К таким «легендарным», я бы сказал, страницам истории российского радиовещания относятся и многие материалы, характеризующие проблему «Ленин и радио».
Тема эта на разных этапах истории СССР и истории «строительства социализма в одной отдельно взятой стране» возникала в различных аспектах. Неизменным было одно: генеральный постулат о том, что именно Владимир Ильич первым разработал и претворил в жизнь – обратим внимание именно на эту формулировку – претворил в жизнь генеральные постулаты развития радио как элемента культуры, человеческого общения и средства социального управления обществом.
В стремлении превратить вышеобозначенную идею в аксиому истории специалисты по истории культуры вообще и по истории радио, в частности, не стеснялись порой даже откровенных натяжек и передержек. Вспомним хотя бы историю, связанную с именем инженера С.И. Ботина.
С легкой руки целого ряда специалистов по истории советской культуры, не слишком озабоченных реальным содержанием попавших в их руки исторических документов, в течение нескольких десятилетий инженер Ботин представал едва ли не как ближайший соратник и помощник лично В.И. Ленина во всех основных направлениях радиостроительства в Советской России. В собрание сочинений Ленина (так называемое Академическое Пятое издание, именуемое Полным собранием сочинений В.И. Ленина, оно было декретировано в этом качестве специальным решением высших партийных инстанций) были включены несколько десятков писем, телеграмм, коротких записок и достаточно пространных текстов, которые В.И. Ленин в разное время адресовал инженеру С.И. Ботину. Наличие в тексте этих документов слова «радио» гарантировало, по мнению историков, важность указанного образца эпистолярного наследия вождя для истории отечественного радиовещания.
Между тем реальных следов от трудов инженера С.И. Ботина ни в истории, ни в теории массовых коммуникаций, ни в радиотехнике долгое время не обнаруживалось.
Смущало чересчур дотошных историков и такое обстоятельство: инженер С.И. Ботин действительно числился среди руководителей акционерного общества «Радиопередача», где он с середины 20-х годов занимал должность одного из технических руководителей. Он был некоторое время даже техническим директором указанного акционерного общества, занимавшегося всеми вопросами радиостроительства и организации радиовещания в Советской Республике.
Так что многочисленные обращения к нему со стороны Председателя Правительства, т. е. Ленина, были бы весьма логичны, если бы не одно обстоятельство.
Инженер С.И. Ботин стал одним из руководителей акционерного общества «Радиопередача» (техническим директором АО) в 1923 году, когда Владимир Ильич Ленин после тяжелой болезни практически находился, как свидетельствовали врачи, на положении тяжелобольного человека и при всем своем желании никак не мог детально и подробно заниматься конкретными вопросами радиостроительства в СССР.
После смерти Ленина в 1924 году инженер Ботин продолжал руководить техническими службами АО «Радиопередача», но непосредственной связи с Владимиром Ильичом не могло быть сначала из-за болезни, а потом и смерти Ленина.
Но ведь «Архив Ленина» – организация достаточно серьезная и по своим идеологическим и мировоззренческим позициям отнюдь не виртуальная.
Так в чем же дело?
Разгадка – проста, как старый анекдот.
Ленин действительно много и порой достаточно подробно обменивался с инженером Ботиным информацией о важности его -ботинских – работ в области радиотехники, и переписка между Лениным и Ботиным сохранилась действительно достаточно обильная. Только касалась она не вопросов радиостроительства и радиовещания в 20-е годы, а проблем радиоуправляемых взрывов – проблем, которыми С.И. Ботин занимался в 20-е годы в полном соответствии со своими служебными обязанностями специалиста по радиовзрывным устройствам в артиллерийском управлении Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Не будь этой переписки, мы были бы вынуждены признать возможности великого вождя общаться с товарищами по работе, уже покинув нашу грешную землю.
И хотя Ленин ничего не писал инженеру С.И. Ботину ни о принципах и нормах пропаганды идей социализма и коммунизма средствами радио, ни о специфике массовой пропаганды и агитации через радиомикрофон и радиоприемник, а писал главным образом о важности для революционеров всех мастей правильно устанавливать дистанционные радиовзрыватели (тут великому вождю русской революции, разумеется, ни один историк XX века не откажет в даре политического предвидения), но легенда об инженере
С.И. Ботине – как одном из соратников Ленина по радиостроительству в советской научной литературе сохранялась несколько десятилетий, да и сейчас не до конца исчезла, – время от времени возникая то на страницах какой-то диссертации, то в книжке для юношества.
* * *
Но Бог с ним, с изобретателем радиовзрывателей.
Гораздо серьезнее другой ленинский тезис, который действительно лег на много лет в основу теории пропаганды и агитации средствами радио. Это идея о том, что эфирные формы радиопропаганды наибольшего эффекта и наилучших результатов достигают тогда, когда копируют привычные газетные формы.
Привычные – сказано не случайно.
Российские социал-демократы во главе с Лениным и Троцким исповедовали как религию мысль об основополагающей роли печатной пропаганды во всех вопросах переустройства социальной действительности. Естественно, и новые технические средства массовой агитации должны были, по мнению Ленина, Троцкого и других русских марксистов, прежде всего соответствовать нормам и методам печатной пропаганды. Этому учили Маркс и Энгельс, это прокламировали Плеханов и русские народники, эту идею полностью разделял и Ленин.
В теоретическом арсенале марксизма газета и аналогичные печатные издания традиционно занимали внеконкурентное первое место.
И поэтому, поразмышляв об агитационно-пропагандистских перспективах радиовещания, Ленин даже терминологию нового информационного средства опирал на привычные термины прессы.
«...Газета без бумаги и расстояний...» «Митинг миллионов, который закрепит прочитанное на страницах партийной прессы».
В таких именно выражениях В.И. Ленин фиксировал основные формы радиопропаганды.
Правда, к ним добавлялись иногда определения типа «Вся Россия будет слушать лекции, читаемые в Москве», но форма радио-газеты оставалась незыблемо предпочтительной.
Соответственно и формы радиоматериалов должны были соответствовать привычной верстке печатных изданий.
И если суммировать общие представления о структурных, тематических и эмоциональных критериях радиоматериалов, то все вместе они должны были соответствовать понятным и близким параметрам печатных изданий, даже если к ним и добавлялась приставка «радио».
Нам кажется правильным подчеркнуть именно это обстоятельство, предопределяющее пути массовой радиопропаганды, обращенной к самым разнообразным слоям аудитории – она должна была прежде всего иметь директивный характер по содержанию и не менее директивный тон обращения к слушателям.
Взгляды Ленина, а вместе с ним Троцкого, Сталина, Луначарского, Калинина и других столпов партийной пропаганды в конце концов аккумулировались в термине «радиогазета».
Именно этот термин обозначил формы и методы радиопропаганды в Советской России на первом этапе массового вещания, который начался вскоре после экспериментальных радиопередач в 1919 году и достаточно быстро стал реальным фактором политической жизни после ввода в строй целой сети достаточно мощных радиостанций под Москвой, в районе Петрограда, Урала, Средней Волги, в Хабаровске, на Дальнем Востоке. План радиостроительства, разработанный при личном участии Ленина, Сталина, Троцкого, зам. председателя Реввоенсовета Склянского и других руководителей страны, позволил новому государству в чрезвычайно короткий срок обеспечить распространение радио-газет из Москвы и Петербурга по всей территории республики. Правомерно заметить, что эти радиогазеты, ориентированные каждая на определенную часть аудитории, только в теории подразумевали обыкновенное чтение текста, впрочем обработанного, по выражению проф. К.И. Былинского, «для восприятия на слух, т. е. обработанные в митинговой манере обращения к аудитории».
И вот тут, когда радиогазета, имеющая передовицу – выступление крупного политического или государственного деятеля, обзор международных новостей – выступления или набор журналистских материалов, промышленную хронику и т. д., – одним словом, дублирующая структуру традиционного печатного издания, стала регулярно выходить к огромной аудитории – вот тут-то и выяснилось на практике, что очень жесткая «верстка» радиоиздания, стремление максимально приблизить его к печатному прародителю элементарно невыгодно.
Оказалось – для этого даже не пришлось приводить очень сложных социологических, как теперь сказали бы мы, исследований, что для популярности радиогазете надо не приближаться к печатному изданию, столь дорогому сердцу большевиков-руководите-лей радио, а уходить от него, откровенно нарушая ленинские заветы и наставления, искать структурные композиции, неприкрыто соединяющие нормы газетной верстки и структуры массовых праздничных представлений.
Вот тогда-то руководитель самого главного радиоиздания Советской России главный редактор «Рабочей радиогазеты» и заявил во всеуслышание: «Наша газета – гибрид обычной газеты и эстрады». В структуре радиогазеты вместе с серьезными политическими и экономическими обзорами, вместе с выступлениями сугубо пропагандистского политического характера появились стихи, концертные номера – коллективные и индивидуальные, частушки, фельетоны, побасенки на актуальные темы, – словом, все то, что никак не соответствовало представлениям о газете, но вполне укладывалось в представления об аудиодействии, где серьезные политические жизненно важные вопросы развития государства существовали рядом с развлечениями, концертными номерами, песнями и плясками.
Уже в начале 20-х годов выпуски самой главной «Рабочей радиогазеты» (она выросла из официальной «Радиогазеты ГОСТА» и стала в эфире аналогом таких печатных изданий, как «Правда» и «Известия») стали выходить не только из студий Радиокомитета, но транслироваться из популярных в России концертных залов – из Колонного и Октябрьского залов Дома Союзов в Москве, из Большого зала Политехнического музея и других подобных помещений.
Возникало своеобразное шоу, как выразился бы специалист по эстетике массовых мероприятий на рубеже XX и XXI веков.
Этот вопрос достаточно подробно освещен в отечественной научной прессе. Еще за 10 лет до того, как были написаны эти заметки, начинавшая тогда свою исследовательскую деятельность в области радио звукоархивист Т. М. Горяева в статье, посвященной истории радиогазеты как жанра, заметила, что радиогазеты начала 20-х годов стали прообразом вещательной программы дня в эфире второй половины XX века, – программы, органически объединяющей в себе политику, экономику, международные новости, культуру и искусство.
По сути дела, это был крах, мягко говоря, сектантского подхода к радиогазете, как к копии печатного издания (по В.И. Ленину).
Стало ясно, что радио развивается по своим собственным законам и говорить об успешной радиоагитации и радиопропаганде можно лишь с пониманием законов и закономерностей специфики радиовещания.
В практике вещательных редакций конца 20-х годов наметился очевидный кризис. Он был связан прежде всего с политическим и информационным вещанием, которое стремилось реализовать и жестко закрепить традиции «ленинской радиогазеты».
Понадобился совершенно иной подход, чем тот, что был и административно, и творчески закреплен и директивными документами, и организационно-распорядительной структурой подготовки программ, и опытом самих журналистов эфира.
И вот тут будем справедливы – помощь пришла неожиданно и совсем не оттуда, откуда ее ждали.
В 1930 году появилась передача Э. Толлера «Новости Берлина», о которой мы уже подробно писали.
И не будет большим преувеличением сказать, что в истории российского радио эта передача оказалась тем самым колесом, устроившись на котором российское радио поехало в будущее.
Будущее разнообразное и достаточно успешное. Но это повод для особого разговора.
* * *
Ленинская концепция радиопропаганды как формы печатной агитации демонстрировала свою несостоятельность, как, впрочем, и многие идеи Ильича, когда их пытались реализовать в обыденной реальной жизни. Мысль о том, что радио можно лишить свойственных и отдельному человеку, и большим группам людей эмоциональных всплесков, идея о единообразии, а точнее сказать, казарменном тождестве радиоголосов, была очень привлекательна для тоталитарного государства, но не выдерживала проверки жизнью. Ленин, по сути, программировал казарменное радио, со свойственным ему единообразием или, точнее сказать, однообразием слов, текстов, интонаций, а в результате и эмоций.
Оказалось, что привлекательность радио не в унификации идей, формулировок, идеологических постулатов и тому подобное, а как раз в противоположном – в способности дать радиослушателю ощущение реальной жизни во всем богатстве ее интонаций, эмоций, чувств, а в конечном итоге и идей.
Наиболее проницательные работники радио – в том числе и из числа ленинских учеников, соратников и последователей, довольно быстро это поняли.
«Новости Берлина» несколько раз звучали по московскому и ленинградскому радио, потом они начали свое победное шествие по радиостанциям многих городов Советского Союза.
Разумеется, сначала это был дубль-оригинал пьесы Толлера. Но потом «Новости Берлина» в рамках этой же программы стали меняться на «Новости Москвы», «Новости Ленинграда», «Новости Киева», Одессы, Тулы, Курска и так далее.
Принцип оставался изначально толлеровский. В руках у радиоведущего была газета с информационными текстами разного плана. Но главное место занимали уже не новости Берлина, а события, затрагивающие жителей непосредственно того города, на аудиторию которого вещала станция.
Происходила не запланированная никакими директивными органами принципиальная перестройка вещания – реальные живые голоса заполняли эфир, чаще, конечно, поддерживая заранее определенные пропагандистские лозунги, но иногда уже и споря с ними – не в качестве оппозиционных выступлений, а самим фактом более многообразного, более эмоционально наполненного отражения реальной жизни в эфире. Можно было бы привести множество доказательств того, как быстро и успешно происходила эта перестройка эфирных программ радио России, но для нашей темы наиболее выразительными, как нам кажется, могут служить два аргумента.
Первый. В течение довольно короткого времени пьеса Толлера или передачи, практически копировавшие ее сюжет, – человек читает утреннюю газету и обсуждает с близкими, членами семьи, друзьями, коллегами по работе или просто с соседями события, о которых написано в этой утренней газете, – получили постоянную прописку на большинстве ведущих радиостанций России.
И второй. Постольку поскольку «Новости Берлина» («Новости Киева», Донецка, Курска и т. д. и т. п.) подразумевали выступления реальных участников событий, о которых шла речь, то количество участников таких программ и их социальный состав постоянно увеличивался.
Радиовещание становилось гораздо более демократичным, приобретая свойства и черты действительно аккумулятора общественного мнения.
Но делать каждый раз «Новости Минска», «Новости Харькова» или «Новости Хацапетовки» можно было, лишь предоставив радиожурналистам возможность продемонстрировать в эфире реальные события, происходившие на улицах и в домах тех населенных пунктов, откуда шли их новости. Так, сама эфирная практика стимулировала рывок в техническом оснащении радиовещания, который связан с созданием и быстрым развитием в Москве, Ленинграде и других крупных городах, занимавшихся подготовкой регулярных новостных радиопередач, специальных технических служб, получивших название «Цехи внестудийных записей».
Это были организации, входившие в состав радиоцентров (и общереспубликанских, и местных), в обязанность которых входила подготовка к передаче в эфир, фиксация и хранение (на условиях Государственного архива) наиболее интересных звукозаписей, сделанных для оперативных новостных радиопрограмм.
И как показала история, звуколетопись самых важных событий жизни страны стала бесценным пособием и журналистов, и историков, и деятелей культуры.
Впрочем, это уже другая история.
Примечания
1 Брехт о кинематографе. (Публикация В. Клюева) // Вопросы киноискусства. Вып. II. М., 1968. С. 21.
2 Эйзенштейн С. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. С. 316.
3 Теплиц Ежи. История киноискусства. Т. 3. 1928-1933. М., 1971. С. 208.
4 Filmje umeni. Praha, 1963, s. 238-239.
5 Из творческого наследия Эйзенштейна С.М. М., 1985. С. 50.
6 Цит. по записи беседы автора статьи с А. Тарковским после премьеры радиоспектакля «Полный поворот кругом». (К сожалению, полный текст беседы, подготовленный для журнала «Советское радио и телевидение», не был опубликован из-за негласного запрета цензуры на публикацию материалов А. Тарковского в ведомственном издании Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.)
Раздел III Поиски оптимальных форм воздействия
Глава 8 Особенности восприятия произведений аудиоискусства
Вопрос об эстетических закономерностях, определяющих, в свою очередь, эффективность восприятия произведений аудиокультуры в различных по социальным параметрам и культурному уровню частях аудитории, в отечественной науке разрабатывается много лет. Еще в 20-е годы на заре радиовещания московский ученый профессор Н. Подкопаев в своей капитальной работе «Радио с точки зрения психологии» поднимал вопрос о своеобразии эстетических и психофизиологических характеристик произведений аудиокультуры. Подкопаев и его последователи утверждали необходимость вычленения целого комплекса свойств радиопередачи, знать и учитывать которые необходимо, ибо без этого невозможно добиться успеха у аудитории, хотя бы затронуть ее внимание, не говоря уже о том, чтобы удерживать в течение достаточно длительного времени, подчинив его эмоциям и мыслям, заложенным в текст. В последней трети ушедшего XX века этим вопросом много занимались различные ученые – искусствоведы и исследователи массовых коммуникаций, в том числе и автор этих строк. Мне довелось работать в течение почти двух десятилетий над этой темой вместе с доцентом факультета журналистики Московского государственного университета Дмитрием Ивановичем Любосветовым, и предлагаемую далее читателям главу об эстетических и психологических свойствах произведений аудиокультуры, о структуре таких произведений и своеобразии их взаимоотношения с фантазией и мышлением слушателя правомерно назвать нашей совместной работой, лишь завершенной мною после безвременной кончины Дмитрия Ивановича.
Всего три десятилетия относительно спокойной жизни технический прогресс дал радиовещанию для упрочения своих позиций. Заняв место в эфире к середине 20-х годов XX века, радио столкнулось к 50-м с массовым распространением телевидения. Уже в середине 50-х годов о радио высказывались как о «факире на час». Если принимать во внимание время существования нашей цивилизации, то три десятилетия – это даже не час, а мгновение.
Тысячу лет назад китайский поэт и ученый Ван Цзюньюй, чаще именуемый в древних книгах как Ван Ци, изрек и записал: «Не доставляет удовольствия слушать то, что надлежит смотреть». Некоторое время спустя он выразился еще более кратко: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Через десять веков присказка зазвучала как приговор. Поклонники телевидения обратились к мудрости китайца как к наиболее точной формулировке обвинения радио в ограниченности, а следовательно, и в бесперспективности его существования.
Экспансия телевидения во всем мире достигла таких размеров, что возникли сомнения в правомерности жизни и театра, и кинематографа, а с появлением трансляций из музеев и видеофильмов о живописи – в целесообразности демонстрации музейных коллекций. Если бесстрастные компьютеры предрекали грядущую нищету всем традиционным видам зрелищного искусства, подсчитывая кассовые убытки и все увеличивающееся число пустых кресел в кино-, театральных и концертных залах, то нетрудно вообразить, сколь незавидным представало будущее радио, все художественное достояние которого заключалось в невидимых миру звуках.
Даже самые доброжелательные исследователи сходились во мнении, что судьба радио – в микроминиатюризации технических средств: вот создадут инженеры приемник размером с аптечную таблетку (технически это вполне возможно, более того, эта идея практически была реализована к концу 70-х годов XX века), и будет она, вмонтированная в петлицу, сообщать погоду и наиболее важные новости. Что же касается обширной событийной и художественной информации, общения с коммуникатором, аудиокультуры во всех ее разновеликих и многообразных аспектах, то «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Такое мнение распространилось в среде специалистов, наблюдавших взаимоотношения средств массовой информации и культуры сквозь призму жестокой конкурентной борьбы. Это касалось развития СМИ в любых социально-политических условиях, даже в том случае, когда государство стремилось максимально регулировать эти взаимоотношения, как это было у нас в стране. Но и при диктатуре КПСС, когда планы работы всех СМИ заранее утверждались в одном и том же здании, одними и теми же начальниками, даже при таких условиях реальная конкуренция существовала, ибо ежедневно и ежечасно у аудитории возникала проблема выбора: смотреть или только слушать, что само по себе стимулировало соперничество в стремлении привлечь внимание населения.
К началу второй половины XX века могущество телевидения, особенно в споре со зрелищными видами искусств (театр, кино, эстрада) и аудиокультурой (радио, грамзапись), казалось всесокрушающим. Но в то же время исследователи стали обращать внимание на целый ряд парадоксов в развитии как системы СМИ в целом, так и отдельных ее элементов. Прежде всего эти парадоксы стали проявлять себя в наиболее развитых «телевизионных державах», в частности в Соединенных Штатах Америки.
В 1959 году, на пике «телевизионного бума», в США насчитывалось 3879 радиовещательных станций различной мощности. В это же время работало около 900 телестанций. Американцы, как известно, не любят вкладывать деньги в предприятия, не приносящие прибыли. Прибыль же на радио и телевидении связана с передачей рекламы. А количество рекламодателей и суммы прибылей непосредственно зависят от расширения или сужения аудитории.
И вот какая ситуация возникла через несколько лет, изумив и специалистов, и широкую публику: к 1976 году в США работало 8120 радиовещательных станций различной мощности – при 1016 телевизионных студий. Соотношение – 1:8 против 1:4 восемнадцать лет назад; в отдельных штатах и городах еще более выразительные показатели свидетельствовали о том, что радио аудитории не теряет и телевидению в своем рекламном воздействии на население не уступает: Нью-Йорк – 344 радиовещательных станций и 42 телевизионные; Пенсильвания – соответственно 344 и 34 и т. п. Заметим при этом, что приведенная здесь статистика учитывает лишь станции с регулярным и постоянным вещанием в несколько часов; одноразовые или нерегулярные радиоакции рекламного характера не учитывались.
К началу 70-х годов наиболее дальновидные специалисты в разных странах, главным образом там, где телевидение удовлетворяло интерес публики, пришли к выводу: распространение телепередач не является причиной значительного снижения интереса к радиопрограммам.
На рубеже 80-х годов социологи публикуют результаты исследований, из которых следует, что в некоторых полностью телефицированных районах СССР почти 90 процентов жителей при обращении к тому или иному средству массовой информации предпочитают радио (второе место после газет по популярности).
Или можно вспомнить и такой – не единственный в своем роде -курьез: в одной из европейских стран газета, печатающая телевизионные программы, объявила в качестве приза 750-тысячному подписчику цветной телевизор новой модели, но по просьбе читателей он был заменен на стереофонический радиоприемник.
Западногерманские футурологи X. Байнхауэр и Э. Шмакке в своем обширном труде «Мир в 2000 году» специальную главу посвятили взаимоотношениям радио и телевидения и высказали такой прогноз: «Никаких серьезных изменений в этой области не произойдет, хотя и предусмотрено дальнейшее расширение телевизионной сети и увеличения объема передач по каналам телевидения. Единственной уступкой радиовещания будет разработка новой структуры его программ».
Этот прогноз был сделан немецкими учеными в ситуации, когда большинство их коллег пророчили если не полное, то, по крайней мере, глобальное сокращение радиовещания вообще. Как показала жизнь, они ошибались, в то время как прогноз X. Байнхауэра и Э. Шмакке оправдался полностью. Объем радиовещания в принципе увеличивался параллельно с ростом телевидения, а вот его структура резко менялась, о чем особенно ярко свидетельствует эволюция радиопрограмм в отечественном эфире: резко дифференцированные по содержательным и адресным критериям коммерческие радиостанции значительно превышают по объему вещания параметры бывшего Всесоюзного радио, предоставляя слушателям столь же выросшую, но принципиально изменившуюся тематическую палитру передач.
Каким же образом радио удается сохранить свою привлекательность в действительно очень трудных для него условиях жесточайшей конкурентной борьбы за внимание аудитории? Здесь правомерно выделить три природных свойства радиовещания, обусловливающих его жизнеспособность.
1. В структуре современных СМИ радио остается наиболее оперативным. Ни телевидение, ни кинематограф даже на рубеже XXI века не обладают техникой, позволяющей без предварительной подготовки выходить в эфир из любой точки земного шара с рассказом о событии и явлении любого характера уже в момент начала этого события. Соответственно, это обстоятельство облегчает приглашение к микрофону в качестве комментаторов наиболее актуальных и социально значимых фактов и явлений представителей общественности, государственных деятелей, авторитетных людей во всех областях знаний, и конечно же самих участников событий. Во всем этом, как показывает мировая практика вещания, включая и российскую, радио уверенно опережает и прессу, и телевидение.
2. Из всех СМИ радио является самым удобным («неприхотливым», «комфортным») для восприятия аудиторией. Слушание радио, как правило, не требует отказа от повседневных дел, его можно совместить и с производственной занятостью, и с бытовыми реалиями (уборкой квартиры, хозяйственными делами и т. п.). Колоссальную часть аудитории радио во всех направлениях вещания – от музыкальных программ, новостных выпусков до передачи литературно-драматических композиций и «радиокниг» – составляют автомобилисты за рулем и их пассажиры. Более того, разнообразие интересов именно этой части аудитории стимулировало значительное расширение жанрово-тематических параметров вещания (что послужило, в свою очередь, увеличению числа современных форматов радиостанций, увеличению количества самих станций, более четкую их адресную и содержательную направленность и дифференциацию).
3. Радиовещание оказывает несомненное психологическое влияние на людей. В системе СМИ радио, ориентированное прежде всего на слуховое восприятие, воздействует более других на воображение человека. На это обращают внимание многие современные физиологи вслед за великими русскими учеными И.М. Сеченовым и И.П. Павловым.
Радио возбуждает фантазию, стимулирует чувства и тем самым дает работу и мышлению, и неосознанным эмоциям. Иначе говоря, оно помогает выйти человеку из той эмоциональной «стабильности», в которую приводят его бесконечно повторяющиеся, постоянно дублирующие друг друга служебные, рабочие и бытовые обстоятельства, «условия среды», регламентирующие развитие личности.
Радио высвобождает воображение и определенным образом компенсирует тот эмоциональный и мыслительный застой, те навыки автоматизма в поведении и реакциях, которые выработаны «привычным» жизненным опытом.
К этому следует добавить и повторяемость всевозможных стрессов, которые человек получает на работе, в быту, в обстоятельствах жизни большого города и т. д. Эти стрессы, как утверждают психологи, также подчиняют себе мышление и эмоции.
Что же происходит с индивидуумом?
До предела «загруженный» проблемами напряженного производственного дня, окунувшись в агрессивную по отношению к отдельной личности общественную среду в дороге, человек и дома не всегда может избежать разнообразных хлопот и тревог.
Наконец вечером он садится к телевизору и... получает с огромной экспрессией отобранные и продемонстрированные слепки (копии, аналоги) тех же самых стрессовых фактов, ситуаций и обстоятельств, которые сопровождали его в течение дня. Причем получает он их с высокой точностью и большой выразительностью -в цвете, со стереофоническим звуком, в быстром клиповом ритме, а в перспективе – и в объемном (стереоскопическом) изображении. Восприятие такого человека оказывается явно перегруженным, фантазия – задавленной, воображение – отключенным. Между тем нормальный организм требует эмоционального равновесия, которое в определенной мере и способно создать прослушивание радиопередач. Социопсихологи утверждают, что даже самая трагическая информация по радио воспринимается с меньшим нервным напряжением, чем с экрана телевизора, ибо в этом случае срабатывает механизм психологической защиты, который есть у каждого индивидуума.
Таковы основные свойства радио, позволяющие ему успешно взаимодействовать (при хорошем организационном уровне) с телевидением, сохраняя при этом неповторимые методы и формы воздействия на аудиторию, а также интерес слушателей.
* * *
Взаимоотношения радио и прессы, как правило, обусловлены разделением задач. В условиях развитой системы современных СМИ получила распространение такая формула: дело радио – информировать; дело телевидения – демонстрировать; дело газеты – анализировать и объяснять.
В принципе, такая точка зрения имеет право на существование, если, разумеется, не забывать о том, что ни одна из перечисленных формул «в чистом виде» не реализуется, а все они существуют в неразрывных связях на каждом из каналов СМИ. Но тем не менее указанная триада позволяет говорить о приоритетах в практике каждого из каналов. Учитывая это, пресса, радио и телевидение -особенно при наличии единого организационно-контрольного центра (государственные органы управления СМИ или принадлежность различных каналов к одной информационной империи, типа концерна Херста в США или «Мост-Медиа» в России) – достаточно широко используют выгоды от координации своей работы.
История отечественного радиовещания знает много примеров совместных действий с печатью. Достаточно вспомнить знаменитые радиомитинги 30-х годов, которые зачастую начинались с постановки предварительного обсуждения проблем в печати; газеты же освещали ход радиомитингов, комментировали, подводили итоги. В 90-е годы печать, телевидение и радио, находящиеся под контролем государства или определенной финансовой группы, стараются воздействовать на общественное мнение в ситуациях политически и социально экстремальных, например в период подготовки к выборам. В этом случае печать, радио и телевидение, принадлежащие «одному хозяину», создают наиболее благоприятные коммуникативные возможности друг для друга – анонсируют публикации и программы, координируют выпуск соответствующих материалов по времени, стилю и адресу, тиражируют отзывы на программы, передачи и статьи, стремятся регулярно обнародовать ссылки на работу коллег. Важно отметить, что в подобной ситуации обеспечивается такое важное условие воздействия на общественное мнение, как непрерывность потока социальной информации.
Большое влияние на положение радио в системе СМИ оказывает взаимодействие центрального и регионального вещания. Они должны не подменять друг друга (каждое отвечает специфичным требованиям аудитории), а дополнять. Радио, как и все местные СМИ, участвует в создании единого информационного пространства страны. В последние годы местные СМИ начинают все более «мыслить общенациональными категориями». (Одним из примеров может служить деятельность провинциальных парламентских корреспондентов Федерального Собрания РФ. Аудитория многих регионов получает их интерпретацию общегосударственных событий и фактов, особенно в аспекте значения последних для конкретного региона.)
Актуален вопрос о практическом взаимовлиянии СМИ: каждое что-то дает партнерам по системе, что-то заимствует у них. Все это как бы выстраивается в своеобразную систему. Отметим некоторые позиции.
1. Широкий обмен кадрами, кадровая миграция. Совпадение специализированного журналистского образования («газетчик», «телевизионщик», «радист») и рода работы – скорее исключение, чем правило. Большинству журналистов приходится пробовать свои силы в разных СМИ. Это, конечно, обогащает возможности специалиста, но овладеть на достаточно высоком профессиональном уровне особенностями труда в каждом СМИ удается редко. Специализация все-таки нужна, хотя бы «внутренняя» (предпочтение, интерес и т. д.).
2. Информационный обмен, использование радиожурналистами материалов печати, ТВ, Интернета – напрямую и в переработанном виде (например, многочисленные обзоры газет и журналов в разных видах и формах). В свою очередь, материалы радио используются в газетах и журналах (характерна рубрика «Радиоперехват»). Совместная разработка пластов информации (совместные пресс-конференции, популярные интервью радиостанции «Эхо Москвы» в радийном и телевизионном варианте).
3. Проведение общих политических, рекламных, культурных акций, пропагандистских кампаний, проектов, акций и т. д. Они разнообразны по значению и масштабу: от президентских выборов, общенациональных референдумов до «раскрутки» музыкальных групп, выпуска компакт-дисков и т. п. Взаимная реклама продукции, информирование о наиболее значительных явлениях в каждом из СМИ.
4. Обогащение и миграция форм, жанров, методов в системе СМИ в целом.
* * *
На рубеже XXI века одним из самых мощных и действенных контрагентов радиовещания стала глобальная компьютерная сеть Интернет.
Настало время, когда радиостанции, чтобы расширить рамки своей аудитории, достаточно, помимо эфирного вещания, начать его в сети Интернет. К 1998 году в Москве, например, почти не осталось коммерческих FM-радиостанций, равнодушных к этой новой форме распространения программ и передач. Однако точкой отсчета можно назвать 1996 год: в октябре этой формой вещания заинтересовалась радиостанция «Европа Плюс», выпустив в режиме Real Audio программу «FM Достоевский» Артемия Троицкого; в декабре того же года начали вещание в Интернете радиостанции «Серебряный дождь» и «Ракурс».
Прослушивание радиостанции в режиме Real Audio — достаточно простое занятие: не нужно крутить ручку тюнера или настраивать цифровой приемник, надо лишь подключить свой персональный компьютер к Интернету через одного из провайдеров (фирм, предоставляющих полный комплекс Интернет-услуг) и с помощью броузера (программы поиска в сети) Microsoft Explorer или Netscape Navigator набрать адрес сервера: http: // -audio.com - и выбрать среди перечня станций, вещающих в сети, желаемую. При этом сохраняются все основные преимущества радио, а ваши возможности увеличиваются: слушая его через Интернет, вы одновременно можете играть в компьютерную игру, набирать текст дипломной работы или отправлять электронное послание любимой девушке.
Интернет дает возможность быть в курсе всего, что происходит на интересующей вас станции, главное, чтобы был компьютер с доступом в сеть; качество звука при этом будет зависеть лишь от качества динамиков и скорости вашего модема (устройства, соединяющего компьютер с Интернетом).
Кроме вещания в Real Audio практически все московские радиостанции в целях расширения целевой аудитории и более детального изучения ее вкусов открыли собственные ил?й-сайты или серверы (персональные электронные странички). Надо сказать, что некоторые радиостанции можно слушать прямо с их ил?й-сайта, нажав «мышкой» на значок «Real Audio» или табличку с надписью «live internet broadcasting» (живое вещание в Интернете).
На сайте слушатели имеют возможность сами выяснить подробности о том, кто учредил радиостанцию, узнать все о ее формате и рекламных тарифах, увидеть логотип и сетку вещания, выяснить последние новости, рассмотреть лица популярных ведущих, прочитать об их вкусах и пристрастиях и т. д.
Кроме того, слушатель может отправить e-mail (электронное письмо), при желании указав свое имя, возраст и электронный адрес, заказать музыкальную композицию в программу по заявкам (например, на московских радиостанциях «Русское радио» и «Серебряный дождь» подобные заявки рассматриваются в первую очередь, так как электронные письма, в отличие от обычных почтовых отправлений и факсов, доходят до адресата в течение нескольких секунд).
Для своих горячих поклонников некоторые радиостанции создают специальный раздел «Стена». Любители пообщаться через Интернет оставляют там краткое сообщение о себе, свой вопрос или мнение о происходящем на станции, а позже могут прочитать ответ одного или нескольких участников электронных «дебатов».
Помимо официальных ил?й-сайтов (созданных по заказу руководства станции), возникают также неофициальные «странички», которые готовятся поклонниками радиостанции. Эти сайты зачастую наполнены более интересной информацией и фотографиями (например, неофициальный сайт радио «Максимум» во многом любопытнее официального для определенного круга радиофанатов или поклонников той или иной «звезды» современного искусства).
Часто электронные страницы радиостанций начинают жить самостоятельно от вещательных программ. Время от времени обновляется их дизайн: появляются новые картинки, меняются «обои» – фон, на котором располагаются текстовые и фотоматериалы, добавляются новые фотографии, «аудиосэмплы» – примеры джинглов («отбивок» и позывных радиостанции). С помощью специального счетчика посещений, расположенного на главной страничке сайта, можно отследить, сколько человек – потенциальных слушателей или рекламодателей ежедневно «посещают» сервер радиостанции.
Надо заметить, что ряд радиостанций, которые в силу разных причин прекратили вещание в эфире, продолжают свою работу в Интернете. Так, закрывшаяся в декабре 1997 года радиостанция «Ракурс» (792 kHz, СВ) длительное время благополучно продолжала существовать в сети (). Ее поклонники могли ознакомиться с жизнью полюбившихся ведущих, узнать о том, на какие станции они перешли, найти информацию о концертах музыкальных коллективов с участием некоторых из ведущих радиостанции, услышать главный джингл радио «Ракурс» и даже небольшой аудиоролик, в котором популярный ведущий радиостанции Сергей Рымов призывал поклонников не унывать в связи с закрытием станции и просил заинтересованных лиц – бизнесменов и банкиров – помочь «Ракурсу» вновь появиться в эфире.
Интернет расширяет возможности как радиовещателей, так и слушателей, способствуя их более тесному контакту. Вещание в сети и электронные странички с наличием обратной связи (e-mail, раздел «Стена») дают возможность как программным директорам, так и ди-джеям узнать мнение своих слушателей о работе радиостанции, помочь сделать радиопрограммы более интересными и насыщенными, а следовательно, еще более привлекательными для потенциальных рекламодателей.
Функции радиовещания
Слово функция словари трактуют как обязанности, назначение, роль, круг деятельности. Опираясь на это определение, мы и рассматриваем разнообразные функции радиовещания. А так как роль в обществе возложена на радиовещание достаточно ответственная, круг деятельности – очень широкий, обязанности вытекают из того ведущего положения, которое радио занимает в системе СМК, а назначение обусловлено многообразием целей, задач и проблем, стоящих перед обществом, то вряд ли надо тратить много слов на доказательство аксиомы – осмысление и осознание журналистом социальных функций своей профессии помогает ему самому определиться в этом мире и в этой работе. В конце концов формулировка и стратегических задач, и конкретных целей журналистской практики бессмысленны да и безрезультатны вне ориентации в обществе и без понимания своего предназначения. При этом предварительно стоит обратить внимание на такие три фактора, общие для всех возможных функций массового вещания.
1. Радиовещание осуществляет разные функции одновременно, т. е. оно полифункционально. Примеры выполнения одной конкретной функциональной задачи одним конкретным текстом (передачей) в эфире встречаются редко.
2. В практике вещания очень часто проявляют себя дисфункциональные явления, когда реальная деятельность той или иной редакции (вещательной компании, информационного канала и т. д.) противоречит функциональному назначению вещания данного подразделения, а порой и объявленной им цели. (Например, вместо информационного обеспечения аудитории дается дезинформация и т. п.)
3. Жизнедеятельность любого средства массовой информации, в том числе и радиовещания, никогда и нигде не существует вне определенных агитационно-пропагандистских тенденций и тем более не свободна от них. В соответствии с конкретными социально-политическими, экономическими и иными задачами идет подбор информации и комментирование ее в выпусках новостей; с учетом рекламных, воспитательных и других не менее конкретных задач формируются разнообразные художественные и образовательные программы и т. д.
Наконец, важно подчеркнуть, что изменения государственного строя, социальной и нравственной атмосферы выводят на первый план одни цели и уходят в тень другие; соответственно одни функции в определенный период времени занимают доминирующее положение, а другие сходят на нет.
Так, при тоталитарных режимах нивелируется значение информационной функции, просветительских задач, тогда как функции радиовещания, связанные с коллективной пропагандой, коллективной агитацией и коллективной организацией масс, с интеграцией общества, формированием общественного мнения и т. п., становятся превалирующими.
И наоборот, при демократическом развитии жизни общества усиливаются информационная, просветительская и другие функции, связанные с предоставлением аудитории максимального объема разнообразных сведений о жизни, способных побуждать человека к свободному осмыслению событий, а потому – к свободному выбору собственных поступков.
Многочисленные функции радиовещания правомерно сгруппировать следующим образом.
I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ: собственно информационная функция, рекламная, функция просвещения.
II. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ: интегративная функция, функция формирования общественного мнения, общения, воспитательная, агитационно-пропагандистская, организаторская.
III. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: эстетическая, функция развлечения – рекреативная и т. д.
Знание функций радиовещания необходимо для четкого построения сетки вещания, при выборе формата станции, при формировании структуры и содержания вещательных программ и передач и т. п. Остановимся более подробно на описании функций радиовещания.
I. Информационные функции. Все средства массовой информации получили такое название потому, что первым и главным их качеством – тем, ради чего и создавались, скажем, петровские «Ведомости», – была способность удовлетворить информационные потребности личности, общества и государства. Радио распространяет информацию полнее, быстрее, достовернее и эмоциональнее других СМИ. Из общетеоретических курсов по журналистике известно разнообразие толкований понятия «информация». Здесь мы употребляем этот термин в самом узком и конкретном смысле: осведомление людей о событиях в стране и мире, рассказ о новостях. Лишь в этом значении можно выделить собственно информационную функцию радио, поскольку информацией в широком плане является и трансляция театрального спектакля. Попадая в контекст радиопрограммы, любая передача обретает дополнительную информационную окраску благодаря взаимосвязи с другими элементами программы и с событиями дня.
Регулярное получение социальной информации стало для человека необходимым условием полноценного участия его в современной жизни. Информационные выпуски, состоящие из репортажей и устных сообщений о том, что произошло в последние часы в мире или в том регионе, на который вещает данная станция, составляют опорные точки ежедневной сетки вещания. Все остальные радиопередачи располагаются в интервалах между выпусками новостей. Сдвиг выпуска новостей с традиционного места и времени в эфире – событие чрезвычайное, но характерное для переустройства системы массового вещания в конце XX века.
Иногда в выпуски новостей включается прямой репортаж с места события, но это происходит лишь тогда, когда это событие совпадает по времени с выходом в эфир новостей и если каждый момент его достаточно динамичен, красноречив, достоин рассказа (например, Олимпийские игры).
Для удовлетворения потребности людей получать оперативную информацию в концентрированном виде применяются все новые формы ее подачи – «заголовки новостей » перед основным выпуском и после него, сверхкраткие выпуски между другими передачами.
В выпусках новостей принято сообщать о наиболее существенных фактах из сферы политики, а также о событиях, резко отличных от обычного, нормального течения жизни. И уже затем идут новости из области медицины, культуры, науки. Особое место занимают новости спорта. Всегда привлекательны также события вечно длящегося противостояния человека и природы: восхождения, перелеты, глубинные погружения, походы через пустыни, к полюсу. Некоторые радиостанции организуют выпуски биржевых новостей, а также новостей моды (модной одежды, модного стиля в оформлении жилищ и т. п.).
Доступность информации для широких слоев населения, возможность свободного выбора ее источников и уровень информированности считаются признаками благополучия общества и цивилизованности. Спрос на определенную информацию диктуется прежде всего общей политической ситуацией в стране. Во времена политических «стрессов» очень важно информировать общество о том, когда и какие решения приняты, а какие отменены, кто у власти, а кто отстранен, как идут референдумы, выборы – все это влияет на поступки, действия и поведение людей. Политические катаклизмы на уровнях регионов, «горячие точки», в которые втягиваются не только местные жители, но и многие россияне, также требуют оперативной информации.
Во время изменений экономической ситуации в стране информация становится жизненно важной. Необходимо освещать многие постоянно меняющиеся реалии жизни: уровень цен, пенсий, зарплаты, курс рубля, уровень инфляции, правовые нормы. Таким образом происходит расширение зон, сфер и тем информации, ее видов и направлений. Активизируется процесс потребления информации, ее использования и переработки. И здесь специфические возможности радио оказываются незаменимыми: оперативность, вплоть до синхронного освещения события (что расширяет рамки повседневности слушателя); доступность – с точки зрения и технической, и смысловой (информационные выпуски – это передачи «для всех»); благоприятный режим потребления – возможность сочетать прослушивание с другими занятиями (на чем основаны, например, передачи для автомобилистов); возможность передавать звуковую картину событий.
К числу дисфункциональных явлений в программах радио относятся идеологизированность информации, появление рецидивов пресловутых запретных тем и зон, цензуры и самоцензуры; неудовлетворительное поступление информации из провинции; участие радио в информационной блокаде некоторых событий и явлений.
Основной порок такой практики – соединение фактов и мнений, подмена фактов мнениями. Был такой термин – «агитация фактами», т. е. замена фактов агитацией, что в информационном вещании совершенно недопустимо.
Радионовости называют секундной стрелкой истории. Работа этой «стрелки», особенно в горячие часы истории, во многом определяет эффективность радиовещания и общественную потребность в нем.
Рекламная функция радио близка к собственно информационной, но содержит в себе столько специфических особенностей (в целеполагании, стилистике и т. д.), что ее справедливо выделяют как самостоятельную. Реклама нужна, она помогает ориентироваться слушателю в быстро меняющемся сложном мире товаров, услуг, идей, ценностей, дает возможность полезного выбора, принятия разумных решений. Реклама требует от радиожурналиста профессионализма, специальных знаний, способностей и навыков.
Существует мнение, что рекламная функция появилась в отечественном радиовещании только в последнее десятилетие XX века. Однако это не так. Реклама зазвучала в эфире еще с середины 20-х годов (тогда существовало, напомним, акционерное общество «Радиопередача»). Наработан интересный опыт, который заслуживает специального изучения. В начале 30-х годов реклама из радиопрограмм исчезла: не вписалась в идеологическую концепцию КПСС. В дальнейшем (особенно в региональном вещании) появлялись в основном разного рода объявления, но традиция радиорекламы прервалась. Поэтому реклама, особенно в нынешнем ее объеме и виде, представляется явлением принципиально новым.
Средства, полученные от рекламы, помогают функционированию вещательных редакций (станций, программ, рубрик). Для многих негосударственных станций она является главным источником дохода.
Радиореклама, начавшись практически с нуля, к середине 90-х годов буквально захлестнула эфир. Происходит экспансия рекламы как элемента дикого рынка. Сразу обнаружилось множество дисфункциональных моментов: отсутствие четких законодательных норм относительно финансовых вопросов, содержания, качества и количества эфирной рекламы, а также правил и норм её размещения в программах. Появилась проблема скрытой рекламы. Предел дисфункциональности в этой области – простое перечисление конкретных товаров и их цен по общероссийской информационно-музыкальной программе «Маяк» (редакция приняла на себя роль маклера).
Отечественное радиовещание всегда выступало как эффективное средство получения знаний и приобщения к достижениям мировой культуры широких слоев населения. Функция просвещения была особенно важна для страны с огромной территорией, слабыми коммуникациями и первоначально низким образовательным уровнем населения. Сегодня функция просвещения, конечно, видоизменилась, обрела новую конкретику, но познавательные потребности и интересы аудитории, которым и призвано отвечать радиовещание, будут существовать всегда.
В рамках нашей классификации можно выделить четыре группы «просветительских» передач.
1. Передачи, отвечающие общей любознательности, расширяющие кругозор. Они не рассчитаны на получение систематических знаний в той или иной отрасли, но могут стимулировать интерес к изучению проблемы. Редакции имеют возможность приглашать к микрофону крупных, информированных, известных, наконец, просто модных специалистов, обладающих даром общения, хорошо владеющих устной речью. Иногда радио рассказывает о самых последних достижениях науки раньше, чем авторы открытий успевают подготовить соответствующие научные публикации. Слушатели хорошо воспринимают такого рода передачи, нередко даже находятся желающие помочь исследователю.
2. Передачи, распространяющие полезные знания, советы, необходимые большинству (например, в области экологии, права, медицины).
3. Передачи, отвечающие специальным интересам аудитории (для садоводов, коллекционеров, меломанов и Др.).
4. Особо следует выделить программы для слушателей со слабым зрением, не имеющих возможности смотреть передачи ТВ.
Сегодня изменился и набор научных дисциплин, отраслей знаний, которые вызывают повышенный интерес слушателей и занимают соответствующее место в радиопрограммах. Возрос интерес к истории, особенно отечественной, что объясняется не только причинами познавательного характера: историческое сознание масс сделалось полем идеологической борьбы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сейчас в центре внимания находятся такие научные дисциплины и сферы знаний, как экономика, экология, юриспруденция. Они занимают значительное место в программах и вызывают повышенный интерес слушателей. Местное вещание значительно больше времени стало уделять своей истории, культуре, краеведению. Усилился интерес к национальным культурам и языкам. Появилось вещание культурных обществ, диаспор (это относится и к русским, проживающим в ближнем зарубежье).
В качестве дисфункциональных моментов следует назвать: прорыв в эфир значительных пластов низкопробной массовой культуры; манипулирование сознанием (например, историческим); идеологизация; поток псевдонаучных сведений.
II. Функции, обеспечивающие социальное управление обществом. Радио, обладающее уникальными возможностями воздействия на население страны, вполне естественно используется весьма активно как инструмент социального управления обществом. Здесь важно отметить, что речь идет не только и не столько о регулировании общественного поведения сотен тысяч и миллионов граждан и, конечно, не только о возможности радио стимулировать тот или иной поступок людей (например, выйти или нет на демонстрацию, на субботник, заняться тем или иным видом благотворительных работ и т. д. и т. п.). Речь идет о воздействии на глубинные процессы развития общества, именно на те факторы, которые обеспечивают стабильное развитие всей существующей общественной и государственной системы в целом.
Иначе говоря, социальное управление обществом – это не прямой призыв к жителям города выйти на субботник или воскресник по ремонту дорог и уборке территории, а воспитание желания соучаствовать в любой работе такого рода.
Если такая работа СМИ, в том числе и радио, проведена успешно, то в день бесплатных общественных мероприятий агитировать много уже не придется.
Конечно, выйдут на такие работы не все, но большинство пожелавших участвовать в них продемонстрируют успех социального управления в данном общественном кругу.
В работе по социальному управлению радиовещание имеет несколько функций.
Интегративная (консолидирующая, объединяющая) функция. Как известно, журналистика работает или на разрыв конкретного социального организма, или на его преобразование, укрепление. Эти позиции осознанно или неосознанно отражаются в программах радиовещания. В идеале деятельность СМИ должна укреплять общество, семью, а значит, и государственный строй, поддерживать принятую в обществе систему ценностей, уровень культуры, воспитывать личность. Радио по природе своей обладает огромными интеграционными возможностями.
Уже сам факт регулярного и одновременного прослушивания программы разными людьми свидетельствует об их определенной общности, но вещатель должен сознательно работать на ее укрепление. Доминанта вещания – выявление общих для аудитории (общечеловеческих, общенациональных, общеевропейских, общегородских и т. п.) ценностей, обсуждение путей решения общих проблем и противодействие деструктивным, опасным для общества тенденциям.
Чем крупнее и разнообразнее сообщество, на которое направлено вещание, тем внимательнее должны составляться программы, чтобы ни одна часть аудитории не оказалась неохваченной. Помимо национальной и религиозной принадлежности обращают внимание на социальные (в том числе классовые), социально-психологические и возрастные различия людей. Радиоканалы должны стремиться удовлетворить, кроме того, потребность каждого отдельного слушателя идентифицировать себя как с мировым сообществом в целом, так и с определенной группой людей с их специфическими интересами.
Интегративная функция радио решается всеми разделами вещания (публицистика, искусство, спорт, развлечения). Она как бы накладывается на другие функции, частично совпадая с информационной, культурно-просветительской, организаторской, образовательной и другими функциями. Для журналиста, осознанно реализующего интегративную функцию радио, первейшим качеством можно назвать умение объединять в подходе к материалу потребности общества с заботами отдельного человека у радиодинамика.
Ушли в прошлое использовавшиеся ранее приемы консолидирования, сплочения отечественной аудитории путем противопоставления ее остальному миру: «мы»и «они»,причем «нам»приписывались все мыслимые достоинства, а «им» оставлялись исключительно негативные качества.
Известны примеры, когда радио было единственным реально доступным СМИ и служило своего рода социальным и психологическим связующим звеном общества. В качестве положительных примеров можно привести попытки создания общих программ стран СНГ (радио «Маяк»), крупных регионов, подчас раздираемых жестокими внутренними противоречиями, например общеэкологические радиопрограммы Северного Кавказа. В советское время автономные республики России выпускали совместный радиожурнал «Между Волгой и Уралом» (о жизни Татарии, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовы).
В передачах разной тематики, форм и жанров важнее всего сама идея интегративности.
Как дисфункциональные можно отметить следующие явления: размывание сложившейся системы ценностей; криминализация и «дебилизация» сознания; понижение уровня культуры и как следствие – дезинтеграция общества.
Функция выражения и формирования общественного мнения. Ее роль определена возрастанием значения общественного мнения в жизни общества и самой природой вещания, органически связанной с этим феноменом. Среди форм и механизмов проявления общественного мнения следует назвать выборы и референдумы. Во времена политических перемен редакции радиовещания не остаются в стороне от этих событий. А возможности радио в разъяснении смысла, целей и задач подобных акций велики.
Известно, что общественное мнение формируется тогда, когда общество хорошо информировано. Необходимо обеспечивать общество достаточным объемом информации, доступной и понятной массовому сознанию, представлять набор фактов, аргументов и контраргументов. Важно отражать полный спектр, широкий диапазон реальных мнений, существующих в данный момент в обществе (аудитории). К сожалению, эта, казалось бы, очевидная задача очень часто не выполняется (или даже не ставится и не осознается) на практике.
Так, анализ (прослушивание по эфиру) значительного массива передач «Радио России» показал, что в них очень слабо представлены, а иногда и просто отсутствуют целые регионы, слои, значительные социально-демографические группы общества. Значит, и общественное мнение, отражаемое в таких передачах, неполное, усеченное, неадекватное реальному. Тем более это относится к группам, выделяемым по их политическим позициям и предпочтениям, многие из которых не получают доступа к эфиру.
Общественное мнение связано с дискуссионными ситуациями, коллизиями и проблемами. Нет необходимости доказывать, что уровень дискуссионности в нашем обществе за последнее время возрос многократно. Радио отражает эту ситуацию не только содержанием передач, но и выбором форм и жанров. Обсуждение социальных проблем в различных видах и формах занимает значительное место в программах радиостанций всех уровней. Тут и полемика, и дискуссии, и диспуты, и круглые столы с привлечением аудитории к прямому эфиру. Актуальны разработки дискуссионных форм, учитывающих специфику радио, т. е. прежде всего звучащей речи, воспринимаемой на слух.
Но многие правила и требования хорошей передачи нередко нарушаются, что ведет к снижению ее эффективности. Слабо освоен такой вид обсуждения, как диспут. В жизни постоянно происходит столкновение мнений, позиций, порой резких, непримиримых. Одно из правил СМИ в цивилизованном мире – переводить конфликты в план дискуссий, искать точки соприкосновения, общие интересы. Открытый диспут в эфире позволяет слушателям выяснить позиции, точки зрения из первоисточников, сравнить их, узнать сильные и слабые стороны. Общественное мнение в этом случае кристаллизуется (это и есть гласность), возникает возможность взять ситуацию под своевременный общественный контроль, вывести ее из-за кулис. Кроме того, микрофон, профессиональная работа журналистов, присутствие огромной аудитории радиослушателей требует от диспутантов соответствующего уровня обсуждения. Радио и другие СМИ выступают своего рода школой для политиков и аудитории.
В деятельности радио заметно повысилась роль социологии, изучающей общественное мнение. Результаты социологических исследований доводятся до сведения слушателей в виде комментариев, бесед и т. д. Ряд передач строится на выяснении мнения слушателей (с помощью писем, телефонных звонков) относительно отдельных проблем, а также музыкальных групп, исполнителей, песен и т. д. Нередким стало появление у микрофона социологов в качестве ведущих, участников дискуссий, комментаторов, часто в режиме прямого эфира с включением телефонного диалога с аудиторией.
Радиожурналисты освоили некоторые социологические методы, например панельное интервью, когда один и тот же вопрос задается людям (респондентам) на улицах, площадях, вокзалах (иногда с выходом в прямой эфир). Таким образом собираются пробы, образцы мнений по актуальным проблемам, которые дают представление об общественном настроении и являются ярким, эмоциональным элементом передач. В целом журналисты все чаще работают в ключе общественного мнения, некоторые (особенно в программах городского, районного вещания) осваивают нелегкое амплуа лидера мнения. Последнее не обязательно касается сферы общественной жизни или политики. Лидерами мнений в области массовой культуры выступают популярные ведущие музыкальных программ.
Среди дисфункциональных моментов прежде всего следует отметить манипулирование общественным мнением. Силы, которые прибегают к манипулированию, нередко добиваются успеха, но при этом проигрывает общество в целом и сами СМИ, теряя доверие, а с ним и аудиторию. Факт манипулирования становится очевидным по прошествии небольшого отрезка времени. Общественное мнение убеждается, что действовало против собственных интересов, служило средством для достижения чужих целей.
К указанной функции формирования общественного мнения примыкает очень важная функция – функция общения. Возможность радиовещания осуществлять социальное речевое опосредованное общение всегда высоко оценивалась слушателями. В общем жизненном опыте человека все большее место занимает не личный опыт, а «опыт других», т. е. опосредованный, приобретенный в частности из СМИ. Такой вид общения имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые зависят от мировоззренческой и идеологической установки, вещательной политики редакций и профессионального мастерства журналистов. Функция общения приобретает особенно большое значение в период дезинтеграции общества. Стремление к общению как бы защитная реакция различных групп и личностей на этот разрушительный процесс.
Радио в какой-то мере поддерживает разорванные человеческие связи. В них нуждаются миллионы соотечественников, оказавшихся вдали от этнической родины, в странах так называемого «ближнего зарубежья». Многие из них находятся в условиях информационной блокады. Необходима тщательно продуманная вещательная политика на эту многомиллионную русскоязычную аудиторию.
Актуальна проблема общения и для старших возрастных групп аудитории. Разрыв общественных и межличностных связей наиболее остро переживается ветеранами, которым трудно адаптироваться к новым условиям жизни. Своевременными были бы специализированные станции, программы, рубрики (наподобие «Говорят и пишут ветераны», которую много лет назад вел прославленный диктор Ю. Левитан).
Многие люди по разным причинам оторваны от дома и семьи, и радио обязано учитывать эти слои аудитории. Тем более что накоплен богатый опыт подобных передач (например, «Для тех, кто в море»). Не случайно, что одной из старейших рубрик радио была «Полевая почта „Юности“» – для военнослужащих. Меняются поколения, но всегда существует потребность их общения с домом, семьей. Постоянная рубрика – концерты по заявкам (музыка плюс общение в эфире знакомых, близких людей), к которым становятся сопричастными, сопереживающими сотни тысяч радиослушателей, способствует реализации функции общения.
Для современного радиовещания в его функции общения характерны две взаимосвязанные черты: усиление личностного начала и прямой эфир. Большинство программ радио первоначально ориентировано на конкретных ведущих (ведущий и автор обычно выступают в одном лице): «Авторский канал», «Панорама „Маяка“», «Молодежный канал». Сегодня радиослушатели нередко обращаются не в редакцию, а к конкретному человеку, которого привыкли слышать в эфире. Он как бы входит в круг их знакомых, в число тех, с кем им привычно общаться. Прямой эфир – один из способов реализации личности журналиста, способ прямого диалога со слушателем. Последний перестает быть абстрактным слушателем и обретает лицо конкретного человека. Общение происходит обычно по телефону, что, однако, доступно не всем слушателям. Об этом ограничителе прямого эфира не следует забывать и, уж во всяком случае, не делать, как это иногда бывает, на основе нескольких звонков далеко идущих выводов. Известна и такая форма общения, как обмен мнениями, информацией, впечатлениями различных групп, разделенных огромными расстояниями. Ныне это называется «радиомостами», раньше – «радиоперекличками».
Радио имеет возможность формировать образцы общения выбором собеседников (выдающиеся личности, авторитетные специалисты), уровнем обсуждения проблем, манерой вести разговор, реагировать на собеседника, качеством звучащей речи. Но современный эфир изобилует и примерами иного порядка – дисфункциональными. Личность ведущего и установки редакции нередко не соответствуют требованиям грамотного, культурного эфирного диалога. Иногда журналисты перенимают тон, стиль, лексику общения люмпенизированных, а то и криминальных групп. Грешат этим многие ведущие молодежных музыкальных программ, особенно на коммерческих радиостанциях. Но подобный стиль общения, к сожалению, переходит и в государственное вещание, и тогда возникает очередной «эффект бумеранга»: радио само воспитывает аудиторию.
Воспитательная функция радио реализуется при осуществлении ряда других; воспитательную нагрузку в той или иной мере несут многие передачи, программы, рубрики. Это связано с природой самого воспитания – сложного, многостороннего процесса. В течение многих лет радио вносило свой вклад в воспитание личности, отвечающей потребностям определенного государственного строя, системе власти и идеологии. Существовала система ценностей, которая лежала в основе процесса воспитания. Резкий социальный слом поставил сложные проблемы перед воспитательным процессом в целом (и, очевидно, на продолжительный период). Появились передачи, объясняющие суть общечеловеческих ценностей, их происхождение, роль и место в современном мире. Во многих передачах на другие темы присутствует ссылка на этот нравственный комплекс, апелляция к нему как к основной шкале оценки поступков и поведения людей. В идеале именно таким образом и осуществляется воспитательная функция.
Одним из самых важных направлений воспитания стало правовое (отечественное вещание имеет здесь значительные традиции: среди многих передач, затрагивающих вопросы воспитания, можно назвать «Человек и закон» – рубрику, существующую и на радио, и на телевидении). Многие передачи направлены на политическое, экологическое воспитание, на реализацию такой задачи, как воспитание законопослушного члена общества, гражданина. Встает новая для отечественного радиовещания проблема религиозного воспитания, в связи с чем появились специальные радиостанции и программы. Воспитательный посыл имеет большинство передач для детей, подростков, молодежи. Наконец, перед радио стоит задача огромной важности и актуальности – воспитание человека в духе просвещенного патриотизма, без которого не может быть крепкого государства.
Значительная степень дисфункциональности в воспитательной сфере связана прежде всего с противопоставлением различных систем ценностей. Чаще всего противопоставляют «западную ориентацию» мышления и наши отечественные нравственные идеалы. Делается это под предлогами демонстративно патриотическими, но на самом деле за этим кроется стремление к обычной пропагандистской и политической выгоде. Дисфункция в области воспитания аудитории проявляется также в рекламе и утверждении поведения, стиля жизни, нравственных коллизий, противоречащих общечеловеческим духовным и культурным ценностям, а нередко и интересам значительных групп населения (национальным, экономическим и Др.).
Перечисление функций радиовещания, связанных с обеспечением социального управления обществом, целесообразно завершить рассмотрением агитационно-пропагандистской и организаторской функций. О них правомерно говорить, когда перед радиовещанием встают конкретные задачи политического, хозяйственного или культурного характера. Например, данные функции реализуются при обращении по радио с призывом прийти к определенному пункту, чтобы выступить на защиту органов власти или конкретных объектов; при проведении специальных акций совместно с другими организациями и структурами – «Возрождение Волги» на «Маяке»; при организации радиомарафонов с целью сбора средств для благотворительных целей; регулировании автомобильных потоков в городе и т. д.
К рассматриваемым функциям относятся подготовка выступлений в эфире (пропагандистские кампании, радиодискуссии, радиопереклички, прямой эфир, сложные концертные программы с участием многих групп и солистов), а также организация всевозможных внеэфирных мероприятий, свойственных коммерческому радиовещанию. Конкуренция вынуждает проводить множество таких акций.
Принято считать, что пропаганда убеждает, агитация внушает и призывает. Методы разные, цели схожие: добиться определенного поведения, действия. Интересное определение агитации находим у В. Даля: «Народные или сословные смуты, подговоры. Наущенья и волнения. Тревога». Считается, что пропаганда апеллирует к разуму, агитация – к подсознанию («подкорке»). В этом смысле показателен слоган на волнах «Маяка» – песнопение: «Да-да-нет-да». Так диктовались ответы на вопрос всероссийского референдума (то или иное сочетание, по сути дела, двоичного кода выражало определенное мнение и вело к важным политическим решениям). Не очень сведущий в политике избиратель должен отметить в бюллетене комбинацию согласно эфирному сигналу, принятому «подкоркой». Агитационная функция стала главной в выборной президентской кампании в России 1996 года. Генеральный ее посыл был: «Голосуй, или проиграешь». Среди иных приемов можно отметить «Телефон доверия Президенту». В эфире звучал такой текст: «Ваш звонок будет записан и передан лично Президенту России» или «Ваш звонок прозвучит в эфире на всю страну». Для многих избирателей это явилось призывом к действию.
III. Культурно-просветительские функции. Решая многообразные культурно-просветительские задачи, радиовещание выполняет в комплексе сразу несколько функций. Рассмотрим наиболее важные из них.
Эстетическая функция. Можно выделить три аспекта ее существования в современном массовом вещании.
1. Прежде всего, это эстетика лучших образцов радиожурналистики (разумеется, в том случае, если они соответствуют высоким критериям и специфике радио как средства массовой информации и инструмента культуры). К ней относятся яркая образная речь, психологическая острота диалогов, выражающих различные точки зрения, многообразие мышления, логику идей; четко выстроенная звуковая картина событий, позволяющих слушателю в своем воображении представить это событие в мельчайших деталях, и возникающий вследствие этого эффект присутствия; элегантность композиции всей передачи и ее отдельных фрагментов; убедительность «монтажных» переключений внимания аудитории, которые уже сами по себе способны вызывать своеобразный виток ассоциаций; логичное (не формальное, а продиктованное внутренней логикой рассказа) сочетание слова, музыки и шумов. С помощью данного арсенала средств и звукового образа события, явления или человека, радиожурналист может воссоздать у слушателя требуемое представление и вызвать чувственную оценку любого события: от самого грандиозного по масштабам до самого тонкого и на первый взгляд малозаметного.
Художественные и структурные возможности современного радиовещания бесконечно разнообразны. Своеобразие радио как вида творческой деятельности заключается в том, что, обладая достаточно скромным арсеналом выразительных средств (о чем подробнее речь пойдет в следующей главе), радиожурналист имеет в своем распоряжении практически бесконечное число сочетаний этих выразительных средств, позволяющих в конкретных чувственных формах воссоздавать у микрофона и в эфире бесконечные по сложности факты, события и обстоятельства общественного бытия и частной жизни человека.
В современном вещании равные по значимости места занимают и непосредственное вещание (его называют «живой эфир», «прямой эфир») и фиксированное (передача, предварительно записанная на пленку или другой звуконоситель). Эстетика массового вещания развивается в соответствии с эволюцией этих двух направлений. В последующих главах, говоря о методике работы радиожурналиста, мы остановимся на этом подробнее.
2. Радио с момента своего рождения транслирует в эфире произведения разных видов искусств: музыки, театра, литературы. В практике вещания накоплен уникальный опыт аудиоадаптации художественных произведений разных жанров, видов и форм, позволяющий с тонкими подробностями доносить до слушателя идеи и художественные особенности первоисточника. В то же время радио научилось на основе литературных, музыкальных и театральных сочинений создавать аудиопроизведения, представляющие собой некую новую художественную реальность, имеющую самостоятельную духовную и эстетически-технологи-ческую ценность.
Радио накопило опыт разных методов и форм адаптации литературных произведений. Так, скажем, роман М. Шолохова «Тихий Дон» впервые звучал в эфире вскоре после выхода из печати первого тома. Актер читал у микрофона отдельные отрывки романа, не изменяя, разумеется, ни слова.
Спустя несколько лет, в конце 30-х годов, в эфире прозвучали «многосерийные» чтения «Тихого Дона» – также в исполнении одного актера. Но теперь это была уже радиокомпозиция отдельных глав романа, текст которого был перекомпонован специально так, чтобы слушатель обратил внимание на наиболее эмоциональные и значительные ситуации.
Уже в 50-е годы в эфире прозвучала радиоверсия театрального спектакля по роману Шолохова – радиоспектакль, записанный в студии по специально сделанному сценарию, 54 серии «постановочного чтения» «Тихого Дона», где Михаилу Ульянову – единственному исполнителю этого грандиозного замысла – помогали фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского и музыка Дмитрия Шостаковича.
Наконец, появилась и еще одна радиоверсия шолоховского произведения: разные актеры читали своеобразные композиции отдельных глав и фрагментов, причем в распоряжении каждого была одна из сюжетных линий, связанная с судьбой и поступками его персонажа – Григория Мелехова, Аксиньи и других.
Вполне естественно, что эстетические свойства всех этих радиопроизведений, базирующихся на одном и том же литературном тексте, не были схожи. Напротив, каждый из создателей (режиссер, актер, композитор) стремился с помощью текста романа выразить свое мироощущение, свое представление о прекрасном и уродливом, о добре и зле, о справедливости и незаслуженных обидах, наконец, об исторической правде и социальной лжи.
В качестве подобных примеров можно назвать и коллекцию звукозаписей по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», а также циклы передач по целому ряду других замечательных произведений отечественной и мировой классики.
Записи лучших театральных работ московских и периферийных театров в течение многих лет давали слушателям возможность не просто ознакомиться с наиболее интересными работами драматургов, режиссеров, актеров, но и проследить многообразие их творческих поисков, сложную и, как правило, плодотворную творческую историю отечественной драматической и музыкальной сцены. Вся художественная палитра российского театра была представлена в программах радио. Исключения из этого правила были связаны с цензурными запретами: так, существовало вето на передачу в эфир тех спектаклей и театров, которые партийная власть считала неблагонадежными.
Рубрика «Театр у микрофона», во многом определяющая «лицо» нашего радиоэфира, уже к 1935-1936 годам заняла прочное место в программах радио.
Для повышения качества таких программ к составлению «монтажей спектаклей» привлекались авторы пьес. Переработки своих драматургических сочинений для радио делали многие выдающиеся мастера этого жанра. Однако в списке имен радиоавторов нет М. Булгакова, И. Бабеля, В. Шкваркина, М. Зощенко, чьи пьесы занимали достойное место в столичном репертуаре. Из числа классиков на радио были исключены также Ф.М. Достоевский, А.К. Толстой, Леонид Андреев, хотя на сцену в это время их произведения допускались практически без ограничений. Политизация вещания выражалась в усилении идеологической цензуры, во все увеличивающихся списках «нежелательных авторов» – начиная с декабря 1934 года эти списки появились на радио официально. Даже в 70-е и 80-е годы в распоряжении программных редакторов Гостелерадио была целая папка с рекомендательными списками по поводу «своих» и «чужих» (идейно полезных и идейно вредных) авторов, названий и даже исполнителей. Это дорого обошлось нашей культуре и радиовещанию в частности. Не были записаны на пленку ни один из театральных шедевров В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова, С.М. Михоэлса, нет записей «раннего» Г.А. Товстоногова, создавшего в 60-е годы один из самых интересных театров России – ленинградский Большой драматический, не существует на пленке ни лучших работ молодого «Современника», ни первых спектаклей Ю.П. Любимова в театре на Таганке. Многое осутствует в фондах нашего радио, в музейных, театральных и звуковых архивах из-за объяснимой условиями жизни в СССР трусости редакторов радио, из-за их покорного следования идеологической догме: только оправданное политическими и пропагандистскими целями искусство достойно распространения и тем более фиксации на пленке для грядущих поколений.
Поэтому, несмотря на то что «золотой фонд» литературно-художественного вещания на отечественном радио насчитывает более 200 тысяч наименований, в нем навсегда останутся обидные пробелы.
С начала 90-х годов количество литературно-драматических программ – как «чтецких», так и постановочных – значительно сократилось. Резкое «дробление» сетки вещания, отказ от необходимого для передачи спектакля хронометража (более часа), перемена ритмов вещания и причины экономического характера привели к тому, что кое-кто из практиков радио пришел к выводу о неперспективности литературно-драматических программ и о «естественной» смерти этого направления вещания.
К концу 90-х годов наметилась, однако, и обратная тенденция. Коммерческие станции стали возрождать и «Театр у микрофона», и радиотеатр. Сначала микроскопическими дозами: многосерийный спектакль разбивали на несколько десятков передач по 8-12 минут каждая. Потом обратились и к традиционным радиопроизведениям, главным образом к детскому радиотеатру из фондов радио. Популярнейшая в столице станция «Эхо Москвы» совместно с Телерадиофондом подготовили заново к эфиру несколько десятков передач детского научно-образовательного радиотеатра из циклов «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП» и «Страна Литературия» 1960-1970-х годов, милых сердцу нескольких поколений россиян. В самом конце 1998 года в ночном эфире ряда коммерческих станций появились первые программы новой волны историко-биографического радиотеатра – драматизированные биографии знаменитых людей. Некоторые из таких передач занимали в эфире по полтора-два часа. Это отвечает потребности людей, которым надоела «попса» и которые хотят приобщиться к вечным необходимым для сохранения России ценностям.
«Золотой фонд» музыкального вещания насчитывает также сотни тысяч фонограмм, которые, попадая в умелые руки при подготовке самых разных художественно-просветительских программ, оказывают большое влияние на формирование эстетических взглядов и вкусов всех слоев аудитории.
Не секрет, что популярность любого эстрадного актера в 80-е и 90-е годы зависела прежде всего от количества его выступлений по радио и телевидению. Концерты в эфире пробуждали тот общественный интерес к исполнителю, от которого напрямую зависела продажа его дисков и кассет, наполняемость зрительных залов. Радио всегда влияло и будет влиять на эстетическое развитие населения, и более того – определенным образом управлять этим процессом.
3. Свои оригинальные образцы аудиокультуры радио вырабатывало в течение многих десятилетий и достигло в этом больших успехов. Практически нет ни одного вида или жанра литературы, театра, музыкального театра, который не имел бы интересного аналога в искусстве незримой радиосцены. Радиопоэмы и оратории, фельетоны и очерки, оригинальные радиопьесы всех жанровых направлений: трагедии, психологические драмы, комедии, фарсы, радиоцирк и радиооперетта, и даже радиобалет как жанр с весьма определенными эстетическими критериями с большим трудом, но утвердились в эфире. К этому вполне естественно прибавить «устные радиомемуары», «звуковые книги».
Таким образом, радио многолетней и многообразной практикой своего существования доказало, что оно не просто ретранслятор различных видов творчества, но самостоятельная и равноправная с другими область культуры. К сожалению, иногда об этом забывают и сами работники радио – понижается требовательность к основополагающим характеристикам радиопроизведений (обеднение устной речи, проникновение ненормативной лексики, иностранных слов и выражений, специальных терминов, большей частью непонятных массовой аудитории). Однако все эти негативные явления имеют преходящий характер, ибо зависят от социально-экономических условий работы радио.
Функция развлечения (рекреативная функция) естественна для радио, так как оно не может не откликаться на стремление человека к отдыху, разнообразным интеллектуальным играм и развлечениям, которые должны заполнить время, свободное от работы или учебы. Большинство развлекательных, или рекреативных, радиопрограмм находится, как правило, за пределами журналистики. Тем не менее документальная радиодрама, познавательные радиооткрытки и подобные им передачи, граничащие с публицистикой, несут в себе заряд не только познавательный, но и чисто развлекательный. Не случайно на заре отечественного вещания среди других предназначений в нем видели и «средство для культурного развлечения трудовых масс», а потому в структуру радиогазет непременно включались веселые викторины, частушки, различные музыкальные номера, лишенные жесткой идейно-пропагандист-ской направленности.
Сегодня многие коммерческие станции привлекают слушателей именно своими развлекательными программами. Сформировав таким образом свою постоянную аудиторию, можно увереннее вводить в сетку вещания информационные и рекламные выпуски. Но развлекательность (она же привлекательность) должна в принципе присутствовать в большинстве передач – вопрос в художественном уровне, во вкусе и такте при подборе художественного материала. Развлекательным целям более всего отвечают музыкальные подборки, не требующие от слушателя ни сосредоточенного внимания, ни глубокого сопереживания. Обычно это фоновая музыка – музыка, создающая определенное настроение.
Другая группа развлекательных передач связана с игровыми формами: конкурсами, соревнованиями, викторинами, выиграв которые слушатель может получить, как правило, не только эмоциональное удовлетворение, но и материальный приз. Причем чем крупнее станция, тем выше стоимость этого приза, вплоть до дорогой туристической поездки, автомобиля, бесплатной путевки в модный респектабельный круиз и т. п.
Подборки занимательных фактов, веселых исторических анекдотов составляют еще одну группу развлекательно-познавательных передач, постоянно существующую в эфире многих станций.
К чисто развлекательной продукции относятся трансляции и записи различных конкурсов и концертов. В принципе, адаптация такого концерта к передаче в эфир считается редакторской работой, но журналист, ведущий конкретную передачу, становится ее полноправным участником, если «входит» в нее на правах интервьюера «звезд», участвующих в передаче, или на правах комментатора их рассказов.
Как известно, юмор – обязательное свойство ведущего развлекательных программ. К сожалению, стремление быть абсолютно раскованным в эфире очень часто приводит к нежелательному, негативному результату: свобода выражений граничит с грубостью, свобода интонаций превращается в хамство, а желание «элегантно» пошутить – в малограмотную бестактность по отношению или к объекту шутки, или к самой аудитории. Дело в уровне личности работника эфира.
Слово «рекреация» происходит от лат. recreatio (букв, восстановление) и означает отдых, восстановление сил человека, израсходованных во время работы. Отдых для каждого человека – вещь сугубо индивидуальная, требующая бесконечного разнообразия форм, способов, методов, условий и обстоятельств. Столь же разнообразными должны быть и развлекательные программы, если их авторы и участники хотят привлечь как можно больше слушателей.
Эстетическая основа радиовещания
Радиовещание осуществляется в звуке и только в звуке. Акустичность радио, наряду со способом доставки его сообщений, составляет сердцевину специфики этого средства массовой коммуникации. Здесь заложены большие возможности, но проистекают и некоторые ограничения радиовещания.
Язык коммуникации определил каждому из средств массовой информации в соответствии со способом их реализации свою нишу в сознании человека, используя его наиболее емкие рецепторные каналы – зрение и слух.
Говоря о содержании термина «радиоязык», неверно отождествлять его с одним из его составляющих – только со словом. Значение термина «радиоязык» значительно шире, оно охватывает сложную структуру звуковых элементов, формирующих содержание и структуру любого радиосообщения, т. е. включает в себя как равноправные речь, музыку и шумы. В теории массовой коммуникации существует и другая концепция. Ряд ученых определяют речь как человеческий артикулированный язык, музыку как непосредственный язык чувств и шумы – как неартикулированный язык вещей, механизмов и живой природы. В профессиональной радиотерминологии есть термин «звуковое включение», он охватывает все звучания, транслируемые не из студии, а записанные на пленку или непосредственно передаваемые с места события.
Человек живет в мире звуков и зрительных образов, и на первых порах своего существования массовая коммуникация востребовала лишь малую долю возможностей его аппарата восприятия. Известно, самую большую часть информации люди получают при помощи зрения, путем прямого наблюдения окружающей действительности; почти две трети времени своего бодрствования они проводят в речевом общении, причем в три раза больше говорят и слушают, чем читают и пишут. Поэтому возникновение аудиовизуальных массовых средств – радиовещания, а позже и телевидения – распахнуло аудитории дверь в полифонию и многоцветие звучащего и видимого мира, прорвавшегося сквозь абстракцию письменного и печатного описания, открыло человеку возможность более естественных способов получения информации. Следует отметить, что появление электронных каналов, кроме известных научно-технических и социальных предпосылок, было вызвано также и психологическими потребностями общества.
«Наше привычное жизненное окружение наполнено звуками, -отмечал теоретик кино Зигфрид Кракауэр. – Хотя мы способны длительное время не замечать их, наши глаза не воспринимают ни одного предмета без того, чтобы в этом процессе не участвовало ухо. Наше представление о повседневной действительности создается из непрерывного смешения зрительных и звуковых впечатлений. Полной тишины практически не существует. Глухая ночь наполнена тысячами шумов, но, даже не будь их, мы все равно слышали бы шум своего дыхания. Жизнь неотделима от звука. Поэтому выключение звука превращает мир в преддверие ада – таким он кажется людям, пораженным внезапной глухотой. По описанию одного из них „ощутимая реальность жизни вдруг исчезла" ».
Звук, звуковое общение обладают богатейшими возможностями воздействия на рациональную и эмоциональную сферы человеческого сознания. Ораторы, поэты, музыканты, педагоги, психологи с давних времен и до наших дней анализировали механизмы звукового воздействия на слушателей, пытаясь разобраться в них. Мастера красноречия древности разрабатывали риторику, церковники средних веков создавали свою гомиолетику – свод правил об эффективном проповедничестве, лингвисты занимались ортологией и орфоэпией – науками о правильной и благозвучной речи. Писатели, творцы печатных, казалось бы, «немых» произведений тоже не могли не учитывать закономерностей звучания. И.А. Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, он должен был «найти звук»: «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой». Что это значило для него? Видимо – найти «строй», темпо-ритм, основное звучание, соразмерность частей произведения, ибо проза так же обладает внутренней мелодией, как стихи и музыка, и ее восприятие тоже подчинено законам звуковой гармонии.
Психологи и лингвисты отмечают, что все слова при «немом» чтении проговариваются внутренним голосовым аппаратом человека, как бы обрастая звуковой плотью. Но процесс «немого» чтения при всех его преимуществах – возможности читателя выбрать удобный для себя темп восприятия, сделать паузу для осмысления, вернуться к прочитанному и т. д. – не обладает доступным устному изложению феноменом, который в общении решает если не все, то очень многое, – возможностью передать интонацию творца, автора, которая несет не меньше смысловой нагрузки, чем сам текст.
Ираклий Андроников точно заметил: «В устной речи, то, как человек сказал, превращается в то, что он сказал». Этот мастер устного рассказа, прозорливо увидевший новые перспективы, открываемые перед литературой аудиовизуальными массовыми средствами – радиовещанием и телевидением, писал о назревшей потребности появления «звуковых книг»: «Я верю, что скоро рассказывание станет для многих привычным жанром. И писатели будут выпускать „говорящую литературу“».
Голос – тончайший инструмент межличностного общения. Вот почему в звучащей речи слово несет в себе неизменно больше эмоциональной и семантической информации (впрочем, эти две стороны сообщения испытывают непрерывное взаимовлияние), чем в речи письменной: ведь звучание позволяет словесным образам воплощать и передавать чувства, переживания и настроения непосредственно, интонационно, подобно тому как это делает музыка.
Звуковые сообщения способны производить в человеческой психике, подсознании и сознании потаенные, скрытые, внутренние эффекты, механизм которых еще не до конца познан наукой. Они активизируют сферу воображения. Эвфония (звукопись), которая широко использовалась, к примеру, в поэзии символистов, создавала впечатление окрашенности поэтического текста. Известно явление синестезии (соощущения), когда в акустическом восприятии активизируется зрительный ряд, возникает «цветной слух», переживаются цветовые ассоциации (здесь можно вспомнить искания русского композитора Скрябина), причем такие ощущения способны вызывать не только музыкальные произведения, но и вербальные сообщения. Чрезвычайно важны и активно изучаются в наше время средства, сопровождающие речь, но не относящиеся к языку, которыми занимается паралингвистика: это мелодика, паузы, звуки-«заполнители», речевые жесты и другие.
Неисчерпаемость проблемы звукового воздействия продемонстрировали экзотические открытия последних лет: в США и Японии были выпущены музыкальные магнитофонные кассеты с параллельно записанным низкочастотным звучащим текстом, не уловимым для слуха, но воспринимаемым на подсознательном уровне. В Америке принудительное внушение с помощью периодически повторяемого библейского призыва «Не воруй!» осуществлялось в крупных супермаркетах, в результате чего число краж в магазинах сократилось, по сообщениям печати, на 40 процентов. В Японии голос на кассете убеждает людей соблюдать диету, учит быстро читать и дает знания иностранных языков во сне, преподает навыки преодоления стресса и т. д. Такие кассеты пришли на рынок, потому что внушением по собственному желанию заинтересовался потребитель.
Современный человек существует в мире звуков, порожденных жизнью. Электронные массовые коммуникации выхватывают их из ее бурного потока и превращают в некие акустические символы-сигналы, сочетания и комбинации которых, благодаря новому уровню тренированности сознания, пробуждают у человека обширные пласты представлений и ассоциаций, активизируют глубокие сферы освоения им смыслов и эмоциональных переживаний без участия слова. Радиовещанию в этом процессе принадлежит одна из главных ролей.
Технологические и экономические основы радиовещания
Возникновение отдельных средств массовой коммуникации и образование их системы происходило в историческом процессе взаимовлияния двух факторов: социального, как следствия расширения и усложнения информационных потребностей общества, и научно-технического, как следствия освоения новых способов передачи информации и контакта с массовой аудиторией. (Так, кинематограф не мог бы возникнуть ранее конца XIX века – для него не было аудитории, скопления людей в городах в результате развития промышленности.) Последний фактор – способ передачи сообщения, природа СМК – имеет важное значение для рассмотрения специфики каждого из средств массовой коммуникации, их возможностей и места в системе.
Технические средства радио – передатчик, вспомогательное студийное оборудование, физическая среда (эфир, провода), приемник. Способ осуществления контакта со слушателем – преобразование микрофоном звуковых сигналов в электромагнитные колебания с выходом их в эфир или в проводную сеть и последующим обратным раскодированием в приемнике получателя. Передача радиостанцией и прием сообщения аудиторией радио симультантны, т. е. одномоментны.
Фиксированности сообщения на радио для слушателя не существует (если не считать возможности аудиозаписи), и это во многом определяет специфику радиовещания и журналистики радио. Передача предназначена, как правило, для однократного восприятия в момент прохождения в эфире, что коренным образом меняет процесс и условия восприятия аудиторией радиосообщения по сравнению с печатным текстом, определяет структуру и способы такого сообщения.
Доставка аудиоматериала адресату заложена уже в самой технической природе радио: от коммуникатора напрямую без посредника в любую точку пространства и в любой момент времени обладателю радиоприемника, что обеспечивает радиовещанию самую высокую в системе СМК оперативность сообщений и проникающую способность в охвате массовой аудитории.
Надежность доставки (на радио имеет хождение профессиональный термин «покрытие территории») определяется мощностью передатчика, высотой и расположением передающей антенны, наличием наземных или космических ретрансляторов, частотными характеристиками вещания. Последний фактор особенно важен потому, что в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн несущий сигнал распространяется по-разному.
С надежностью доставки связано употребляющееся в мировой практике выражение «устойчивое вещание ». По принятым стандартам такое вещание осуществляется, как правило, в масштабах общегосударственных каналов радиостанциями большой мощности в средне– и длинноволновом диапазонах. Эти диапазоны обеспечивают распространение радиоволн, способных огибать кривизну земной поверхности и распространяться на значительные расстояния, покрывая большие территории. В комплексе с наземными и космическими ретрансляторами именно в этих диапазонах работают основные радиоканалы. Их программы для улучшения качества приема и повышения проникающей способности часто дублируются в ряде мест в диапазоне УКВ-FM (там, где имеются такие передатчики).
В ультракоротковолновом FM-диапазоне радиосигнал принимается в пределах прямой видимости антенны радиопередатчика (подобно телевизионному сигналу), и потому УКВ-станции и станции FM-диапазона обеспечивают преимущественно местное вещание. Соединенные ретрансляторами, они могут образовывать общенациональные и региональные сети. Достоинства таких станций – высокая помехозащищенность сигнала и хорошее звуковое качество передач, в том числе и стереофонических, недоступное для более «дальнобойных» СВ, ДВ и КВ.
Исторически сложилось так, что диапазон УКВ-вещания оказался как бы поделенным: российская отечественная приемопередающая аппаратура работала в одной части этого диапазона – нижней, а западноевропейская – в другой, верхней части. Так называемое «FM-вещание» (от гит a. frequence modulation, «частотная модуляция»), получившее в России широкое распространение в 90-е годы, как раз и относится к западноевропейскому стандарту и означает расширение привычного для нас диапазона УКВ, приобретающего сейчас особое значение.
На частотах УКВ начали вещать первые российские коммерческие радиостанции «Европа Плюс», «М-радио» и некоторые другие. Новые станции, появившиеся в 90-е годы, используют стандарт FM-диапазона. В связи с этим происходит замена российского парка радиоаппаратуры на импортную и модернизированную отечественную, способную работать во всем объеме УКВ-FM-диапазона.
Наименее удобен для целей массового вещания коротковолновый диапазон. Правда, коротковолновый радиопередатчик даже сравнительно небольшой мощности способен передать сообщение на расстояние в десятки тысяч километров, так как его волна распространяется скачкообразно, попеременно отражаясь от располагающейся на большой высоте ионосферы и от поверхности земли, но такое вещание неустойчиво, поскольку качество приема зависит от многих труднопредсказуемых факторов: состояния ионосферы, солнечной активности и др. Образуются «глухие» зоны, где прием оказывается невозможным. Высокий уровень помех ведет к периодическому затуханию сигнала. Кроме того, может мешать так называемый «фединг» - смещение, «плавание» сигнала по частоте на шкале радиоприемника во время передачи. Поэтому радиопередачи на коротких волнах можно отнести, скорее, к области радиосвязи или так называемого «специального вещания» на локальную аудиторию, а также любительского, сверхдальнего. В годы существования «железного занавеса» короткие волны были единственной возможностью для слушателя в СССР принимать зарубежные радиопередачи.
Основной принцип вещателя, как и коммуникатора любого другого массового канала, – минимизация усилий аудитории на доступ к информации. С точки зрения технического обеспечения доставки сообщений для радиовещания это означает, что в любом месте расчетной «покрываемой» зоны сигнал станции должен быть мощным и устойчивым, чтобы мог без помех приниматься на любой бытовой приемник и обеспечивать аудитории комфортное прослушивание передач.
В нашей стране в течение нескольких десятилетий активно развивалось проводное вещание, т. е. защищенный от внешних помех способ доставки радиопрограмм массовой аудитории по трансляционной проводной сети. Этот способ вещания в таких больших масштабах не использовался нигде в мире, кроме СССР. Широкое развитие в нашей стране ему обеспечили, прежде всего, идеологические и политические соображения коммунистического руководства: создать надежное средство централизованной оперативной информации и пропаганды с учетом дешевизны простых приемных устройств – репродукторов в условиях относительно невысокого уровня жизни населения, ограничить свободу выбора слушателями источников сообщений и в особенности исключить источники зарубежные. Немаловажным фактором была также возможность использовать проводную радиосеть для целей гражданской обороны в экстремальных ситуациях, что и было масштабно реализовано во время войны против фашистской Германии.
Затраты на техническое функционирование канала и производство программ (не случайно перечисление дано именно в такой последовательности) составляют основные статьи расходов и оплачиваются вещателем.
Особенность доставки радиосообщения состоит в том, что оно не может быть «продано» конечному потребителю-слушателю как специфический товар, к примеру как номер газеты или журнала, за исключением случаев с «подписными» кабельными радиоканалами. Затраты станции на доставку передач (профессиональный термин «распространение сигнала») - и их производство в современных условиях очень велики. Вероятно, эти затраты невозможно покрывать взиманием абонентной платы с аудитории. Дело в том, что очень сложно определить понятие «объем пользования», в которое входят время прослушивания тех или иных радиостанций, ориентация на них населения, количество средств приема – радиоприемников, находящихся в распоряжении отдельного слушателя или семьи (как правило, их больше одного: домашние транзисторы, приемники в автомобилях, приемники, встроенные в музыкальные центры, магнитолы, будильники, плейеры и т.д). Влияет на эту ситуацию также и то обстоятельство, что для радио, в отличие от телевидения, не требуется специального, сложного технического сооружения у пользователя – большой приемной антенны, т. е. отсутствует звено, в котором пользование сигналом может быть уловлено и проконтролировано.
Теоретически возможно, и такое положение существовало в СССР после отмены абонентской платы, взимать дополнительную сумму, включенную в цену радиоприемников, в качестве разовой формы оплаты работы радиовещания населением. Собранные таким образом средства в виде отчислений могут быть направлены на нужды радиовещания. Однако при этом возникают вопросы, на которые в нынешних условиях нет ясного ответа: на нужды какого именно радиовещания и в каких пропорциях? При наличии в эфире большого количества финансово самостоятельных станций и разной степени их популярности у аудитории решению этой проблемы, вероятно, не помогут никакие рейтинги. Разве что отдавать все деньги «бедному» государственному, или общественному, радио.
Приходится считаться как с данностью, что переданное в эфир радиосообщение представляется как бы неоплачиваемым аудиторией, всеобщим достоянием. Экономика радиовещания строится на несколько иных основаниях, чем экономика печати, где определенная часть затрат покрывается рекламой, подпиской и розничной продажей.
Основными источниками средств для государственных каналов радио являются бюджетные ассигнования, доходы от рекламы и некоторых форм деятельности – таких, к примеру, как коммерческое использование своих звуковых программных фондов, подготовка заказных передач и т. д. Коммерческие радиостанции существуют на доходы от продажи вещательного времени, рекламы -одной из разновидностей такой продажи, – на спонсорские субсидии и за счет попутного маркетинга (печатные, звуковые издания и Др.). Но бесплатность радио для аудитории только кажущаяся. В итоге каждый член общества, каждый радиослушатель финансирует и государственные, и коммерческие каналы: впрямую – за счет поступающих в бюджет государства налогов, косвенно – через надбавки к ценам на товары и услуги, компенсирующие рекламодателям затраты на их радиорекламу.
Радиовещание и аудитория: особенности контакта
Среди всех каналов массовой коммуникации радиовещание обладает самой высокой проникающей способностью. По масштабу охвата населения и значимости в жизни людей с ним трудно конкурировать не только газетам, но и родственному электронному средству – телевидению. Радиовещание остается надежным спутником в жизни человека, естественной средой его повседневного существования даже в условиях, затрудняющих или исключающих контакт с миром с помощью других способов общения.
Способность радиовещания включать в сферу своего действия огромные массы людей, возникшее с его появлением качественно новое освоение пространственных аудиторных возможностей связаны с рядом факторов физического и психологического характера, присущих природе радио:
– во-первых, это свойство электромагнитных колебаний (волн), несущих сообщение, проникать в любую покрываемую передатчиком точку пространства, т. е. то, что можно назвать вездесущностью радиовещания;
– во-вторых, компактность и мобильность на современном уровне электроники приемных устройств, которые, обеспечивая стабильное и достаточно высокое качество приема, могут сопровождать человека в любых условиях его жизнедеятельности практически круглосуточно.
Характер контакта радиовещания и аудитории не был всегда одинаков, он исторически менялся. В нашей стране прослушивание радио первоначально происходило в коллективной форме – в избах-читальнях, клубах, на улицах и площадях. Оставшееся в наследство от тех времен слово «громкоговоритель» не случайное. Радио действительно было «вещанием» – громким, трибунным, площадным. В истории западных стран радио такого типа не существовало, там оно с самого начала адресовалось в дома населения, было семейным, каковым стало и у нас на рубеже 40-50-х годов. Сейчас понятие «семейного СМК» более справедливо для телевидения, но уже не полностью отвечает ситуации в области радиовещания. Сегодня радиоприемник вышел из стен квартиры, он стал мобильным и компактным. Появление и количественный рост СМК персонального приема (а иные из них теперь размером со спичечный коробок, с миниатюрными наушниками), все более становящихся повседневной принадлежностью, поставило радиовещание перед перспективой ориентации на отдельного, индивидуального пользователя.
Изменение характера обращенности к аудитории повлекло, особенно в последние годы, изменение стилистики вещания и уточнение содержания радиопередач: с одним собеседником, разумеется, нельзя общаться так, как с группой людей, скажем, на многотысячном собрании.
Радиовещание сегодня адресует свои передачи многочисленной аудитории, которую можно разделить на две категории. Первая -это потенциальная аудитория. Она включает всех слушателей, которые находятся в зоне «охвата» станции и имеют возможность принимать ее программы. Вторая – реальная аудитория. Это та часть слушателей, которые ориентированы на данную станцию, постоянно настраивают свои приемники на ее волну и считают станцию (по субъективным причинам) «своей». С появлением каждой новой радиостанции у нее сначала возникает потенциальная аудитория, что обусловлено чисто техническими причинами; но в качестве главной задачи в этот же период выдвигается борьба и за реальную аудиторию. И здесь на первом плане оказываются факторы уже не технического, а творческого порядка, от которых зависит привлечение к станции общественного интереса, создание и постоянное расширение устойчивого круга ее слушателей. Размеры реальной аудитории определяют значение, вес, авторитет радиостанции – ее социологический рейтинг, существенный в политическом и коммерческом отношениях.
Каковы же основные особенности контакта радиожурналиста и аудитории?
1. Аудитория радио рассредоточена в пространстве. Адресованная множеству людей, сотням тысяч, а иногда и миллионам, радиопередача воспринимается слушателем индивидуально или в малой группе из двух-трех человек. Поэтому журналистский разговор со всеми становится одновременно разговором с каждым в отдельности. Преодоление этого объективного противоречия между массовой направленностью и индивидуальностью приема радиопередачи является одним из важных критериев профессионализма радиожурналиста и требует, с одной стороны, умения говорить на языке потребностей и мотивов поведения всей аудитории, выбирать темы и содержание, актуальные для нее, а с другой – особого стиля общения: не пафосно-декламационного, не официально-делового, не панибратски амикошонского, как это иногда бывает, а доверительно-межличностного, уважительного по отношению к собеседнику – слушателю.
2. Аудитория радио не просто рассредоточена в пространстве, она рассредоточена и психологически. Включающие приемник оказываются в поле действия передачи как бы случайно, чаще без сложившейся предварительной установки на восприятие хотя бы в той степени, какая бывает у телезрителей, начинающих смотреть выбранную передачу после ознакомления с программой. Если публично выступающий оратор имеет дело с аудиторией, уже заведомо представляющей собой некое психологическое единство в связи с причиной, которая и побудила ее собраться вместе, то положение «входящего в дом» радиожурналиста сложнее – в самом начале своего сообщения ему предстоит каждый раз создавать и вызывать этот мотив заинтересованности у своих слушателей, чтобы привлечь и удержать их внимание.
3. В радиоаудитории слабо и не всегда работает фактор обратной связи, как это имеет место, например, в театре, на концерте или на публичном выступлении, где иногда, с помощью умелого воздействия на часть слушателей, можно активизировать и «захватить» сразу всю аудиторию. Слово радиожурналиста должно дойти до каждого в отдельности, кто находится у радиоприемника, и эффективность его работы будет измеряться суммой индивидуальных впечатлений слушателей.
Аудитория радио находится в состоянии одностороннего контакта с источником сообщения. Отсутствие или затрудненность обратной связи в момент передачи – естественный признак любого средства массовой коммуникации, поскольку они побеждают пространство и время лишь ценой потери непосредственного контакта со своими адресатами. Существующие формы обратной связи -письма, телефонные звонки, анкеты и другие – представляют собой, как правило, «отсроченную» реакцию, отклик на уже состоявшийся коммуникационный акт. Исключение составляют передачи типа «горячей линии» («интерактивное радио»), в которых слушатели благодаря телефону становятся непосредственными участниками общения с человеком у микрофона. Журналист, как правило, лишен возможности непосредственно корректировать свои средства воздействия на слушателей, сообразуясь с их восприятием сообщения в момент самого контакта. При этом ему приходится полагаться на имеющийся коммуникационный опыт, на свое представление о возможном и ожидаемом результате воздействия на аудиторию. Такое постоянно действующее косвенное влияние слушателей на журналиста является, по сути, скрытой обратной связью и основным внутренним регулятором в его творческой деятельности. Радиовещание, как, впрочем, и другие средства СМК, постоянно ощущает отсутствие обратной связи как свой «недостаток» и стремится к его преодолению, создавая эффект слушательского соучастия – в значительной мере, иллюзию двустороннего общения – различными способами: соответствующей стилистикой, манерой подачи материала, его диалогичностью.
4. Аудитория радио значительно более разнородна, чем круг читателей газет и журналов. Очевидно, что читатели, выписывающие или покупающие то или иное печатное издание, в чем-то схожи, имеют нечто общее между собой – по социальной или профессиональной принадлежности, образованию, возрасту, интересам, по психологической предрасположенности получать информацию именно таким образом, по определенному опыту и навыку чтения данного периодического издания. Исключая людей, которые по роду занятий должны регулярно просматривать много изданий, подавляющее большинство читателей ограничивается одним-двумя из них, к которым привыкло. Однако, становясь радиослушателями, люди в поисках интересной для них программы могут в считанные минуты «перелистать » десятки станций, находящихся на шкале приемника. Поскольку, как уже было сказано, одной из главных задач радиостанции является максимальное расширение реальной аудитории, причем с учетом конкуренции других станций, – ее передачи должны ориентироваться на достаточно широкий и различный состав слушателей.
Существенное значение для выбора приемов установления и поддержания контакта с аудиторией имеет программный тип радиостанции (за рубежом используется эквивалентный термин формат станции), в котором определена расчетная аудитория, предметная область, стилистика вещания, направленность и тематический характер программ. К примеру, очень широкий программный тип «Радио-1» или «Радио России», который можно обозначить, как «радио для всех и обо всем», предполагает в качестве слушателей практически все население страны. Несколько другая, более узкая направленность у «Маяка» – «информационно-музыкальная программа для взрослой аудитории», у «Молодежного канала» – «передачи широкого профиля для молодежи», московская станция «Авторадио » в соответствии со своим названием ведет передачи для слушателей-автомобилистов.
Восприятие радиопередачи – динамичный процесс, находящийся под влиянием многих психологических факторов.
В рассуждении на эту тему прежде всего следует отметить, что слушание радио для аудитории, как правило, не только не единственное, но чаще всего второстепенное занятие (это естественное природное ограничение радио – одновременно и его достоинство) и что «слушать» не обязательно означает «слышать».
Обычно выделяют следующие типы слушания радио.
Поисковое - когда слушатель, вращая ручку или нажимая кнопки настройки приемника, проводит ориентацию в эфире, ищет, на чем остановить свой выбор. Это как бы этап подготовки к слушанию. Дальнейшее развитие событий зависит от того, предложит ли ему радио нечто отвечающее в данный момент его духовной потребности и эмоциональному состоянию. Слушатель не останется на волне данной станции, если передача раздражает его, не соответствует настроению. В зависимости от полноты удовлетворения интереса активизируются различные механизмы внимания человека, возникают другие типы слушания.
Фоновое - когда радиопередача является элементом окружающей обстановки, находится на периферии восприятия и затрагивает лишь частично или не затрагивает вовсе сферу сознания слушателя. Его внимание находится в «дремлющем режиме» и одновременно -в готовности активизироваться под воздействием нового, сильного речевого или музыкального стимула, изменения темы или формы материала. Исследователями психологии массовых информационных процессов подмечено, в частности, что внимание радиоаудитории автоматически обостряется на несколько секунд после окончания предыдущего сообщения и в начале следующего, т. е. на время, необходимое для решения: принимать или отбраковать его.
Выборочное, или селективное, - когда воспринимаются лишь части, фрагменты программы или сообщения, которые сознание слушателя выделяет и фиксирует как центры интереса. Промежутки между ними превращаются в пустотные с точки зрения нового восприятия временные интервалы, используемые сознанием для осмысления значения информации, выхваченной из непрерывно передаваемого потока.
Сосредоточенное - когда с установкой на полное понимание и запоминание слушается все сообщение или группа сообщений (музыку, строго говоря, тоже можно рассматривать как сообщение). Даже при наличии серьезных мотивов, специального интереса сосредоточенное слушание требует определенных затрат психической энергии и, что существенно, отстранения от других дел и потому является, скорее, исключением, чем правилом, в общении аудитории с радио.
Названные типы слушания не всегда можно вычленить в чистом виде. Чаще всего люди слушают радио в фоновом и выборочном режимах. Однако все перечисленные способы контакта аудитории с радиостанцией непрерывно взаимно переплетаются, переходя один в другой. Под влиянием множества обстоятельств одну и ту же передачу различные люди слушают по-разному.
В приведенных характеристиках типов общения радио и аудитории постоянно используется слово «внимание». Без этого понятия невозможно обойтись, когда речь заходит о последнем звене коммуникационной цепи, которое обозначается как «получатель сообщения».
Редакционные разговоры о том, каким образом «привлечь, захватить и удержать внимание» слушателей, – предмет бесконечных раздумий, удач и ошибок, творческих поисков. Они сопровождают радиожурналиста всю его профессиональную жизнь. Действительно, от умения мобилизовать и оптимально использовать внимание – этот феномен человеческой психики, сопровождающий весь процесс освоения сообщений (восприятие, понимание, осмысление, запоминание или отторжение), во многом зависит эффективность работы радио.
В условиях огромного потока информации, получаемой из внешнего мира, человеческое сознание, во избежание перегрузки, вынуждено прибегать к избирательному механизму восприятия. Принцип экономии мышления заставляет целесообразно направлять психическую активность, или, что то же самое, сосредоточивать внимание на сведениях, субъективно значимых в данный момент для получателя, и опускать, не воспринимать то, что не представляет ценности. Поэтому путь к сознанию аудитории для радиожурналиста начинается с абсолютно необходимого условия – понимания, чем и как привлечь внимание.
Радиожурналисту полезно иметь представление о некоторых свойствах внимания, описанных в психологической литературе, таких, например, как: сосредоточенность внимания – степень углубления в деятельность, которой занят в данный момент человек; динамизм внимания – невозможность, вопреки бытующему изречению, «остановить» его, внимание постоянно колеблется, переходя с одного объекта на другой; объем внимания – способность отчетливо воспринимать одновременно и сохранять на какое-то время в сознании некоторое количество объектов; интенсивность внимания – затраты нервной энергии на восприятие и другие.
Проблема внимания в радиокоммуникации имеет особенно важное значение из-за акустической специфики канала. Слух не избирателен. Мы не в состоянии «отвести уши» от чего-то мешающего, как можно отвести глаза. В звуковом канале перед мощной помехой слушатель бессилен: посторонние звуковые раздражители не только затрудняют, но порой делают невозможным целеустремленное аудирование сообщения.
Непонимание того, что к акустической комбинаторике нужно относиться очень осторожно, приводит к разрушению контакта с аудиторией. В этой связи, в частности, вызывает сомнение нередко применяющееся в практике некоторых радиостанций изложение новостей на фоне музыки.
Напряженность внимания аудитории источник вещания создает и поддерживает различными способами.
Основное условие здесь – правильное определение своей аудиторной ниши, формирование категории слушателей с ориентацией на данную станцию, что осуществляется направленным отбором тематики, содержания вещания в соответствии с его программным типом, использованием соответствующей стилистики и форм подачи материала, оптимальным распределением по времени блоков тех или иных передач с учетом ритмов жизнедеятельности слушателей.
Заключающий этот перечень, но отнюдь не последний по значению, – фактор времени, нуждается в некотором раскрытии и пояснении, поскольку чрезвычайно важен именно из-за специфики радио как коммуникационного канала. Но об этом мы будем говорить более подробно в разделе, посвященном программированию вещания.
Работа радиожурналиста над материалом для эфира связана с учетом возможностей человеческой памяти.
Запоминание – способность сознания закреплять, удерживать в течение какого-то отрезка времени фрагменты информации. Это своеобразный аккумулятор жизненного опыта человека. Однако следует учитывать, что он имеет определенную, отнюдь не беспредельную емкость – физиология и здесь ставит свои границы в виде некоторых предохранителей от перегрузки.
Существует несколько видов памяти: оперативная - сохраняющая некую сумму фактов, единиц информации в пределах лишь одного коммуникационного акта (например, чтобы понять смысл единичного сообщения в информационном радиовыпуске); кратковременная - фиксирующая информацию на время, пока она актуальна для данной жизненной ситуации; долговременная - входящая в базовую сферу сознания личности, где закреплены убеждения, установки отношения к действительности, критерии жизненных ценностей, стереотипы и т. д.
Хотя коммуникационный эффект журналистская практика связывает с закреплением материала именно в долговременной памяти, понятно, что из всего огромного массива поступающей каждый день информации в ней оседает лишь ее незначительная часть. Этот вид памяти загружается методом постепенного, длительного накопления. В повседневной же работе радиожурналисту приходится ориентироваться на оперативную память. Этот фактор, это умение – один из критериев профессионализма в установлении надежного контакта с аудиторией. Темп подачи информации в зависимости от ее сложности, приемы разъяснения и повторов, используемая лексика, звуковое качество материала – все эти параметры передачи должны обеспечить ее удобослушаемость, т. е. соответствовать психофизическим возможностям аудитории.
Журналистская практика показала, что человек плохо воспринимает такие трудно уловимые на слух детали, как цифры, имена, названия, термины, если они не используются предельно экономно и не разъясняются. Так, услышанное в новостях сенсационное заявление какого-нибудь видного деятеля будет сведено к нулю, если вниманием не «схвачено», кто именно это заявление сделал. Во избежание этого, при компоновке новости на радио применяют прием предварительной активизации интереса слушателя: сначала излагается ключевой момент заявления, потом следует имя его автора, а затем развитие темы с повторным упоминанием имени, если сообщение носит пространный характер. По понятным причинам по-иному обстоит дело с аналогичной ситуацией в газете, а телезрителю здесь помогает видеоряд.
Радиожурналисту полезно иметь в виду, что слушатель лучше запоминает начало и конец речевого сообщения. Это объясняется действием известного в психологии «закона первого и последнего места» (или «фактора края»). По рекомендации психологов, ядро сообщения, основной элемент его содержания располагается в конце в том случае, если говорящий имеет дело с индифферентной, не имеющей мотива к слушанию аудиторией, которую надо заинтересовать, вовлечь в контакт, чью неподготовленность к общению надо преодолеть. В журналистике такой способ построения материала иногда называют «интригующим началом». Если же из-за значительности и актуальности темы со стороны аудитории заведомо предполагается интерес, основанный на ее предварительных знаниях и опыте, коммуникатор строит материал по известному журналистскому принципу «перевернутой пирамиды.» – в начале дается наиболее важный элемент сообщения, затем подробности и детали, с постепенным убыванием количества информации к концу. Такой способ композиционного построения сообщения позволяет слушателю, приняв первое слово или фразу, предположить, что именно с наибольшей вероятностью последует дальше. В этом прогнозировании проявляется обусловленность восприятия прошлым опытом человека.
Загрузка оперативной памяти – очень важный параметр в контакте радиожурналиста с аудиторией – определяется плотностью информации, иными словами, ее количеством, поступающим слушателю в единицу времени. Количество информации не связано напрямую с объемом сообщения или длиной речевых периодов, его составляющих. Хотя на радио и существует правило, согласно которому длина фраз в материале не должна превышать 15-20 слов, это не означает, что предложения должны быть построены по одному стандарту: частокол коротких фраз производит впечатление штакетника в заборе – однообразие утомляет внимание слушающего. Здесь нельзя говорить о рецепте на все случаи.
Но очевидно следующее: усложнение без крайней осмотрительности стилистического или синтаксического построения речевого материала ведет к появлению психологических помех в восприятии.
В некоторых руководствах по радиожурналистике встречается утверждение, что отличительной особенностью материалов, предназначенных для эфира, являются простота и ясность. С этим можно было бы согласиться в силу самоочевидности, если бы эти слова не употреблялись как синонимы краткости. Однако степень пространности или краткости сообщения или отдельных его частей еще не является определяющим фактором коммуникативности, т. е. пригодности для общения. В некоторых случаях краткость, так же как и чрезмерное усложнение мысли, ведет к неправильному или неполному пониманию речевого высказывания. Доходчивость радиоматериала зависит от того, насколько он позволяет слушателю успевать осваивать информацию и, пользуясь контекстом, восполнять упущенные элементы сообщения.
Для того чтобы обеспечить восприятие расчетного информационного минимума и дать слушателям возможность и время мысленно обработать поступающие сведения, теория информации рекомендует вводить в сообщение некоторую избыточность, т. е. распространенность за пределы «сгустка» (концентрата информации), выражающуюся в виде повторов, разъяснений, замедления скорости подачи материала и др. Избыточность – основа большей надежности восприятия речевого сообщения, его помехоустойчивости. Она используется при любом способе передачи информации. По экспериментальным данным, количество слов, которые можно вырезать в газетном тексте без ущерба для того, чтобы он при неоднократном прочтении все же мог быть понят, «расшифрован», составляет в ряде случаев свыше 60 процентов. Эти проценты и определяют избыточность текста.
Ни о какой неоднократности «прочтения» на радио речь, понятно, идти не может: здесь сообщение должно быть понято с первого предъявления, или же оно пройдет, не оставив следа в сознании слушателя. Поэтому в радиожурналистских материалах избыточность еще выше, чем в газетных. Подмечено, что она достигает максимума в импровизированных устных высказываниях, а также в репортажных передачах.
В слове «избыточность» (в повседневном его понимании) содержится некий негативный оттенок значения – «это как бы лишнее». Казалось бы, вследствие этого нужно стремиться к ее уменьшению. Из такого понимания и исходит непрофессиональный радиоредактор, выбрасывая из материала слова-синонимы, повторы, разъяснения и т. д., ужимая текст до предела. И тогда материал получается пригодным для читателя, а не для слушателя.
Одним из проявлений необходимой избыточности выступают повторы. Когда ведущий программы, открывая информационный выпуск, сообщает заголовки – короткие версии – новостей, он стремится с самого начала выделить и закрепить в сознании аудитории то, что должно быть усвоено в первую очередь. Затем все новости проходят в выпуске подробно, но некоторым из них, путем повторов в ходе программы и внутри самих сообщений, придана запланированная оптимальная избыточность.
Метод повторов выверен в многовековой практике дидактики -преподавания, научения. Радиожурналистику роднит с ней форма изложения материала, устное слово. Принцип дидактики – повторение – находит применение в работе радиостанций в форме повторов наиболее ярких передач, периодического возвращения к некоторым ведущим направлениям вещания на новом, меняющемся материале, что определяет позицию, программное лицо станции. Повтор нередко используется и в литературе, и в музыке (повторение ведущей темы в произведении) как метод накопления или выделения ведущего элемента сообщения в памяти аудитории.
При использовании повторов необходимо соблюдать следующие правила: они могут быть почти дословными или даваться в сокращенном виде; повтор может формулироваться по-новому, в иносказательном виде; идея и ситуация могут актуализироваться в сознании слушателей путем периодического употребления ключевых слов или стереотипов, выступающих в качестве символа.
Однако следует помнить, что злоупотребление повторами может легко привести к нарушению одного из основных законов восприятия, получившего название «парадокс повтора». Смысл его заключается в том, что повторы однотипной информации, по мнению психофизиологов, ведут не к возбуждению мышления, а, напротив, к его торможению, в конечном же результате информация отвергается человеком.
По мере превращения радиовещания в повседневное привычное средство общения стало очевидно, что эффект взаимодействия во многом определяется личностными свойствами радиоведущих. Осведомленность, авторитетность, яркость и образность речи человека у микрофона, его доверительная, убеждающая манера говорить позволяют аудитории связать суждение о нем с ценностью его сообщения.
Феномен персонифицированности, изначально присущий радио по его акустической природе, приобрел в радиовещании особое значение начиная со второй половины 80-х годов, когда к микрофону, сменяя дикторов, стали все чаще выходить сами журналисты. Персонифицированный характер приобрели уже не отдельные, как раньше, материалы, а целые программные блоки. Лицо станции в ее звуковом предъявлении аудитория теперь связывает с конкретными радиожурналистами – постоянными ведущими эфира и авторами передач. А успех ее работы во многом зависит от того, насколько они соответствуют роли лидеров общественного мнения, пользующихся симпатией и доверием слушателей, и в какой степени владеют радиожурналистским профессионализмом.
Глава 9 Радиотеатр
Первая – и основная – цель, которую поставили перед собой сотрудники отечественного радиотеатра в момент его рождения -просвещение. Конечно, достаточно политизированное, но опирающееся пока еще на демократические традиции русской культуры.
Увлечение трансляциями из оперных театров – об этом написано выше – привело к идее собственных радиопостановок, на основе оригинальных, специально написанных музыкальных сочинений.
Из-за границы приходили сведения, что один из популярных итальянских композиторов – Масканья – стал «энтузиастом эфира» и собирается писать оперу для радио. Знаменитый дирижер Артуро Тосканини, выступивший с всемирно известным американским Филармоническим оркестром, объявил о репетиции новых аранжировок классических произведений – также «специально для выступления через радиоэфир». Наши музыканты не собирались отставать от зарубежных коллег.
В журнале «Радиослушатель» появляется заметка, озаглавленная «Сергей Прокофьев пишет радиооперу.
Радиоуправление Наркомпочтеля ведет переговоры с приехавшим в СССР из-за границы композитором Сергеем Прокофьевым о создании оперного произведения специально для радиопередачи. В этой радиоопере должны быть все особенности и требования радиотехники – определенная компактность во времени, учет акустических возможностей современной радиотехники, рациональное месторасположение оркестра, хора и исполнителей ».
В своем письме в радиоцентр С. Прокофьев пишет: «По вопросу о сочинении оперы для радиоцентра сообщаю вам, что это предложение мне очень интересно и я буду ждать от вас сюжета или плана либретто, чтобы по его обсуждении можно было приступить к работе, которая потребует приблизительно один год»1.
К сожалению, этому замыслу не дано было осуществиться. Позднее Сергей Сергеевич Прокофьев сочинил свою замечательную сказку «Петя и волк», как раз по заказу музыкальной редакции.
Самостоятельной редакции или отдела, который занимался бы литературой и драматургией в эфире без аккомпанемента, до 1927 года не было. И, стремясь найти место в программах, театральные передачи порой даже маскировались под формы музыкального вещания. Так, по образцу вокального, родился «Речевой квартет» под руководством известного педагога сценической речи и режиссера профессора Василия Константиновича Сережникова. Актер, он в 1913 году ушел из Театра Корша, где выступал не без успеха, и открыл «Первые московские курсы дикции и декламации В.К. Сережникова». На этих курсах и проходили опыты «коллективного слова». К середине 20-х годов В.К. Сережников возглавлял Государственный институт декламации – был такой в Москве. Здесь сформировался костяк квартета: Б. Чепанова (сопрано), Н. Толстова (альт), Н. Эфрос (тенор) и П. Ярославцев (бас).
Между тем, познавая свои собственные возможности, расширяя тематику, литературно-музыкальные композиции «комплексных концертов» все более походили на театральные миниатюры. Их уже называли «инсценировками», хотя ничего в них не инсценировалось, а, напротив, оригинальный сюжет становился отличительным признаком жанра.
Вот тогда и появились передачи, претендующие на звание первых советских радиопьес, – в структуре своей они очень близки к музыкально-литературным композициям, но с усложненной фабулой. Основу их составляли чаще всего мемуары, документы, жизнеописания различных исторических личностей. В этом смысле показателен репертуар самого первого сезона радиотеатра. Официальная дата его рождения – 25 декабря 1925 года, день премьеры первой радиопьесы «Вечер у Марии Волконской» режиссера О.Н. Волконского, о котором мы будем говорить в следующем разделе.
«Вечер у Марии Волконской» и «Люлли-музыкант», имея в сути своей драматургическую основу, по форме выражения обладали еще одним важным признаком мелодекламационной композиции. В обоих спектаклях отсутствовало какое-либо шумовое оформление, ну хотя бы на элементарно бытовом уровне. Герои появлялись из звуковой пустоты, комнаты были лишены дверей, лестницы -ступенек, лошади двигались бесшумно, и даже река Неман в весеннем половодье, в пору ледохода, как, впрочем, и водопад в Альпах, не рождали ни звука, ни шороха. В этой ватной студийной тишине актеры волей-неволей сбивались на излишне подчеркнутую риторику, на менторско-лекторские интонации.
Для того чтобы избавиться от них, актерам нужны были хотя бы признаки звуковой атмосферы действия, и они очень быстро появились. Уже через год на радио началась репетиция инсценировки повести Б. Лавренева «Ветер, или Повесть о веселых днях Василия Гулявина» (она вышла в эфир в 1927 году). В этом спектакле была разработана и реализована (разумеется, театральными имитационными средствами) многослойная звуковая партитура. С этого момента начинается очень быстрое освоение выразительных эстетических и технологических возможностей радиоискусства, и правомерно заметить, что интерес к этой работе проявляли многие выдающиеся мастера литературы, театра, музыки и даже кинематографа, который сам еще несколько лет оставался немым.
А так как просветительство было публично прокламировано в качестве основной задачи, то и интерес ведущих ученых был обеспечен – всем им казалось, что реальный выход их знаний к огромной народной аудитории подразумевает свободу мнений, столкновение научных позиций, тот самый спор, который и рождает истину. По их мнению, важно было только простоту в изложении не подменить примитивом. Академик Е. Тарле писал по этому поводу: «В деятельности радиовещания крайне важно, чтобы доходчивость просветительства в сфере истории или любой другой гуманитарной науки сочеталась с глубиной подхода к явлениям, о которых читается радиолекция»2. Правда, наиболее прозорливые коллеги академика видели опасность гораздо большую – опасность тенденциозного и необъективного отбора.
Широкий круг авторов документального радиотеатра объясняется еще и тем, что деятельность вещательных редакций подразумевала просвещение во всех направлениях жизни, во всех областях человеческой деятельности – в равной мере. Приоритет не имела ни одна из них. Образование в сфере экономической почиталось столь же важным, как и изучение истории революционного движения, а освоение культурных ценностей, накопленных человечеством, не считалось менее необходимым, нежели изучение теории и практики классовой борьбы. Для того чтобы построить новое общество, надо было в соответствии с официальной доктриной не только обучить народ новым методам социального развития, но прежде всего дать ему возможность овладеть азами материальной и духовной культуры. Для романтиков радиопропаганды -а они были именно романтиками – призывы культурной революции имели буквальное, а не метафорическое значение. Никто ведь не думал ставить под сомнение благородство декларации о том, что хорошим строителем нового общества и вообще хорошим работником и человеком «можно стать только тогда, когда овладеешь всеми богатствами знаний, накопленных человечеством».
Жанр художественно-документальной постановки увлекал: с одной стороны, знания лучше усваиваются, когда они имеют четкую и яркую эстетическую форму; с другой – идеологическая подоплека, которую конечно же не могли не чувствовать и не осознавать авторы программ и передач, не выпячивалась. В это время радио еще старалось следовать совету Энгельса по поводу того, что в произведении искусства «тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы ее особо подчеркивали»3. Существование в этот период (1925-1928) эфирных редакций под эгидой не государственного, а общественно-акционерного управления некоторым образом давало определенные гарантии интеллектуальной автономии, особенно той категории людей, которые вслед за Пушкиным могли бы произнести в свой адрес: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».
Тема классового противостояния, противоборства различных социальных систем и политических направлений, разумеется, входила составной частью в структуру и ткань любого спектакля, но решать ее стремились средствами драматургии, а не методом прямого комментирования событий. Показателен в этом смысле популярный радиоспектакль «Амундсен» по пьесе Н. Шестакова об истории совместной полярной экспедиции Амундсена и Нобиле, предпринятой в 1926 году и благополучно завершившейся. Но в 1928 году, когда спектакль готовился к эфиру, весь мир следил за спасением группы адмирала Нобиле, потерпевшей неудачу при полете к Северному полюсу на дирижабле. Документами этой экспедиции драматург не пользуется. Но и пройти мимо нее, ограничиться «историческим», хоть и недавним материалом в подобной ситуации тоже было нельзя, не позволяла «этика политического вещания».
Одна из бесспорных причин неудачи Нобиле и его товарищей была в излишней спешке, с которой готовился полет дирижабля «Италия ». Муссолини в пропагандистских целях всячески торопил адмирала. И вот сюжетной канвой спектакля становятся два монолога: Амундсена – о подготовке экспедиции 1926 года и Нобиле – о задачах его полета. Действие происходит в разных странах и на разных континентах. Выступление Амундсена передается по радио, и слушатель оказывается то среди янки, то в кругу темпераментных французов, в доме сосредоточенных норвежцев и в аудитории энергичных немцев... Великий полярник говорит о сложностях и опасностях на пути полярных первопроходцев, о благородстве человеческого духа и верности идеалам. Резко контрастируя, врезаются в этот рассказ фрагменты из речей и интервью Нобиле, смысл которых в прославлении политических догм фашизма, будто бы позволяющего «налегке» преодолевать природу.
По сюжету действие перемещается не только из страны в страну, но и из дома в дом – а восприятие монологов, конечно, обусловлено социальным положением хозяев, их политическими пристрастиями: оценки в этом спектакле достаточно обнажены, что соответствовало эпохе, но не опускаются до примитивного «классового» противопоставления. Аналогичный подход характеризует радиодрамы «Поход к соленому озеру» – о жизни Ганди, «Новости Берлина» Э. Толлера и ряд других.
Художественно-просветительская программа документального театра поначалу не отличалась избыточным эстетическим разнообразием. На то есть своя причина: эта ветвь «театра невидимой сцены» предназначалась в первую очередь аудитории эстетически малограмотной. Надо было завоевать ее доверие, т. е. предложить ей для первого контакта вещи знакомые и привычные. Так появился в эфире цикл «Деревенская вечеринка». Гусляры, балалаечники, жалейщики, гармонисты разыгрывали у микрофона современные сюжеты. Например, как раскололась надвое деревня при появлении первого репродуктора: одни увидели в нем «чертову силу» и предзнаменование беды и хотели уничтожить; другие, напротив, использовали радио, чтобы помочь выбраться из дебрей суеверия, чертовщины на «грамотную дорогу». Интрига закручена была довольно ловко, а музыкальная часть включала не только старинные песни, но и марши, вроде «Конницы Буденного».
Однако эти примитивные агитационные скетчи достаточно быстро стали дополняться спектаклями, где та или иная социальная идея получала художественное подтверждение исполнением музыкальной и литературной классики. Их, в свою очередь, продолжили радиобиографии великих писателей, поэтов, музыкантов. И вот тут организаторы передач начали сталкиваться с весьма активным противодействием разных слоев слушателей: «А еще ряд товарищей спросят – им Бетховена подавай. Мы не возражаем, только чтобы Бетховен нам не мешал отдыхать. От имени и по поручению рабочего общежития...» За этим заявлением, опубликованным в популярной газете, следует двенадцать подписей.
Бороться приходилось на два фронта. Справа – пролетарствующие неомещане. Слева – охранители революционной чистоты. После спектакля о Бетховене среди рецензий можно было прочесть и такую: «Не следует забывать, что лучшие скрипичные сонаты Бетховен посвятил русскому царю Александру I, прекрасные „русские“ квартеты (оп. 59) – графу Разумовскому, одну из фортепианных сонат – своему молодому покровителю эрцгерцогу Рудольфу»4.
К чести организаторов вещания, они не стали шарахаться из стороны в сторону под напором слушательских эмоций. Декларируя музыкально-просветительскую задачу политического радиотеатра, его редакторы и организаторы писали: «Что же ищут по нашему мнению рабочие в музыке, в искусстве вообще?
Только развлечения?!
Нет, они видят в искусстве один из способов поднятия своей внутренней культуры. При посредстве искусства, как подсобного средства – хотя бы выявить и обострить свое классовое чувство... Программа подобных спектаклей должна строиться таким образом, чтобы удовлетворять любознательность рабочего и дать ему вполне доброкачественную художественную пищу»5.
Поиск выразительных средств подразумевал освоение закономерностей жанра документальной радиодрамы. Терминологическая неопределенность и очевидная дискуссионность работ, посвященных проблемам документального искусства, приводят к тому, что рамки «документальности» в художественном творчестве то чрезвычайно сужаются, то неправомерно расширяются.
В обобщенном виде можно обозначить следующие полярные позиции.
С одной стороны, к документальному искусству относят любые произведения литературы, драматургии и т. д., имеющие «опору» на документ – достаточно при этом, чтобы в сюжете и в характерах, измененных авторской фантазией, просматривались намеченные хотя бы пунктирными линиями реальные исторические события и поступки их участников.
С другой стороны, и на практике, и в теории получила развитие идея, что сам по себе набор интересных, эмоционально значимых фактов, переданных с максимально возможной достоверностью, достаточен, чтобы литературное, театральное или экранное произведение стало явлением искусства. Ее сторонники утверждают, что всякая попытка использовать документ «опосредованно»: в новом контексте, в адаптированном виде, как идейно-смысловой акцент для выявления авторской позиций и т. п. – вещь недопустимая, принципиально неверная, ибо ведет к искажению самого факта, отраженного в документе.
Обе позиции, первая – из-за размытости критериев, а вторая -необоснованным пуризмом, представляются достаточно неплодотворными. По нашему мнению, многие споры, в частности о документальной драме, о ее взаимоотношениях с исторической пьесой, с «драматической хроникой» и другими жанрами в драматургии, как раз и возникают из различия взглядов на сам термин – документ, а также на возможности и нормы его использования.
Формируя свое понимание этого термина применительно к художественному творчеству, мы берем за основу определение, принятое современной информатикой и источниковедением:
«Документ – результат закрепления информации о предметах объективной действительности и о мыслительной деятельности человека посредством письма, графики, фотографии, звукозаписи или другим способом на материальном носителе»6. Для нашей темы важно подчеркнуть, что историки и источниковеды, во-первых, ставят знак равенства (по значению, стабильности структуры и возможностям функционирования) между документами письменными и звуковыми. Они указывают, что при использовании документа в литературе, искусстве, публицистике и т. д., т. е. «доведении содержания документов до сведения общественности посредством печати, радио, телевидения или другим способом»7, его структура, смысл и значение остаются неизменными, несмотря на перевод из одной среды обитания в другую.
Опираясь на субъективное, а не научно разработанное представление о документе и документализме, ряд исследователей порой смешивают процесс аналитико-синтетического изучения документа и использование его в качестве элемента художественного произведения с так называемой переработкой документальной информации как исходного материала для художественного произведения, в котором предстает уже не сам документ, а некая «вторичная информация», основывающаяся на содержании исходного документа.
В первом случае речь идет о документальных жанрах литературы и искусства. Обработка документа автором здесь не разрушает его структуру и уж тем более не меняет содержания и стиля изложения: документ может быть транспонирован в иную эстетическую среду, включен в новый контекст, но суть и структура его сохраняются неизменными.
Во втором случае суть также сохраняется, но принципиально меняется структура и форма изложения, документальный материал служит лишь поводом и толчком для авторского вымысла, и речь идет уже о произведениях исторического жанра.
Вышесказанное позволяет предложить дефиницию жанра документальной драмы. Под документальной драмой мы понимаем пьесу, сюжетную основу которой наряду с вымышленными ситуациями составляют факты, происходившие в действительности, при этом сохраняются подлинные имена участников описываемых событий, а сам документ вводится непосредственно в текст, в звуковую ткань произведения.
Из этого определения очевидна близость документальной драмы к исторической пьесе, незыблемым остается принципиальное отличие: документ в первом случае вводится в структуру произведения, а во втором – существует в нем опосредованно.
Искусство начинается после выведения факта из информационного в художественно-образный ряд – это аксиома. К ней следует только добавить, что особенностью документализма в радиотеатре является возможность воспроизвести реальность в подлинных формах ее звукового существования. И это обусловливает возможности психологического воздействия на слушателя. Конечно, всегда существует опасность – в силу интонационно-эмоциональной насыщенности звукового документа – выдать деталь за полный объект, частность – за глубинную тенденцию развития, единичное, уникальное – за типичное и широко распространенное явление. Но это уже дело мастерства, таланта и глубины осмысления автором тех событий, фактов и людей, которые становятся предметом его рассмотрения. И тогда авторская фантазия позволяет объединить второстепенные факты вокруг главных, узловых, придать сюжету динамизм и выразительность.
Точку зрения мастеров документального радиотеатра на критерии возможного соотношения документа и вымысла выразил известный режиссер радио P.P. Глиэр, более 40 лет верный этому направлению искусства: «Нет никаких точных данных, чем занимался, скажем, академик В.И. Вернадский в такой-то день такого-то года. Но, прекрасно владея документальным материалом, освещающим этот период жизни и деятельности героя, можно легко домыслить, с кем он мог встречаться в тот день, что говорил, о чем мечтал. То есть обоснована лишь мотивировка, авторская интерпретация подлинных фактов. Однако нельзя, например, волей автора приписать изобретателям русского паровоза, уральским умельцам Черепановым, создание парусного корабля, перенести место действия с Урала в Крым или на Дальний Восток»8. Другими словами, домысел не должен вступать в противоречие с твердо установленными фактами, отступление возможно лишь в том случае, когда дело касается второстепенных персонажей.
Спектакли документального радиотеатра начального периода его существования можно объединить в четыре тематических направления:
1. История Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Тут необходимо заметить, что содержание спектаклей этого раздела репертуара вовсе не ограничивалось описанием событий 1917 года или ближайших предшествующих лет. Идеологическое руководство страны в тот период стремилось принять на себя все без исключения традиции русского революционного движения. Оно стремилось создать впечатление, что именно большевики, пришедшие к власти, – прямые наследники и декабристов, и петрашевцев, и народников. Отсюда достаточно широкий охват истории России с точки зрения организованного противостояния самодержавию разнообразных национальных и социальных сил9.
2. Экономическое переустройство государства. Наиболее интересны в конце 20 – начале 30-х годов были здесь работы, которые шли как бы по касательной к тому или иному политическому или экономическому лозунгу. Так, идея электрификации стимулировала целую серию спектаклей об истории российской энергетики, в том числе и замечательную «Повесть о сфагнуме» Арсения Тарковского.
3. История отечественной и мировой культуры.
4. Тема мировой революции.
Последняя вряд ли требует специального анализа сегодня, ибо в спектаклях на эту тему более всего проявилось деление на «черное» и «белое», на «своих» и «чужих», противопоставление классовой и общечеловеческой морали. Среди работ этого направления можно найти технологически довольно изощренные, но эстетически, как правило, примитивные, а идеологически – убогие. Содержание спектаклей старались увязывать с жизнью СССР, и потому особенное распространение получил сюжет о том, как западный специалист попадает на советскую стройку (или посещает колхоз), и это обстоятельство полностью и почти с космической быстротой меняет его сознание и привычки. Таких спектаклей было много, и они имели успех у определенной части аудитории, и тут уж ничего не поделаешь – авторы этих спектаклей выполняли тот же социальный заказ, который вольно или невольно исполняли и такие «очарованные странники», как Ромен Роллан, Барбюс, Фейхтвангер. Что же говорить о Викторе Гусеве ( «Урало-Кузбасс») или Константине Финне («Весь мир»), которые «взяли большую тему, тесно связанную с международным воспитанием трудящихся, тему о том, как рабочие различных национальностей перевариваются в советском котле, превращаются из мещан в сознательных строителей социализма»10. Это направление сформировалось к середине 30-х годов, и, надо заметить, выполняли его главным образом «штатные работники» радиоредакций, несмотря на то что именно в это время работа у микрофона привлекала внимание широкого круга драматургов и режиссеров.
Исторический парадокс заключается в том, что как раз на документальный радиотеатр была возложена фальсификация многих событий, подлинная суть и развитие которых никак не устраивали Сталина после захвата им неограниченной власти в стране. Началось с Гражданской войны. Как свидетельствует пресса, «за период с 1932 по 1933 год 35 процентов радиопостановок имели своей тематической основой героику Гражданской войны и несли принципиально новую, актуальную (выделено автором. – А.Ш.) трактовку первых этапов Гражданской войны и организации Красной Армии либо общих принципов вооруженной борьбы большевиков за власть»11.
Затем понадобилась новая «актуальная трактовка» нэпа и положения в деревне, реальной ситуации на гигантских стройках первой пятилетки и так далее и тому подобное.
Чем сложнее становилась социально-экономическая жизнь страны, тем упрощеннее были формулы и формулировки ее отражения в искусстве вообще и в радиотеатре в частности. Уже в начале 30-х годов здесь появилась тенденция имитировать документальную основу радиодрамы, подменяя анализ поступков конкретных людей описанием поступков неких «типических персонажей», олицетворяющих ту или иную классовую позицию. При этом сюжетная ситуация декорировалась реальностью атмосферы, точностью второстепенных бытовых и производственных деталей. Разумеется, никакой подлинной «классовой позиции » эти люди-символы не выражали; их суждения, мнения, действия определялись не жизнью, а позицией Сталина и его окружения, «кремлевской точкой зрения» на то, как вышеуказанные типические персонажи должны – обязаны! – рассуждать, чувствовать и действовать.
Получив соответствующий социальный заказ, а точнее, директивное указание, авторы радиотеатра стали изыскивать всевозможные способы его выполнения. Один из них пришел в голову известному драматургу А. Афиногенову. Он написал пьесу «Днипрельстан», художественные принципы и критерии которой прямо противоположны закономерностям документальной драмы. Атмосфера труда и жизни строителей электростанции на Днепре воссоздана с тщательностью. Все бытовые и производственные второстепенные детали даны с абсолютной достоверностью. Но зато никто из действующих лиц, ни главные, ни второстепенные, не имеют имен, фамилий и по идее (несбыточной, нарушающей все традиционные представления о законах драмы, но блестяще реализованной) не должны отличаться друг от друга манерой речи, ее стилистикой и интонацией. Есть в пьесе ударники, есть крестьяне, которые сначала работают плохо, а потом становятся ударниками, есть, наконец, кулаки-предатели... Но реплики не персонифицированы, и потому возможность проявить индивидуальные черты того или иного персонажа заранее блокирована автором.
К середине 30-х годов отчетливо наметились два пути для радиотеатра. Логика его внутреннего развития и опыт, накопленный за первые десять лет вещания, подсказывали перспективу и плодотворность образных структур при решении самых разнообразных пропагандистских задач. Политическая практика диктовала жестокую необходимость пути прямо противоположного – поворота к дидактической повествовательности. Сталкивались не только эстетические, но идеологические позиции. В конце концов, примат поучающего слова оказывался выражением элементарного недоверия к аудитории, уступкой наименее интеллектуально развитой ее части. Стремление все и вся объяснить словами – идеологическая концепция, получившая развитие во времена культа личности Сталина, а затем в период так называемого «застоя» – это на самом деле есть стремление к выработке стереотипов мышления и восприятия, обратное назначению искусства побуждать человека к самостоятельному познанию. Эта концепция выражалась не только в эфире, но и на сцене, на экране в том, что любое жизненное явление, любое проявление индивидуальности характера необходимо было объяснять (а то вдруг мифическая Марья Ивановна не поймет?!), обставлять привычно стандартными словесными формулировками. Не случайно в течение почти сорока лет из книг о радиовещании старательно вычеркивали не цитату, нет, а простое упоминание о цитированном выше письме Энгельса к Минне Каутской со словами «писатель не обязан подносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов»12.
В дискуссию на тему «искусство должно быть понято народом» или «искусство должно быть понятно народу» документальный радиотеатр внес свою лепту.
Здесь надо развеять одно заблуждение. В ряде отечественных и иностранных исследований по истории радио можно встретить утверждение о том, что с конца 30-х годов документально-публицистический радиотеатр прекратил свое существование. Между тем различные архивы хранят достаточно большое количество драматургических произведений, написанных специально для воплощения у микрофона и затрагивающих актуальные проблемы социально-политического характера. Все это тексты, прошедшие в эфир, и, строго говоря, они должны свидетельствовать о весьма многообразной жанрово-тематической палитре политического радиотеатра.
Должны, но не в состоянии этого сделать, ибо количество в данном случае не переходит в качество; примитивность драматургии, художественная несостоятельность режиссуры, эмоциональная бедность постановочных и актерских решений скорее дискредитировали проблему, нежели побуждали социальную активность. И тут мы сталкиваемся с новым историческим парадоксом.
Осознанная недостоверность радиотеатра в отражении не только реальной действительности, но и тех практических задач, которые стояли перед государством и народом, вовсе не похоронила его авторитет и внимание к нему. «Эффект бумеранга» если и возник, то только в очень узком кругу творческой и технической интеллигенции. В широкой аудитории продолжали слушать радиоспектакли с неослабевающим доверием.
Сказывались – с одной стороны – малообразованная страна, привыкшая получать готовые формулы бытия и мышления; с другой – полная синхронизация каналов информации, постоянное и постепенное сокращение их числа, а на радио – унификация интонационно-эмоциональных характеристик. Все это поддерживалось умелыми цензурными ограничениями, которые именно для радио были чрезвычайно ужесточены.
Цензурный механизм политического радиотеатра формировался задолго до того, как он был запущен на полную мощность. Причем делалось это в точном соответствии с правами и порядками аппарата административного управления культурой. Принимали и широко рекламировали постановление о праве Радиокомитета устанавливать транслирующую аппаратуру в любом театральном, концертном, лекционном зале. А накануне без всякой рекламы намечался «ряд мероприятий по осуществлению контроля над радиовещанием: выделение специально ответственных лиц в наркоматах и организациях за доклады, лекции, трансляции съездов, конференций, дискуссий и других передач, строгое выполнение ими цензурных требований, установление строгого контроля за микрофоном для предупреждения злоупотребления и неосторожности » (из решения Радиокомиссии ЦК ВПК(б))13.
Собирали Всесоюзное совещание по радиоискусству, где призывали к полноте идейного и эстетического самовыражения, а на заседании президиума коллегии Наркомпроса рассматривали вопрос об установлении контроля над всеми художественными передачами, передаваемыми в эфир, устанавливали обязательный порядок их разрешения Главлитом и при этом предписывали «особую осмотрительность по отношению к номерам, передаваемым по радио»14.
Радиотеатр все больше превращался в чисто пропагандистский орган, «обслуживающий текущие задачи партии и ее актуальные политические кампании (индустриализация страны, коллективизация, режим экономии, оборонная работа и Др.15). Известный архивист Т.М. Горяева обнаружила документ 30-х годов, свидетельствующий о том, что на Главлит возлагается «военно-политический контроль за радиоискусством»16.
В этих условиях всякая попытка «идейного и эстетического самовыражения», да и просто любая попытка творческого подхода к делу были заранее обречены.
Однако вернемся в то время, когда отечественный радиотеатр еще только формировал свои критерии в условиях относительной интеллектуальной и творческой свободы. Оно определено поиском звукового разнообразия, которое в документальной драме в значительной степени обусловливало не только эмоциональную атмосферу, но и достоверность. С этой точки зрения один из наиболее интересных опытов осуществлен Э.П. Гариным и Н.О. Волконским в уже упоминавшемся спектакле «Путешествие по Японии». Подробно разбирать эту радиоработу мы будем в главе об Э.П. Гарине.
1932-1933 годы, по сути, время последнего взлета документального радиотеатра. Затем, в силу объективных исторических обстоятельств, этот жанр, формально занимая достаточно большое место в эфире, реально существует в совершенно оскопленном виде. Назначенный в 1933 году председателем Радиокомитета П.М. Керженцев очень много сил и времени отдавал «отслеживанию», по его собственному выражению, «неверных исторических тенденций», «радиодемонстрации фактов и документов, не соответствующих требованиям момента». В самом начале 1935 года на
I Всесоюзном совещании председателей радиокомитетов он предупредил всех своих коллег, какую бы художественную форму ни находили авторы передач для документально-художественного рассказа об истории или о современности, сами программы имеют право на существование только тогда, «когда они несут актуальное революционное содержание» и «соответствуют нашему сегодняшнему взгляду на события»17.
Всё, что затем выходило в эфир в течение многих лет под названием «документальный радиоспектакль», скорее компрометировало жанр, чем укрепляло его.
В исторической ретроспективе аналогично рассматривается и путь «литературного радиотеатра» – от простой ретрансляции и поиска наиболее эффективных приемов звукового решения к примитивному по форме и достаточно скудному по выразительным средствам «элементарному чтению». Правда, в силу специфики исходного литературного материала даже в конце тридцатых годов исключений из этого правила было достаточно много. Я вынужден именно здесь повторить уже высказанный на страницах этой работы тезис о том, что классическая литература – поэзия, проза, драматургия – своей значительностью и общепризнанной ценностью создавала в условиях всеобщего оболванивания некую лакуну для творчества. Пушкина, Гоголя, Чехова в тот период все-таки не цензуровали.
Могли запретить отдельное произведение (как запрещали в 1936 году толстовского «Отца Сергия», а в 1932-м – «Гаврилиаду» – все за безнравственность) или «не рекомендовать в целом» того или иного писателя вообще (как это было примерно в тот же период с Достоевским и Леонидом Андреевым), но уж если произведение классика попадало в студию, то его, по крайней мере, не корежили. Это только во второй половине восьмидесятых просвещенные главные и иные редакторы настропалились обрывать Пушкина перед строчкой «Поднимем стаканы, содвинем их разом», а из записи гоголевского «Ревизора» вырезать строчку о губернской мадере.
Видимо, поэтому во второй половине тридцатых годов многие ведущие актеры различных театров открыто предпочитали на радио классику, так как она, по меткому наблюдению М.М. Яншина, «позволяла говорить у микрофона и во весь голос такие вещи, о которых на сцене или на эстраде даже и прошептать боялись».
Срабатывал тот самый закон ассоциативного восприятия литературы, о котором писал Николай Вавилов.
Радио начиналось с классики, ибо с момента своего рождения, еще не ведая само своих возможностей воздействия на людей, на их эмоциональное воспитание, в силу собственной технической малоразвитости и не умея продемонстрировать это воздействие, – оно стремилось к естественности чувств, а не к их имитации. Потом все изменится, когда его бдительные руководители поймут, какой чудовищной силы психологическое оружие оказалось в их руках. Но поначалу оно было очаровано предсказанием Велимира Хлебникова, который не просто назвал его «главным деревом сознания», но и обещал своим коллегам по литературному цеху «Всенародные вечера своего творчества, опираясь на приборы Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба... В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну, дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков»18.
Поэзия заняла прочное место в художественном вещании, начиная с первых радиоконцертов. Динамичные, эмоционально насыщенные строки, особенно удобные для декламации, соответствовали стилю и художественным целям вещания.
Даже самый беглый просмотр архивных материалов первых лет отечественного вещания позволяет утверждать, что по объему авторских имен столь буйного разнообразия, как в это время, на нашем радио больше никогда не будет. Это касается и классиков, и современников.
Положение постепенно меняется к 1930-1932 годам. До этого времени просматривается, и довольно четко, своеобразное деление на собственно поэзию – в полном значении этого слова и на окололитературное явление, которое правомерно назвать «рифмованная агитация». Причем второму отдавали дань порой весьма одаренные литераторы. Обычно это было связано с «краевыми праздниками» и соответствующими репортажами о них.
Илья Сельвинский, например, так рассказывал о своем участии в репортаже с Красной площади 7 ноября: «Наша бригада работает вовсю... Телефон. – «Алло! Вступает завод „Термоаэрометра“... среди ударников Панкратова, выполнившая вдвое против задания в 900...» – Девятьсот чего? Чего девятьсот? Алло! Алло!
Но информиста уже нет. А завод приближается. Теперь моя очередь экспромтировать. Через четыре минуты я ору в микрофон:
Ударник тот, кто в атаку несет уменье свое боевое. Дали Панкратовой девятьсот, она ответила вдвое. Так и надо за план ратовать, Как работница Панкратова. ...Нас переключили»19.Справедливости ради замечу, что к своим «будничным» выступлениям по радио Сельвинский относился значительно более строго и в том же 1930 году в одном из своих писем пишет о том, что готовится к собственному «бенефису» на радио и с горечью замечает, что «хороших стихов все меньше и меньше – особенно достойных столь огромной аудитории ».
То же самое можно сказать и о С. Кирсанове, Н. Асееве и многих других, особенно из кругов, близких к В. Маяковскому. Здесь надо развеять одну традиционную ошибку, кочующую из одной книги по истории радио в другую. Родилась она в книге П. Гуревича и В. Ружникова «Советское радиовещание. Страницы истории» -достаточно полном и серьезном исследовании, в основе которого архивные отчеты редакций радио по всем направлениям вещания. Преимущественное значение авторы придавали описанию программ пропагандистских, и потому культурные явления, которые они (или время!) посчитали аполитичными или «недостаточно идейными», они просто не принимали во внимание. Вот и оказалось, что уже в начальный период отечественного вещания чуть ли не главное место занимали А. Безыменский, А. Жаров и В. Гусев, а О. Мандельштама, С. Городецкого, С. Есенина, М. Волошина, Арс. Тарковского, Вяч. Иванова, Б. Пастернака и многих других в эфире как бы не существовало.
Между тем они выступали у микрофона, и большинство – не единожды, а некоторые – скажем, Мандельштам, Пастернак, Тарковский – имели и «узаконенные» договорами и должностями организационно-творческие связи с вещательными редакциями.
Некоторая аберрация памяти у названных исследователей связана, как мне кажется, с преувеличением роли В. Маяковского в становлении литературных радиопрограмм. Маяковский действительно много и успешно выступал по радио и всячески пропагандировал этот вид эстетического просвещения. В 1927 году он пишет специально по этому поводу статью «Расширение словесной базы».
«Трибуну, эстраду продолжит, расширит радио. Радио – вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру»20.
Про Пушкина – не случайно. Владимир Владимирович начинал у микрофона вовсе не с рекламы Моссельпрома и даже не с поэмы «Владимир Ильич Ленин», а с «Про это» и других лирических стихов, которые считал своей подлинной визитной карточкой. Причем чтение у микрофона было для него своеобразной формой продолжения работы над стихотворением.
«В каждом стихе – сотни тончайших ритмических, размеренных и других действующих особенностей, – никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых», – говорил он21.
Но потом жизненные обстоятельства, анализировать которые не представляется целесообразным и возможным в рамках нашей темы, взяли свое.
21 мая 1925 года в очередном номере «Утренней радиогазеты» диктор объявил: «Слушайте теперь стихи товарища Маяковского „Как осчастливить мужика и бабу без всяких сказок про курочку-рябу“». Так начинался передававшийся по радио в течение нескольких месяцев цикл опусов, посвященных распространявшемуся тогда в стране Крестьянскому выигрышному займу.
Поэтический и политический вес Маяковского в этот момент был достаточно значительным, чтобы спровоцировать будущую попытку соединить в одной упряжке трепетную лань поэзии и жеребца революционного марша.
Поначалу она не шибко удавалась, но Маяковский был, как известно, человек достаточно последовательный в своей личностно-поэтической перековке. Вторая половина двадцатых годов отмечена десятками его выступлений у микрофона, и абсолютное большинство из них – «Рабочая радиогазета» или «Радиовечер», «Быт и религия» или репортажи с торжественных собраний по тому или иному краснокалендарному поводу. Не без его личного участия появляется радиорубрика «Литературный час», смысл которой сформулировал журнал «Радиослушатель»: «В основу „Литературного часа“ положена та мысль, что произведения художественной литературы, передаваемые по радио, должны быть прежде всего объединены определенной темой – непременно актуальной и важной для общественного развития и социалистического переустройства, а кроме того, должны читаться самими авторами»22.
«Литературный час» не сразу стал вотчиной Безыменского и Жарова, но поэтов, далеких от «социалистического переустройства», для участия в нем тоже, кажется, приглашали не слишком активно. В лучшем случае здесь выступали Э. Багрицкий, М. Светлов, И. Уткин. Несколько раз в отчетах редакции промелькнули имена А. Ахматовой и Б. Пастернака, но, судя по всему, это были «разовые» приглашения, и сейчас невозможно доказать, были ли они реализованы.
Примечания
1 Радиослушатель, 1929, № 19. С. 1.
2 История советской радиожурналистики. Документы. Тексты. Воспоминания. 1917-1945. М., 1991. С. 24 вкл.
3 Ф. Энгельс – М. Каутский. В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма. М., 1947. С. 395.
4 Говорит Москва, 1931, № 11. С. 13.
5 Новости радио, 1925, № 7. С. 9.
6 Жданова Г.С. и др. Словарь терминов по информатике. На русском и английском языках. М.: Наука, 1971. С.57.
7 Словарь архивной терминологии социалистических стран. Выпуск 1 // Главархив СССР, ВНИИДАД. М., 1982. С. 160.
8 Г ливр Р .Р. Радиотеатр и наука. М., 1973. С. 41.
9 В ряде исследований эти передачи названы радиофильмами – такое жанровое обозначение дали им выпускающие редакторы, исходя, вероятно, из того, что сюжетные эпизоды менялись очень быстро, «наподобие кадров в кино». Однако сам по себе жанр радиофильма в «живом» вещании не получил каких-либо характерологических признаков, и потому употребление этого термина нам кажется весьма условным.
10 Говорит СССР, 1932, № 15. С. 10.
11 Говорит СССР, 1933, № 14-15. С. 43.
12 См. примечание № 3.
13 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 69. Д. 578, л. 31-31 об.
14 Об этом подробно см. гл. 4 данной работы.
15 ЦГАОР СССР, ф. 5508, on. 1, Д. 1028, л. 12.
16 Архив Гостелерадио СССР, оп. с. 1 л/о, д. 7, л. 38-38 об.
17 Гарин Э. С Мейерхольдом. М., 1974. С. 220.
18 Хлебников В. Радио будущего. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. Л., 1930. С. 292-293.
19 Сельвинский И. Красная площадь, 7 ноября // Говорит СССР, 1932, № 34. С. 8.
20 Маяковский В.В. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 162.
21 Шилов А. Слушайте, товарищи потомки... // Телевидение и радиовещание, 1973, № 6. С. 1.
22 Час художественной литературы //Радиослушатель, 1928, № 13. С. 11.
Глава 10 Литературный театр на радио
Сегодня уже не надо доказывать, что радио не заменяет книгу, а, напротив, впечатляющей, умелой пропагандой конкретного художественного произведения, увлекательным рассказом о литературном процессе приближает книгу к читателю.
Блоковское «литература должна быть насущным хлебом» воспринимается в наши дни как один из рабочих принципов художественного радиовещания, как формулировка одной из главных его задач. И здесь на первый план выступает вопрос умения в отборе, подготовке, а, если требуют условия программирования, то и в определенной трансформации литературного текста для передачи в эфир. О традициях и опыте такой работы пойдет речь в этой главе.
Лирика, эпос и драма в силу своей природы по-разному поддаются воспроизведению в словесно-звуковой форме. Лирика с ее краткостью и часто присутствующей в самом литературном произведении установкой на произнесение вслух не нуждается в особом приспособлении для радио. Поэтому тема «стихотворение в эфире» в контексте нашего разговора не является главной.
Необходимо, правда, отметить, что последние годы дали своеобразную модификацию традиционной формы литературно-музыкальной композиции, построенной на стихах одного поэта: возник и успешно закрепился в эфире «Поэтический радиотеатр».
Началось с обозначения рубрики, а в результате сформировался новый жанр, и мы вправе уже обозначить его некоторые признаки. Это – не просто чтение стиха, но рельефное выявление его стилистики режиссерским решением: использование всех возможностей радиоискусства – слова, музыки, шумов, документальных записей, технических эффектов.
В традиционной поэтической композиции ведущий выполнял роль «комментатора со стороны» – читал «связки», необходимые пояснения; его реплики включались в текст передачи между стихами или игровыми эпизодами. Иначе в «Поэтическом радиотеатре». Здесь пропорции противоположные – игровые сцены вводятся в авторское повествование как дополнительная эмоциональная краска. Такое сценарное построение «Поэтический радиотеатр» черпал в опыте драматической сцены и, конечно, в многолетней практике подготовки литературных программ.
Когда у В.И. Немировича-Данченко возникла мысль об инсценировке романа Л.Н. Толстого «Воскресение», роль «От автора» вначале представлялась ему довольно скромной: для связи между драматическими сценами был необходим минимум авторского текста. Назначение на эту роль В.И. Качалова повергло в изумление всю театральную Москву. Первый артист труппы и – второстепенная роль?! Секрет был прост: во время работы роль «От автора» вышла на передний план, «Ведущий» стал подлинным хозяином спектакля. «Мне принадлежали уже не только слово, самый текст авторский, – напишет потом В.И. Качалов, – но и вся идея спектакля, вся эмоциональная сила, весь темперамент и нерв автора».
И в наши дни, после премьеры радиоспектакля «Мартин Иден» по роману Джека Лондона, среди теоретиков и практиков вещания разгорелась подобная дискуссия: как обозначить место «Лица от автора» (А. Эфрос) в этой постановке?
Играет? Но ведь текст, им произносимый, прямой связи с происходящими событиями вроде бы не имеет; в действие, казалось бы, он не вмешивается... Рассказывает? Но разве этим словом можно определить постоянное присутствие «автора» рядом с героями?..
Примеры эти к «Поэтическому радиотеатру» имеют самое прямое отношение. И в «Воскресении», и в «Мартине Идене» роль «От автора» прозвучала столь весомо потому, что такой была задумана режиссером. Поэма же – всегда рассказ от первого лица, пусть даже в ее тексте нет местоимения «я». Здесь возможности ведущего тем более широки.
Сошлемся на другой пример – на премьеру «Поэтического радиотеатра» по поэме Б. Корнилова «Триполье», где в сложном композиционном построении передачи «Ведущий» остается главным лицом, организатором «действия» в спектакле. Он – повествователь и комментатор происходящих событий. Перед нами – словно документальная запись с пояснениями рассказчика, наделенного знанием не только каждого конкретного момента действия, но и его трагического исхода. Игровые сцены невелики, но интересны по звучанию, ибо окрашены яркими красками живой разговорной речи. Реплик, произнесенных разными голосами, довольно много, но благодаря продуманности роли «Ведущего» каждая из них точно встала на предназначавшееся ей место.
Сказанное выше относится к сценарной организации материала поэтической радиопередачи, но отнюдь не к трансформации стихотворного сочинения применительно к требованиям искусства незримой сцены. Лирика, повторим, менее всего подвержена такой переработке, т. к. в ней нет необходимости. (Хотя исключения и бывают, но об этом ниже.)
Гораздо более дифференцированно решается проблема адаптации для радиопроизведений эпических жанров. Проще всего дело обстоит с очерком и рассказом. Они сравнительно невелики по объему, и полный текст такого произведения без особых сложностей вписывается во временные рамки радиопрограммы. Необходимость звукового воплощения литературного материала подталкивает к инсценированию, т. е. к использованию элементов драмы. Однако безусловным и плодотворным такой подход оказался далеко не ко всем видам эпической литературы.
Наибольшее количество проблем возникло, когда радио обратилось к эпическим литературным произведениям крупных форм, хотя сам вопрос о важности и необходимости их использования в практике радио сомнений не вызывал.
Ретроспективный анализ программ радио позволяет утверждать, что главной промежуточной формой в ходе радиоадаптации любого крупного литературного произведения (если это не чтение отрывков) оказывается театральная инсценировка, которая затем перерабатывается в соответствии с требованиями слухового восприятия1.
Достоевский полагал, что «для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей»2. Радиовещанию необходимо было при переводе литературных образов в образы словесно-звуковые освоить принципиально новый «ряд» поэтического мышления. А именно театр давал пример того, как раскрыть в диалогической форме внутреннюю конфликтность эпических ситуаций. Г.Н. Бояджиев, характеризуя проблемы эстетического и культурного развития общества в эпоху развитой системы массовых коммуникаций, отмечал, что театр обладает возможностями более широкими, чем те, которые содержит в себе современная драма. То, что представлялось антиподами драмы – роман и поэма, – теперь оказалось жанрами настолько театру близкими, что спектакли, сыгранные на основе прозаических или поэтических произведений, часто имеют художественный успех больший, чем постановки собственно драмы.
Подтверждением этой мысли служит и репертуар современного нам радиотеатра, в частности соотношение радиоинсценировок литературной классики и оригинальных пьес в программах конца 70 -начала 80-х годов. Наиболее популярными у аудитории и художественно-значимыми оказались романы, переработанные специально для передачи в эфир. Причем список названий здесь достаточно велик и тематически широк – от лермонтовского «Героя нашего времени» и «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда до «Судьбы» П. Проскурина и «Цыгана» А. Калинина.
Воплощенная в звуке проза меняет свои эстетические свойства. Но прежде она проходит стадию театральной адаптации, сохраняющей основные эстетические качества литературного первоисточника. Театральная инсценировка есть первый и необходимый этап перевода прозы в форму драматизированной радиопередачи.
Заметим при этом, что на стадии театральной инсценировки адаптированное литературное произведение сохраняет самостоятельное значение. Назовем для примера такие театрализованные формы романа (его сценические версии), как «Три толстяка» по Ю. Олеше, несколько вариантов «Молодой гвардии» по А. Фадееву, «Брат Алеша» В. Розова по мотивам «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского, «Балалайкин и К°» С. Михалкова по мотивам «Современной идиллии» М. Салтыкова-Щедрина. Все это театральные пьесы по прозаическим произведениям, имеющие самостоятельное литературное значение. Если сравнить их с радиоверсиями тех же романов, повестей (а мы рассматриваем здесь именно те литературные произведения, которые ставились и в театре, и на радио), то бросится в глаза характерное отличие – ра-дийные варианты вторичны по отношению не только к самому произведению, но и к его театральной версии. Именно у театральной инсценировки радиоверсия берет комплекс средств для привлечения интереса слушателя и сосредоточения его внимания, основываясь на словах Пушкина о том, что «первым законом драматического искусства является занимательность». И как следствие – поиск того или иного музыкально-шумового решения в радиоверсии литературного произведения обусловлено чаще требованиями не самой литературной ткани прозаического или поэтического произведения, а его театральной инсценировки -как промежуточной стадии в создании радиопредставления. Это оказывается более целесообразным, нежели прямое следование «букве» литературного первоисточника.
Режиссер В. Марков поставил когда-то на радио «Железный поток» по одноименному роману А. Серафимовича, со скрупулезной точностью перенеся в эфир те строки писателя, в которых он запечатлел «звуковой фон» описываемых на страницах книги событий.
Лай собак, блеяние овец, скрип несмазанной телеги, близкие и далекие разрывы снарядов, клацанье затворов, свист шашки, опускаемой на голову человека, неразборчивые вопли женщин – все это нашло отражение в звуке. Натуралистичность звукового ряда привела к иллюстративности самого примитивного толка: едет телега – скрип колес, скачет лошадь – топот копыт и т. д. Музыкальный материал использован был тоже чисто иллюстративно -включение музыки непременно обуславливалось бытовой мотивировкой: хоронят человека – похоронный марш и т. д.
В результате, как справедливо заметили и слушатели, и критики, «за батальной трескотней, бабьими причитаниями, скрипом телег пропадает основная фигура „Железного потока“ – командир Кожух...» Оттого, что утерян был образ Кожуха, оттого, что он поблек, растворился в множестве малозначительного звукового материала, все произведение утратило свою идейную и художественную весомость.
Иной принцип организации музыкально-шумового решения был использован в радиооратории «905 год» по поэме Б. Пастернака, постановка которой, несмотря на полвека, отделяющие нас от премьеры, остается поучительной.
«905 год» вызвал бурную дискуссию.
Позиция одной стороны достаточно четко выражена в следующем письме слушателя: «Оратория „905 год“ является огромным шагом вперед в деле художественного вещания. Музыкальное оформление „905 года“ вполне соответствует содержанию данной пьесы и тому настроению, которое охватило рабочих России в период революции 1905 года»3.
Противоположная точка зрения формулировалась следующим образом:
«В „905 годе“ все давали на музыке. Это была часовая мелодекламация. Оскорбительное „искусство“ мелодекламации трижды оскорбительно в применении к Пастернаку. Не в том дело, что музыка сплошь и рядом заглушала текст; это бы хорошо. Она совершенно отстранила нас от Пастернака, переживала за нас, чувствовала за нас и выражала свои чувства вслух. Мы, в сущности, ни в чем не участвовали; нам вливали в уши нечто, как младенцам в рот бульон»4.
Сам Пастернак, признавая, что «радио как самостоятельное искусство требует деформации материала»5, «не узнал себя», тогда как его читатели и почитатели в массе своей его узнали – множество повторов радиоспектакля, главным образом «по просьбе слушателей», пусть косвенное, но подтверждение этому.
Анализ же радиооратории показывает, что музыка и шумы вводились режиссером в соответствии с требованиями сценической композиции, в которую текст поэмы был преобразован на первом этапе работы. Логика музыкально-шумового решения базировалась уже не на первоисточнике, а на его инсценированном по законам театрального действия варианте.
Известный актер и режиссер О.Н. Абдулов указывал – для того, чтобы шумы потеряли свою обычную «жалкость» и механичность, перешли в звучание с большой смысловой нагрузкой, создав общий комплекс радиоизобразительных средств, при подготовке инсценировки «Чины и люди » по произведениям А.П. Чехова была произведена сначала вся литературная работа над созданием инсценированного текста, а лишь потом определена звукошумовая и музыкальная палитра.
Принцип такого подхода к созданию радиоверсии прозаического произведения отчетливо проявляется в лучших работах радиотеатра последних лет, в том числе и осуществленных в жанре «постановочного чтения».
Сочетая в себе характерные особенности театра и эстрады, «постановочное чтение» позволяет интерпретировать прозу, максимально сохраняя авторские отступления и размышления, и в то же время дает возможность актерам глубоко исследовать характеры персонажей, перевоплощаться, в полном соответствии с требованиями психологической театральной драмы.
Трудно «укладывать» роман или повесть в несколько получасовых передач, не растеряв обаяния литературного первоисточника. Как правило, создатели радиоциклов по произведениям русской и советской литературной классики не стремятся пересказывать все сюжетные линии, а стараются сосредоточить внимание свое и слушателей на главной мысли книги и основных интонациях автора.
Актер, исполнитель – вот кто властен «приковать» слушателя к приемнику. Вот почему, на наш взгляд, просматривается прямая связь между успехом «постановочного чтения» и приглашением в спектакль известного мастера слова. Образцы этого жанра в эфире существуют не сами по себе, а в конкретном сочетании с актерским именем: горьковская «Мать» и Вера Марецкая, шолоховский «Тихий Дон» и Михаил Ульянов, толстовская «Анна Каренина» и Татьяна Доронина (список можно продолжать достаточно долго).
В настоящее время наметилась тенденция к большей компактности радиопроизведений этого рода. Анализ вещания последних лет показывает, что литературные серии и циклы стали короче: программы «постановочного чтения» теперь ограничиваются, как правило, тремя-четырьмя передачами. Одна из причин такого явления – усложнение драматургической и художественной их структуры. Такие работы, как трехсерийный «Цыган» по мотивам одноименной повести А. Калинина, «Любовь в Старокороткине» по В. Липатову и ряд других, продолжают утверждать этот жанр как форму радиотеатра, как спектакль, оснащаемый всеми доступными радио выразительными средствами, в том числе музыкой и шумами. Эстетика этого жанра обозначена, как мы уже говорили, скрещением старых законов театральной сцены, эстрады и молодого искусства радио. К тому же нынешняя практика вещания разрушает каноническое представление о «литературных чтениях» как театре одного исполнителя. Деление текста «на голоса» нескольких актеров уже подразумевает «общение», разработку «звуковой мизансцены» и тому подобные элементы режиссированного действия.
Приведу два примера, наиболее показательных в этом смысле.
Рассказ В. Кондратьева «Привет с фронта» исполняли у микрофона Л. Касаткина и В. Абдулов. Оба эти мастера обладают большим опытом работы на радио. На первый взгляд включение музыки в ткань передачи, да еще не как фона для актерского исполнения, а в функции самостоятельного художественного (сюжетообразующего) элемента, могло показаться если не полностью излишним, то сомнительным. Однако, по свидетельству и слушателей, и профессиональных критиков, именно музыка придала рассказу и исполнению дополнительную глубину, вызвав новый, порой неожиданный круг ассоциаций. При этом, как заметил в своем письме А.И. Темпов из Ленинграда, «музыка не приглушила, а подчеркнула достоинства прозы и мастерство артистов».
В ряд наиболее значительных достижений радиоискусства войдет и «Судьба человека» М. Шолохова в постановке Л. Веледницкой с М. Ульяновым в роли главного героя.
Ульянов читает текст рассказа, который прерывают то несколько фраз Ванюшки, приемного сына Соколова, то реплики коменданта концлагеря Мюллера в знаменитой сцене, когда Соколов пьет за свою погибель, то причитания жены героя Ирины, провожающей его на фронт, то идущие фоном немецкие фразы. Органично введенные в моноспектакль реплики других персонажей образуют как бы второй план, сообщая действию психологическую и событийную объемность.
Усложнение драматургической конструкции, использование всего комплекса выразительных средств сопутствуют развитию форм и методов пропаганды современной и классической литературы средствами радио. Это не значит, что «просто чтение» уходит из эфира. Напротив, повествовательный характер многих программ обусловлен оперативностью радиоредакций, стремящихся донести до самой широкой аудитории новинки современной прозы.
Чтецкие и постановочные программы не противоборствуют в эфире, а дополняют друг друга, утверждая разнообразие художественной палитры радиоискусства, его неисчерпаемые возможности в просвещении и эстетическом воспитании.
Примечания
1 Говоря так, автор не имеет в виду обязательность существования театрального спектакля по данному произведению; речь идет о приспособлении литературного произведения к требованиям драматического искусства. – А.Ш.
2 Достоевский Ф.М. Письма. М.-Л., 1934, т. 3. С. 20.
3 Говорит СССР, 1931, № 6. С. 11.
4 Там же. С. 10-11.
5 Там же. С. 11
Глава 11 Организационные структуры радиовещания и основы программирования[3]
На рубеже XX и XXI веков организация радиовещания начала претерпевать быстрые изменения – особенно в нашей стране. Проследить и зафиксировать с необходимой точностью и четкостью наиболее оптимальные и стабильные оргструктуры эфирного производства стало трудно. Эволюция административно-технологических характеристик получила такое ускорение, что правомерно говорить лишь о тенденциях в организации вещания. Остановимся на причинах революционных преобразований в радиовещании и выделим две основные.
Первая – технический прогресс, прежде всего компьютеризация и появившаяся с ней новая аппаратура звукозаписи и монтажа, вызвал перестройку всей технологической цепочки в журналистской работе, начинающейся со сбора информации и далее – монтажа, верстки передачи и выпуска ее в эфир. Намного сократилось время, необходимое для осмысления и обработки информации. Если раньше для того, чтобы прокомментировать какой-либо важный факт политики, экономики, культуры или спорта, журналисту надо было обращаться к справочному материалу, находящемуся в библиотеке или справочной службе, то сейчас в распоряжении любого профессионала есть банк данных, хранящихся в его личном компьютере.
Компьютерный монтаж в несколько десятков раз ускоряет процесс подготовки пленки к эфиру по сравнению с тем, как это было в условиях «ручной склейки». Наконец, новое поколение репортерских магнитофонов позволяет делать записи в таких композициях и такого качества звучания, что их можно передавать в эфир без дополнительной обработки.
Вторая причина – социального характера. Если к середине 60-х годов в общественном мнении утвердилась точка зрения, согласно которой «в самое ближайшее время радио сдаст свои информационно-просветительские позиции, полностью уступив их телевидению и домашнему видео», то со второй половины 80-х годов мир стал свидетелем не сокращения, а расширения радиовещания, увеличения числа радиостанций, а следовательно, появления и утверждения новых организационных признаков и принципов. Этот процесс имел общепланетарный характер.
В нашей стране он был связан еще и с теми колоссальными социально-политическими переменами, которые происходили после распада Советского Союза и перестройки государственной системы России. За отказом от диктатуры коммунистической партии последовал отказ государства от монополии на эфир, что означало появление вещательных организаций разного типа и по назначению, и по структуре.
Типовая структура государственной радиовещательной организации и особенности «тематического планирования»
В течение десятилетий у нас в стране государственное вещание – Всесоюзное радио – в организационном плане представляло собой часть огромной структуры, на которую были возложены в полном объеме все без исключения вопросы материально-технического обеспечения вещания, планирование и подготовка передач, идеологический контроль за ними, подбор и переподготовка кадров, международные связи и руководство местными вещательными организациями.
Всесоюзное радио – группа подразделений Гостелерадио СССР, осуществлявших вещание на страну, – состояло из Главных редакций и Программной дирекции.
Главные редакции создавались по направлениям (видам) вещания. Эти направления определялись тематическими или адресными признаками: Главная редакция информации, Главная редакция пропаганды, Главная редакция литературно-драматического вещания, Главная редакция музыкального вещания, а также Главная редакция передач для детей и юношества и Главная редакция вещания для молодежи (радиостанция «Юность»). Внутри каждой редакции существовали отделы, также образованные строго по тематическому и функциональному признаку. Например, в составе Главной редакции информации («Последние известия» и «Маяк») были отделы общественно-политической информации; экономической информации; международной информации – они занимались «заготовкой » материалов к эфиру, и отдел выпуска, который непосредственно формировал новостные программы; на радиостанции «Юность» – отделы комсомольской жизни; художественного воспитания и – по аналогии с «Маяком» – отдел подготовки программ (выпуска).
Заметим, что для государственного вещания эти образования были очень прочными, так как обусловливали четкую специализацию журналистов, а также плотный контроль за содержанием передач. Обратим внимание на такое обстоятельство: после ликвидации Всесоюзного радио некоторые Главные редакции преобразовались в коммерческие радиостанции, сохранив принадлежность к тому направлению вещания, которое они реализовывали прежде: на базе литдрамы музыкальной и детской редакции появилось «Радио 1-Культура», «Маяк» и радиостанция «Юность»; после долгих организационно-творческих блужданий и реорганизаций они стали единой коммерческой станцией, но внутренние свои структуры практически сохранили, хотя значительно сократили число работников.
Кроме редакций, занятых содержательным обеспечением эфира, в структуре Всесоюзного радио находилась Главная дирекция программ со следующими функциями:
– перспективное и текущее планирование программ Центрального радиовещания;
– координация по содержанию и жанрам передач внутри различных программ Центрального радиовещания, передач Центрального радиовещания и Центрального телевидения, а также координация Центрального и местного (регионального) вещания;
– информация в печати и по радио о передачах на текущий день и предстоящую неделю;
– организация выпуска радиопередач в эфир как предварительно записанных на магнитную ленту, так и требующих непосредственного чтения дикторами у микрофона; осуществление прямых трансляций с мест событий (дикторы обеспечивали ведение всех передач Центрального радиовещания круглосуточно по восьми общесоюзным программам);
– анализ писем радиослушателей, обобщение данных по использованию писем радиослушателей в передачах Всесоюзного радио, контроль за своевременностью ответов на письма слушателей.
Вся эта довольно громоздкая система предназначалась прежде всего для контроля за текстами, которые шли в эфир. Вот «лестница», которую проходил материал от момента его подписания до выхода в эфир. (Это касалось любого материала – будь то событийный комментарий, сложная радиокомпозиция или, напротив, крохотная заметка – пересказ сообщения с телетайпной ленты.)
На аккуратно отпечатанном тексте передачи расписывался редактор (подпись автора шла на второй экземпляр, который на всякий случай оставался в столе редактора для возможных «по-слеэфирных разборок»). Этот листок вкладывали в бумажную папку (так называемую «эфирную папку»), и она отправлялась на визу к замзаву или заведующему отделом. Затем на этой папке оставляли автографы заместитель или главный редактор, директор программы вещательного дня и цензор, ставивший печать «разрешено». И наконец, диктор, который объявлял передачу в эфире, тоже расписывался на этой папке, обозначив фактическое время передачи в эфир и соответствие ее многократно завизированному тексту.
Итак, шесть человек своей профессиональной честью и занимаемой должностью должны были гарантировать отсутствие в передаче какой-либо ереси. Впрочем, отлично понимая, как столь громоздкий механизм мешает журналистам и в конце концов ухудшает качество программ, руководство Всесоюзного радио иногда шло на создание временных редакций, в которых журналистам и редакторам оказывалось больше доверия. В эту группу корреспондентов отбирали наиболее талантливых и опытных репортеров и комментаторов и давали им право сдавать материалы на эфир лишь с одной визой цензуры, а иногда руководителю этой группы разрешали указывать на эфирной папке: «Без визы» – и сразу отдавать текст дикторам или пленку на эфир.
Этот опыт впервые был использован в работе группы радиожурналистов, которые готовили ежедневную передачу «Подвиг народа» к 20-летию победы над фашистской Германией. В организации работы такого временного журналистского подразделения использовалась практика Бюро стратегической пропаганды, созданного на государственном вещании США в 1940-1941 годах для подготовки оперативных информационно-публицистических и документально-художественных программ, посвященных «лицу врага» – императорской Японии и гитлеровской Германии. Это был цикл ежедневных проблемных комментариев, радиоочерков и радиокомпозиций, раскрывавших суть фашизма, его антидемократическую, античеловеческую направленность. К работе над этими темами Бюро пригласило лучших радиожурналистов Америки, известных сценаристов и режиссеров из Голливуда, предоставив им полную свободу самовыражения. На каждой из передач стояла виза лишь военной цензуры, дабы корреспондент или сценарист случайно не обнародовали секретные материалы.
Такие же возможности были предоставлены и сотрудникам «Подвига народа», которыми руководил превосходный журналист и многоопытный редактор радио Олег Куденко.
Подобный метод в практике Всесоюзного радио использовался не раз, чаще всего в ходе какой-либо «юбилейной» кампании, но широкого применения он не получил – по вполне понятным соображениям многоступенчатый идеологический контроль за каждым словом и за каждым звуком был генеральным постулатом взаимоотношений государства и журналистов. Ситуация принципиально изменилась после ликвидации цензуры и перехода к массированному выпуску журналистов в «прямой эфир».
Однако структура государственных вещательных организаций в основе своей сохранилась, и главная радиокомпания страны «Радио России» в организационном плане копирует структурные принципы и признаки бывшего Всесоюзного радио, правда несколько снизив статус отдельных подразделений: вместо Главных редакций существуют теперь отделы, которые иногда называются «студиями».
Важно отметить, что переход к бесцензурному вещанию и для государственного радио, конечно, означал принципиальные изменения в процессе подготовки передач. Постепенно сокращался, а в ряде случаев и исчезал процесс многоступенчатого визирования: подписей редактора и одного из руководителей станции теперь стало вполне достаточно; в абсолютном большинстве бестекстовая запись не требует расшифровки: проблемы обсуждаются в случае возникновения конфликта лишь на основе звукозаписи с эфира, если она велась.
Что касается традиционных принципов программирования вещания, то один из самых главных – тематическое планирование -по-прежнему остается в практике современного радио, но, конечно, не в столь всеобъемлющем виде.
Что такое тематическое планирование? Это соответствие содержания передач дня, недели, месяца календарю исторических событий и пропагандистско-рекламных мероприятий. Достигается оно следующим образом.
Сначала формируется сетка вещания, т. е. расписание передач на день, на неделю, на месяц, реже на квартал. В ней обозначены часы и дни определенных жанрово-тематических рубрик. Например:
5.00. Утренние новости.
5.10. Утренняя зарядка.
5.20. Обзор газет.
5.30. Передача для жителей села.
6.00. Последние известия.
6.15. Музыкальная передача. Народные песни.
6.45. Международный комментарий.
И так далее...
...12.30. В рабочий полдень. Концерт по заявкам.
13.00. В детском радиотеатре. Премьера.
14.00. Собеседник. Радиожурнал для пенсионеров.
И так далее...
...19.00. Последние известия.
19.30. Спектакль театра у микрофона (по вторникам и пятницам),
или 19.30. Трансляция симфонического концерта (по средам),
или 19.30. Вечер джаза (по субботам),
или 19.30. Новости рок-н-ролла (один раз в месяц, последняя суббота).
И так далее...
Эта рубрикация стабильна и постоянна. Она вырабатывается на каждый день или на определенный период достаточно тщательно для того, чтобы учесть интересы всех структурных подразделений вещательной организации и, насколько это возможно, интересы аудитории.
После того как сетка вещания разработана, начинается ее заполнение. В зависимости от концепции всей деятельности станции ее руководство утверждает список событий, которые должны быть отмечены в передачах сразу всех направлений или по отдельности – силами информационных, общественно-политических или художественных редакций.
Прежде всего сюда попадают юбилеи общенационального характера – День Конституции, День защитника Отечества, Женский день и т. д., а затем важнейшие общественно-политические мероприятия – например, выборы. Затем – и это самый длинный список – юбилеи выдающихся деятелей прошлого и современности – очередное «-летие» Пушкина, Моцарта, Наполеона, Солженицына, создателя атомной бомбы и т. д., по вкусу начальства.
И только после этого приведенная выше сетка вещания приобретает жанровое тематическое наполнение и выглядит примерно следующим образом:
...5.30. Передача для жителей села. Беседа. Мичурин и современные мичуринцы...
6.15. Музыкальная передача. Народные песни в исполнении Лидии Руслановой – к 100-летию певицы...
...12.30. В рабочий полдень. Концерт по заявкам рабочих автозавода имени Лихачева (в связи с юбилеем грузовика АМО).
13.00. В детском радиотеатре. Премьера. Новые приключения Знаменитых капитанов (к 45-летию рубрики)...
...19.30. Трансляция симфонического концерта. (К открытию Международного конкурса имени П.И. Чайковского.)
или
19.30. Вечер джаза. Дюк Эллингтон. К 100-летию со дня рождения.
На первый взгляд такое планирование весьма логично, ибо позволяет предусмотреть все мало-мальски значимые события и ситуации общественной жизни. Однако пользоваться этим принципом нужно очень осторожно, потому что на практике он приводит к нелепостям анекдотического свойства, ибо освобождает большинство программистов и от ответственности, и от инициативы, которая часто бывает наказуема. Вот как выглядело тематическое планирование в последние годы существования Всесоюзного радио.
В марте текущего года редакторы всех редакций давали свои предложения по поводу содержания передач на будущий год. В мае эти предложения утверждались (или не утверждались) на уровне художественных советов и коллегий в Главных редакциях. Не позднее 1 июня сводный темплан передач на будущий год с указанием рубрик, авторов и участников обсуждался на коллегии Гостелерадио, затем шла его доработка и уточнение на всех уровнях, и уже ранней осенью план подписывало высшее радиоруководство, и он становился законом для всех после утверждения в ЦК КПСС.
На практике это означало, что где-нибудь в мае 1990 года каждый редактор от рядового исполнителя до директора программ должен был знать, КТО, ЧТО и в КАКОЙ ФОРМЕ будет говорить в декабре 1991 года по поводу очередного юбилея образования СССР или какие артисты будут заняты в принятой к постановке в Малом театре новой пьесе.
Все вместе это составляло толстенную книгу в несколько сот страниц, которая выходила тиражом минимум в 200 экземпляров -сколько бумаги и производственных затрат уходило на это, реально никто не считал, а бессмыслицу всех усилий и трудов только подчеркивали некие мелочи: к декабрю 1991 года Советский Союз развалился, пьеса так и не была поставлена, а разрекламированные артисты покинули сцену Малого театра – один вообще закончив свои земные дела, а второй из-за перехода в новую труппу.
Однако тематическое планирование опасно не только непредсказуемостью жизни, которая гораздо чаще, чем это кажется, делает нереальными многие радужные перспективы. Стремление «на всех уровнях» и во всех видах вещания отметиться по поводу общенациональных юбилеев и праздников неизбежно приводило и продолжает приводить к дублированию материалов.
Во многих научных трудах и пособиях по радиожурналистике в качестве анекдота приводится пример неразумности вещателей в связи с празднованием Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля. Вот что обрушивалось на обыкновенного слушателя, живущего, скажем, в небольшом поселке на Волге.
...7.10. Выступление по поселковому радиоузлу ветерана войны, в течение 10 минут излагавшего текст передовой статьи газеты «Правда» за 23 февраля прошлого года...
...7.30. По районному радио практически с этим же текстом выступает райвоенком...
...9.30. Областное радио транслирует беседу о Вооруженных Силах страны, с которой выступил областной военный комиссар...
...10.00. «Маяк» передает полностью текст «свежей» передовой газеты «Правда» на ту же тему...
...14.00. Тот же «Маяк» предоставляет микрофон одному из заместителей министра обороны...
И наконец, в 19.00, перед началом торжественного заседания, на котором с докладом выступает начальник Главного политуправления, в эфире звучит в записи на пленку речь министра обороны, напоминающего всему населению страны о замечательных традициях отечественных вооруженных сил и задачах, стоящих сегодня перед ними и которые касаются всех, включая жителя того приволжского поселка.
Итак, семь раз по одному и тому же каналу звучит практически один и тот же текст. Песня «Вставай, страна огромная...» передается от трех до семи раз, песня «По долинам и по взгорьям...» – шесть-девять раз в день (все цифры – данные за 23 февраля 1985 года).
Казалось бы, все это ушло в прошлое вместе с ЦК КПСС и Гостелерадио СССР. Но вот наступает 23 февраля 1999 года. Речей поменьше, но в различных обработках – от классического варианта до джазовой и рок-н-ролльной версий – мелодия песни «По долинам и по взгорьям...» звучала в эфире минимум по два-три раза в программах более 20 радиостанций, работавших из Москвы.
А Пушкинский юбилей в 1999 году, когда элементарные «нормы повторов» были преодолены редакторами, комментаторами и программистами абсолютного большинства отечественных станций! Один из музыковедов, исследующий взаимоотношения радио и классической музыки, подсчитал, что в различных программах государственного и коммерческого вещания романс «Я помню чудное мгновенье...» в исполнении И.С. Козловского, С.Я. Лемешева и других певцов только за одну «юбилейную декаду» с 1 по 10 июня прозвучал более семидесяти (!) раз. Такие вот минусы тематического планирования преследуют отечественное вещание на рубеже XXI века.
Во избежание этого программирование информационно-музыкальных многопрофильных станций, работающих в режиме «music non stop», строится по совсем другим принципам и критериям, опирающимся не на календарь событий, а на запросы аудитории и формат радиостанции. В определенной мере тематическое планирование сохраняется в практике современных коммерческих информационно-музыкальных станций, особенно крупных по масштабам своей деятельности, многопрофильных по видам вещания, тематике и адресности материалов. Однако оно не имеет, как мы уже говорили, директивного влияния на формирование передач, а является побочным, дополнительным фактором при решении различных вопросов программирования.
Организационные структуры информационно-музыкальных радиостанций и их принципы программирования
Основы структурной организации информационно-музыкальных и чисто музыкальных радиостанций, принципы подбора персонала и сетки вещания определяются большим количеством разнообразных факторов, среди которых выделим следующие:
– Размеры потенциальной аудитории, т. е. количество, социальный и демографический состав населения, на которое ориентирована работа радиостанции. Важнейшим здесь является вопрос: интересует ли станцию все население региона или какая-то его часть.
– Выбранный тип вещания – многопрофильный, подразумевающий подготовку и выпуск в эфир передач разных направлений: информационных, просветительских, общественно-политических, образовательных, развлекательных – или локальный тип, когда четко определен один вид вещания для одной группы слушателей, например музыка для пенсионеров или танцевальная музыка для молодежи. Если радиостанция работает как музыкальная в режиме «music non stop», то ей не нужен, скажем, информационный отдел, зато музыкальных редакторов может быть несколько. И наоборот, если для станции приоритетным является информационное вещание, то в ее штат войдут корреспонденты, комментаторы, репортеры, а музыкальное программирование будет, скорее всего, вестись с помощью компьютера.
– Объем рекламы и ее место в общем объеме вещания радиостанции.
– Уровень технической оснащенности радиостанции. Постоянное обновление радиотехники и средств связи стало причиной столь же постоянной эволюции организационных структур вещательных организаций.
С развитием техники и появлением компьютеров некоторые специальности устарели, и в практике многих станций упразднены целые отделы, без которых раньше работа была немыслима. В практике отечественного радиовещания процесс модернизации затронул не все станции. До сих пор, например, при звукозаписи в качестве носителя используется магнитная лента. Пленки хранятся на бобинах, и для того, чтобы поставить ту или иную запись песни или репортажа в эфир, ведущему нужно отключить микрофон, встать из-за стола, подойти к аппаратуре, найти нужную бобину с пленкой, заправить ее в специальный магнитофон, проиграть в эфире, а затем вовремя отключить. Это достаточно трудоемкий процесс, а ведущий не должен отвлекаться. Поэтому рядом с ним «на эфире» работает режиссер, который ставит эти пленки.
Длительное время существовали такие должности, как «разбобышечник» – человек, который размагничивает пленку после ее использования, или «сейфовик» – человек, отвечающий за хранение особо важных пленок и документов, и др. Или другой пример: на радио не один год использовали машинисток для набора и подготовки эфирных папок (в них собираются материалы к эфиру: заранее написанный текст ведущего, моменты включения пленок, последовательность выхода в эфир, названия музыкальных композиций и т. д.). Для этого, например, на «Маяке» существовал целый производственный отдел, состоящий из 48 человек, из которых 18 были машинистки. С появлением компьютера процесс подготовки к эфиру значительно упростился.
Многие станции стали работать на цифровом оборудовании, которое позволяет избавиться от громоздкой аппаратуры и дает возможность ведущему самому ставить в эфир музыку, микшировать музыкальные и текстовые отрезки, включать записи и пр. Так, интервью только что записанное на магнитофон «Репортер», можно сразу отцифровать, перевести в компьютер и вывести в эфир без привлечения дополнительных сотрудников.
В нашей стране ситуация сложилась таким образом, что со старыми технологиями работают многие государственные станции и некоторые частные каналы, у которых нет денег на новое оборудование. Компьютеризация процесса вещания в финансовом и профессиональном плане оказалась под силу только «молодым» коммерческим станциям. Среди учредителей многих таких станций -французские, американские (например, «Harris Corporation» – одна из фирм-учредителей радио «Максимум» – производитель цифрового оборудования) компании, специализирующиеся на радиобизнесе и принесшие в Россию и новые технологии, и новые принципы работы, и новую организационную структуру.
Принцип организации работы на коммерческом радио можно определить тремя словами: «целесообразность», «окупаемость», «мобильность». Здесь обычно нет лишних людей. Коллектив работает как одна команда, и каждый, в случае необходимости, может подстраховать другого. В организационной структуре радиостанций хорошо развиты горизонтальные связи – отделы тесно взаимодействуют друг с другом: например, ведущие эфира могут озвучивать рекламу, программный директор сам пишет тексты для джинглов и рекламных заставок и т. д.
Итак, размеры аудитории, тип вещания, объем рекламы и техническое обеспечение обусловливают редакционные структуры, которые, как показывает опыт западного, а с начала 90-х годов и отечественного вещания, оказались наиболее оптимальными и перспективными.
В населенных пунктах с населением от 5 до 50 тысяч жителей работу радиостанции обеспечивают не более 10-15 сотрудников. Небольшой штат для таких станций – это вопрос экономии средств. Нет необходимости держать большой персонал, когда один сотрудник может выполнять разнообразные обязанности и способен заменить другого. Так, генеральный директор может быть программным директором и начальником службы информации, ведущий – по совместительству читать выпуски новостей. И все, включая секретарей, должны уметь сочинять тексты для рекламных роликов.
Организационная структура таких радиостанций обычно проста. Например: владелец (учредитель) – генеральный директор, коммерческий отдел во главе с коммерческим директором, программный директор, начальник службы информации, ди-джеи (ведущие), секретариат, инженер.
Как правило, у таких вещательных организаций рядом нет конкурентов, их деятельность полностью удовлетворяет интерес местной аудитории к местным новостям. И открывать поблизости второй канал нерационально – ни с финансовой, ни с какой-либо другой точки зрения.
Радиостанции, расположенные в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, сталкиваются с определенной конкуренцией, и в этих условиях профессионализм и специализация работника ценятся больше всего. На этих станциях работает обычно до 30 человек: увеличивается количество ди-джеев (ведущих), рекламных агентов, появляются такие должности, как музыкальный директор, директор по связям с общественностью и другие.
Вот примерная «иерархическая лестница» (исключая высшее руководство) такой коммерческой информационно-музыкальной радиостанции:
– программный директор,
– заместитель программного директора (должность существует не всегда),
– пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью),
– директор музыкальных программ,
– заведующий фонотекой радиостанции,
– маркетинг-менеджер,
– менеджер рекламного отдела,
– менеджер отдела продаж,
– звукорежиссер (саундпродюсер),
– директор службы информации,
– ведущие эфира.
Аудитории, составляющие десятки, сотни тысяч, а иногда и десятки миллионов слушателей, вызвали к жизни крупные вещательные организации с числом работников традиционно от 70 до 100 человек. За редким исключением, это станции многопрофильные (в нашей стране, по сути, дублирующие и развивающие практику информационно-музыкальных редакций и отделов бывшего Всесоюзного радио), т. е. разносторонние по тематике и адресности.
Структура таких станций включает аппарат генерального директора, куда входят его секретариат, в том числе и пресс-секретарь, а на самых крупных станциях целый отдел по связям с общественностью и четыре дирекции:
– административная дирекция – управление техническими службами, материально-техническим обеспечением, обслуживающим персоналом;
– программная дирекция, куда входят музыкальный и информационный директоры, продюсеры, ведущие программ, корреспонденты, обозреватели;
– коммерческая дирекция – отдел рекламы, группа рекламных агентов, консультанты по рекламе и др.;
– финансовая дирекция – объединяющая экономистов, бухгалтеров и других специалистов этого профиля.
Исторически такой «трехуровневый» по масштабу деятельности массив вещания складывался следующим образом.
В 1920-1940-х годах радио стремилось быть «всем для всех». Именно в это время появился термин «широковещание», означавший как вездесущность радио (доступность радио везде и широту охвата территории радиосигналом), так и его всеохватность.
Главными функциями радио того времени были информационная и культурно-просветительская. Первые программы состояли из трансляций живых симфонических концертов, поэтических чтений, радиоспектаклей, всевозможных развлекательных передач и освещения основных новостей в прямом эфире (сегодня эти передачи составляют значительную часть программной сетки телевидения).
Стратегию планирования такого вещания теоретики радио назвали горизонтальной.
В основе горизонтального программирования лежит принцип всеохватности. Радиостанция, программируя сетку вещания, закрывает все жанрово-тематические ниши, пытаясь удовлетворить потребности всей потенциальной аудитории, живущей в данной местности, не разбивая ее на целевые группы. В рамках этой стратегии сетка вещания ориентирована на аудиторию с разными социальными, демографическими, половозрастными характеристиками. В течение одного вещательного дня в эфир одной и той же станции могут выходить передачи для детей, пенсионеров, выпуски новостей, ток-шоу для домохозяек, передачи для спортивных болельщиков и т. д.
Так как процесс производства передач был очень трудоемким и дорогим, а радиостанций насчитывалось немного, тратить деньги на производство передач только для определенной аудитории было невыгодно. Поэтому горизонтальный принцип программирования был оправдан.
В 50-е годы с появлением телевидения радио стало терять свою популярность. Телепрограммы обеспечивали аудиторию и театром, и другими просветительскими и развлекательными передачами, присущими радио в его лучшие дни. К тому же развитие электроники освободило радио от громоздкого стационарного оборудования. Приемником стали пользоваться на пляже, в машине, просто на улице. Но такое слушание, разумеется, требовало и другого материала, и другого ритма, нежели в традиционных передачах, предназначенных главным образом для спокойного домашнего восприятия.
Всё вместе – и прежде всего необходимость выживать в условиях обостряющейся конкуренции с телевидением – заставило вещателей в США, Англии и других странах сменить роль «ментора» на статус «компаньона».
Большинство коммерческих радиостанций постепенно перешло на узкое, или специализированное, вещание, что в свою очередь породило стратегию вертикального программирования, при котором роль компаньона подразумевает полное соответствие стилю жизни определенного слоя населения. Такая радиостанция не может быть всеохватной, она должна выбрать аудиторию и заниматься только ее информационными, эстетическими, культурными и другими потребностями. Стратегию вертикального программирования многие теоретики радио связывают с понятием «формат».
Формат - это концепция вещания радиостанции, включающая в себя содержание, ритмы вещания, эстетические нормы программирования, манеру работы ведущих и другие специфические особенности организации передач, а также структурирование программных элементов в соответствии с потребностями целевой аудитории.
Понятие «формат» появилось в Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов. Первоначально оно обозначало лишь набор музыкальных направлений, звучащих на волнах радиостанции. А в середине 70-х с появлением форматов «News» и «Talk» стало обозначать принципы программирования всей станции.
Борясь с конкуренцией телевидения, в США большинство станций вначале сконцентрировалось на музыке и коротких выпусках новостей (новости спорта и сводки погоды вообще стали «фирменным блюдом» радио). Передаваемая в эфире музыка не ограничивалась одним направлением. В середине 50-х годов этим станциям, построенным по принципу «всё для всех», был брошен вызов.
По легенде, новый формат был придуман двумя сотрудниками небольшой радиостанции в городе Омаха (США, штат Небраска) – Тодом Сторзом и Биллом Стюартом. Как-то, отдыхая в баре, они размышляли над тем, как привлечь слушателей. Наблюдая за посетителями, они заметили, что в баре звучат одни и те же мелодии, -посетители заказывали в музыкальном автомате одно и то же. Сторз и Стюарт сделали вывод: если люди готовы платить деньги за возможность много раз услышать любимые композиции, то они будут слушать станцию, работающую по этому же принципу. Их система программирования получила известность как формат «Тор 40».
По мере развития новых музыкальных направлений появлялись и новые форматы; в начале 60-х – форматы «Beautiful music» ( «Красивая музыка») и «All-News» («Только новости»); в середине 60-х -«Soft Rock» ( «Мягкий рок») и «Acid and Psychedelic hard rock» ( «Тяжелый рок»); к концу 70-х – началу 80-х относится взлет и падение формата «Disco », который постепенно трансформировался в «Urban Contemporary» («Современный городской»). Формат «Soft Rock» («Мягкий рок») постепенно был заменен на суженный формат «Тор 40», который назвали «Contemporary Hit» («Современный хит»).
Было проведено много исследований и приложено немало усилий, чтобы определить типы программирования, которые привлекают различную аудиторию. Результатом этих трудов стало создание множества форматов.
По существу, формат – это подбор и расположение программных элементов (часто музыкальных записей) в последовательности, способной привлечь и удержать тот сегмент аудитории, в котором заинтересована станция.
Если разумно сочетать программные элементы и музыкальные записи, то станция привлечет именно данную возрастную или социальную группу. Чем больший процент целевой аудитории слушает станцию, тем больше станция может запросить с рекламодателей, желающих использовать этот канал радио для получения коммерческой реакции.
В настоящее время в мире существует более сотни форматных разновидностей. Условно их можно поделить на:
– музыкальные форматы — основной упор делается на музыку;
– разговорные форматы — большинство передач относится к разговорным жанрам (станции, специализирующиеся на коммерческой, религиозной, спортивной тематике);
– новостные форматы, где главное новости.
Станции часто меняют формат. Обычно это происходит на основе решения о смене аудитории и начале «охоты» на более выгодный сегмент рынка. Иногда просто могут меняться интересы аудитории. Бывает ситуация, когда уровень конкуренции в рамках данного формата достаточно высок, и станция решает сменить его на тот, где конкуренция меньше.
В основу формата ложится один или несколько программных элементов, которые становятся приоритетными, а все остальные подбираются так, чтобы подчеркнуть и выделить главный. Формат можно создать, просто исключив из сетки вещания, например, обзор новостей или общественно-политические передачи.
При определении формата станции и программировании необходимо учитывать следующие факторы:
– половозрастные и социальные характеристики населения, проживающего в данной местности (уровень дохода, уровень образования и пр. – нет смысла создавать молодежную радиостанцию в районе, где проживают в основном пенсионеры);
– специфику образа жизни населения той местности, в которой работает радиостанция (если основная масса работающего населения просыпается, например, в 8 часов утра, не стоит начинать утреннее шоу в 6.00.);
– ситуацию на радиорынке в данной местности.
Программирование осуществляется с учетом множества факторов. Ведущая фигура на радиостанции – программный директор. В США и Европе программный директор обычно, прежде чем занять этот ответственный пост, проходит на радиостанции путь от ди-джея и ведущего новостей до пресс-атташе и маркетинг-менед-жера (то есть «вращается» в радиобизнесе от двадцати до двадцати пяти лет).
У нас в стране, учитывая небольшой пока срок существования независимого (коммерческого) вещания, должность программного директора, напротив, чаще всего занимают молодые энергичные люди, которым интуиция, увлеченность и стремление к экспериментам помогают преодолеть недостаток практического опыта.
Ситуация на радио как в мире, так и в нашей стране с годами меняется. Если раньше программный директор должен был быть специалистом высокого класса в области музыкального бизнеса, то сегодня он прежде всего – маркетолог, отлично разбирающийся в особенностях радиорынка, на котором работает радиостанция, и знающий его законы. Радиорынок стал весьма сложным механизмом, включающим в себя массу аспектов, и программный директор должен уметь адаптироваться в сложившейся ситуации (например, если станция не приносит прежнего дохода, он обязан найти выход, сделать ее прибыльным предприятием: заменить диджеев, записать новые джинглы, наконец, полностью поменять формат).
Программный директор полностью несет ответственность за то, что происходит в эфире: программирование и форматную политику, продвижение своей станции на рынке аудиопродукции.
Программный директор разрабатывает сетку вещания, или programming wheel («колесо вещания»), подбирает подходящее время эфира для каждого из ди-джеев, рассчитывает бюджет, планирует вместе с рекламным отделом рекламные и промоушн-кампании (акции, способствующие продвижению станции на рынке), отслеживает аудиторию и изучает конкурентов. Он следит также за наполнением новостных выпусков событиями местного масштаба и спортивными событиями, хотя все это входит в обязанности директора службы информации.
Программный директор участвует и в разработке форматной политики радиостанции, несмотря на то что первоначально выбирает формат и подбирает кандидатуру на пост программного директора высшее руководство радиостанции (генеральный директор, продюсер). Разрабатывая форматную политику, программный директор «локальной » коммерческой информационномузыкальной радиостанции должен найти подходящих ведущих эфира и авторов программ, вместе с музыкальным директором подобрать и проанализировать музыкальный материал и пополнить уже существующую фонотеку, нанять звукорежиссеров и саунд-продюсеров (персонал, занимающийся производством джинглов, рекламных роликов, анонсов, соответствующих формату данной станции), продумать и записать рекламные ролики, записать или заказать соответствующие джинглы радиостанции, составить бизнес-план вместе с сотрудниками отдела продаж и рекламного отдела, дать указания техническому персоналу (инженерам эфира и др.).
Конечно же, программному директору приходится также учитывать условия той местности, в которой работает станция: ее аудиторию, распорядок дня, вкусы, привычки и т. д.
Как уже было сказано, программный директор составляет распорядок работы ди-джеев, находя для каждого наиболее приемлемый сегмент эфира, время от времени меняя часы пребывания их в эфире (если это необходимо), увольняет тех из них, кто перестал соответствовать программной политике радиостанции. Как правило, основной эфирный персонал работает в своем сегменте эфира постоянно (например, с 10.00 до 15.00 или с 19.00 до 24.00) пять или шесть раз в неделю.
Исходя из того, какой процент аудитории слушает радиостанцию в то или иное время в течение утра, дня, вечера и ночи, определяется прайм-тайм - самое слушаемое время. Например, утренний прайм-тайм на радиостанции «N» с 8 до 9 утра, а на радиостанции «Z» с 9 до 10 утра. Чаще всего самая большая аудитория набирается утром и вечером. Прайм-тайм подразумевает иные принципы организации вещания: это самое выгодное для рекламы время, поэтому чаще всего именно на эти часы и программируется больше рекламы. В зависимости от типа станции в это время выходит наиболее значительное количество выпусков новостей и музыка подбирается особенно тщательно.
Среди факторов, влияющих на программирование радиостанции, также можно выделить:
– уровень технической оснащенности станции;
– размеры финансирования.
В процесс программирования входит определение темпа вещания, составление сетки вещания, разработка манеры поведения ведущих у микрофона и многое другое.
При программировании станции важно определить темп вещания, так как в первую очередь он определяет хронометраж программируемых отрезков. Медленный темп подразумевает заполнение сетки вещания крупными элементами продолжительностью звучания от 30 до 60 минут. Это могут быть передачи и музыкальные отрывки (например, фрагменты оперных спектаклей). Чаще всего передачи длительного хронометража готовятся заранее и выходят в эфир в записи на пленку или на другом звуковом носителе. Это позволяет заранее составлять содержание сетки вещательного дня, недели и даже месяца. Передачи начинают анонсироваться задолго до выхода в эфир, и всякое изменение в их содержании допускается лишь как исключение.
Быстрый темп вещания подразумевает дробное программирование. Максимальная продолжительность звукового отрезка – не более 15-20 минут.
Сетка вещания информационно-музыкальной станции составляется из следующих элементов:
- передач/выпусков новостей;
– музыки;
– рекламы;
– элементов «оформления» эфира: анонсов передач, заставок, рекламы ведущих станции и пр.
Для того чтобы программирование радиостанции было эффективным, в практике форматного радио с дробным построением используется «программное колесо» (его еще называют «вещательное колесо» или звуковой час, или «клок»).
Программный директор определяет содержание каждого часа, используя «программные колеса», чтобы лишний раз убедиться, что каждый из программируемых элементов – радиореклама, новости, музыка, прогнозы погоды – расположен в сетке стратегически правильно и доходит до аудитории. Все они должны быть сбалансированы. Слишком много разговора в эфире станции, которая заявляет, что работает по принципу «меньше слов – больше музыки », – и аудитория будет разочарована.
«Программное колесо» тщательно продумывается и формируется так, чтобы в нем были наиболее эффективно представлены все программные элементы. Чаще всего час разбивается на 15-минутные отрезки, т. е. каждые 15 минут в эфире звучат, например, позывные станции.
Однако далеко не каждая станция так жестко программирует свой эфирный час («вещательное колесо» может и вовсе отсутствовать), но даже те радиостанции, которые предоставляют своим ди-джеям большую свободу, так или иначе структурируют свое эфирное время (час или день).
Понятие «программное колесо» можно определить как последовательность программных элементов в течение одного часа эфира. Некоторые программные директора разрабатывают несколько «колес», например, одно для «горячих» временных сегментов -раннее утро и ранний вечер, где больше конферанса, динамичнее музыка и много информации, другое – для более спокойных часов – день и поздний вечер.
Вот один из вариантов «программного колеса» информационно-музыкального формата станции:
1) основной джингл радиостанции, модный шлягер (композиция из лучшей «тройки» национального хит-парада);
2) анонс новостей, блок рекламы;
3) композиция из лучшей «десятки» (4-10-е место национального хит-парада);
4) джингл № 2, хит 80-х годов (композиция, популярная до сих пор);
5) композиция из лучшей «двадцатки» (11—20-е место), сводка погоды;
6) блок рекламы, новости;
7) композиция из лучшей «десятки»;
8) джингл № 3, модный шлягер;
9) композиция из лучшей «двадцатки»;
10) блок рекламы;
11) хит 80-х годов;
12) композиция из лучшей «десятки»;
13) джингл, анонс;
14) модный шлягер;
15) блок рекламы, погода;
16) хит 80-х годов или основной джингл радиостанции (в зависимости от того, что составляет № 1).
«Звуковой час» разрабатывается в соответствии с ритмом жизни целевой аудитории радиостанции. Это касается не только информационно-музыкальных станций, но и чисто новостных, которые, как правило, делятся на 20-минутные циклы (в начале каждого цикла – самые важные новости – государственные, затем региональные, национальные, международные и т.д.), или же станций формата «News/Talk», сетка вещания которых также напоминает «колесо вещания» информационно-музыкальной радиостанции (в начале каждого часа – новости, затем интервью или беседа с гостем, прерываемая рекламными роликами и джинглами, и т. д.).
На многих станциях используется не единая модель для всех 24 часов в сутки, а целый набор схем, сменяющих друг друга в зависимости от времени суток. «Программные колеса» вывешиваются в студии для того, чтобы ведущие могли руководствоваться ими при ведении эфира.
Формирование сетки вещания «форматной» станции имеет жесткие ограничения. Обязательное условие для любого материала (за исключением рекламы) – новостной информации, музыки, репортажа или комментария – их тематическое, адресное и временное (по продолжительности) соответствие формату. Жанрово-тематические особенности передач «закладывают» в процессе разработки конкретного формата. При этом учитывается пограничность интересов аудитории. Так, радиостанция, работающая в соответствии с форматом «Классическая музыка», может позволить себе элементы литературно-художественного вещания, например радиосериал, повествующий о жизни композиторов Возрождения; радиостанция, специализирующаяся на новостях, включает в программную сетку серьезные общественно-политические комментарии.
Большинство «локальных» коммерческих информационно-музыкальных радиостанций практикуют компьютерное программирование эфира: специальные компьютерные программы (Power-play, Powergold, Selector и др.) выстраивают как музыкальный материал, так и все остальные элементы (новости, ролики и т. д.) в четкой последовательности в течение часа, в зависимости от формата радиостанции. Каждый программный элемент имеет свое, жестко закрепленное за ним место. Соответствие концепции, параметры стиля, содержания и т. п. обеспечивает компьютер, а программный (иногда музыкальный) директор слегка редактирует результаты его работы.
При распределении программных элементов важно учитывать все факторы. Например, если станция запрограммирована «выдавать» в эфир много музыки и минимум разговоров, то ди-джею нужно строго придерживаться этой схемы, иначе нарушится «слушательский комфорт» и рейтинг станции снизится. Ведущий также должен запустить каждый из элементов в отведенное ему время: именно в 11.58 и ни на минуту позже – рекламный ролик, потому что в 12.00 следует главный джингл радиостанции и начинается новый эфирный час.
Так как на информационно-музыкальных станциях основой эфира является музыка, то остальные элементы подчиняются этому факту: все рекламные ролики, джинглы, промо должны соответствовать музыкальному формату станции. Скажем, на динамичной молодежной «хитовой » станции вряд ли уместен рекламный ролик или анонс, где музыкальной «подложкой» является мелодия в ритме вальса или марша – если только это не самая модная композиция.
Как мы уже говорили, на любой информационно-музыкальной радиостанции существуют четкие временные рамки, в соответствии с которыми подбираются ди-джеи, тембр голосов и манера поведения которых в эфире должны максимально соответствовать времени суток.
Коммерческие информационно-музыкальные радиостанции, несмотря на разные форматы, планируют свой эфирный день примерно следующим образом.
С 6.00 до 10.00 утра наиболее горячее утреннее время (утренний прайм-тайм), когда люди встают и собираются начать новый трудовой или учебный день. В это время к приемникам «приникает» максимальное число слушателей, поэтому этот сегмент отдается Hard
DJs – самым ярким, остроумным и интересным радиоперсонажам, которым есть чем поделиться со слушателем. Обязательно должен звучать бодрый, «пионерский» голос ведущего (иногда утром работают пары ди-джеев – мужчина и женщина), заряжающий энергией и излучающий уверенность и оптимизм. Этот отрезок эфира заполняется большим количеством рекламы, новостей, анонсов, обзоров прессы, прогнозами погоды и гороскопами, информацией о наличии автомобильных пробок (в это время людям некогда просматривать прессу, а часто и смотреть телевизор). Музыкальный материал также программируется соответствующим образом, способствуя пробуждению и хорошему настроению на грядущий трудовой день.
С 10.00 утра до 15.00 (16.00) вечера – время, когда люди находятся на работе, поэтому музыка, а соответственно и голоса, и манера вести эфир ди-джеев должны быть спокойными, не раздражающими аудиторию. Радио должно восприниматься как фон, создавая приятную атмосферу. На некоторых радиостанциях в это же время (где-то с 13 до 14 или с 14 до 15) звучат первые концерты по заявкам радиослушателей.
С 15.00 (16.00) до 20.00 – вечерний прайм-тайм. После рабочего дня люди возвращаются домой. В эфире в эти часы может звучать разная по темпу музыка (и хорошо знакомые хиты прошлых лет, и самые «горячие» песни). В это время в эфире появляются новые ведущие категории Hard DJs, которые не только настраивают слушателей на мажорный лад, но с помощью комментариев и эмоционального общения напоминают, что трудовой день завершен. Увеличиваются часы общения с аудиторией (комментарии к музыкальному материалу), в эфире много розыгрышей, викторин, новостей, также различных по тематике программ (спортивные, музыкальные, светские новости, кино-, видеообзоры по 15– 30 минут).
С 20.00 до 00.00 – время танцевальной музыки, ремиксов (как правило, это танцевальные версии известных хитов), появления в студии новых ди-джеев (Medium DJs). Их задача – только слегка «оттенять» композиции своими комментариями, в основном развлекая слушателей с помощью музыки. В это время в эфир выходят программы по заявкам, а также авторские программы популярных ведущих, имеющие высокий слушательский рейтинг (как правило, они длятся от получаса до 1,5-2 часов).
С 00.00 до 6.00 утра – ночное время, в эфире звучит спокойная музыка. Радиостанцию в эти часы слушает минимальное (по сравнению с другими сегментами эфира) число людей. Ночной эфир, как правило, «возглавляют» совсем молодые ведущие или новый эфирный персонал (Light DJs), для которых это время максимально подходит для того, чтобы научиться работать в прямом эфире, прежде чем выйти в «большое плавание» в другие, более рейтинговые временные отрезки.
Некоторые станции используют ночное время для различных эротических шоу или специальных программ, не рассчитаных на широкую аудиторию. Такие передачи ориентированы на публику от 25 лет и старше.
Рассмотрим специфику планирования и формирования новостных программ, музыки и рекламы.
Планирование информационных выпусков. Оперативная новостная информация стала насущной потребностью современного мира и одной из основных услуг, которую может предоставить радио своим слушателям. Специфика радио как средства массовой информации позволяет ему максимально оперативно реагировать на последние события. В очень редких случаях руководство станции полностью отказывается от выпусков новостей.
Существует два способа построения выпусков новостей:
– принцип «перевернутой пирамиды», когда новости в блоке выстраиваются по принципу значимости – от более важных к менее важным и актуальным;
– принцип «рубленой строки» или, как говорили еще в 30-е годы, а затем в период становления «Маяка», – принцип «лапши», когда новости в блоке выстраиваются произвольно, сначала может пойти рассказ о событиях второстепенной важности, затем о самых значительных и т. д.
Обычно выпуск новостей включает самые разные по тематике материалы. Однако существуют тематические выпуски новостей, посвященные только одной теме, например общественно-политическим вопросам или спорту, культуре, шоу-бизнесу и т. д.
Некоторые станции для привлечения слушателей каждый час дают поток информации, не разделенной по тематическому принципу и не разбитой по принципу значимости. Так, после сообщения о смерти Дудаева и беспорядках в Грозном может пойти информация об изменении валютного коридора, а потом об археологических находках в Египте, затем о рухнувшем самолете с семилетней девочкой-пилотом, а в завершение – о погоде.
Количество выпусков новостей в течение часа (суток) и принципы их программирования в сетке дня зависят от направленности станции – музыкальной, информационной и т. д. На станциях с горизонтальным программированием продолжительность выпуска «Последних известий» может доходить до 15-30 минут.
Музыкальные развлекательные станции предпочитают давать новости, структурированные по тематике: общественно-политические, экономические, культурные, спортивные и пр.
Хронометраж выпусков жестко регламентирован двумя-тремя минутами, чтобы вписываться в систему дробного программирования, которой придерживается большая часть музыкальных развлекательных станций. И время, и периодичность выхода в эфир новостей варьируются в зависимости от времени суток и прайм-тайм. В утреннем прайм-тайме звучит больше выпусков новостей, чем, скажем, в течение всего дня. В ночное время музыкальные станции часто вообще не дают блоков новостей. На станциях, работающих в формате «АП News», новости идут круглосуточно, в сетку вещания здесь включаются как смешанные, так и тематические выпуски.
Программирование музыки. С развитием звукозаписи и появлением пластинок, а затем и дисков воспроизведение музыки в эфире намного упростилось, что позволило многим станциям сделать музыку основой программирования.
Музыка на современном радио подбирается по двум принципам: на основе выбранного музыкального направления или произвольно, по принципу «свободного музыкального эфира».
Музыку для программы в течение дня подбирает музыкальный редактор или автор передачи, чаще всего руководствуясь собственными вкусами. При этом ограничений в выборе музыкального направления или исполнителя нет. На радиостанциях с горизонтальным программированием можно услышать музыку всех стилей: классическую, поп, рок, джаз и т. д.
Долгое время в нашей стране на государственном радио практиковался принцип «говорящей мелодии», когда песни для передач или для заполнения промежутков между ними подбирали так, чтобы их слова или мелодии подкрепляли сказанное. Например, после передачи о железнодорожниках, могла звучать песня со словами: «...Он уехал прочь на ночной электричке...»
Сегодня, как правило, действует принцип произвольного подбора музыки на тех станциях, которые не ставят своей целью получение прибыли от музыкального вещания.
Значительно более строго и жестко обстоит дело с отбором музыкальных произведений на специализированных информационно-музыкальных станциях, хотя для неподготовленного слушателя, настраивающегося, например, на волны FM-диапазона, вся музыка, звучащая в эфире, может показаться «на один лад». Какая-либо композиция порой звучит в течение дня несколько раз на разных станциях. У неискушенного слушателя создается впечатление, что музыкальный стиль и вкус у этих станций абсолютно одинаковый, и он прав.
Массив музыки, используемой в эфире, – общий для многих каналов. Разница заключается лишь в ограничениях на ту или иную музыкальную продукцию, обусловленных форматом.
Прежде чем композиция выходит в эфир, она проходит отбор. В первую очередь определяется ее принадлежность к тому или иному направлению. Если программный директор решит, что музыкальная композиция подходит формату станции, она проходит сортировку и тестирование.
Если радиостанция компьютеризирована, то информация о песне вводится в компьютер, затем на основе информации о всей фонотеке составляется плей-лист. Программирование музыки основывается на результатах тестирования. Тестирование проводится по следующим параметрам: темп музыки, ритм, пол исполнителя, язык песни и пр. Эти данные заносятся в компьютер, который должен расставить музыку в эфире таким образом, чтобы, например, после двух быстрых мелодий звучала одна медленная, чтобы в течение часа (или дня) в эфире не звучали песни одной и той же группы, одного и того же исполнителя, не дублировались бы манера исполнения или музыкальный стиль композиций и т. д.
Ротация, или частота звучания песни в эфире, обычно соотносится с ее популярностью и положением в общенациональном или местном хит-параде продаж.
Программирование музыки во многом зависит и от времени суток. Эфир может быть спланирован так, чтобы определенные типы песен звучали в соответствующие промежутки вещательного дня, потому что в эти конкретные часы у станции есть аудитория, интересующаяся именно такими сочинениями. Музыка может варьироваться, переходя от одного временного отрезка к другому. Обычно такое программирование нацелено на привлечение разных возрастных групп общей целевой аудитории.
Есть станции, которые программируют свое музыкальное вещание, не меняя темповых характеристик в течение дня. Но большинство из них все же подгоняют конкретные музыкальные номера под эмоциональный настрой аудитории.
Если утром более молодой аудитории требуется повышенная энергичность, больше ритма и драйва, то станции, ориентированные на более взрослую аудиторию, на это время планируют менее ритмичную музыку. Днем ритм и темп звучания музыки «для юных» могут замедляться, ранним вечером – снова убыстряться, ночью – входить в наиболее медленную фазу.
После составления плей-лист редактируется музыкальным или программным директором, и затем на основе этого листа библиотекарь или ди-джей из фонотеки подбирает материал для эфира.
Не все радиостанции имеют в своем штате директора музыкальных программ. Иногда программные директора сами отвечают за подбор музыкального материала. Если этим делом занимается программный директор, то задача музыкального в основном сводится к установлению контактов со звукозаписывающими компаниями и заказу музыкальных материалов, соответствующих формату радиостанции.
Звукозаписывающие фирмы или их дистрибьюторы присылают станциям промо-версии новых альбомов исполнителей (компакт-диски, реже кассеты с музыкальным материалом, еще не поступившим в продажу, предназначенным только для «раскрутки» по радио). В штате звукозаписывающих фирм всегда есть люди, отвечающие за связи с масс-медиа, в том числе и с радио, которые подбирают (иногда вместе с музыкальным директором) и отсылают материалы для конкретной радиостанции.
Кроме альбомов, синглов (дисков, содержащих один или два хита с будущего альбома исполнителя), радиостанции заказывают у специальных компаний, занимающихся составлением и продажей хит-дисков (сборников потенциальных шлягеров), которые выпускают как западные, так и российские компании. Звукозаписывающие компании выпускают компиляции хитовых композиций по музыкальным направлениям (сборники самой «горячей» танцевальной музыки, рок-, поп-хитов и т. д.).
Поступившие пластинки с новым материалом прослушиваются музыкальным директором. Он вносит его в компьютерную базу данных, присваивает записям порядковый номер диска, вносит также в компьютер фамилию музыканта или название группы, указывает длительность звучания, темп композиции, пол исполнителя и т. д. (на каждой станции есть своя градация), после чего они поступают в фонотеку.
Использование компьютерного программирования очень облегчает работу программных и музыкальных директоров, тем более что компьютерные фирмы постоянно совершенствуют свою программную продукцию. Информацию о положении песен в хит-параде программные директора получают из специальных изданий -информационных бюллетеней с национальным хит-парадом, а также из специализированных иностранных изданий Radio&Records, Music&Media, где публикуются таблицы популярности песен практически всех стран мира.
Основные вопросы, стоящие перед музыкальным директором, – определить, что будет звучать в эфире, когда и как часто. В этом случае работа музыкального директора, «отслушивающего» новый музыкальный материал и определяющего те композиции, которые могут стать потенциальными хитами и будут звучать на радиостанции, напоминает работу директора звукозаписывающей компании, который также на свой страх и риск решает, будет ли молодой исполнитель, принесший в студию демо-запись, «звездой» и стоит ли вкладывать в него деньги. И если боссы студии звукозаписи могут упустить потенциальную «звезду», а следовательно, и деньги, то радиостанция, недооценившая молодого исполнителя и не ставшая «крутить» его песни, может недополучить значительную часть аудитории, возможных рекламодателей, лишиться некоторой доли прибыли, а как следствие все это приведет к снижению ее рейтинга. Поэтому музыкальному директору необходимо иметь врожденное чутье на потенциальные хиты.
Роль рекламы в программировании. Рекламные услуги оказывают практически все станции. Это социальная и коммерческая реклама, объявления общественных организаций, анонсы разных событий, информационными спонсорами которых может выступать любая станция, даже религиозная.
Реклама на радио существует в виде репортажей, заказных передач и роликов – самой распространенной формы подачи рекламы.
Существует нескольких типов роликов:
– простой информационный ролик (рекламный текст читается в один голос и накладывается на музыку);
– игровой ролик (рекламный текст раскладывается по ролям и накладывается на музыку);
– музыкальный ролик, или джингл (сочиняется песенка, рекламирующая товар; к ней или подбирается уже известная мелодия, или пишется специально);
– объявление (когда ведущий сам зачитывает в эфир рекламу клиента).
Рекламные ролики имеют разный хронометраж: от 5 секунд до 3 минут. Самый распространенный на радио хронометраж – 30, 45 и 60 секунд.
Рекламные ролики объединяются в блоки – до 3-4 роликов, не более: перенасыщенность эфира рекламой может оттолкнуть слушателей.
Время и периодичность выхода рекламных блоков в эфир определяются многими факторами. Учитываются аудитория, на которую рассчитан рекламируемый продукт или услуга, время, в которое именно эта часть аудитории слушает станцию. Конечно, самое выгодное и дорогое время для рекламы – это прайм-тайм. Собственно, определение границ прайм-тайм продиктовано лишь желанием руководства станции как можно дороже продать это время рекламодателю.
Типы роликов и их хронометраж во многом зависят от направленности станции. Реклама не должна раздражать слушателя. Ее следует подавать дозированно, и желательно, чтобы она органично вписывалась в формат. Например, если рекламный ролик предназначен для молодежи, то текст для него будет, скорее всего, написан с использованием сленга. Если же эта реклама звучит на религиозной станции, то не стоит ждать от музыкального фона рок-н-ролла или джазовых изысков.
Элементы «оформления» эфира в программировании. Заставки к передачам, звуковые послания редакции своим слушателям, анонсы передач, позывные, слоганы, даже сигналы точного времени – все эти небольшие по продолжительности (не более одной минуты) элементы программирования играют очень важную роль в создании неповторимого лица станции.
Во-первых, в совокупности они формируют в сознании аудитории устойчивый имидж радиостанции, обусловливают ее стиль и манеру общения; «рассказывают» слушателю о ведущих, о программах и событиях, которые происходят при участии станции. Если представить, что эфирная программа радиостанции – это товар, то элементы оформления эфира – его упаковка.
Во-вторых, элементы «оформления» эфира выступают в качестве структурирующих и темпообразующих элементов сетки вещания.
Например, с помощью позывных можно ускорять или замедлять ритм вещания. Если «отбивать» каждую песню позывными, а после каждой третьей давать сигналы точного времени, то вещательный час разбивается на еще более мелкие отрезки – создастся впечатление, что станция работает в «ускоренном режиме». Если же «отбивать» позывными только каждую пятую песню и при этом сигналы точного времени давать один раз в час – у слушателей будет складываться впечатление, что станция работает в замедленном темпе, но дает больше музыки.
Стиль ведущего как элемент программирования. Манера ведения эфира, тембр голоса ведущего, скорость речи, продолжительность его включений в музыкально-информационный поток – важнейшие интонационно-стилевые характеристики станции. Ведущий – ее лицо, поэтому он должен быть «органичной частью» формата.
Одна из главных заповедей эффективного программирования гласит: «Никогда не обманывайте ожиданий аудитории». И какими бы талантами и достоинствами ни обладал ведущий, он нужен станции только в той степени, в которой способен соответствовать стилю вещания, обусловленному форматом, способен принять имидж, предложенный ему руководством. Чаще всего подбор имиджа происходит с учетом характера и психологических особенностей человека. Иногда манера, в которой ведущий работал ранее, не устраивает. Например, если ведущий работал на «станции для молодежи» и общался с аудиторией на ее языке – сленге, то, перейдя на станцию формата «ретро», он будет обязан сменить манеру ведения передачи и стать более «консервативным» и аккуратным в подборе лексики.
Раздел IV Мастера у микрофона
Глава 12 Н. О. Волконский
Ряд наиболее видных деятелей отечественной аудиокультуры XX века по праву начинается с имени Николая Осиповича Волконского – режиссера Малого театра, первого художественного руководителя Всесоюзного радио, автора и режиссера первого отечественного радиоспектакля, 25 декабря 1925 года открывшего весьма значительный ряд блестящих работ на отечественном радио, мастера, оказавшего огромное влияние на творческую практику многих выдающихся деятелей русской аудиокультуры в 20-е, 30-е и 40-е годы, человека, впервые в России сформировавшего методы творческой работы у микрофона и принципы и закономерности воздействия произведений аудиокультуры на слушателей. Словом, личность почти легендарная по своему влиянию на историю отечественной аудиокультуры вообще и радиоискусство в частности. Имя Волконского известно любому работнику радио, причем эта известность распространяется на несколько поколений.
Парадокс же заключается в том, что в течение многих лет о Волконском было известно лишь имя, отчество и название некоторых его сочинений для эфира. Часто и много говорили о его творческих принципах, о них писали в своих статьях и воспоминаниях его благодарные ученики Эраст Гарин, Осип Абдулов и многие другие. Поэтому творческие принципы и приемы его работы были достаточно известны, но поскольку сам Волконский, кроме нескольких небольших статей и рецензий в полуистлевших журналах 1920-х годов, до которых и в крупных библиотеках добраться не просто, книг и значительных публикаций не оставил, то его собственная личность даже для узкого и заинтересованного круга профессионалов – в 40-е, 50-е, 60-е годы оставалась затерянной в тумане времени. Энциклопедии и театральные справочники упоминали его в ряду режиссеров середины 1920-х годов.
Театроведы время от времени открывали для себя рецензии и дискуссионные статьи коллег минувших лет, как правило, отчаянно споривших, главным образом, о театральных опусах Н. О. Волконского.
Попытки восстановить его творческий путь или хотя бы реконструировать его биографию, как правило, оказывались несостоятельными.
Постепенно сложилось впечатление, что активно действующий мастер театральной и радиорежиссуры то ли сам отошел от творчества, то ли по хорошо известным нам историческим обстоятельствам был насильственно лишен художественной практики, но факт остается фактом: с начала 1930-х годов Волконский уходит в неизвестность для коллег-современников и довольно быстро забыт новым поколением творческих работников как в театре, так и на радио.
Автор этих строк несколько раз приступал к реконструкции творческой биографии Николая Осиповича Волконского и каждый раз терпел неудачу, несмотря на то что имя Николая Осиповича возникало неизбежно и с большим пиететом на устах многих крупных актеров, режиссеров и даже радиожурналистов старшего поколения.
Так продолжалось много лет и зим, пока молодая журналистка Дарья Хлестова, работавшая в литературной части Малого театра (за которым, согласно истории искусств, и числился в самые активные свои годы Николай Осипович Волконский), не раскопала в театральном архиве бесценные для нашей темы материалы, рассказывающие о жизни, творчестве Волконского и весьма своеобразных его взаимоотношениях с художественной критикой.
Материалы эти, тщательно исследованные – прежде всего с точки зрения их достоверности, – составили дипломное сочинение Хлестовой на факультете журналистики МГУ, а вместе с материалами, текстами и мнениями, собранными автором этих строк, дали возможность с большей или меньшей степенью достоверности восстановить творческий путь Н.О. Волконского – и по ходу театральной практики, и в процессе работы у микрофона.
По некоторым сведениям, Н.О. Волконский был прямым потомком Марии Николаевны Волконской, жены декабриста, происходившего из легендарного княжеского рода.
Так, проследив по монументальной книге «Род князей Волконских», написанной Елизаветой Григорьевной Волконской, историю этой древней фамилии, можно предположить, что Николай Осипович мог быть внуком Елены Сергеевны Волконской, дочери декабриста Сергея Григорьевича Волконского и Марии Николаевны Волконской.
Однако после революции было «немодно» иметь дворянские корни. Особенно работникам государственных учреждений, а Малый театр принадлежал именно к этой категории (не случайно уже в конце 20-х годов он стал называться Малый театр Союза ССР), -так вот работникам таких организаций настоятельно «не рекомендовалось» подчеркивать свою родственную связь с российской аристократией. Тем более указывать на свое княжеское происхождение.
У нас нет документально подтвержденных свидетельств, но, судя по всему, выходцу из княжеского рода настоятельно посоветовали не афишировать свое происхождение. И он написал свою автобиографию без упоминания родителей, места рождения, а также не затрагивая период детства.
Ясно было, что он не из простой рабочей семьи, не сын путевого обходчика или стрелочника и даже не отпрыск мелкого служащего. В автобиографии записано, что Волконский знал иностранные языки (владел французским и немецким языками), а это указывало на хорошее, если не «аристократическое», образование. Но других сведений о происхождении в документах мы не находим.
Правда, есть одна зацепка... Характеризуя в 1925 году свою работу над первой советской радиопьесой «Вечер у Марии Волконской», автором и постановщиком которой он был, Николай Осипович говорил друзьям и коллегам, что работа над этим материалом – для него работа особого рода, ибо он имеет дело с семейной реликвией.
Об этом рассказывал студентам Московского университета и Э.П. Гарин, который был учеником и другом Волконского. Сохранились свидетельства нескольких человек, которые слышали это выступление Э. П. Гарина, в том числе на вечере памяти Мейерхольда в городе Жуковском в 1961 году. Гарин, вспоминая о Волконском, прямо говорил о его княжеском происхождении, которое тому приходилось если не скрывать, то, по крайней мере, не афишировать. Именно поэтому в беседах с журналистами в 1925 году по поводу постановки «Вечера у Марии Волконской» Николай Осипович, говоря о том, что тема декабристов – это очень «дорогая для него лично, можно сказать, семейная тема», никак этот факт не конкретизировал.
Занимаясь сбором материалов о первой советской радиопьесе, автор этих строк, на основании бесед с участниками спектакля и с людьми прямого окружения Н.О. Волконского, без особого труда установил, что Волконский положил в основу текста пьесы «известную книгу воспоминаний жены декабриста, своей прапрабабки М.Н.Волконской».
Других документов нами пока не найдено. Но той точки зрения, что Николай Осипович – прямой потомок семьи декабристов, насколько нам удалось выяснить, придерживались такие историки культуры, как И. Андроников, Н. Эйдельман, Ю. Айхенвальд.
Свою автобиографию Николай Осипович Волконский начинает сразу с упоминания о своем сценическом образовании, которое он получил в театральной школе-студии, руководимой К.В. Бравичем, Ф.Ф. Комиссаржевским и М.П. Ярцевым. Более подробных сведений о его детстве и юности у нас нет.
Судя по всему, Николай Осипович был хорошо образован и помимо театральной студии. Писатель Л.И. Славин так описывал свое общение с ним: «Временами, когда Волконский говорил, вам думалось: „Это мозг ученого“. С такой непререкаемой логичностью развивались его суждения»1.
Профессиональная деятельность Николая Осиповича началась в Театре Комиссаржевской, где с 1914 года в качестве актера он работал в течение четырех лет. Это была прекрасная школа для будущего режиссера и единственный театр, где Волконский играл, а не ставил пьесы. В числе своих любимых ролей сам Волконский выделял две: Князя в спектакле «Ванька Ключник и Паж Жеан» Сологуба и Бургомистра в «Пане» Ван Лерберга.
Будучи, видимо, с самых молодых лет фигурой неординарной, яркой личностью, Николай Волконский не мог не привлечь к себе внимания. И сразу после Февральской революции он был приглашен к участию в работе руководящего состава театра. А после Октябрьской революции творческий коллектив доверил ему провести национализацию театра. И Волконский был избран директором и председателем совета Театра им. Комиссаржевской.
1918 год преподнес Волконскому неожиданный сюрприз. Его заметил директор Государственного Малого театра А.И. Южин-Сумбатов и пригласил поработать в качестве режиссера-постановщика на старейшей русской драматической сцене. От такого предложения отказаться было невозможно. Так Николай Осипович Волконский пришел в Малый театр.
Он позднее напишет, что пытался «сочетать полученное сценическое образование и практику под руководством Ф.Ф. Комиссар-жевского с лучшими традициями Малого театра»2.
Но к сожалению, творческая линия молодого начинающего режиссера сразу натолкнулась на неприятие основной части труппы. «Нетрадиционные» художественные взгляды Волконского шли вразрез с устоявшейся практикой одного из самых консервативных театров России.
Коллеги и друзья знали Волконского как человека прямого и принципиального. Он никогда не скрывал свою точку зрения, а творческие разногласия предпочитал разрешать в открытой дискуссии.
В этом отношении очень показательна носившая острый характер переписка Николая Осиповича с дирекцией Малого театра по поводу ухода из театра молодого артиста В.Э. Мейера. В письме Волконский прямо заявляет о своем несогласии с административной политикой, с отношением руководства Малого театра к молодым творческим кадрам и критикует работу по составлению репертуара.
В ответном письме, полном нескрываемого раздражения, директор театра В.К. Владимиров не пытается дать объяснения по существу, а переходит «в нападение» и начинает вспоминать творческие промахи Волконского,
Он упрекает Николая Осиповича в попытке распространения своего влияния в театре, в тяготении к формализму. «Не могу не сказать, – пишет директор театра, обращаясь к режиссеру в третьем лице, – что с каждым годом становится все труднее и труднее влиять на Н.О. Волконского и выправлять вывихи в его работах»3. Владимиров саркастически называет все выпады режиссера его «недугами».
Несмотря на всю резкость, на справедливые и несправедливые обвинения директора театра, Николай Осипович умудряется в «Ответе на ответ» сохранить тон, полный чувства собственного достоинства. Он соглашается с рядом упреков, высказанных Владимировым, но продолжает настаивать на том, чтобы проводить дискуссию по действительно важным вопросам, а не превращать ее в личную «склоку».
«Я признаю свои ошибки. Мне действительно свойственны формалистические увлечения и вывихи. Но я упорно работаю над собой... Вы же пытаетесь, как только у нас возникли принципиальные разногласия, ЗАКЛЕИТЬ весь мой труд ярлычком формализма и зачеркнуть все положительное...»4
Эта переписка свидетельствует о том, что при всей прямоте характера Николай Осипович старался не превращать принципиальный спор в междоусобную войну, а искал пути конструктивного решения конфликта. Он умел признавать свои ошибки и не путал рабочий конфликт с личной ссорой.
Так, в конце письма Николай Осипович напоминал, что и В.Н. Пашенная, которая была лидером делегации против «Доходного места» (в постановке Волконского), и М.М. Климов, отказавшийся от роли Фамусова в восстанавливаемом им «Горе от ума», относились к нему с искренним уважением, и «оба имели реальные доказательства, что я умею отделять творческие, принципиальные разногласия от личных столкновений и обид»5.
Эти довольно резкие письма Волконский заканчивал фразой: «С товарищеским приветом».
Основным недостатком постановок Малого театра Волконский считал отсутствие главной идеи, которой было бы подчинено сценическое действие: и игра актеров, и музыкальное сопровождение, и художественное оформление. «Потому я стремился, – пишет Волконский, – противопоставить ложно понятой в этом театре „свободе“ актерского творчества познание „необходимости“ подчинить эту свободу общей идее спектакля. Эта моя творческая линия сочеталась со стремлением к повышенной театральности и четко очерченному пластическому выражению спектакля»6.
Именно за это «четко очерченное пластическое выражение спектакля» часть критиков «приклеит» Волконскому ярлык формалиста.
А между тем за 13 лет работы в Малом театре Николай Осипович поставит около 20 спектаклей, среди которых, безусловно, были спорные постановки, но были и очень успешные, привлекавшие значительный интерес как зрителей, так и театральной критики.
Наиболее характерными для себя работами в Малом театре сам Волконский считал такие, как: «Недоросль» Фонвизина, «Игроки» Гоголя, «Заговор Фиеско» Шиллера, «Загмук» Глебова, «Доходное место» Островского и, конечно, «Горе от ума» Грибоедова.
Но еще в 1930 году в уже упомянутой анкете Главискусства на вопрос «удовлетворяет ли вас работа» Волконский ответит: «Не вполне»7. Режиссеру трудно было работать в обстановке постоянного противодействия со стороны многих актеров, причем актеров старшего поколения, голос которых всегда имел в Малом театре особое значение и авторитет которых давил на мнение молодой части труппы. Это творческое противостояние завершилось уходом Николая Осиповича Волконского из театра.
Сохранилось его письмо в сектор искусств Наркомпроса РСФСР, в котором он просит об увольнении его из Малого театра. Этот документ позволяет лучше понять причины разрыва. Волконский пишет, что вынужден просить освободить его от работы в Государственном Малом театре с 1 сентября 1932 года, так как считает свою работу в условиях, определяющих жизнь этого театра, нецелесообразной.
«Причины, вынуждающие меня принять это решение, – продолжает он, – сложны. Острота моих разногласий с руководством театра по репертуарно-творческим вопросам достаточно известна. Ограничусь лишь указанием на отсутствие нормальной творческой загрузки, на совершенно неудовлетворительные перспективы этой загрузки в предстоящем сезоне <...>
Не мне давать оценку своей работе в Малом театре, но я испытываю глубокое удовлетворение при мысли, что, в меру своих сил, всегда шел в этой работе по линии наибольшего сопротивления, не отступая перед препятствиями и трудностями, не снижая принципиальных установок работы. В этом я видел оправдание и целесообразность своей работы в труднейшем именно для режиссера старейшем театре»8.
Волконский пишет, что это был трудный путь, – путь, который он преодолел тяжело и не без колебаний. Много раз возникала у режиссера мысль об уходе из театра, но «каждый раз эти мучительные сомнения заканчивались решимостью продолжать работу»9. С одной стороны, Волконский оставался потому, что «руководящие товарищи (т.т. Эпштейн и Городинский) четко указывали на недопустимость ухода»10, а с другой – он просто очень любил дело, которому отдал столько лет, был привязан к нему всей душой, и должно было произойти что-то чрезвычайно серьезное, чтобы он все-таки покинул Малый театр.
«В создавшихся условиях, – заканчивает письмо Волконский, -дальнейшая работа в Малом театре для меня совершенно неприемлема, и работать в нем я больше не могу. Москва, 29 мая 1932 г.»11.
Это очень эмоциональное заявление свидетельствует о том, что Николай Осипович очень переживал несложившиеся отношения с одной из лучших московских трупп. Но он понимал, что, даже если ему не станут открыто противостоять, его лишат любой возможности проявить свою творческую индивидуальность, полностью игнорируя его как режиссера, не давая новых постановок. А будучи человеком очень деятельным, Волконский не мог сидеть без работы.
Столь сложная обстановка для творчества в Малом театре заставляла Волконского искать пути самореализации и применения своей энергии «на целом ряде других участков строительства советской театральной культуры»12.
Во время Гражданской войны вместе с режиссером А.А. Саниным Волконский организовал труппу для выступлений на фронте. Он сам подобрал репертуар для «военных» артистов и подготовил ряд постановок, по тематике наиболее соответствующих моменту.
Имеет Николай Осипович Волконский и непосредственное отношение к рождению Московского театра для детей. В 1920-1922 годах им была проделана большая подготовительная работа; и после возникновения детского театра Волконский в течение года работал в нем художественным руководителем. Там он первый раз осуществил постановку, для которой сам же написал и пьесу.
Сезон 1923-1924 годов стал для режиссера возвращением в альма-матер. Он «восстановил» (хотя здесь это слово можно было бы писать и без кавычек) закрытый в 1919 году Театр Комиссаржевской, в котором когда-то начинал. И, продолжая работать в Малом, поставил в Театре, теперь уже имени Комиссаржевской, ряд спектаклей, получивших самые разные оценки театральной критики. В их числе «Комедия ошибок» Шекспира. (Критики считали работу очень спорной. Она была задумана Николаем Осиповичем как экспериментальная постановка. Спектакль был, как скажет позднее сам режиссер, «проявлением своеобразного молодого режиссерского озорства и, по-видимому, явился своеобразной реакцией на теснившие рамки „почтенных традиций“ Малого театра»13. Работа эта вызвала большой интерес в театральных кругах, была предметом споров среди специалистов, хорошо принималась зрителями. Но даже сам автор считал, что она едва ли принадлежит к числу принципиально выдержанных и хорошо продуманных его театральных экспериментов.) Другой спектакль – «Отжитое время» Сухово-Кобылина. (Это самая любимая постановка Волконского. И, по его мнению, чуть ли не самая крупная и достойная из всех, что он ставил. Волконский говорил, что этот спектакль был особенным по двум причинам: во-первых, режиссер очень любил этого автора и долго изучал его творчество, а во-вторых, к периоду создания этой постановки относятся «некоторые факты из личной биографии, затронувшие наиболее глубокие и сильные чувства»14 в Волконском. Какие бы ни были причины, этот спектакль был действительно одним из лучших в творчестве режиссера и вызвал серьезный интерес к нему со стороны видных представителей отечественной культуры. Эту постановку многие зрители смотрели неоднократно и очень внимательно – она служила предметом для специальных докладов в кругах искусствоведов. И, что особенно важно, эта работа стола знаковой для Волконского – «...я понял, -пишет он, – что моя любовь к Сухово-Кобылину не случайна и что стиль трагикомедии и трагифарса, этому автору свойственный, есть мой, определяющий меня стиль в искусстве театра»15.)
Николай Осипович мечтал о дальнейшем росте и развитии Театра им. Комиссаржевской, ему казалось, что этот коллектив становится на ноги, имеет большое будущее. Но к сожалению, в зрительном зале было очень незначительное количество мест (около 300), а другое помещение театр получить не мог. К тому же актеры, которые со своей стороны старательно работали над улучшением качества постановок, совершенно справедливо требовали повышения заработной платы. Все это привело к тому, что Волконский сам поставил вопрос о закрытии театра.
В 1927 году Волконский получил звание заслуженного артиста республики. И в том же году ВЦСПС и Наркомпрос обратились с призывом к крупным театральным деятелям помочь дальнейшему развитию самодеятельного театра. После длительных переговоров Волконский взялся за организацию небольшого методического учреждения для экспериментальной работы в этой области, «небольшое методическое учреждение» переросло в Профклубную мастерскую, ставшую, по признаниям современников Николая Осиповича, одним из лучших его театральных проектов. «Мне удалось привлечь к этому делу целый ряд ценнейших сотрудников, – пишет Волконский, – и проделать с ними за 2 года существования Профклубной мастерской серьезную работу»16. Здесь был поставлен «Мудрец» Островского. (Спектакль, по словам Волконского, имевший необычайный успех и оказавший большое влияние на стиль и методы оформления большого числа клубных спектаклей. Он был высоко оценен прессой и специалистами. А главное, этот спектакль еще раз доказал самому режиссеру, что трагикомедия – его жанр.) Проведена иллюстрированная лекция «Порочные приемы актерской игры», которую, прослушали тысячи зрителей, посещающих различные театральные кружки. (И на протяжении всей жизни Николай Осипович встречал своих слушателей, вспоминающих эту лекцию и даже специальную терминологию, которая в ней использовалась.)
Но руководство вышестоящих организаций решило объединить Государственную Профклубную мастерскую с Домом имени Поленова и образовать Центральный дом городской и деревенской самодеятельности имени Крупской. Волконского, уже вошедшего во вкус работы в мастерской, это изменение, по-видимому, несколько раздосадовало. И он отказался от предложения Наркомпроса войти в руководящий состав этого учреждения, объяснив свое решение незнакомством с деревенской самодеятельностью, а также невозможностью сочетать ее серьезное изучение с большой театральной работой в Москве.
Еще раз повторим, что Николай Осипович Волконский был натурой чрезвычайно деятельной. Он одновременно сочетал две-три работы, причем по своей специфике очень разные. И одним из самых удачных мест приложения его дарования стала работа у микрофона Всесоюзного радио. В 1925 году он напишет радиопьесу «Вечер у Марии Волконской» и сам поставит ее на радио.
Тот день, 25 декабря 1925 года, станет днем рождения русского советского радиотеатра.
...Печально и страстно звучит рояль. Нежный женский голос начинает грустное повествование:
– Пришла великая новость: фельдъегерь привез повеление снять с заключенных кандалы. Мы так привыкли к звуку цепей, что я даже с некоторым удовольствием прислушивалась к нему: он меня уведомлял о приближении Сергея при наших встречах.
Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через пять лет, затем я себе говорила, что будет через десять, потом – через пятнадцать лет, но после двадцати пяти лет я перестала ждать. Я просила у Бога только одного – чтобы Он вывел из Сибири моих детей.
В Чите я получила известие о смерти моего бедного Николая, моего первенца, оставленного мною в Петербурге. Пушкин прислал мне эпитафию на него:
В сиянье, в радостном покое, У трона Вечного Отца, С улыбкой он глядит в изгнание земное, Благословляет мать и молит за отца...Так или почти так начиналась первая отечественная радиопьеса «Вечер у Марии Волконской», поставленная к столетию восстания на Сенатской площади.
Слово «почти» здесь употребляется не случайно: найти текст пьесы пока не удалось. Но мы убеждены, что она лежит где-нибудь в архивной папке, куда попала не по своему прямому назначению, а из-за ошибки в классификации или простой небрежности. Нам же пока приходится довольствоваться воспоминаниями слушателей и свидетельствами очевидцев.
В основу пьесы Волконский положил «Записки княгини М.Н. Волконской». Режиссер одушевляет эти воспоминания и превращает их в разговор за чаем, который происходит в ссыльном доме Волконской перед отъездом на новое место поселения. Встревоженный голос Марии Николаевны продолжает:
– В это время прошел слух, что комендант строит в шестистах верстах от нас громадную тюрьму с отделением без окон; это нас очень огорчало...
В холодной, дикой каторжной Сибири герои пьесы – княгиня со своими друзьями, – вспоминают Петербург и то, уже далекое время, когда «молодые генералы двенадцатого года» еще только собирались поднять свой голос и свои войска против царя. Вместе с их мыслями в северную столицу России, в прошлое, переносится и действие спектакля.
В постановке было использовано много музыки. Спектакль сопровождали самые разные мелодии и ритмы: это и вальс Грибоедова, и марш лейб-гвардии Его Величества Измайловского полка, и пасторальная баркарола, и сухой треск барабанов, «аккомпанировавший» издевательски любезному голосу Николая I:
«Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца: я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас принимаю; но, во имя этого участия к вам, я считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережение, мною уже вам высказанное, относительно того, что вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне Вашему усмотрению избрать тот образ действия, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению.
Благорасположенный к вам (подпись) Николай, 1826 21 декабря».
Эта радиопостановка, безусловно, стала огромным шагом вперед в развитии художественного вещания. В спектакле отсутствовало какое-либо шумовое оформление, даже просто на элементарнобытовом уровне. Герои появлялись «из ниоткуда», комнаты были лишены дверей, лестницы – ступенек, лошади двигались бесшумно. В этой ватной студийной тишине, где не рождалось ни шороха, актеры порой сбивались на излишне подчеркнутую риторику, «менторско-лекторские интонации ». Но в принципе, этот прием оказался весьма интересной профессиональной находкой – именно им, спустя много лет, воспользуется А. В. Эфрос, разрабатывая звуковую палитру своего радиоспектакля «Мартин Иден».
Поразительно, но, понимая значение сделанного, Волконский, в силу «исторических обстоятельств», впоследствии был вынужден отказаться от этой своей работы, точнее, «как бы запамятовать о ней ». Это было уже в 30-е годы, когда он писал свою автобиографию.
Если в 20-е годы упоминать о своем аристократическом происхождении и увлечении княжескими традициями «настоятельно не рекомендовалось», то в 30-е такое упоминание могло стоить жизни. И в автобиографии от 1932 года Волконский напишет, что его первым опытом работы на радио была подготовленная к Октябрьской годовщине специальная постановка «Десяти дней, которые потрясли мир» по книге Джона Рида. Это был «первый опыт, – пишет Волконский, – опыт удавшийся, вызвавший большой приток писем слушателей». Ради исторической справедливости укажем, что «Десять дней» Волконский действительно поставил у микрофона, но сделал это спустя достаточно длительное время после «Вечера у Марии Волконской». И еще одна цитата из мемуаров самого Волконского: «Вспоминаю такой случай, когда в радиопрессе был помещен портрет товарища, вступившего в партию под влиянием этой передачи»17. От радиоверсии мемуаров княгини Марьи Николаевны он не отказывается, но просто специально забывает о ней.
Большой успех первых радиоработ Волконского побудил руководящих работников Наркомсвязи пригласить его на должность художественного руководителя Всесоюзного радиовещания.
Имея к тому времени уже довольно большой стаж работы в качестве театрального постановщика и организатора различных творческих коллективов, Волконский ответил согласием на предложение. Тем более что вскоре он освободился от работы на «фронте» городской театральной самодеятельности.
Он взял на себя «временную работу по формированию режиссерских и исполнительских кадров художественного вещания, определению основной линии их работы и формулировке принципиальных и методологических указаний, которые будут содействовать ориентации творческих работников в этой области»18. За год работы в этой должности Волконскому удалось многое сделать. Документальным свидетельством этому могут служить специальные приказы по Наркомсвязи, в которых участок работы, руководимый Волконским, признается ведущим в области вещания вообще.
Должность начальника не помешала Николаю Осиповичу продолжить работать в своем основном качестве – качестве режиссера. И здесь Волконский расчистил дорогу разнообразию литературно-художественного радиовещания. Надо же было всячески уходить от губительной формулы «газета без бумаги и расстояний», которая неизбежно вела к единообразию, сужению форм и методов радиовещания. В течение двух лет он сделал четыре (это лишь те, которые нам известны) экспериментальные постановки, ставшие в прямом смысле первопроходцами только зарождающегося вида радиоискусства – радиоспектакля. Постановки представляли совершенно разные жанры: мелодрама «Завод» по Камиллу Лемонье, очерк «Путешествие по Японии» по Гаузнеру, монументальная патетическая поэма «1905 год» по Пастернаку и радиоспектакль «Днипрельстан» по пьесе Афиногенова. Эти работы заложили основание отечественного радиотеатра в самых разных направлениях его развития.
Радио привлекало Волконского по разным причинам. Безусловно, его притягивала возможность общаться с огромной аудиторией. По словам писателя Л. Славина: «Ему радостно было получать многочисленные отклики от радиослушателей»15. А главное, радио давало простор творческой фантазии режиссера, позволяло экспериментировать над созданием новых форм в искусстве. И Волконский экспериментировал.
Так на свет появилась радиокомпозиция «Путешествие по Японии», основу которой составили очерки журналиста и ученого Г. Гаузнера. В качестве исполнителя – на роль путешественника -был приглашен артист Э.П. Гарин, который много лет спустя в воспоминаниях напишет: «Думаю, что именно в этой работе явилась позднее реализованная идея документального радиотеатра»20. (К этой проблеме мы еще вернемся подробно, рассматривая ниже радиокарьеру Э.П. Гарина.)
К сожалению, тогда передачи еще не записывались на пленку, и до нас не дошла одна из лучших радиопостановок Волконского в исполнении прекрасного артиста. Но сохранились письменные свидетельства огромного успеха радиоспектакля «Путешествие по Японии».
В журнале «Говорит Москва» была опубликована статья, автор которой заявлял, что передачам радиоочерков принадлежит будущее. Он хвалил музыку композитора Мосолова и писал, что она вполне соответствует тексту и хорошо звучит по радио. Поскольку передача «Путешествие по Японии», на взгляд рецензента, представляла огромную ценность для слушателей, он предлагал почаще передавать такие путешествия по разным странам, «знакомя советских рабочих с жизнью рабочих всего мира»21.
Естественно, сразу были найдены и недочеты в работе. Постановку ругали за часто встречающиеся японские слова и названия, которые давались без перевода, за «интеллигентский язык», который, как и японский, трудно понять простому советскому рабочему, за «местами ненужно-высокопарный слог текста»22. Сожалели также о том, что радиослушателям пришлось провести целый день в доме японца – буржуа-биржевика, а не японца – рабочего или крестьянина.
А Волконский тем временем продолжал экспериментировать с шумами и звуком. Ему буквально приходилось прорываться сквозь сложное отношение к этим выразительным средствам радиовещания – за каждым звуком искали классовый подтекст. И это очень осложняло настоящий творческий поиск.
Одной из первых радиопьес, раскрывших новые возможности радиодраматургии, была поставленная Волконским инсценировка Виктора Вармужа «Завод» в музыкальном оформлении композитора В.Н. Крюкова. Эта радиопьеса была написана по мотивам романа французского писателя К. Лемонье «Костоломка».
Пьеса рассказывает о двух взрывах: о взрыве на заводе и о взрыве рабочего негодования. Действие разворачивается в Бельгии в 70-е годы девятнадцатого века на заводе, хозяин которого жестоко эксплуатирует рабочих, с полным равнодушием относясь к их бедам и страданиям.
Журнал «Говорит Москва» назвал этот радиоспектакль «первой композицией в эфире» и дал краткое содержание пьесы:
«Пьеса начинается с разговора в поезде, под стук колес, хозяина завода господина Понсле и его приятеля. Понсле рассуждает о том, что туловище змеи не может существовать отдельно от головы, подразумевая под „туловищем“ рабочих. Он пропускает мимо ушей замечание собеседника о том, что и голове без туловища приходится довольно тяжело.
Во время их разговора слышны звуки проходящих мимо железнодорожных составов.
На все возражения Понсле отвечает: „Болтовня! Кто эти люди, которые вздумали меня учить?“
Поезд подходит к станции. И Понсле гордо указывает приятелю: „Слышите? Это – голос моего завода“.
Разговор простых рабочих на заводе продолжает пьесу.
ЖАК. – Черт возьми! Всякий раз, когда я пью, мне кажется, что вода в моем животе закипает и превращается в пар.
ГОЛОС. – Ого!
ГОЛОС. – Горячее сердце у твоей возлюбленной!
ЖАК. – О! Да! Но мне приходится ежеминутно подкладывать уголь, чтобы оно не остыло.
ГОЛОС. – Понсле идет!
ГОЛОСА. – Ну, вдарь! Сильней!
После трудового дня рабочие идут в „Клуб трубачей“ немного развеяться. И здесь, среди общего гомона, уже слышны нотки недовольства, призывы „не подставлять другую щеку“. Таких бунтарей еще меньшинство, и остальные считают, что их либо рассчитают, либо им „проломят голову“.
В этот момент раздается крик: „Взрыв!“
ГОЛОСА. – Это – на заводе.
Среди руин прокатного цеха рабочие ищут своих товарищей.
ГОЛОС. – Фонари сюда! Вот она – прокатная. Эй-эй-эй!
ГОЛОСА. – Ну, этот годен только на закуску червям.
ГОЛОС. – Помогите!
ГОЛОС. – Что, товарищ? Выплюнь словечко! Тебе больно, а?
ГОЛОС. – Ничего! А вот мои бедные портки пропали совсем.
Хозяина завода взрыв очень раздосадовал. В беседе с инженером завода он говорит, что акционеры настаивают на раздаче пенсий.
ПОНСЛЕ. – По-моему, это безрассудно. Виноваты ли мы! Но я решил уступить. Если заработок рабочего снизить несколько больше, чем я предполагал, то мы ничего не потеряем.
ИНЖЕНЕР. – Господин Понсле!
ПОНСЛЕ. – О, не беспокойтесь! Я прекрасно знаю психологию рабочих.
Следующая сцена, одна из самых эмоциональных и выразительных в спектакле, – утверждал рецензент, нарочито не замечавший весьма определенной примитивности литературной драматургической основы пьесы, – плач матери, потерявшей сына.
– Пустите меня к сыну! Мартин! Мартин! Неужели это ты! Скажи, это ты? Мартин? Тебе скоро исполнилось бы 18 лет, и не было бы во всей деревне парня краше тебя. Ты сделался бы пудлинговщиком, старшим мастером и еще бог знает кем! А если бы ты и никем не сделался, ты бы остался моим сыном! Что они с тобой сделали! Сволочи!
„Утешительно“ звучит голос мадам Понсле: „Вспомните страдания Христа!“
В завершение спектакля рабочие объявляют забастовку. Пытаясь не допустить остановку завода, господин Понсле выступает перед рабочими. Он пытается их уверить в своей искренней к ним любви. Говорит, что с удовольствием каждому давал бы к обеду курицу, „но поймите, дела идут плохо...“.
Но его уже не слышно в шуме толпы. Голоса призывают к войне: „Долой Понсле! Долой скупца! – Повесить надо подлеца!“
Заканчивался спектакль словами одного из участников той забастовки, уже постаревшего, потерявшего почти всех товарищей, но не перестающего твердо верить в победу. От него слушатели узнают, что восстание на заводе ни к чему не привело, потому что тогда многие еще верили „этому пройдохе Понсле“.
– Но забастовка еще не окончилась! Она продолжается...»
Сегодня литературный текст – первооснова спектакля – воспринимается не просто слабым, но нарочито примитивным. Так оно и было в полном соответствии с указанием руководителей Главполитпросвета, Наркомпроса и других инстанций, отвечавших за идеологическое содержание радиоматериалов (об этом чрезвычайно тщательно заботилась большая группа контролеров и цензоров, которыми руководила с большой активностью лично Н.К. Крупская). Волконский, конечно, хорошо понимал драматургическую слабость пьесы, но выручали его два обстоятельства. Во-первых, подбор актеров: его авторитет и профессиональная репутация позволяли ему приглашать для участия в радиопередачах лучших актеров из разных московских театров; а кроме того, Волконский обладал способностью ставить перед актером неожиданные для него художественные задачи, добиваясь не просто демонстрации природных способностей, но глубокого проникновения в предлагаемые обстоятельства, а вместе с тем и в характер каждого из героев. Сегодня мы сказали бы, что он был верен требованиям К.С. Станиславского «о вере в правду произносимого», как ключевой формуле психологической достоверности актера.
А так как Волконский имел дело с актерами высочайшей профессиональной подготовки, то и результат оказывался всегда достаточно убедительным даже для самой изысканной аудитории, не говоря уже о «широких массах».
Слушатели с большим энтузиазмом отнеслись к такому опыту на радио. Постановка вызвала целый поток писем.
Сам Волконский публикует на страницах журнала «Говорит Москва» ответ критикам спектакля. Он пишет, что, как и многие рецензенты, сомневался в том, надо ли пускать в советский эфир мелодраму. Но это был эксперимент. И поскольку он прошел успешно, то мелодрама должна занять достойное место в числе других жанров радиоискусства. Волконский подчеркивает, что, несмотря на такой успех «Завода», необходимо развивать и другие направления литературно-художественного вещания.
Тем же, кто утверждал, что в пьесе слишком сгущены краски, режиссер отвечал, что «сделано это не для того, чтобы мучить и волновать слушателя, а исключительно для того, чтобы вызвать у слушателя чувство злобы и готовность к борьбе»23.
Мы уже говорили, что Волконский стал, по сути, родоначальником и жанра документальной драмы на отечественном радио. Не вдаваясь подробно в специфику этого жанра, заметим только, что отличие документальной драмы (на западе получившей короткое определение «доку-драма») от традиционной «исторической пьесы» прежде всего в том, что в доку-драме не разрушается структура положенного в основу документа, но, более того, не меняется его содержание, структура и стиль (документ часто безо всяких изменений входит в ткань доку-драмы), а в исторической пьесе мы имеем дело, как правило, с результатом авторской фантазии, разумеется основанной на подлинных фактах, изложенных в документах. Но о стенографической точности уже нет и речи, она уступает место полету авторского воображения.
Парадокс советского времени заключался в том, что именно на документальный радиотеатр была возложена фальсификация многих событий, которые в подлинно исторически достоверном изображении не устраивали руководителей страны.
Уже в начале 30-х годов появилась тенденция имитировать документальную основу радиодрамы, подменяя анализ поступков конкретных людей описанием поступков неких «типических персонажей», олицетворяющих ту или иную классовую позицию.
Волконскому пришлось иметь дело и с такой радиолитературой. Порой не бездарной и не примитивно-агитационной, но от этого не становившейся более убедительной ни художественно, ни идеологически. Впрочем, эта судьба не миновала ни одного крупного художника в нашем театре, и сегодня вряд ли стоит подробно останавливаться на том, что делалось в буквальном смысле слова «из-под палки». К числу таких работ Н.О. Волконского принадлежит бывшая чрезвычайно популярной в 30-е годы радиопьеса Александра Афиногенова «Днипрельстан».
Любопытно обратить внимание, что у большинства персонажей этого творения не было собственных имен и фамилий, пусть даже вымышленных, а была лишь четко сформулированная социальная, возрастная и национальная принадлежность. Ну и еще обозначение строительной профессии. Так имитировалось «многоголосье народных масс». Н.О. Волконский, который был художественным руководителем и этого творения партийной пропаганды, относился к нему с откровенным неуважением, но не в его власти было преградить этому материалу дорогу в эфир.
Совсем по-другому относился Волконский к тому, что мы называем «социальным заказом», когда речь шла о произведениях, где сохранялись эстетические критерии, которые для автора текста были органичны и прочувствованы.
Так, он с большим энтузиазмом взялся за радиоверсию поэмы Б.Л. Пастернака «1905 год». Это тоже оказалось неудачей, но уже совсем по другим причинам, на которых мы остановимся позднее, анализируя совместную работу Волконского и Э. Гарина над радиоверсией пастернаковской поэмы. Неудача эта поучительна, но нравственного унижения она не содержит и не несет. Впрочем, не будем забегать вперед.
В 30-е годы Николай Осипович испытает все, что приходилось на долю художника, который свои взгляды на жизнь и на искусство ставил выше пустопорожних посулов «колебавшихся вместе с линией». Уже в конце 1931 года в прессе появятся статьи, в которых талантливейшего радиорежиссера обвинят в пропаганде буржуазной культуры. Вновь его начнут обвинять в формализме, эстетизме и прочих «измах», далеких от интересов рабоче-кресть-янской аудитории.
Если еще весной 31-го года пресса будет называть «Завод», «Путешествие по Японии», «1905 год» «фундаментальными работами», «началом первого этапа реконструкции художественного радиовещания»24, то уже летом того же 1931 года журналисты провозгласят, что «Завод», «1905 год» и другие московские «премьеры», несмотря на всю их художественную и политическую насыщенность, являются, по существу, переносом буржуазных канонов на советскую «радиопочву». Так, «Завод» – поворотный пункт в художественном радиовещании – продолжает приемы буржуазных мелодрам. «1905 год» Бориса Пастернака очень интересный, но все же формальный эксперимент на радио25.
А к осени вообще появятся заметки такого характера: «...в течение почти целого года, под видом показа разлагающейся Европы („Новости Берлина“), показа Японии („Путешествие по Японии“) и „Днипрельстана“, то есть показа социалистического строительства (!!!), радиослушатель угощается солидными порциями дешевой отвратительной музыки шантанов и кабаков, наспех переписанной с заграничных граммофонных пластинок, фокстротами, блюзами, пошлейшими песенками; практически, осуществляется теория о мирном врастании фокстротов в социализм („Днипрельстан“) »26.
Вероятно, именно с этой тенденцией, лишь часть которой отразилась в прессе, так энергично приветствовавшей первые радиошаги режиссера и так же дружно перешедшей в нападки на его радиоспектакли, и связана 14-летняя пауза в творчестве Волконского на радио.
Он пишет пьесы для детского театра, и они идут на разных взрослых и тюзовских подмостках, работает в «Мюзик-Холле», активно занимается общественной деятельностью в профсоюзе работников искусств, помогает молодым коллегам и начинающим режиссерам, но путь в радиостудию для него теперь заказан.
Спустя 14 лет некролог Волконского подписывают С. Михоэлс, Ю. Левитан, А. Дикий, А.А. Яблочкина, О.Н. Абдулов, В.Н. Рыжова, Э.П. Гарин, Н.А. Обухова, свидетельствуя уважение к выдающемуся мастеру, который, но выражению его ученика Э.П. Гарина, «при всем его таланте и высочайшем профессиональном мастерстве не мог не попасть под колеса истории».
Впрочем, в этом тоже была закономерность времени.
Примечания
1 Славин А.И. Памяти Н.О. Волконского. Российский государственный архив литературы и искусства, фонд № 2811, оп.1, ед. хр. 27. 1948. С. 5-6.
2 Волконский Н.О. Автобиография. Архив СТД. 1932. С. 2.
3 Владимиров В.К. Ответ на письмо Волконского. Российский государственный архив литературы и искусства, фонд № 2355, on. 1, ед. хр. 163. 1931. С. 3-4.
4 Волконский Н.О. Ответ на ответ Владимирова. Российский государственный архив литературы и искусства, фонд № 2355, on. 1, ед. хр. 163. 1931. С. 4-8.
5 Там же.
6 Волконский Н.О. Автобиография. Архив СТД. 1932. С. 2.
7 Анкета Главискусства. Российский государственный архив литературы и искусства, фонд № 2413, on. 1, ед. хр.1195. 1930. С. 71.
8 Волконский Н.О. Письмо в сектор искусств Наркомпроса РСФСР. Российский Государственный архив литературы и искусства. Фонд№ 649, оп. 2, ед. хр. 283. 1932. С. 17.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же. С. 4.
13 Там же. С. 4.
14 Там же. С. 5.
15 Там же. С. 5.
16 Там же. С. 6.
17 Там же. С. 7.
18 Там же.
19 Славин А.И. Памяти Н.О. Волконского. РГАЛИ, фонд № 2811. on. 1, ед. хр. 27. 1948. С. 5-6.
20 Гарин Э.П. С Мейерхольдом. М.: .Искусство. 1974. С. 221.
21 Фуриков Б. Шаг вперед // Говорит Москва. 1930, № 34. С. 11.
22 Там же.
23 Волконский Н.О. Письмо режиссера // Говорит Москва. 1930, № 30. С. 16.
24 Векселя оплачены // Говорит Москва. – 1931. Т № 8. – С. 6.
25 Говорит Москва. 1931, № 20. С. 10.
26 Говорит Москва. 1931, № 26. С. 8-9.
Глава 13 Э. П. Гарин у микрофона
24 июня 1929 года, в дни харьковских гастролей Государственного театра имени Вс. Мейерхольда, состоялась премьера пьесы И. Сельвинского «Командарм-2». Эраст Гарин, назначенный на одну из главных ролей в этой пьесе, в спектакле не участвовал – незадолго до гастролей он подал заявление об уходе. Причина конфликта многосложна: Гарин мечтал о роли в «Клопе» – она ему не досталась; представление актера о своем герое в стихотворной трагедии Сельвинского расходилось с трактовкой режиссера; премьера постоянно отодвигалась... Короче, Гарин ушел из ГОСТИМа, поступил в труппу Большого драматического театра, но в репертуаре занят практически не был и время нередко проводил в Студии на Телеграфе.
Он был приглашен Экспериментальной редакцией – такую создали в структуре литературно-драматического вещания – для исполнения радиокомпозиции «Путешествие по Японии », составленной из очерков Г. Гаузнера. Постановщиком будущей передачи стал заслуженный артист республики Николай Осипович Волконский – мы еще не раз встретимся с этим именем. В те сентябрьские дни 1929 года он был режиссером Малого театра.
В поведении Гарина многие из его бывших коллег увидели очевидный вызов. И не без основания. Мейерхольд, мягко говоря, сторонился микрофона, а Гарин (кстати, первым из его учеников) решается на целый моноспектакль в эфире.
Нельзя сказать, чтобы сам Эраст Павлович выглядел в этой ситуации чересчур уверенным. Сомнения – и довольно обоснованные -беспокоили его: очень много нового предстояло ему открыть для себя и для слушателей.
Но во-первых, очень хотелось «доказать». А во-вторых, привлекала тема.
Эраст Павлович рассказывал:
– Я тогда очень увлекался японцами, ни на какой другой материал не рискнул бы. А тут – особый интерес. В Москву в двадцать восьмом году приехал «Кабуки» – знаменитейший японский театр. Гаузнер – мы с ним познакомились задолго до моей работы на радио – как-то привел меня к ним в гостиницу. Я ни бельмеса по-японски, они на том же уровне владели русским. А все всё понимали. Я бегал с утренних репетиций из своего театра и часами просиживал у них.
– Объяснялись, как мимы?
– Похоже. Ну и для «Путешествия по Японии» очень полезны оказались «кабучники».
– Какое же они имели отношение к радио? Там – наоборот: слова, слова, слова...
– В том-то и дело, что надо было словесное сделать зримым...
Пройдет тридцать с лишним лет, и выдающийся режиссер радио
Роза Иоффе напишет статью, где на основании всего опыта советского радиоискусства сформулирует главный его эстетический и методологический принцип – «слушая – видеть». Гарин на практике утвердил его в дебюте у микрофона.
На современный взгляд, просвещенный десятилетиями практики научно-популярного радиотеатра, задача, стоявшая перед актером, была не такая уж трудная – обыкновенный Ведущий. Но это на современный и просвещенный взгляд. Волконский и Гарин оказались первооткрывателями. И они вовсе не желали превращать «Путешествие...» в сухую лекцию со звуковыми дополнениями. Поэтому они придумали Ведущему характер. Это был Путешественник, проявлявший все «традиционные» свойства «зеленого туриста»: неуверенность иностранца в чужом государстве, растерянность перед обилием бесполезных сведений, почерпнутых из книг и рекламных проспектов, любознательность... Но при этом Путешественник Гарина оказывался натурой чрезвычайно общительной и непосредственной: все увиденное ему немедленно хотелось рассказать другим, причем не только пересказать, но оценить со своей личной жизненной позиции. Отсюда -почти детское восхищение и ирония, восторг перед красотами природы и архитектуры и гнев при столкновении с противоречиями социального строя.
Слушатель не просто знакомился с природой и жизнью незнакомой ему страны, но смотрел на них глазами гаринского героя, оценивал его нравственными и политическими критериями.
Исполнителю меж тем приходилось решать многие неведомые доселе технологические проблемы.
Передача шла «живьем», то есть все ее компоненты существовали самостоятельно. Некая «наработанность» в соединении диктоpa и, скажем, оркестра у техников, ведущих передачу в эфир, была. Однако в этой передаче Волконский отказался от «живого» оркестра и использовал вместо него граммофон. На него ставили пластинки с музыкой, с документально записанными шумами Токио и Осаки и включали в соответствии со специально разработанной партитурой. Скорректировать по ходу передачи артист уже ничего не мог: он обязан был точно и ритмично освоить механическую запись как элемент своего собственного рассказа. Гарин писал:
«Уже в этой первой работе многие наблюдения привели к выводам, которые стали для меня законами работы на радио.
Первый закон – это „географическое“ определение: где происходит сцена, место действия.
Я заметил, что для радиослушателя недостаточно литературного повествования (ну, например, „он изменился в лице и после минутной паузы вышел в другую комнату“); для того чтобы радиослушатель был убежден в реальности происходящего, необходимо создать точную мизансцену, пантомиму действия.
И хотя пантомима, естественно, не слышится, все же она делает воздействие слова убедительным»1.
Так Гарин первым, по сути, выразил специфику звуковой мизансцены.
Он еще не преодолел зависимости от микрофона; еще много лет в Студии на Телеграфе будет решаться эта проблема – кто к кому привязан: микрофон – к актеру или актер – к микрофону.
В начале 60-х годов мне довелось быть на Телеграфе свидетелем такого эпизода. Зайдя в аппаратную, я увидел, как в студии, где микрофон установлен над дикторским столом, известный режиссер укладывает не менее известного артиста под этот самый стол. Мое недоумение развеял ассистент: «Ищут мизансцену». Потом микрофон сняли со стойки и тоже отправили под стол. Наконец остановились на третьем варианте: положили микрофон на доску в конце студии, а артист пополз к нему по ковру, произнося текст своей роли. Может, кому-то из чересчур «динамичных» современных радиорежиссеров, берущихся записать и отмонтировать полуторачасовую программу за одну-две смены, все это покажется благоглупостями; может быть, в ползании за микрофоном есть некоторый перебор. Но принцип бесспорен – «слушатель должен быть убежден в реальности происходящего», следовательно, звуковая мизансцена должна имитировать «реальные» обстоятельства действия.
Гарин и Волконский, по крайней мере, стремились к этому.
В письме Х.А. Локшиной 18 октября 1930 года Гарин писал:
«Вчера я читал по радио „Японию“... После передачи состоялся диспут, где классифицировали мою передачу единогласно как блестящую. В одной из комнат было устроено нечто вроде зрительного зала: стояли рядами стулья и на столе громадный громкоговоритель; у стола были положены пар четырнадцать наушников, так что слушатели могли варьировать свое слушанье. Во время исполнения свет в комнате гасили и сидели в темноте. Утром сегодня я уже получил комплимент за 200 верст родительский: звонил папа. Они слушали с матерью около громкоговорителя у кого-то из своих знакомых»2.
Успех был полный. На прослушивание пришли коллеги из ГОСТИМа. Сам Мейерхольд никак не отреагировал, сделал вид, что не слушал. А потом произошел такой случай. Передачу несколько раз повторяли, и один из повторов совпал по времени с неожиданно назначенной репетицией Мейерхольда – к этому времени Гарин вернулся в театр. Всеволод Эмильевич отпустил его с репетиции и неожиданно поинтересовался, продолжает ли Гарин «экспериментировать сам с собой» на радио. Тот ответил: «Продолжаю». Тут Мейерхольд проявил вдруг не только сочувствие, но и полное знание его репертуарных радиопланов, которые артист и редакция держали в секрете: сделав несколько замечаний по «Японии», Мейерхольд спросил: «Как с Пастернаком, когда премьера?»
А с Пастернаком не складывалось. Первоначально идея создания радиооратории по поэме «Девятьсот пятый год» увлекала Гарина, тем более что ему предложили быть и режиссером. Для себя он выбрал главу «Морской мятеж». Расхаживал дома, примеряя голос:
Глыбы Утренней зыби Скользнули, Как ртутные бритвы, По подножью громады, И, глядя на них с высоты, Стал дышать броненосец И ожил.Главу «Москва в декабре» согласился читать Качалов. Было с кем соревноваться. Но уже на одной из первых репетиций возник спор между Гариным и композитором, которому заказали музыку. К сути конфликта мы вернемся. Сейчас нам важна позиция артиста по отношению к автору поэмы. Ему казалось, что «Девятьсот пятый год» перестает быть пастернаковским. Стихи разрывались на слова, ритм шел уже не от Пастернака, а от музыки.
Гарин не был против «мелодекламации» вообще, но в данном случае стилистика этого жанра представлялась ему неподходящей.
Н.О. Волконский, ставший к тому времени художественным руководителем литературно-драматического вещания, принял сторону композитора и взял режиссуру на себя. Гарин репетировал вплоть до первой генеральной. На ней читали уже не под фортепьяно, а с оркестром и хором.
Гарин репетировал со скрежетом зубовным. Волконский демонстративно не сделал ему никаких замечаний.
Объявили перерыв. Гарин подошел к знакомому литературному критику – «на Телеграф» съезжались на репетиции как в театр – на предварительные просмотры.
– Ну как?
Критик в недоумении и в раздражении:
– У Пастернака своя музыка, а вы, уважаемый Эраст Павлович, что с ней творите?!
Гарин отвернулся, ничего не ответив.
Репетиция кончилась в два часа ночи. Все, кроме Гарина, разъехались. Волконский любезно предложил подвезти его к дому, но артист отказался. Когда режиссер ушел, за столиком у дежурного Гарин написал Волконскому записку: «Занят, готовим к выпуску „Последний, решительный“, у меня роль – отпустите». Письмо оставил у милиционера и поехал спать.
Сна не было ни в одном глазу. Эраст Павлович промучился до утра, позвонил Волконскому в редакцию:
– Вы мою записку получили?
– Да, – сказал Волконский. И молчит.
Гарин разозлился и на него и на себя:
– Николай Осипович, разорвите мое письмо. Врать не хочу, играть не могу.
В ответ услышал:
– Я вас понимаю, Эраст Павлович. До свидания...
Рассказывая об этом, Гарин всегда добавлял: «И не обиделся.
Изумительный был человек».
«Девятьсот пятый год» в эфире имел оглушающий и огорчающий успех.
Аудитория в восторге, критики захлебываются в спорах, по желанию слушателей передача повторялась уже через неделю после премьеры, газеты печатают письма рабочих:
«Слушая „Девятьсот пятый год“ при потушенном свете, я невольно переносился в Одесский порт на корабль к восставшим матросам и вместе с ними переживал все происходящее. Савельев – бригада завода МОСО».
Приписка: «Все остальные члены бригады присоединяются к мнению т. Савельева»3.
А сам Борис Леонидович Пастернак поднялся на обсуждении, устроенном в редакции, и попросил занести в протокол:
«Я прослушал „Девятьсот пятый год“. Я даже не огорчен, я не протестую, потому что это не моя поэма. – После паузы жестко и огорченно добавил: – Позвольте вам сказать. Ведь книга – это организм. Можно ее рвать на части, на мелкие части, но какая-то неразложимая молекула должна остаться неприкосновенной, молекула ритма. Я не узнавал себя: вы разбили весь ритм, не оставили молекулы»4.
Гарин писал в письме Х.А. Локшиной в январе 1931 года:
«Мне повезло, что отказался читать в „Девятьсот пятом годе“. Вчера состоялась, так сказать, премьера. После был диспут, причем очень ругался Пастернак, ему очень не понравилось».
Одна из рецензий на радиоспектакль «Девятьсот пятый год» имела заглавие «Закономерный урод».
Эраст Павлович рассказывал:
– А почему я должен уродовать автора, поэта, тем более такого, как Пастернак?!
Работая с прозой или с поэзией, Гарин шел иногда на деформацию литературного источника, углубляя, обостряя драматургический конфликт, но не подменяя его и не изменяя духу, интонационной манере автора. Особенно в стихах, где буква, дух и интонация неразрывны.
В пятьдесят седьмом году в студии на Качалова, 24, Гарин записал и смонтировал композицию по стихам и прозе Маяковского под названием «Я сам». Устроили общественное прослушивание. Народа позвали много, разного, в том числе и хорошо знавших Маяковского. Прослушивание уже началось, когда приехал Лев Кассиль. Он скромно устроился у двери, но через несколько минут занервничал и взволнованно зашептал одному из редакторов: «Откуда взялась эта запись?»
Кассиль считался знатоком фононаследия Маяковского и был ошарашен: он решил, что читает сам Маяковский, что хитрый Гарин вмонтировал в передачу неизвестную ему запись голоса поэта – настолько близко к автору звучал актер.
Но тогда, после отказа от «Девятьсот пятого года», в редакции на Гарина все-таки рассердились: была идея очерка-шаржа «Пуанкаре», любопытно начал сочинять Гаузнер – отменили; заключили предварительный договор на написание и постановку композиции «Дирижабль» (совместно с Н.Д. Оттеном) – спустили это дело на тормозах; начал артист репетировать чеховский рассказ – оказалось вдруг «не ко времени»...
Через год с небольшим позвонил сам Волконский: «Эраст, вы „15 раундов“ читали? У нас эту книгу включили в план. Прочтите и, пожалуйста, подумайте».
Поздним ноябрьским вечером 1932 года «15 раундов» А. Декуэна, поставленные и сыгранные Э. Гариным, впервые прозвучали по советскому радио. Из отзывов, весьма противоречивых – и хвалебных, и хулительных, – можно составить солидную брошюру. Палитра оценок – от «Бесспорная победа!» до «Профессиональное радиопоражение» (я цитирую названия рецензий). Система аргументов: от «Гарин прав» до «Чего же хотят этот Декуэн и этот Гарин?» (это тоже заголовки).
До Декуэна репортеры не добрались, а о том, чего хотел Гарин, он написал сам, вмешавшись в дискуссию статьей под названием «Режиссер о своей постановке». Она начинается такими словами: «Во всех искусствах больше всего интересен человек. Даже в цирке, где показывают лошадей, интересен дрессировщик. Композиция „15 раундов“ построена на одном человеке – боксере Баттлинге»5.
Это была очень популярная книга, написанная французом Анри Декуэном. Ее герой – чемпион ринга, завоевавший многие золотые медали. Баттлинг – профессионал, но он слишком умен для того, чтобы быть боксером, говорит его импресарио Жорж. А ведь настоящий боксер – «это машина, которую заводит менеджер».
«Я хотел бы быть такой машиной», – произносит перед своим роковым матчем Баттлинг. Он хотел бы выключить свой мозг и свое сердце и превратиться в идеального профессионала, думающего лишь о комбинациях боя, о верном ударе.
Баттлинг перерос свою профессию. Он видит нелепость атмосферы, окружающей профессиональный бокс, и в результате – он побежден до своего выхода на ринг. Трагедия произошла до поднятия занавеса.
В течение пятнадцати раундов боя проникаем мы в думы и ощущения героя. Тут, как за мгновение до казни, проходит его жизнь: детство, когда он опьянен овациями; юность, когда он, сильный, ловкий, тренированный спортсмен, талантливо ведет бой; зрелость, когда он мечтает о спорте на стадионе, на чистом воздухе -о непрофессиональном боксе.
Наконец, не найдя выхода, поддерживаемый лишь профессиональной инерцией, ждет он своего пятнадцатого раунда, пока взволнованный голос арбитра: «Аут! Аут!» – как залп из винтовок, не завершает экзекуцию над его сознанием. Возбужденная жестоким зрелищем, азартная толпа приветствует нового героя. А Баттлинг? Но ведь «он слишком умен, чтобы быть боксером!». Потерявшего рассудок, его уносят с ринга.
Глазами Баттлинга мы видим окружающий мир, живем его ощущениями, даже голос его импресарио мы слышим в той интонации, в которой, как нам кажется, он слышится Баттлингу. Поэтому и роль импресарио Жоржа должен был играть тот же исполнитель. И только арбитр, как некая официальная данность матча, передан другому актеру, чтобы придать событию аромат действительности, а не сна, не воспоминания. Арбитр говорил только по-французски. И толпа зрителей возникает лишь тогда, когда, как нам кажется, она ощущается Баттлингом: вначале – подхлестывая его аплодисментами и затем – своими возгласами обостряя трагедию.
Интереснейший прием выдумал Гарин, когда искал звуковое решение реплики «Баттлинг нокаутирован»: каждый из десяти актеров, изображавших зрителей у ринга, пел какую-то свою мелодию. Эта какофония, пропущенная через ревербератор, создавала впечатление головокружения у героя, ибо голоса орущей толпы входили в его сознание как бы с некоторым торможением. Кстати, заметим, что Гариным впервые в радиотеатре был использован этот аппарат – ревербератор, позволяющий «раздваивать» звук. В массовых сценах это давало возможность при небольшом количестве действующих лиц вызвать ощущение грандиозной толпы; в камерных, например в монологе арбитра, – создать впечатление гнетущей, испуганной тишины в огромном куполообразном зале, где каждое слово как удар, отзывающийся эхом.
«Эффект присутствия» был поразительным. Его можно ощутить и по стилю рецензий.
Н.О. Волконский писал:
«Голос Гарина звучит уверенно. На что он надеется? Его певучая манера не убеждает, она неестественна, вызывает чувство досады. Он надеется убедить меня. Мне все ясно. Он будет агитировать против „пятнадцати раундов“. Нет, меня не обманешь. Но он надеется. Больше того, он уверен – ученик большого мастера Мейерхольда, он знает свое дело. А почему бы ему не быть уверенным? Художник, который не уверен в себе, имеет мало шансов на победу.
Голос Гарина „пляшет“ вокруг меня, обходит со всех сторон. Удары его изобретательности я блокирую холодным контролем рассудка. Меня не обманешь. Он подталкивает мое воображение, вызывает ассоциации. Я отражаю все это с улыбкой предубеждения. Я знаю бедность доступных вам воздействующих средств, радио-Гарин. Вы не можете дать мне зрительные впечатления. Я знаю, что сейчас в небольшой душной радиостудии вы размахиваете руками и что два человека изображают ревущую толпу. Ха-ха! Над этим зло смеялся старик Диккенс...
...Этот Гарин сошел с ума. Он наносит мне удар за ударом. Он „поет“, и я вижу, как течет кровь. Он считает, и я с волнением слежу за его счетом. Какая огромная толпа следит за боем! Я слышу ее рев. Что это? Я сам в нем участвую? Где я и где он? Яне хочу продолжения боя! Пятнадцать раундов – это бессмысленно! Это слишком много! Надо кончать! Прекратите это дикое зрелище! Я требую!!!
Еще пять минут. Я получил новый удар. Этот дирижер... он знает свое дело. Раз! Два!.. Неужели они не понимают, что мне просто необходимы две-три секунды передышки... Голос Гарина добивает меня. Это дьявол – человек не может с такой силой воздействовать после пятидесяти минут боя... Опять нужно драться... Сердце мое увеличилось в объеме, заполняет всю грудь, оно поднимается к горлу! Где я нахожусь?.. Что здесь происходит?.. Часы... Еще две секунды – и конец... Две секунды – и я нокаутирован...
Я понял. Я против пятнадцати раундов... Я против... Я понял. Радио может быть могучим»6.
Первое, что сделал Гарин, получив рукопись,– определил места действия: «Это – в комнате; это – на ринге». Затем так же тщательно распределил сюжет на две половины: «Это – во время боксерского боя; это – в перерыве». Гонг вел «отсчет» эпизодов, обозначая перенос места действия. Затем режиссер взялся за разработку музыкально-шумовой структуры спектакля.
В письме Локшиной 5 октября 1932 года он писал:
«Музыка строится так: лейтмотив лирический – это Моцарт, „Фантазия“ (кстати сказать, здесь слово „лирический“ употребляется в широком смысле, иначе „Фантазия“ не может соответствовать – это не Фильд и не Шопен). Затем музыка извне под названиями:
1) фокстротоподобный маршеобраз;
2) благополучный вальс;
3) танго (из «Двойника», получилось мистическое танго);
4) вальс, который перекликается с „Фантазией“;
5) галлюцинация (это когда нокаут).
Весь конец идет на финальной странице Моцарта, сначала только на фортепиано, а затем в оркестровке».
А для того, чтобы все это не превратилось в музыкальный винегрет, Гарин приглашает еще и композитора, который делает новые аранжировки, заново оркестрирует некоторые мелодии, «прописывает» места сюжетных сочленений радиодрамы.
Гарин чисто интуитивно формирует важнейший принцип радиорежиссуры – умение обозначить ведущую и единую интонацию радиоспектакля.
Впервые на невидимой сцене радиотеатра музыка и шумы перестали быть дополнительными, подчиненными, второстепенными элементами – они выполняют четко выраженные сюжетные и смысловые задачи. Гарин приблизился к познанию главного закона радиодрамы: примат слова, человеческой речи здесь не обязателен – обязательна их способность к контакту с музыкой определенного, заданного настроения.
Мейерхольд не выразил никаких эмоций по поводу триумфальной премьеры Гарина на радио. Но косвенное одобрение выразил весьма своеобразно. Когда ГОСТИМ ездил на гастроли, то в «план мероприятий», учитывающий все возможности рекламы спектаклей и актеров, обязательно включалась отдельным пунктом «трансляция „15 раундов“ через местную студию». Спектакль играли в Ленинграде, в Сибири, в сокращенном варианте (без оркестра) – в Прокопьевске.
На Гарина у микрофона пошла большая мода. Готовится новая версия «Путешествия по Японии» – теперь спектакль будет называться «Зеркало, яшма и меч». В списке предлагаемых артисту книг для «радиовоплощения» – «Приключения Мюнхгаузена», «Капитальный ремонт» Л. Соболева, новая повесть Ю. Олеши, поэмы Н.А. Некрасова...
При обсуждении редакционного плана на сезон 1933/1934 года кто-то из приглашенных режиссеров усомнился:
– Не слишком ли разнообразен материал, предлагаемый одному артисту?
Волконский бросил:
– Гарин у микрофона может все. – После небольшой паузы добавил со вздохом: – Все, что захочет.
Зима – весна 1934 года, Гарин пишет Локшиной:
«С утра пошел на радио, где меня очень хорошо встретили. Договорились так: 1) сыграть 1 раз «15 раундов». 2) окончательно оформить вопрос о «Цусиме», т. е. либо подписать договор, либо ее не играть... 3) Молодежная передача предлагает мне сделать «Сердце» Ивана Катаева. К сожалению, я вещь не читал. 4) Красноармейская передача предлагает годовой договор. 5) Колхозная передача – работу с композитором и постановку».
«Кончил только читать „Капитальный ремонт“. Мне очень понравилось, и я жалею, что для радио выбрал „Цусиму“, а не „Ремонт“, – последняя для меня написана».
Премьера «Цусимы» состоялась 18 февраля 1934 года. Возбужденная реакция Гарина объясняется тем, что среди первых откликов было много отрицательных. Потом настроение Гарина изменится: появятся положительные рецензии в прессе, изменится общий тон писем – придут те, что написаны в размышлении, а не по горячим следам; наконец, выскажется и автор инсценированного романа А.С. Новиков-Прибой – он одобрит труд и автора инсценировки, и режиссера, и исполнителя. Един в трех лицах на сей раз выступил Эраст Гарин.
Недоумение и даже возмущение, сквозившее в первых письмах слушателей (не хочется называть их скороспелыми, но правильнее именно так), вызваны и непривычностью спектакля, и неумением судить произведение искусства по законам, по которым оно создано.
А эксперимент, предпринятый Гариным, действительно был уязвим – особенно с точки зрения блюстителей литературной «буквы». Большая книга из трех частей («Цусима», «Бегство» и отрывок «Орел в бою») превратилась в часовую композицию (22 страницы текста, включая музыкальные и шумовые ремарки); многообразие фабульных разветвлений заменено на одну-единственную четкую линию – поход русской эскадры вокруг Европы, Африки, Азии в Японское море; из обилия тем и проблем, поднятых писателем, жестко выделен один сюжет – развал самодержавия.
Когда Гарин закончил сценарий, редакция поставила условие: прежде чем начнутся репетиции, актер должен получить визу автора книги.
Гарин позвонил Новикову-Прибою, тот с некоторым удивлением согласился на свидание.
Предварительный разговор был коротким.
– Сколько же вы вычистили из моего романа? – Гарин показал тонкую папку с двумя десятками листочков на тонкой, почти папиросной бумаге. – На раскур приготовили? – усмехнулся писатель. – Или еще по какой нужде?
– Как получится, – отшутился Гарин, – мы, рязанские, к деликатностям не приучены.
– Мы, тамбовские, тоже, – подыграл Новиков-Прибой. И, спрятав улыбку в усы, попросил прочесть «роман в двадцать страниц».
– В двадцать две, – сказал Гарин и начал: – «Дул зюйд-вест на четыре балла. Пробили склянки. Восемь часов утра.
По случаю праздника коронования царя и царицы были подняты флаги на гафеле и стеньгах обеих мачт.
Было 14 мая 1905 года.
Слышны выкрики команды:
– На молебен! Бегай на молебен!
Матросов согнали в жилую палубу. Там в полном облачении судовой священник отец Паисий стоял перед иконами походной церкви.
Напряженно прослушивается металлический ритм корабля.
– „Спаси, господи, люди твоя...“ – возникает матросская молитва...»
Новиков-Прибой слушал внимательно, не перебивая.
– Ну что же, хорошо!
– Алексей Силыч! Редакция просит вашего письменного подтверждения.
– Ну, давай сюда.
Писатель взял рукопись и на углу, как пишут резолюции, написал: «Благословляю. А. Новиков-Прибой»7.
И опять Гарин начал с поиска характера и облика рассказчика -иначе невозможно было бы оправдать жанр моноспектакля. Прием обнаружился быстро – все происходящее рассказывает участник Цусимского боя: это его личные воспоминания, наблюдения и переживания. В этом случае слушатель не должен будет тратить время и внимание, чтобы разобраться в обстоятельствах действия; он просто пойдет за чувствами и мыслями рассказчика. Но чтобы увлечь аудиторию, надо было создать особый ритм и в музыке и в речи – ритм, вызывающий у слушателя зрительные образы кораблей, ощущение монотонности длительного похода.
Гарин стремился к такому эффекту доступными ему как режиссеру и актеру средствами, прежде всего уповая на свои голосовые данные. Он убирал из речи обертоны, сокращал тембровую палитру, сознательно стремясь к однообразию. Это было чрезвычайно интересно как чисто техническая актерская задача, но не всегда результативно. Б. Алперс писал:
«Гарин ведет весь рассказ в чрезмерно приподнятом, пафосном тоне, иногда переходящем в крик. Этот тон сохраняется артистом и в спокойных, чисто описательных кусках текста. В исполнении нет нужной нюансировки, игры на деталях, на изменении тона и ритма повествования.
Для часового выступления перед микрофоном такая манера чтения бесспорно обедняет интересное и содержательное произведение»8.
Некоторый противовес декоративно-декламационной окраске речи исполнителя создавало музыкальное сопровождение.
Случайно в каком-то концерте Гарин услышал романс М.И. Глинки «Финский залив». Он почувствовал «монотонную механичность», которая показалась идеально соответствующей радиоспектаклю. Композитор С.И. Потоцкий, с которым Гарин подружился на «15 раундах», обработал мелодию романса, развив и усилив его ритмический рисунок.
Однако при единой эмоциональной направленности и интонационном колорите композитор сохранил оркестровое разнообразие музыкальной фактуры. И это не могло не сказаться на общем восприятии спектакля.
А.С. Новиков-Прибой написал в рецензии на постановку:
«Писатель бывает очень ревнив, когда видит свое литературное детище в чужих руках. Я же не могу предъявить ни одного упрека или возражения против того, что было сделано тов. Гариным из „Цусимы“.
Я не могу согласиться с упреками некоторых слушателей в том, что исполнение Гариным „Цусимы“ формалистично, однообразно, с какими-то выкрутасами.
По-моему, сила гаринского исполнения именно в большой простоте и безыскусственности.
Я слушал „Цусиму“ у своего приемника и был буквально потрясен. Я думаю, что если бы я слушал эту передачу не у себя дома, а в радиотеатре, где видна вся кухня этой работы (хор и т. д.), то, наверное, впечатление было бы значительно менее сильное»9.
В параллель с «Цусимой» Гарин готовит «Париж» – композицию из стихов и публицистики Маяковского, положенных на музыку.
«Париж» не первая его передача по Маяковскому, где чередуются проза и поэзия. Уже звучало в эфире «Мое открытие Америки » – стихи с музыкой, сочиненной по гаринскому заказу композитором А.В. Мосоловым. Потом было несколько вариантов «Америки» (уже по образцу «Парижа») – «Рожденные столицы», «Я сам». Эти спектакли записывались на пленку в конце 50-х годов, но Гарин ничего не менял в них: записывали так, как он играл на премьерах в «живом» еще радио.
В сентябре семьдесят седьмого Гарин спросил меня:
– Может быть, теперь они устарели немного? Как вы думаете?
Что я мог ответить? «Париж» передавали в очередной раз, когда Гарина уже не было в живых. Вскоре на его домашний адрес пришло письмо – отправитель не знал о смерти Эраста Павловича и писал ему: «Поздравляю Вас с замечательной работой „Париж“. К сожалению, для нас, молодого поколения режиссеров и актеров, эта работа многолетней давности неизвестна, хотя она – часть золотого фонда...»
Автор письма ошибся немного: «Париж», как и некоторые другие сохранившиеся работы Гарина, стал достоянием «золотого фонда», то есть зачислен на вечное хранение, только после кончины их создателя. К сожалению, это оказалось поздно для записей фрагментов из спектаклей «Мандат», «Смерть Тарелкина» и ряда других -они или полностью утрачены, или сохранились обрывками магнитных лент в плохом техническом состоянии, настолько плохом, что реконструировать их для передачи в эфир невозможно.
На вопрос:
– Работа над «Войной и миром» тоже начиналась в тридцать четвертом году?
Э.П. Гарин рассказывал:
– Практически да. Хотя официальное фиаско я потерпел несколько позже.
Я принес в литературное вещание композицию «Война и мир». Все происходило также, как с «Цусимой», – надо было визировать у автора. На беду, Льва Николаевича Толстого уже не было в живых, и санкцию на композицию я должен был получить у одного известного литературоведа.
– Вы исказили Толстого?
– Исказил. Из всей огромной эпопеи я сделал шестнадцать передач, рассчитанных на шестнадцать часов текста.
Литературовед, не в пример Новикову-Прибою, запретил на корню эту работу... Не мы, а англичане сделали двадцать шесть передач «Войны и мира».
– Неужто не обидно?
– «Обидно за державу». А за себя? Жаль, конечно, сил, потраченных на ведомственную глупость, на споры о бесспорном. Но если не прерывается процесс накопления, то реализует он себя непременно. Не в одной, так в другой работе. Важно не променять идею, замысел на конкретность материала, не разменять накопленное и придуманное на обстоятельства.
– У вас такие соблазны были?
– Сколько угодно. Зная о моем увлечении романом Алексея Толстого о Петре, мне несколько раз предлагали принять участие в разного рода его инсценировках. То на московском радио начиналась многосерийная эпопея, то в Ленинграде разыгрывали отдельные главы книги. Режиссеры все были солидные, партнеры -не нарадуешься. Но я готовился не к спектаклю с огромным числом действующих лиц, а к представлению с одним исполнителем. Все мои планы и замыслы выкристаллизовывались в приемы именно этого жанра, а в материал я уже влез так глубоко, что всякое иное решение – пусть интересное, пусть закономерное, но из «другой оперы», не «по-моему» – было душе наперекосяк. И я отказывался.
– Почему же все-таки монодрама оказалась самым предпочтительным для вас жанром во всей палитре радиотеатра?
– Моноспектакль – форма, которая, по моим ощущениям, создает максимальную возможность актеру для самовыражения. Представляете, сколько ролей надо освоить актеру, взявшемуся играть у микрофона целый роман. Какое количество интереснейших постановочных задач надо ему решить. В том числе и наисложнейшую – как одному удержать внимание аудитории в течение довольно длительного времени. Есть два костыля – музыка и шумы. Впрочем, нет, это не костыли. Это та самая проволока, на которой балансируешь, двигаясь вперед, напрягая и продвигая вслед за собой внимание и воображение слушателя...
Так на склоне лет описывал Гарин свои первые спектакли у микрофона, которые позволили ему уже весной 1934 года войти в число десяти самых популярных радиоактеров страны.
Примечания
1 Гарин Э. С Мейерхольдом. М.,1974. С. 220.
2 Здесь и далее цитируемые письма из архива Э.П. Гарина, находящегося в ЦГАЛИ СССР, предоставлены автору А.Ю. Хржановским.
3 Говорит Москва. 1931, № 6. С. 11.
4 Там же.
5 Там же. 1932, № 36. С. 11.
6 Волконский Н.О. Из дневника радиослушателя // «Говорит СССР. 1932, № 36. С. 9.
7 Гарин Э. С Мейерхольдом. М., 1974. С. 226.
8 Говорит СССР. 1934, № 6. С. 7.
9 Радиопередача. 1934, 1 сент.
Глава 14 МХАТ у микрофона
Разговаривать радио училось у мастеров Художественного театра. И.Н. Берсенев говорил: «Микрофон является средством проверки... одного из основных положений системы Станиславского „о внутренней правде произносимого“»1.
О.Н. Ефремов в 1969 году рассказывал: «Основой основ на радио является словесное действие, законы которого определены и разработаны К.С. Станиславским. Он говорил – полюбите слово-мысль... Мысли и чувства неизбежно должны проходить через эту металлическую штучку, называемую микрофоном. И у вас на радио в так называемых оперативных передачах должный результат получается с актерами такого типа»2.
Между этими двумя высказываниями – почти четыре десятилетия и множество сложившихся (или несложившихся) творческих биографий. Мне хочется аргументировать судьбой счастливой.
В начале 60-х годов мне случилось поработать с замечательным артистом Юрием Левитаном, выступившим тогда в роли малопривычной для аудитории.
Не случайно пишу я – артистом, а не диктором.
С именем Юрия Борисовича связаны сообщения о важнейших событиях в стране и в мире. Когда в приемниках и репродукторах начинал звучать его голос, слушали все. И потому достаточно было пригласить его прочесть посвящение передачи или просто авторскую вводку, чтобы создать необходимую атмосферу и обеспечить интерес.
В ту пору в литературно-драматической редакции существовали два «конкурирующих» альманаха. По композиции они были схожи: чтение художественных произведений перемежалось рассказами литературоведов, фрагментами мемуаров артистов и писателей, редкими документальными записями. А репутация была разная. «Литературные вечера» уже завоевали популярность -благодаря, во-первых, постоянному участию в них Корнея Ивановича Чуковского, Константина Михайловича Симонова, Ираклия Луарсабовича Андроникова и, во-вторых, – обаянию и такту автора и ведущего Юрия Мануиловича Гальперина. Радиожурнал «Поэзия» только начинался, и ему предстояло доказать свое право на жизнь. В спорах о новых формах программы и способах завоевания аудитории один из организаторов «Поэзии» вспомнил, как на каком-то «домашнем» юбилее в редакции Юрий Борисович Левитан блистательно читал лирические стихи.
Идею приняли с полуслова. Тут же позвонили Левитану, он немного удивился предложению, сказав, что последние двадцать пять лет если ему доставались у микрофона стихи, то это было нечто патетическое в репортажах с Красной площади, а лирика... Но согласился сразу – он вообще был человеком фантастического трудолюбия и добросовестности, если дело касалось профессии. Первую репетицию и запись назначили, по его просьбе, на вечер следующего дня – Левитан был свободен от рабочей смены в «Последних известиях». Но более важная причина – иная. Он в принципе предпочитал вечернюю работу – лучше себя чувствовал; сказывалась привычка, сформировавшаяся в тридцатые и особенно в сороковые годы.
Стихи он читал у микрофона с подлинным вдохновением – больше всего ему удались Пастернак и Кирсанов:
«Но я прошу вас, вы не упрощайте слова прощанья и прощенья. Прощаясь, искренне прощайте. Пока нет средств для возвращенья - прощайте!»3В том, как звучали эти кирсановские откровения, не было ничего от привычной дикторской стилистики, когда «самый тембр его голоса, артикуляция, манера произносить фразу, интонация, окраска каждого слова уже предвещают значительность экстренного сообщения» (И. Андроников). Нет, с достоинством и грустью о безвозвратных потерях немолодой уже человек заново оценивал свои и чужие поступки, утверждая жизнь, любовь и всесильную и вездесущую человеческую мысль.
...Мы вышли из духоты студии на тихую улицу Качалова и наслаждались свежим воздухом. Летняя ночь была светла.
Левитан негромко процитировал шекспировское:
«Было уже так поздно, что казалось еще рано».
Словом, все располагало к разговору, и я не преминул удовлетворить свое любопытство по поводу взаимоотношений первого диктора СССР с изящной словесностью. Я знал, что творческая биография Левитана складывалась непросто. Знал, что первым своим появлением перед комиссией дикторского конкурса в 1931 году он ошеломил и исключительными голосовыми данными, и абсолютно неприемлемым оканьем. Избавлялся он от этого владимирского говора с яростью фанатика. Взяли его «дежурным по студии », по-современному – помощником режиссера: бегать с бумагами, отмечать явку, проверять доставку материалов и т. п. Жить ему было негде, и чаще всего он ночевал на редакционном диване. Когда начали допускать к микрофону, шел на всевозможные фортели, чтобы доказать свою пригодность: однажды на пари читал «Последние известия», стоя на руках вниз головой, – и не ошибся, не запнулся ни разу. Если бы начальство узнало! Знаменитым стал в одночасье, 27 января 1934 года, – Сталину очень понравилось, как Левитан читал текст его доклада XVII съезду партии. П.М. Керженцеву (тогдашнему председателю Радиокомитета) дали указание использовать Ю.Б. Левитана для обнародования самых ответственных материалов. Дорога в художественную редакцию ему была практически заказана.
Знал я, что образование Левитана – школа-девятилетка, что вольнослушателем посещал он, весьма нерегулярно, насколько позволял график работы, лекции по истории театра в Щукинском училище при Театре имени Евг. Вахтангова. Потому и расспросы мои начались с учителей. В молодости хочется иной раз расставить авторитеты по ранжиру, и я, понимая, что Юрий Борисович встречался с разными замечательными людьми, учился у них, спросил:
– А все-таки, кого из этих людей вы назовете самым главным своим учителем?
Ответ после долгой паузы последовал неожиданный:
– Не совсем корректна сама постановка вопроса. Что значит -кто главнее из моих учителей? Я учился у коллег, занимался упражнениями по технике речи с Елизаветой Александровной Юзвицкой, – если бы не она, не справиться мне с моим оканьем. Какие скороговорки она придумывала для меня – «будешь говорить по-московски, лучше любого москвича»... Она со мной натерпелась всякого, но не отпускала с урока, пока не добивалась своего. Много сил тратил на меня Михаил Михайлович Лебедев -художественный руководитель дикторской группы. Притом я ведь слушал замечательных, великих актеров, выступавших на радио, «живьем» и чуть ли не ежедневно. Но раз вам непременно надо одно-единственное имя, я назову. Я никогда не был лично знаком с этим человеком, но в профессиональном плане обязан ему. Да не я один, а все дикторы и всё радио. По разным поводам обязаны... Станиславский...
Между тем Константин Сергеевич Станиславский никогда не переступал порога радиостудии, а единственная попытка записать его голос вызвала у него неподдельный ужас.
– Нет, нет. Уберите. Это – дьявольская машина, – замахал он руками, когда услышал себя, – настолько оказалось непривычно4.
В доме К.С. Станиславского, в Леонтьевском переулке, где теперь мемориальный музей, в кабинете, на деревянной тумбе у окна, стоит радиоприемник «СИ-235» – самая распространенная марка начала 30-х годов. В дальнем углу той же комнаты стоит и фонограф – сломанный. И даже валик восковой к нему есть – по слухам, которые нынче можно назвать преданиями, на нем записан пастушеский рожок для первой постановки «Вишневого сада». Проверить нельзя, ибо мастера, который взялся бы за починку «Edison business phonographs» № 11961-с, пока не находится.
Как и когда появился в доме на Леонтьевском фонограф, не суть важно, ибо отношение хозяина к нему после упоминавшейся «пробы пера» в звукозаписи не менялось.
А вот с установкой радиоприемника связана целая история.
В январе 1933 года К.С. Станиславскому исполнялось семьдесят лет. Отмечали дату торжественно. Президиум ЦИК СССР наградил юбиляра орденом Трудового Красного Знамени. Газета «Правда» оповестила об этом утром 18 января. На этот же день назначили прием делегаций московских государственных театров в Леонтьевском и торжественное собрание. Однако неизвестно было, почтит ли собрание своим присутствием юбиляр: из-за болезни Станиславский чрезвычайно редко в эти годы покидал дом в Леонтьевском переулке.
Учитывая это обстоятельство, подготовительный юбилейный комитет зарезервировал такую возможность: трансляционный узел Московской радиосети должен был передавать приветствия в дом на Леонтьевском из нескольких театров и концертных залов, где собирались почитатели великого реформатора драматической сцены.
В день юбилея после продолжительной, двухчасовой, беседы Станиславского с депутацией московских артистов в гостях осталось всего несколько человек. М. М. Яншин рассказывал:
«Среди счастливцев был и я. Станиславский расположился в кресле, вокруг букеты белой сирени. Принесли пироги из Оперной студии – юбиляр обрадовался тем, которые с капустой, – любимые.
Известно было, что приветствия будут передаваться в квартиру по радио, а никакого радио в доме вроде бы и нет. Подходит время передачи, и лишь тогда начинают устанавливать репродуктор. Спешат, суматоха ужасная, К. С. вздыхает – видно, что он не очень обрадован этому подарку. Откуда-то из кладовки приносят подаренный накануне приемник. Его подключают, звучит музыка, но К.С. делает знак, что радио мешает ему разговаривать.
Вот вбегает Н.А. Подгорный и говорит:
– Константин Сергеевич, радио у вас не включено, а сейчас начнется передача приветствий по вашему адресу.
– А кто будет говорить? – Станиславский кивает в сторону черной тарелки репродуктора.
Подгорный называет тех, кому поручено выступать на торжественном собрании: Качалов, Бирман, Гиацинтова...
– Что же, – говорит Станиславский, – послушаем, какая у них дикция»5.
Так радио утвердилось в доме на Леонтьевском. Существует мнение, что приемник в кабинете был просто частью интерьера и что Станиславский практически им не пользовался. Поверить в это трудно. Станиславский не терял живого интереса ко всему, что происходило за стенами его дома, и невозможно представить, что он не использовал такую вещь, как радио, для узнавания разнообразных новостей. Тому есть множество и косвенных и прямых свидетельств.
В ноябре 1936 года Станиславский, по просьбе сотрудников Радиокомитета, пишет приветствие зимовщикам Югорского шара -подшефным МХАТа:
«...Мы, артисты, чувствуем поэзию и героику борьбы. К вам несутся наши восторженные мысли.
У нас, артистов, развито воображение, и потому мы ярко представляем себе всю трудность вашей миссии.
Но мы верим в ваше недаром прославленное мужество, в несокрушимую энергию и в беззаветную преданность нашей великой стране.
С таким несокрушимым человеческим орудием – побеждают!»6
Этим приветствием 4 ноября открывался концерт для полярников, в котором принимали участие О.Л. Книппер-Чехова, В.И. Качалов, М.Н. Кедров и другие мхатовцы. Отправляя текст в редакцию, Станиславский передал свои извинения по поводу того, что из-за нездоровья не может сам приехать в студию, и добавил, что слушать передачу будет непременно.
Правомерно возникает вопрос: а вообще следил ли К.С. Станиславский за выступлениями своих питомцев у микрофона – с концертными номерами, в радиокомпозициях мхатовских спектаклей – и как он к этим передачам относился?
Прежде всего надо указать на обстоятельство, на которое обращает внимание составитель биохроники великого режиссера И. Виноградская:
«В последние годы жизни, когда С. часто болел и не мог выезжать в театр, естественно сузился круг людей, с которыми он встречался. Это неизбежное ограничение сферы общения в отдельные периоды усугублялось искусственной изоляцией С., создаваемой сотрудниками так называемого „кабинета Станиславского“»7.
Это примечания к событиям 1935-1936 годов. Как раз в эти два года московское радио передавало (по нескольку раз) двенадцать спектаклей из репертуара МХАТа, в том числе «Мертвые души», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня». Никакой видимой реакции на эти программы «Театра у микрофона» из дома в Леонтьевском переулке не возникало. Но я позволю себе в качестве гипотезы проследить любопытное совпадение. Особое беспокойство у Станиславского в этот период вызывало снижение художественной дисциплины в театре, коснувшееся и уровня спектаклей, и работы отдельных актеров. Собрание сочинений, летопись жизни и творчества, архивы МХАТа и музея К.С. Станиславского содержат разнообразные свидетельства того, как регулярно, в письменной или в устной форме, он обращался к этой теме. Но если мысленно совместить подобные материалы с программами радио, в которых заняты мхатовские артисты, то возникает такая ситуация. Тому или иному письму, статье, беседе с учениками по поводу недопустимой подмены художественной правды «манерой», «штучками», «штампами» и т. п., очередной филиппике о невозможности актеру «сохранить себя для подлинного творчества», если он разменивает себя на случайные выступления и погоню за успехом, предшествует довольно часто или премьера радиоспектакля, или концерт, или студийная трансляция театрального представления с участием актеров Художественного театра, или МХАТа 2-го, или Оперной студии, руководимой Станиславским.
Причем не просто радиопередача, а такая, что вызывала неудовлетворение и у критиков, и у наиболее требовательных к себе артистов, в ней занятых.
А может быть, ничего странного нет?
Сомнения Станиславского относились и к радио, и к кинематографу. В наброске «О кино» он писал:
«Экран отнял у театра всех его актеров, но не дал ему ни одного...
Придет новое искусство, которое потребует и нового актера. Выработается ли такой актер в мастерских кино, среди трещащих машин, наводящих рефлекторов и других тяжелых условностей, вызываемых требованиями фотографической наводки и другими фабричными трудностями, которые придется побороть и оправдывать актеру своей творческой верой и трудной психотехникой »8.
Он полагал – и, как показали последующие шестьдесят лет существования кинематографа, полагал справедливо, – что кино разрушает творческий режим жизни театрального актера. Искусство, где проявление актерских способностей было обусловлено и ограничено техникой, не привлекало реформатора драматической сцены. Мне кажется, что, познакомившись (пусть заочно) с обстоятельствами радиопроизводства, где творчество тоже не существует вне жестких условий, диктуемых уровнем технических средств, К.С. Станиславский негативное отношение к кино перенес и на радио.
Надо, видимо, подчеркнуть: сомнения относились к обстоятельствам работы на радио, а не к самой возможности этого вида творчества. По этому поводу нелишне вспомнить: Станиславский всегда верил в то, что голос актера способен выразить и глубину проникновения в драматургический материал, и яркость художественных красок, отобранных для обрисовки персонажа.
Ведь мог же он репетировать... по телефону.
Борису Николаевичу Ливанову поручен ввод на роль Ноздрева и назначена репетиция в Леонтьевском. Станиславский скверно себя чувствует, но отменять репетицию не намерен. Артиста зовут к телефонному аппарату и...
Б.Н. Ливанов вспоминал:
«Голубчик, мы начинаем с первой сцены, с прихода Ноздрева к губернатору в гости, первая встреча ваша с Чичиковым.
– Слушаю вас, Константин Сергеевич, сейчас.
– Только вы, ради бога, не спешите, подготовьтесь, и тогда, когда будете готовы, начните.
Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг по телефону в Ноздрева.
Я начал. Проговорил все чичиковские слова. Кончил сцену. В трубке молчание. Спросить же Константина Сергеевича не хватало смелости. Мне казалось, прошел час, прежде чем я услышал:
– Гм, гм... Ну, как вы сами считаете, что у вас получилось, что не получилось? Какие ошибки вы сделали?
– Я, Константин Сергеевич, недостаточно ощущал Чичикова, партнера-то передо мной нет.
– Говорите с мнимым партнером, увидьте и почувствуйте. Пусть ваша артистичность вам подскажет действие с конкретным лицом, а не вообще. Я понимаю, что это очень трудно: обстановка, телефонно все-таки. Давайте еще раз все сначала.
Я повернул голову и увидел позади себя в дверях артистов оперного театра, которые тоже были вызваны на репетицию. Все смотрели затаив дыхание, как идет репетиция по телефону и как я выхожу из положения. Репетировали мы час»9.
Вот так телефонная трубка оказывалась предпочтительнее обычного микрофона.
Но таковы парадоксы искусства – именно Станиславскому в первую очередь радио обязано умением общаться со своим слушателем, быть понятным ему и понятым.
С расстояния в полвека просматривается последовательность.
Радиопресса – таким названием не без оснований объединялись начальные формы общественно-политического и художественно-просветительского вещания – искала исполнителя-актера, способного донести текст до аудитории с максимально возможной доходчивостью. (О том, как по-разному эта доходчивость понималась, я уже писал в предыдущей главе. Но тем не менее...) Мхатовская школа больше всего подходила для этой цели.
В свою очередь, привлечение актеров Художественного театра, мастеров «действенного слова», позволяло радиовещанию вести широкий поиск наиболее приемлемых и эффективных речевых конструкций и форм передач, стимулируя – это уже следующая ступень – жанровое разнообразие программ.
Формировались три типа актерского творчества у микрофона: диктор информационной передачи, ведущий в публицистической программе (здесь уроки «художественников» оказались бесценны и для журналистов) и участник радиоспектакля. Методологической базой всех трех «амплуа» стало учение К.С. Станиславского о словесном действии.
Вторую линию влияния МХАТа на радио нетрудно увидеть в эволюции речевых художественных жанров и становлении «Театра у микрофона» как оригинальной ветви радиоискусства. Здесь главным побудительным стимулом было соответствие идейно-эстетических принципов системы Станиславского и практики МХАТа требованиям невидимой сцены радиотеатра.
«Самым ценным в нашем творчестве является умение в каждой роли прежде всего найти живого человека, найти себя»10. Это определение К.С. Станиславского стало основополагающим условием пригодности человека к работе на радио, в каком бы качестве он ни подходил к микрофону: как репортер или комментатор, как чтец – интерпретатор литературного произведения или как исполнитель роли в спектакле, как диктор или ведущий радиожурнала.
«Пафос и манерность – смертельный враг для радиопрессы, так же как и для всего радиовещания. Дело в том, что при слушании передач у слушателя остается не занятым зрительное воображение. Ложный пафос и манерность в голосе оратора, при отсутствии зрительных впечатлений, начинают вызывать у слушателя ложные образы, отвлекающие внимание от содержания. В результате слушатель или впадает в злобное настроение, или им овладевает скука. Поэтому основное требование, которое должен слушатель предъявлять, это – абсолютная естественность чтения», – писал журнал «Радиослушатель» в 1930 году11.
Сегодня мы хорошо знаем, что это не лучший способ, так же как и неверно представление, будто сложное предложение всегда труднее для восприятия, чем простое.
Но это сегодня – когда технология трибунного обращения к массам рождается из индивидуальных данных оратора, помноженных на сверхчуткость микрофонов. Кто же нынче откроет митинг, прежде чем техники установят радиоусилители и мощные динамики? А тогда все происходило наоборот: крик, привычный и естественный в условиях выступления перед десятками, сотнями, а порой и тысячами человек, «переносили » в студию, чтобы сохранить ощущение разговора с большой массой людей. И не только в студию.
Выйдя с микрофоном на простор улиц и площадей, журналисты и дикторы, следуя митинговой привычке, придавали своей речи торжественность и трибунность, что только в отдельных случаях соответствовало атмосфере события. Метафора Н. Тихонова -«о возвышенных делах истории нельзя говорить шепотом, а должно рокотать трибунным криком» – оказалась ведущим «рабочим принципом». Однако известно: новая тенденция в период становления того или иного вида искусства (а в данном случае мы говорим о становлении нового вида риторики) часто вызывает к жизни тенденцию противоположную по внешним формальным признакам. (По сути, они могут быть – чаще всего так и происходит – совершенно неразличимы.)
В противоположность «трибунной» манере речи у микрофона немедленно родился «радиошепоток », претендующий на интимность. Немногие сохранившиеся записи, материалы прессы и рассказы очевидцев позволяют реконструировать два типичных стиля общения радио с аудиторией, развитые к началу 30-х годов.
Первый – скандирующее произнесение слов: равномерная «металлическая» волна с произвольными и не всегда верными логическими ударениями, почти полное отсутствие обертонов, частое повышение голоса со срывом на крик, затеняющий теплоту личностных интонаций.
Второй – речь псевдосбивчивая: придыхания, частые модуляции подчеркивают отрыв фонетической структуры речи от ее грамматической основы; обилие свистящих и шипящих звуков, неоправданные паузы.
Оба стиля монотонны, не дают слушателю смены слуховых впечатлений, необходимой для относительно длительного восприятия, а следовательно, вызывают быстрое утомление.
Попытки соединения двух речевых манер вне психологической проработки исходного литературного материала, без учета жанра, в котором выступал журналист или диктор у микрофона – а такие попытки были, – приводили к провалу.
Журнал «Говорит СССР» иронизировал по этому поводу: «Стоит два, три часа побывать у репродуктора, чтобы сейчас же услышать „князя Василия“ и „мадемуазель Жорж“ в звучаниях выступающих репортеров, чтецов и дикторов»12.
Автор заметки имел в виду двух персонажей Льва Толстого. В романе «Война и мир» есть пример бессмыслицы, продемонстрированной князем Василием, который славился «своим искусством чтения (он же читывал у императрицы). Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот»13.
Второй образец того же исполнительского стиля в романе Толстого – напыщенная декламация французской актрисы Жорж на вечере у Элен Безуховой.
То, что устраивало великосветскую публику в петербургском салоне, никак не подходило радио. Игнорирование природы высказывания, безразличное отношение к особенностям жанровых разновидностей речи, как указывает М.М. Бахтин, неизбежно «ослабляют связи языка с жизнью»14 и приводят к формализму. А это, в свою очередь, резко снижает интерес аудитории, что нашло отражение на страницах журнала «Говорит СССР»:
«75 процентов наших передач в политическом и художественном секторе построено на слове, а какой процент не достигает цели из-за плохого, невыразительного слова, из-за формы, убивающей содержание, из-за „переливания слов независимо от их значения14? На это нам отвечают потоки рабкоровских писем в редакцию и в Бюро рабочей критики, так как в этом отношении на радио зияющий провал. Вместо революционного подъема – желание поскорее выключить радио»15.
Такова была ситуация, которую мог и должен был изменить опыт театральных мастеров, пришедших к микрофону. Но прежде чем рассказывать о том, как это происходило, укажем еще на одно обстоятельство.
Влияние сценических искусств на эфирную публицистику обусловлено не только генетическим родством театра и радио, о котором уже написано выше, но и некоторыми конкретными аспектами их взаимоотношений, в частности комплексом проблем, возникающих в процессе радиоадаптации театрального спектакля. Перенос театрального спектакля со сцены в эфир в определенной степени схож с процессом перевода реалий того или иного конкретного жизненного явления на язык радиожурналистики. Разумеется, во втором случае мы имеем дело с отражением реальной действительности, тогда как в первом – с отражением события искусства, то есть с произведением, которое вторично по отношению к действительности.
В то же время это произведение – спектакль на сцене драматического театра – само по себе представляет конкретный факт реальной действительности, которому необходимо найти звучащий аналог (радиоверсию). Поиск этого аналога по своей методике тождествен поиску наиболее убедительной формы отражения конкретного события реальной действительности в радиопублицистике.
Опыт выдающихся мастеров театра, занимавшихся звуковой трансформацией созданных ими сценических произведений, весьма закономерно становился поводом для подражания; их радиопроизведения – своеобразными методическими пособиями для радиожурналистов.
Русский театр обладает огромной речевой культурой, тогда как для радиожурналистики эта проблема и поныне стоит крайне остро. «Нужно научиться общению не только через написанное, но через произнесенное слово»16, – писала М. Шагинян, оценивая практику писательских и журналистских выступлений у микрофона еще в связи с подготовкой к Первому съезду советских писателей.
Вопрос о словесно-интонационной выразительности в процессе звуковой реализации литературного текста для радиожурналистики имеет особое значение.
С этого постулата начала свои первые занятия с работниками радио Нина Николаевна Литовцева – выдающаяся актриса Художественного театра, замечательный педагог, прелестная женщина, человек трудной судьбы.
* * *
В Художественный театр Литовцева была принята после окончания Московского филармонического училища по классу В.И. Немировича-Данченко и пяти лет служения Мельпомене в провинции – в Казани, Саратове, Астрахани. Поступив в 1901 году на сцену МХТ, она получила сразу же несколько первых ролей в спектаклях, составлявших славу театра: в очередь с М.Ф. Андреевой играла Ирину в «Трех сестрах», Наташу – в «На дне», Варю -в «Вишневом саде», с О.Л. Книппер поделила роль Сарры в «Иванове», стала первой исполнительницей роли Натальи Дмитриевны Горич в «Горе от ума» и уже ни с кем не делила трепетную, лирическую Веру Павловну в пьесе Е.Н. Чирикова «Иван Миронович» и острохарактерную, почти фарсовую горничную Фиму в горьковских «Детях солнца».
8 февраля 1907 года она играет премьеру «Драмы жизни» по Кнуту Гамсуну. Роль госпожи Карено. Роль ее супруга – кандидата философии и домашнего учителя Ивара Карено – играет постановщик спектакля К.С. Станиславский.
Справочник «Московский Художественный театр. 1898-1938» фиксирует двенадцать крупных сценических созданий актрисы Н.Н. Литовцевой за шесть сезонов. Госпожа Карено – последнее из них. Потом следует прочерк на три десятилетия.
В следующий раз Н.Н. Литовцева вышла на сцену МХАТа через тридцать лет, в небольшой, почти бессловесной роли из пьесы А.М. Горького «На дне». Сценическая карьера ее, начинавшаяся бурно, темпераментно, оказалась прервана трагическими обстоятельствами.
Нина Николаевна была женщина обаятельная и решительная. Достаточно вспомнить, как она работала в подпольной организации РСДРП, будучи фактической связной между московским комитетом большевиков и «Искрой».
В.В. Шверубович, сын Нины Николаевны, вспоминал: «Она была коренной москвичкой, знала город, по ее выражению, „как извозчик“, знала проходные дворы, проходные парадные, через которые можно было с улицы попасть во двор или в сад, а там из сада через забор в другой сад и опять через дом на другую, далекую улицу. Изящная, хорошо одетая, владеющая бойкой, чисто московской речью со всеми прибаутками, поговорками и острыми словечками, она умела отшутиться и отбраниться в случае какого-нибудь столкновения»17.
Задания ей поручались весьма опасные: она передавала пароли и документы, среди которых были директивные письма московским большевикам из-за границы, выясняла, не раскрыта ли полицией та или иная конспиративная квартира, и, напротив, сама занималась разоблачением сыщиков.
Решительность присуща была ей и в делах театральных. Когда Литовцевой показалось, что ее актерская жизнь проходит в тени ее мужа – В.И. Качалова и что ее личная жизнь губительно сказывается на артистической карьере (а Качалова она любила со дня первой встречи и до последнего своего вздоха), она взяла годовой отпуск в Художественном театре и уехала в Ригу, в театр Незлобина, себе и людям доказать: одна она способна добиться большего.
Сырой прибалтийской осенью она захворала. Кто мог предположить, во что выльется обыкновенная простуда? Насморк перешел в воспаление среднего уха. В результате неудачного прокола началось общее заражение крови. Одна трепанация черепа, вторая... Хирургическое вскрытие бедра... За пять месяцев Литовцева перенесла семь тяжелейших операций под наркозом. В Москву она вернулась весной следующего года – калекой. Могла передвигаться в инвалидном кресле или с помощью скамеечки, похожей на козлы. На ноги она встала спустя несколько лет, хромой осталась навсегда.
Но как только она стала ходить на костылях, а потом опираясь на трость, то получила приглашение в лучшую тогда театральную школу «Частные драматические курсы Адашева», где преподавали главным образом артисты Художественного театра. Станиславский предложил Литовцевой педагогическую работу во 2-й студии МХТ. Тут она дебютировала как режиссер. Потом – первые опыты на основной сцене Художественного театра под руководством самого Константина Сергеевича, участие в постановках «Бронепоезда 14-69», «Талантов и поклонников», новых сценических редакций «Дяди Вани», «Трех сестер».
Педагогический талант ее ничуть не уступал актерскому. Серафима Германовна Бирман, выдающаяся и оригинальнейшая актриса нашей сцены, готовила «на школьной скамье» вместе с Литовцевой отрывок из ибсеновской «Норы» – фру Линден. Роль не давалась и в результате не принесла радости ни педагогу, ни ученице. Актеры, даже знаменитые, даже самые объективные, редко позволяют себе вспоминать неудачи – это занятие очень уж не в природе профессии. Но о работе с Литовцевой Серафима Германовна говорила с удовольствием.
Однажды на просьбу автора этих строк определить педагогический почерк Н.Н. Литовцевой Бирман ответила тремя словами: понятно, легко и бережно.
...Во МХАТе идет «Женитьба Фигаро» с Юрием Александровичем Завадским в роли графа Альмавивы. Завадский гримируется и отдыхает в уборной К.С. Станиславского. По традиции, в антракте он беседует со своими учениками на животрепещущие темы искусства вообще и по поводу их личных проблем в частности. На сей раз он распекает одну из любимых «своих» артисток за никак не дающуюся ей роль в спектакле, который репетируется для передачи по радио в Студии на Телеграфе.
Разнос страшный, ибо до эфира несколько дней, а все накопленное на сцене куда-то расползается, как только актриса подходит к микрофону. Многочасовые репетиции не дают никакого результата.
Звонок и голос помрежа требуют Завадского на сцену.
– В тебе обезьянья природа проснулась, это часто бывает у актрис, а надо найти себя и никого не копировать, – безжалостно уже в коридоре бросает Завадский ученице и исчезает.
Последние слова слышит проходящая мимо Нина Николаевна Литовцева. Она уводит плачущую актрису в пустое фойе, дает ей платок.
– Почитайте мне.
– Не... не могу! – почти в голос ревет актриса.
– Тише, идет спектакль. Все-таки почитайте.
С трудом загнав слезы внутрь, актриса читает короткий монолог. Литовцева не останавливает ее и после конца не задает вопросов, а предлагает лишь несколько изменить «приспособления»:
– На сцене зритель все время следит за тем, как вы ищите возможность броситься к партнеру в объятия. А на радио слушатель этого не увидит, и поэтому попробуйте так... – Полушепотом следуют несколько советов.
Назавтра актриса прекрасно преодолевает трудности «студийного одиночества», а еще через неделю все газеты пишут о ее блестящем проникновении и в характер героини, и в специфику радиодействия. Пора назвать имена: актриса – Вера Петровна Марецкая, роль – Глафира из спектакля «Волки и овцы», многократно затем повторявшегося в эфире; а долго не получавшийся эпизод – сцена обольщения Лыняева, о которой критик писал: «После эпизода с Лыняевым, так, как его играла Марецкая, Глафиру можно было бы принимать в любой театр на первые роли »18.
Между тем Вера Марецкая никогда не относилась к числу любимых актрис Нины Николаевны Литовцевой.
Станиславский высоко ценил ее режиссерские и педагогические способности, считал, что работа с ней полезна любому актеру, включая «корифеев-основоположников». В письмах к Литовцевой и Качалову немало озабоченности «простоями» Нины Николаевны и конкретных предложений типа: «А почему Вы сами не берете работы?.. Хотя бы, например, „Без вины виноватые“ с Книппер. Проделайте с ней такую же педагогическую работу, как с „Талантами“. Ей это очень нужно и полезно! Ей нужно заново выучиться, а не в месткоме сидеть»19.
Не зря считал Станиславский Нину Николаевну Литовцеву одной из самых надежных своих учениц. Она впитывала не только эстетику системы, но до глубины души была верна ее этике. Это было много труднее, но она училась. В ее рассказах о Станиславском есть такой эпизод.
Шла работа над пьесой А. Кугеля «Николай I и декабристы», выпуск которой был приурочен к определенному сроку – к столетнему юбилею восстания 14 декабря 1825 года. На просмотрах не заладилось с постановочной частью. Сидя рядом со Станиславским за режиссерским столом, Нина Николаевна очень волновалась – это ведь был ее режиссерский дебют на сцене Художественного театра. «Прокол» осветителей следовал за «проколом» машиниста сцены, подвели бутафоры, ошибся помощник режиссера.
Литовцева дергалась. И тут Станиславский повернулся к ней, взял за руку и сказал:
– Что вы нервничаете? Никакие силы в мире не заставят меня выпустить спектакль раньше, чем он будет художественно готов.
Спектакль «Николай I и декабристы» вышел на публику 19 мая 1926 года, после ста – полноценных! – репетиций. При всей драматургической слабости этого произведения критика отмечала оригинальность его сценической формы и остроту психологических рисунков в изображении людей и событий: «Актер и зритель говорят здесь на одном языке – на языке внутреннего опыта, без которого нельзя постигнуть и выразить современность» (П.А. Марков)20.
Первое появление Н.Н. Литовцевой в радиостудии связано с трансляцией спектакля «Бронепоезд 14-69». Спектакль шел в эфир со сцены театра, но режиссеры его – Н.Н. Литовцева и И.Я. Судаков – предварительно пришли в радиостудию, примеривались к особенностям звучания человеческого голоса через микрофон.
В отличие от многих коллег, Литовцеву радио не испугало и не изумило. Напротив, она с большим интересом следила из аппаратной за чтением радиогазеты; надев наушники, слушала чтецов и музыкантов, исполнявших фрагмент композиции «Женитьба Фигаро» по Бомарше и Моцарту в программе «Искусство – массам». Суммируя впечатления, она говорила с актерами и дикторами о слове, которое должно быть не украшением речи, а эмоциональным выражением мастерства.
Мне кажется, что Литовцева вообще одна из первых восприняла особое свойство радио – способность усиливать эмоции, владеющие человеком у микрофона, укрупнять и достоинства и недостатки речи, так что психофизическое состояние актера выявляется куда полнее и ярче, чем на сцене: очевиднее и достижения и ошибки.
В советах и помощи такого человека очень нуждалось радио -для выявления возможностей и принципов актерского в первую очередь, но, разумеется, и дикторского и журналистского речевого творчества у микрофона. Нужен был повод, случай – он не заставил себя ждать.
Качалов получил официальное приглашение дать несколько уроков в дикторской группе радио. Сославшись на занятость в репертуаре, Василий Иванович отказался, пообещал две-три разовые «творческие встречи» (и обещание выполнил с лихвой – это особая тема), а в качестве педагога, подходящего, по его мнению, именно для этой работы, назвал Н.Н. Литовцеву. Идея была одобрена всеми заинтересованными лицами. Работников радио привлекал безусловный театральный и педагогический авторитет Литовцевой. Что же касается ее самой и побудительных причин, заставивших принять без колебаний предложение Радиокомитета, то, на мой взгляд, их две – интерес к радио и неудовлетворенность своим положением в театре, о которой она написала Станиславскому: «В театре очень скучно и безрадостно. Может быть, это мое впечатление, происходящее от полной безработицы»21.
Такова предыстория прихода Н.Н. Литовцевой в Радиоинститут – так именовали в ту пору систему обучения, которую нынче назвали бы курсами по повышению квалификации. В аудитории сидели не только дикторы, но и журналисты – репортеры, редакторы, комментаторы, среди которых многие стали впоследствии звездами в эфире.
Представившись, Нина Николаевна предложила спрашивать -ей хотелось понять интересы своих новых подопечных. На нее обрушился шквал вопросов... о Баумане, который, как было известно, прятался в доме Качаловых от полиции; о Париже и заграничных поездках; о Горьком и репертуарных перспективах театра... Неожиданно, властным жестом прекратив импровизированную пресс-конференцию, Литовцева сказала, что обо всем этом она с удовольствием поговорит в перерыве, а сейчас ей желательно объясниться с аудиторией по поводу «художественных и нравственных воззрений, что она намерена проповедовать».
Еще не была написана книга «Работа актера над собой», еще не было даже набросков главы «Речь и ее законы», которые Станиславский сделает спустя несколько лет. Но три десятилетия совместной работы и глубочайшее проникновение в суть творческого метода учителя позволили Литовцевой изложить требования «системы» в тезисах очень близких тем, что появятся на страницах будущей книги. Мне удалось познакомиться с содержанием первой лекции Н.Н. Литовцевой в Радиоинституте по пересказам. И дома, открыв третий том собрания сочинений К.С. Станиславского, где помещена его «Работа актера над собой в процессе творческого перевоплощения», оставалось лишь восхититься совпадениями.
Литовцева говорила о духовности и идейности, которые должны быть в каждой фразе, о том, как слово способно нести слушателю и возбуждать в нем ощущения всех пяти чувств.
Литовцева вела семинары и индивидуальные занятия с дикторами радио и журналистами несколько сезонов. Тут необходимо разъяснение. Она не занималась техникой речи – это дело было прекрасно поставлено Елизаветой Александровной Юзвицкой, выпускницей актерской школы при Малом театре, ученицей
А.П. Ленского, автором интересной методики постановки голоса.
«Научитесь правильно стонать, – внушала Юзвицкая ученикам, – у вас укрепится звук, расширится диапазон, на всю жизнь сохранится сильный голос»22.
Литовцева занималась комплексом проблем, обусловливающих развитие психотехники диктора – в полном объеме духовных, этических и технологических критериев.
Завершая очередной «учебный цикл» в 1935 году, она обратилась к работникам радио с Открытым письмом, опубликованным в качестве приглашения к дискуссии журналом «Говорит СССР». Статья называлась «За диктора-творца».
«Что такое диктор? Чем он является сейчас, чем он может и должен быть? Вот вопросы, которые встали передо мною, когда я начала работать в Радиоинституте.
Достаточно ли советской радиопередаче «сухого» чтеца, объективного и равнодушного произносителя того или иного сообщения? Конечно, нет. Нужен диктор-творец, диктор-художник, дик-тор-актер.
Любой текст – от метеорологических сводок до сообщения о спасении челюскинцев, от перечня действующих лиц в спектакле и до характеристики творческого метода Мейерхольда и т.д. и т. п. – можно формально и пассивно-добросовестно проговорить. И можно сказать его слушателю так, чтобы он заволновался, обрадовался, огорчился, увлекся.
Но для этого нужно, чтобы диктор был творческим работником, чтобы в зависимости от темы передачи он перевоплощался: то во влюбленного в свою науку физиолога, то в энтузиаста-шахматиста, то в музыковеда. Он должен сам быть увлечен своим текстом, должен любить его, гореть им. Он должен ощущать свой рабочий процесс не на расстоянии между своим ртом и микрофоном, а между микрофоном и самим слушателем. Он должен видеть перед собой этого слушателя и чувствовать свою ответственность за правильное восприятие слушателем его работы»23.
Среди тех, кто открыто и ожесточенно, на печатных страницах не согласился с позицией Литовцевой, были и ведущие дикторы. К примеру, Н.А. Толстова утверждала, что «методы и приемы сценической читки неприемлемы в работе диктора у микрофона». Ссылаясь на собственный опыт, она рассказала, как сама попробовала «играть» у микрофона и «с выражением» произносить каждое слово, но убедилась, что «нельзя декламировать сообщения о свеклоуборке на манер оды Державина».
Мысль о том, что «производственная природа дела, которым занимается диктор, лежит вне художественных категорий», оказалась по душе тем, кто вообще отрицал «внутреннюю психологическую сторону работы диктора». Ленинградский диктор Незнамов писал, что «не в состоянии представить себе ученого-метеоролога, настолько пылающего любовью к своим сводкам, чтобы этот пыл передавался слушателю и зажигал, волновал его»24. А если такой и попадется, то это уже объект медицинского обследования.
Были и передержки, и стремление подменить предмет спора. Ломать привычное не хотелось, да и перемены могли повлечь за собой дополнительные неудобства.
Ленинградский диктор Антипова писала: «Диктор должен так подать материал, чтобы слушатель чувствовал, что с ним беседует человек, прекрасно понимающий то, о чем он говорит, иначе передача не будет авторитетной»25.
Автор, скрывшийся за инициалами Н.В., идет еще дальше: «За границей от дикторов, кроме безупречных голоса и дикции, общего образования и умения говорить красиво и просто, требуется еще и знание языков. Знание хотя бы одного, двух языков очень помогло бы дикторам. Совсем иначе зазвучали бы тогда названия иностранных газет, городов, имена собственные»26.
Дискуссия, вызванная статьей Н.Н. Литовцевой, касалась забот отнюдь не одного дикторского цеха. По сути своей, она отражала столкновения уже упоминавшихся полярных точек зрения на человека у микрофона.
Кто он – личность или функция? Декларировалось, разумеется, первое; на практике чаще побеждало второе.
Однажды в дикторскую группу пришел председатель Радиокомитета П.М. Керженцев. Он был озабочен излишне официальной манерой чтения «Последних известий» и пропагандистских бесед.
– Почему вы всегда en frac, как на дипломатическом приеме? Неужели вам никогда не хочется улыбнуться слушателю и, может быть, даже назвать их товарищами? Особенно если вы случайно оговорились, ошиблись, почему не сказать: «Извините, товарищи», «Простите, исправлю ошибку».
В кругу дикторов уже бытовала поговорка по поводу ошибок в эфире: «слово не воробей, поймают – вылетишь». Сообщать ее председателю не стали, но возразили, что панибратского разговора со слушателями никто до сих пор не разрешал.
Керженцев улыбнулся, напомнил, что слово «товарищ» в СССР есть привычная форма обращения, посочувствовал, – возможно, руководство виновато в том, что слишком «осерьезили» эфир и этим запугали дикторов, и официально разрешил и «товарищей», и «извините », и даже улыбку.
А через несколько дней ему пришлось употребить власть и отменить наказания, посыпавшиеся на дикторов «за фамильярность, недопустимую в эфире». Но некоторые взыскания остались, потому что, как выяснилось, «извиняться» и «улыбаться» у микрофона надо уметь.
По инициативе П.М. Керженцева объявили творческий смотр дикторской работы. Многотиражка «Микрофон включен» самым крупным шрифтом набрала лозунг: «Диктор – не говорящий автомат, а творческий работник!»
В комиссию пригласили и актеров Художественного театра.
После разбора результатов как-то само собой вышло, что несколько дикторов попали под особую опеку «художественников». Возникли отношения вроде шефских, хотя официальными актами и не оформленные. Подшефным В.И. Качалова оказался Юрий Левитан. Часами просиживали они над текстами передач – и до эфира и после, – разбирали, исправляли стандартные ошибки, ловили возможные фонетические ляпсусы...
Когда Левитан получил орден Трудового Красного Знамени, Качалов позвонил ему и сказал: «Это большая награда, вы заслужили ее, но помните, что теперь вам надо работать еще больше. И главное, пусть орден не лишает вас скромности». Левитан поблагодарил и ответил, что это «орден для двоих».
Я не абсолютизирую влияние мхатовских мастеров на эволюцию речевой стилистики радиовещания 30-х годов. Свой вклад внесли и «старики» Малого театра, и вахтанговская молодежь. Но воздействие мхатовской школы, ее лидерство было определяющим и по количеству практических «уроков» – по числу выступлений у микрофона, – и по воздействию теоретических высказываний.
В марте – июне 1931 года группа ведущих артистов МХАТа выступила со статьями на страницах журнала «Говорит Москва». Подборка материалов имела общее заглавие «Актеры – друзья радио».
В 1933-1935 годах появилась целая серия интервью, бесед и статей о проблемах творческого освоения специфики работы на радио, принадлежащая перу мастеров МХАТа. Собранные вместе, их суждения составляют первое серьезное пособие по радиоискусству, по крайней мере в той его сфере, которая касается творческого процесса диктора, актера, журналиста перед микрофоном.
Иван Михайлович Москвин. Одним из первых актеров Художественного театра стал регулярно участвовать в радиопередачах. Интерес к его выступлениям у слушателей был столь велик, что 27 марта 1930 года редакция «Деревенской вечеринки» отменила свою «традиционную» вечернюю программу и через станцию имени Коминтерна передала «Вечер художественного чтения И.М. Москвина». После исполнения у микрофона глав из «Мертвых душ» и толстовского рассказа «Поликушка» актер поделился своими ощущениями.
«При каждом выступлении у микрофона испытываю огромное волнение, которое вызывается чувством ответственности перед непривычной, колоссальной по своему охвату аудиторией. Это волнение усугубляется незнанием реакции слушателя. Доволен ли он исполнением? А не зная отзывов радиослушателя, мы не в состоянии исправить возможные ошибки. В природе не существует аудитории, соответствующей по своим размерам радиослушательской.
Поэтому здесь искусство слова может приносить наибольшую общественную пользу. Мое мнение: даже по сравнению с театром выступления у микрофона – это первейший долг каждого мастера художественного слова...
Простота, искренность, а не ходульная декламация, не ложный пафос, не словесное жонглерство и трюкачество – эти требования, обязательные для сцены, являются аксиомой и для радиоисполнителя. ...Если фальшь иногда и не так явственна на сцене, где голос дополняется жестами и мимикой, то при радиопередаче, при отсутствии какого-либо зрительного восприятия она уже просто режет слух»27.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Дебют выдающейся актрисы у микрофона состоялся в один из первых «радиопонедельников» на сцене Большого театра. Радиодебют в спектакле – 25 марта 1929 года: шла горьковская пьеса «На дне». Ольга Леонардовна была занята в упоминавшейся уже радиоверсии «Бронепоезда 14-69» в Студии на Телеграфе, там же играла Раневскую в «Вишневом саде» (премьера в эфире 25 марта 1935 года), принимала участие в цикле, посвященном А.П. Чехову (февраль 1935 года), в концертах для полярников.
«У актера должна быть необычайная собранность, внутреннее внимание. Нужно сконцентрировать всю суть образа в подаче его.
Самая подача должна быть очень точной и осторожной. Точность достигается ясностью мысли и настроения. Мысль нужно окунать внутрь, в свой фильтр.
Микрофон не выносит крика, «жирных» переживаний. Радио, как и кино, не терпит никакой фальши, никакого нажима. Слушателя обмануть нельзя – перед микрофоном нужно быть честным. Не надо форсировать, нажимать, – играть надо мягко.
Актер должен владеть собой, своими эмоциями, и если эмоция верна, если это не театральный пафос, – она дойдет. Нужно все собрать внутри и подавать просто, без измышлений, очень спокойно.
Не нужно ни резких жестикуляций, ни широких движений – все это мешает. Движения должны оставаться самые минимальные. Но только не надо застыть, окаменеть. Нужно оставаться живым человеком.
Общение с партнером – такое же, как и на сцене. Я могу повернуться лицом к партнеру, в профиль к микрофону, если мне это нужно»28.
Серафима Германовна Бирман. Работала в МХАТе 2-м и входила в группу артистов, которые в начале 30-х годов своими силами подготовили несколько спектаклей специально для радио, то есть с учетом технологии актерской работы у микрофона и восприятия на слух.
Вместе со «стариками» Художественного театра с блеском выступила 24 марта 1930 года в радиокомпозиции «Салтыков-Щедрин и его время».
«Надо обнаружить перед слушателями внутреннюю жизнь образа во всем ее движении, во всем ее многообразии, обнаружить жизнь правдиво, верно, с такой яркостью, чтобы слушатели могли „пририсовать“ к психической данности образа его внешнюю физическую сторону, чтобы они могли увидеть то, что слышат. И когда к одной половине будет приставлена недостающая половина, получится целостность образа, его круглое, объемное бытие. В этом и заключается контакт между актером, читающим по радио, и многочисленными слушателями. Слушатели будут видеть то, что передаст актер.
Через прерывистый ритм речи слушатель увидит, как тяжело подымается грудь, через ослабевающий голос увидит бледность лица. Слушатель увидит белые зубы, если услышит здоровый, крепкий смех, и через хихиканье увидит улыбающуюся рожу. Конечно, и прерывистый шепот, и ослабевающий голос, и смех не должны быть халтурно сфабрикованы, а должны явиться результатом интенсивной внутренней работы актера»29.
Николай Павлович Хмелев. Так сложились контакты Художественного театра и радио, что почти во всех совместных начинаниях Хмелев был занят. Он играл, кажется, во всех спектаклях театра, переданных в эфир в конце 20-х – начале 30-х годов (за исключением «Квадратуры круга»). При этом у него накапливался опыт режиссерской работы в студии. Как сопостановщик Ю.А. Завадского он готовил к эфиру «Простую вещь» по Лавреневу; как один из руководителей Московского ТРАМа – радиоверсию спектакля «Продолжение следует» по пьесе А.Я. Бруштейн в 1934 году. Театр-сту-дия под руководством Хмелева выпустил в 1934 году и почти тут же сыграл для радиослушателей «Не было ни гроша, да вдруг алтын»
А.Н. Островского. Добавим к этому участие в композиции «10 лет без Ленина», в чеховских радиовечерах.
«От выступающего перед микрофоном исполнителя требуется прежде всего учет особенностей радиопередачи, умение управлять своим голосом, приспосабливать его к микрофону. Мало хорошо прочесть или исполнить ту или иную сцену. Иногда приходится сдерживать свой актерский темперамент, перехлестывающий микрофон. Нужно изучить микрофон, знать, в каком месте нужно говорить, повернувшись всем лицом к микрофону, в каком месте вполоборота и т. д. В соответствии с условиями радиопередачи видоизменяется и сама манера подачи драматического слова. Тут нужна филигранная одаренность, прямо-таки скульптурная отточенность каждого слова»30.
Пристальное внимание к слову сказанному не могло не вызвать интереса к его первооснове – к слову написанному. Заметим, что к этому времени репортеры и комментаторы редко подходили к микрофону без заранее заготовленного текста или хотя бы тезисных набросков. Дикторская присказка о слове и воробье стала весьма актуальной и для журналистов.
Интерес репортеров и комментаторов к урокам мхатовцев поддерживается несколькими обстоятельствами. Прежде всего, многие из артистов Художественного театра начиная с 1932 года вместе с журналистами, рядом с ними регулярно участвовали в праздничных передачах радио и трансляциях с Красной площади или из Большого театра в дни майских и ноябрьских торжеств и по другим, не менее радостным поводам – встреча челюскинцев, слет стахановцев и т. п.
Основное: очень трудно шел поиск выразительных возможностей в репортажах и других внестудийных передачах и значимость корреспондентской точки зрения на событие уже ставилась под сомнение. С выносом микрофона из стен студии «на натуру» возникла теория о возможности замены исходного литературного материала рядом звуковых картин, которые, во-первых, сами несли бы необходимую информацию, а во-вторых, вызывали бы круг ассоциаций, достаточных для создания соответствующего эмоционального настроя аудитории.
На практике это выглядело следующим образом.
Пятнадцать минут в эфире было предоставлено 22 апреля 1931 года корреспонденту радио для рассказа о непрекращающемся во время весеннего паводка строительстве и реконструкции набережных Москвы-реки. Весь репортаж состоял из бесчисленного количества гудков, шума, производимого при забивке свай, гула моторов, звонков трамвая (для всего этого было установлено несколько микрофонов) и цитируемого нами дословно текста репортера:
«На берегу милиция... гм... гм... а также разные лица медицинского персонала...
Поверхность воды относительно грязная... гм... гм... относительно гладкая.
Сейчас по реке плывет лодка Моснава... гм... гм... в которой сидят соответствующие лица»31.
И так далее... Комментарий мог бы вызвать удивление малограмотностью автора, его профессиональной непригодностью, но дело как раз в том, что в данном случае репортаж вел журналист, известный как мастер слова.
По собственной инициативе он посещал семинары Н.Н. Литовцевой. Она то ли слушала репортаж по домашнему приемнику, то ли прочла его в журнале, но отреагировала с откровенным раздражением. На ее резкий вопрос о причинах столь явного неуважения и к слушателю, и к русскому языку журналист промямлил: это, видите ли, эксперимент, который доказывает возможности «метода звукового отражения ».
Лиха беда начало. Идея заменить слово «звуковой картинкой» перекочевала с улицы в студию и начала реализовываться уже с помощью сугубо театральных средств – звукообразования и звукоподражания.
«Верните слово на радио», – не проговорил, а простонал В.И. Качалов, случайно оказавшийся на генеральной репетиции спектакля, поставленного как «мозаика из мелких звуковых отрывков».
Надо сказать, что усердные старания Качалова, Москвина, Литовцевой, а также Абдулова и других режиссеров и актеров, следовавших на радио в фарватере «художественников», были не напрасны. И вот уже писатель Сергей Третьяков, один из глашатаев теории «звукоотражения», пишет по адресу праздничной передачи с Красной площади:
«Микрофон не любит, чтоб на него кричали, говори просто. Не мешай радиослушателю слушать звуковую картину, вводи его в нее. Дай зрителю вслушаться и в цокот конницы, и стрекот танкеток, и грохот танков, и рык самолетов. Не тщись перекричать этот грохот, а просто подойди вплотную к микрофону, и тихое и внятное твое слово перекроет любой ураган звуков»32.
Художественный театр порой неожиданно давал радио очень важные уроки языковой этики.
К концу 1933 года аудитория Всесоюзного вещания значительно расширилась – прежде всего за счет радиофикации сельской местности в центральных областях и введения ряда мощных передатчиков на окраинах, в удаленных районах РСФСР и в союзных республиках. Первого октября открылась Вторая программа Центрального радио – радиус ее действия захватывал Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию. Проблема эффективности радиопропаганды встала очень остро, и острейшим на повестке дня был вопрос стиля обращения к слушателю.
Призыв «говорите проще, и тогда вы будете лучше поняты» в кругу журналистов и радиоавторов вызвал реакцию «облегченную». Радио мгновенно «погрубело», вульгаризмы полезли из всех щелей. Отличались прежде всего редакции, готовившие передачи для крестьян и красноармейцев. Словесная грязь появилась и в программах литературно-художественных. Явление это присуще было не только языку радио, но и языку определенной драматургии. В беседе с актерами В.И. Немирович-Данченко высказал свое отношение к происходившему в языке:
«Я начал было готовить поход против бранных и вульгарных слов на сцене. Я, право, не знаю сегодня таких пьес, где не было бы слов „сукин сын“, „сукины дети“, „зад“. Не могу забыть, как герой пьесы в одном театре, обнимая девушку, в которую он влюблен, вскрикивает: „Ах ты, сукина дочь!“ Это хорошо?»33.
Беседа Немировича-Данченко появилась на страницах журнала «Рабис». На одной из планерок в редакции «Последних известий» П.М. Керженцев вместо своего выступления предложил зачитать мнение руководителя МХАТа о культуре сценического слова. Потом начался очень резкий разговор о радиоязыке, где слово невидимо и потому, усиленное интонацией говорящего, несет в себе яд грубости, тиражируемой миллионами репродукторов.
Мысль Немировича-Данченко, что язык вульгарный или, напротив, претенциозный, засоренный словами, не отражающими суть явления и суть характера, на сцене «во много-много раз губительнее, чем в чтении», транспонировалась в область массового вещания как безусловная.
Керженцев отдал распоряжение размножить статью «За культуру сценического слова» – под таким названием была опубликована беседа Немировича-Данченко – в качестве служебного документа Радиокомитета и разослать по всем редакциям в Москве и на местах для ознакомления и следования ей без демагогических дискуссий, надо ли учиться разговаривать с крестьянскими, рабочими и красноармейскими массами у рафинированных столичных интеллигентов. Надо!
* * *
Пока юная муза радио обучается основам театральной культуры, Мельпомена, в свою очередь, присматривается к ее достоинствам и возможностям. Контакты радио и театра в конце 20-х годов развивались на встречных курсах. Радио постепенно появлялось в театральных спектаклях как один из компонентов режиссерско-постановочного решения. При этом во многих работах оно из средства оформления спектакля превращается в его органическую составную часть, обусловленную новым прочтением драматургического материала.
При постановке пьесы Вл. Маяковского «Клоп» в ГОСТИМе радио стало организующим элементом целого действия. В опере «Джонни наигрывает» в Театре имени В.И. Немировича-Данченко радио – часть фабулы, одно из звеньев интриги. На сцене МХАТа радио в качестве действующего лица появляется в спектакле «Квадратура круга» – громкоговоритель здесь заменил классических слуг просцениума. Ленинградский театр рабочей молодежи (ТРАМ) включает радио в спектакли «Дружная горка» и «Клещ задумчивый» – здесь радио используется как открытый и скрытый (попеременно) прием технического усиления сценической речи. Это был, по сути, первый опыт применения радио в качестве режиссерского приема, получившего позднее распространение в спектаклях разных театров.
В числе театральных произведений, где участвовало радио, надо назвать ленинградские спектакли «Огненный мост» и «Фаффке и К0».
Заметим, что все приведенные выше примеры взяты из практики одного театрального сезона – 1928/1929 года, что свидетельствует о безусловной активности в то время взаимных контактов радио и театра.
Вещательные редакции, как я уже писал, только-только примеривались к передаче драматических представлений. И конечно же, они не могли упустить возможность трансляции «Бронепоезда 14-69», пьесы Вс. Иванова, в исполнении артистов Московского Художественного театра.
Премьера его прошла в ноябрьские торжества 1927 года, и сразу же последовало предложение от редакторов художественного вещания. В театр телефонировали из Наркомпроса, из Президиума ЦИКа от А. Енукидзе, уже созревала мысль подчинить МХАТ непосредственно комиссии ЦИК, а не театральному отделу Наркомата просвещения. На радио позвонили из ЦК партии, поторопили.
А.Л. Минцу позвонил Луначарский – интересовался насчет технического обеспечения трансляции.
В день передачи спектакля по радио Н.Н. Литовцева и И.Я. Судаков устраивают репетицию, чтобы обратить внимание артистов на дикцию и ритм диалогов. Литовцева процитировала указание Станиславского о емкости интонации: «Все в спектакле – речь, одежда, квартира, железнодорожная станция, депо – должно быть просто, обыкновенно, по-русски. Но эту обыкновенную русскую речь и обстановку мы должны поднять до яркого символа»34.
Радиотрансляция спектакля «Бронепоезд 14-69» со сцены МХАТа имела огромный общественный резонанс. Ее повторяют. Затем Литовцева и Судаков делают специальную редакцию спектакля для передачи из Студии на Телеграфе – она идет в эфир 1 марта 1930 года.
Пресса не оставила без внимания эту постановку: «Две основные ноты звучат на всем протяжении спектакля: растерянность и обреченность у белых и крепкая сила и стихийная уверенность у восставших крестьян. Это прекрасно подчеркивает своей постановкой Московский Художественный театр»35.
Учитывая, что А.Л. Минц и его коллеги успешно преодолели технико-фонические сложности, наиболее привлекательной казалась трансляция спектакля из зрительного зала. «Воскресение», передававшееся из Художественного театра в начале 1934 года, было бесспорным тому подтверждением. Пресса захлебывалась от восторгов, объявляя, что никаких сложностей в передаче театральных спектаклей по радио больше не существует.
«Передача по радио полностью спектакля МХАТ им. Горького „Воскресение“ – несомненно крупнейшее событие в области драматического вещания. Она доказывает, что большинство вопросов, связанных со „спецификой микрофона“, легко разрешаются при условии высокого качества художественного материала, идущего в эфир, и высокого качества исполнителей.
...Исполнители стояли перед огромной трудностью: в течение трех с половиной часов удерживать внимание аудитории на образах драмы, воспринимаемых исключительно через слуховое впечатление. Тот энтузиазм (в виде целого потока писем), который встретила эта передача, говорит о том, что основная трудность побеждена »36.
Парадокс успеха был в том, что по своим эстетическим критериям этот спектакль был скорее исключением на сценических подмостках, чем правилом, если говорить о нем с позиций избранной нами темы. Это было самое «повествовательное» из драматических сочинений В.И. Немировича-Данченко и его коллег. Не зря же Ведущий, лицо от театра (В.И. Качалов), определял и движение сюжета, и динамику психологической атмосферы действия.
Но вот вскоре после радиопремьеры «Воскресения» решили установить микрофоны на представлении «Егора Булычева». Казалось, для этого были все основания. Премьера, 6 февраля 1934 года, прошла с успехом. Л.М. Леонидов в заглавной роли великолепен.
Одиннадцатого февраля на спектакль пришел А.М. Горький. Его оценка: «Хорошо, глубоко». Замечания минимальны, и все по поводу манер и мизансцен. Немирович-Данченко разрешает трансляцию.
Однако «Булычев» со сцены МХАТа в эфир не вышел – по крайней мере, в середине 30-х годов. На репетиции (трансляции иногда репетировались тоже) выяснилось, что центральная сцена – разговор Булычева с игуменьей – «проваливается». На сцене пляска Булычева насыщает его слова издевкой, страстью, жизнелюбием -всем тем, что составляет суть его характера. И если не видеть, как танцует Булычев, то этот характер не проявится вовсе.
МХАТ от трансляции «Булычева» отказался. Позднее вахтанговцы согласились, дополнив сцену красочным дикторским конферансом о том, как пляшет Булычев. Неравноценная это была замена.
«Но зато слушатель в Елабуге и Тюмени побывал в Вахтанговском театре», – писал радиорецензент.
Побывал ли? – спросим мы сегодня. Не происходила ли некоторая подмена – звуковая информация о спектакле не выдавалась ли за сумму его идеологических и эстетических достоинств?
Сама фигура Ведущего как конферансье для слушателей вызывала сомнение, хотя и не знали, как обойтись без него.
И.Я. Судаков рассказывал:
– Ведущий – досадная, но необходимая деталь. Радиослушатель до сих пор еще слеп. Ему необходим поводырь, рассказывающий, что здесь – овраг, а там – цветущий сад, река, горы. Все это не понадобится, когда будут писать пьесы специально для радио37.
Это интервью дал ведущий режиссер МХАТа в разгар дискуссии о радиотрансляции «Вишневого сада», состоявшейся 11 марта 1935 года. Споры шли о спектакле, о радиоверсии, о трактовке пьесы и ролей, о Чехове. Надо сказать, что критики не стеснялись в выражениях и претензиях по адресу автора и театра, предъявляя им обвинение в художественных противоречиях, идейной нечеткости.
Не понимая и не принимая сценического прочтения «Вишневого сада», критика тем не менее довольно точно обнаружила слабое звено в радиоверсии спектакля. Трудности возникли тогда, когда Ведущий оказался перед необходимостью не просто объяснить слушателю, что происходит на сцене, но передать своеобразие режиссерского почерка в данном конкретном эпизоде.
Протокольный характер конферанса, заключающийся в чтении авторских ремарок, приходит в неизбежное противоречие с гармонией художественного решения. Попытки в «художественной форме» дополнять действие, помогая созданию зрительных образов пространными комментариями, в девяносто девяти случаях из ста проваливались из-за стилевого несоответствия чеховской речи.
Сложность состояла еще и в отборе именно тех деталей спектакля, которые требуют пояснения как существенно важные для характеристики персонажа или сцены.
В рецензии на трансляцию «Вишневого сада» корреспондент писал: «Нужна передача смысла режиссерской экспозиции данного эпизода, а не просто указание на то, что происходит на сцене, например, – указание несущественных переходов действующих лиц или же усиленное подчеркивание того обстоятельства, что Епиходов на балу таскает со стола яблоки. Эта мелочь не характерна ни для Епиходова, ни для сцены вечеринки. Такие указания лишь заслоняют существенные детали»38.
Вот тут с критиком приходится согласиться. Он не бесспорен в частностях, но совершенно прав, когда говорит о том, что расплывчатость комментария и нечеткость функции Ведущего помешали донести до слушателя стройную художественную логику театрального спектакля. Ради восстановления истины должно прибавить, что и диктор в этой передаче поработала неудачно. Стремясь «попасть в тон» знаменитым артистам, она заставляла вспомнить и толстовскую мадемуазель Жорж, и ночной шепоток смольненских институток.
Меру такта «конферансье» в радиотрансляции мхатовцы очень ценили и всячески старались поощрять. Когда молодая еще О.С. Высоцкая в присущей ей элегантной и ненавязчивой манере прочла конферанс во время прямой передачи «Анны Карениной» со сцены МХАТа в 1937 году, ей сообщили о личной благодарности самого В.И. Немировича-Данченко. Постановщик спектакля был доволен «вмешательством диктора в представление, ее деликатностью».
При перенесении со сцены в Студию на Телеграфе мхатовские спектакли, как правило, композиционно не менялись. Термин «специальная постановка для радио», бытовавший в рекламной прессе, вовсе не означал перекомпановки пьесы, ритмических или каких других новшеств. Менялось только место, откуда спектакль шел в эфир. Но разумеется, работа без публики, «общение через микрофон» накладывали отпечаток на актерскую технологию и, по мнению ведущих артистов, давали возможность более выразительно и убедительно представлять слушателям пьесу, спектакль, персонаж.
С большой настороженностью «художественники» отнеслись к другой форме «Театра у микрофона» – радиомонтажу спектакля.
Сторонники радиомонтажа считали, что «Театр у микрофона» переживает младенческую пору. Прекрасная идея знакомить советского слушателя с лучшими драматическими произведениями классиков и советских драматургов в первоклассном актерском исполнении выполняется пока механически, чаще всего без учета возможностей микрофона. Чтец, фигурирующий при передаче театральных спектаклей, только бесстрастно и нейтрально соединяет разорванные куски действия. А следовательно, театральные спектакли должно перерабатывать более основательно, чтобы сохранить с возможно большей полнотой их идейно-художественный замысел. Эта задача прежде всего может быть решена путем введения прозаического, описательного текста, создающего основной действенный стержень и основные композиционные рамки для радиоспектакля.
Я излагаю популярную концепцию 30-х годов с помощью формулировок тонкого знатока драматического искусства Б.В. Алперса. Ему принадлежит утверждение: «Принцип рассказа с драматическими иллюстрациями, пожалуй, является единственно правильным для радиопередач театральных спектаклей »39.
Алперсу вторит, доводя идею «до совершенства», один из руководителей Главреперткома и критик О. Литовский: «Спектакль превращается в иллюстрированную диалогом, разговорами повесть»40.
На практике эта позиция очень быстро дискредитировала себя обилием неудач, постигших режиссеров и театры, ей следовавших.
МХАТ не был исключением. Провал отдельных фрагментов «Царя Федора Иоанновича» (1933 год) – яркое тому свидетельство.
В. Блюм в статье «Два монтажа» писал: «Конечно, с „Царя Федора“ много взыскивать не приходится: дело было по «случаю юбилея» МХАТ, и особенных заданий эта литературная передача себе явно не ставила. И все-таки...
Пусть – „отрывки“. Но совокупность подобранных отрывков должна давать представление о целом, быть каким-то ведущим в пьесе. На самом деле: отрывки были избраны применительно к данному составу исполнителей – Москвину, Книппер-Чеховой и Вишневскому, исполняющим роли Федора, Ирины и Годунова в течение 35 лет. Благодаря этому получилось много пиетета к Художественному театру и его народным и заслуженным артистам, но очень мало – к замечательному художественному произведению, каким является спектакль „Царь Федор“»41.
Вряд ли можно принять за удачу и монтаж «Страха» по пьесе
А. Афиногенова, поставленной на сцене в декабре 1931 года и в 1932 году прошедшей «отрывками» в эфир. Из сложного переплетения нескольких сюжетных линий, связанных единой идеей и художественной логикой, искусственно вычленили одну-един-ственную. Формально – из-за необходимости спектакль, который в театре длится три-четыре часа, уместить в часовую радиопередачу. По сути – из-за неверия в слушателя, из-за внутренней убежденности, что слуховое напряжение аудитории невозможно удержать так долго и в таком многообразии эмоций, как это удается в зрительном зале. Реализуя идею – радиопередача при единой сюжетной линии усваивается несравненно более четко, -обеднили и пьесу, и спектакль, поставив перед актерами практически невыполнимую задачу. Напомню: передача шла прямо в эфир, никакой замены выброшенным из пьесы сценам у исполнителей не было.
Одних потом хвалили, других ругали. Б.Н. Ливанова, исполнителя роли Хусаина Кимбаева, упрекали в том, что он «не сумел подчиниться радиодисциплине, не учел специфических условий работы у микрофона, перегружая микрофон звуками»42. Статья была без подписи. Работу Л.М. Леонидова (Бородин) и А.К. Тарасовой (Елена) рецензент одобрил.
Борис Николаевич Ливанов, спустя много лет взглянув на рецензию, сказал:
– Я же играл не роль, а обрывки от нее... Что же спрашивать с обрывков? – И предложил переменить тему.
Алла Константиновна Тарасова была более благожелательно настроена к разговору, хотя тоже весьма скептически отнеслась к похвалам неизвестного критика:
– Мне роль давалась вообще трудно. Владимир Иванович Неми-рович-Данченко написал мне специальное письмо, где предостерегал от «облегченного» решения образа. И после премьеры меня упрекали в том, что моя героиня похожа больше на легкомысленную карьеристку, чем на серьезного научного работника. А когда вышли к микрофону, где одна сцена следовала за другой не по глубинному движению спектакля, а по внешней, формальной логике сюжета... Тут было отчего растеряться...
Беседа наша о «Страхе» шла весной 1965 года, в уютном холле радиодома на Пятницкой, 25, куда Алла Константиновна приехала для участия в одной из передач цикла «Подвиг народа», посвященного двадцатилетию Победы. Тарасова чувствовала себя неважно, но от предложения провести радиокомпозицию об актерах на фронте не отказалась. Вот только записывалась она небольшими фрагментами, часто отдыхала, а в перерывах охотно делилась впечатлениями от прошлых работ на радио.
Оказалось, что именно «Страх» она помнит особенно хорошо.
– Из-за испуга. Из-за неуверенности, – а я ведь уже выступала в Студии на Телеграфе, уже играла в трансляциях из театра. А тут – неуверенность и, знаете... – Тарасова помолчала, говорить или нет, но все-таки сказала, – внутренняя сумятица и неверие во всю затею в целом.
Потом, через год, была подобная попытка с «Царем Федором» -специально организовали радиовечер к 35-летию Художественного театра, и мне говорила Ольга Леонардовна, что у нее точно такие же ощущения. А она ведь стала к тому времени, как и Качалов, – ас в эфире...
А.К. Тарасова уловила наиболее уязвимое место в методе «литературного монтажа» театрального спектакля: разрушается последовательность, постепенность творческого процесса у актера, возникают искусственные «стопоры» для темперамента. В результате начинается инстинктивный поиск формальных, голосовых прикрытий, рождаются формальные, чаще всего фальшивые, интонации.
Позднее, когда широко распространится звукозапись как технологическая основа производства радиопередачи и можно будет послушать себя, скоординировать что-то, снова записать сцену и снова послушать, тогда монтаж отдельных фрагментов спектакля и для мхатовских артистов станет приемлемым и привычным. А пока счастливые и редкие исключения, вроде «Платона Кречета» (1935) и удач коллег из других театров, лишь подтверждали правило, выработанное «художественниками» у микрофона: целое театральное действо оказывается на радио «практичнее» и выразительнее монтажно организованных его фрагментов.
По этой причине Художественный театр почти не представлен в цикловых программах «Прогулки в театре», «Новости театра» и т. д., существовавших на Всесоюзном радио в первой половине 30-х годов, да и сами эти циклы вскоре сошли на нет.
Возникли «ножницы»: редакция радио при всем пиетете к Художественному театру не решалась на многочасовые трансляции, будучи ограничена постоянным отрезком в «сетке вещания» в 1 час
15 минут; спектакли МХАТа не укладывались в это прокрустово ложе. В поисках компромиссного выхода нашлось решение: название «монтаж спектакля» сохранялось для слушателей, но для передачи в эфир отбирались не просто наиболее важные по содержанию эпизоды, а несколько картин, следующих в пьесе одна за одной. «Радиомонтаж», таким образом, представлял цельный фрагмент театрального представления, дополненный литературным пересказом сюжетных коллизий.
По этому принципу И.М. Москвин подготовил к эфиру «Смерть Пазухина» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1935). Положительные отклики и среди слушателей, и в кругу друзей театра дали толчок к осуществлению в той же манере художественно организованных студийных трансляций «Грозы» А.Н. Островского (17 февраля и 25 сентября 1935 года) с К. Еланской; «Слуги двух господ» Карло Гольдони (7 февраля 1936 года) с А. Грибовым, П. Массальским, Е. Морес; «Любови Яровой» (6 марта 1937 года) с О. Андровской, К. Еланской, Б. Добронравовым, Б. Ливановым и И. Москвиным.
А. К. Тарасова рассказывала:
– Все же трансляции полностью, пусть из студии, а не со сцены, пусть без зрителей, в тишине, без реакции на актерское исполнение, но полностью, – эти передачи нравились нам, артистам Художественного театра, больше всего. Хотя должна признаться, что у коллег из других московских театров и «обрывочные» монтажи получались лучше, чем у нас...
Художественное радиовещание, оплодотворенное мастерством и опытом МХАТа, переходило от информационно-просветитель-ских задач к более глубокому воздействию на культурную жизнь страны. Практика мастеров Художественного театра по радиоадаптации своих спектаклей обозначила круг проблем, заключающий в себе критерии репертуарных принципов «Театра у микрофона»:
– идеологические и художественные достоинства спектакля;
– способность театрального представления к трансформации по законам восприятия на слух;
– наличие художника, способного профессионально провести эту трансляцию;
– соответствие «актерской школы» исполнителей театрального представления требованиям, которые выдвигаются перед актером, выступающим у микрофона.
Эти критерии незыблемы по сей день. Следование им объясняет жизнеспособность «Театра у микрофона» сегодня в ситуации конкурентной борьбы различных информационных каналов за внимание человека, за время аудитории. Речь не о простоте бытового свойства – мол, радио не требует сосредоточения. Еще в начале 70-х годов многие ревнители радио, в том числе и автор этих строк, уповали в значительной степени на эту простоту. А все гораздо сложнее: оказывается, «слушание» никоим образом не совпадает со случайным «услышал» – процесс куда более жестко регламентирован своеобразием восприятия эстетической информации, передаваемой в звуковых образах.
Слово, интонация, пауза, музыка, шумы – от грохота орудий до нежного, чуть слышного шелеста листвы, – вот те краски, которыми располагает радио для описания события, характера, личности. Оно не создает непосредственно зрительных впечатлений, но стремится именно к ним.
Раскрепощение фантазии – цель и метод общения творца радиоискусства с аудиторией. И тут вступает в действие закон реального чувства в деятельности фантазии.
Л.С. Выготский в «Лекциях по психологии» писал: «Сущность его проста. С деятельностью воображения тесно связано движение наших чувств. Очень часто то или иное построение оказывается нереальным с точки зрения рациональных моментов, которые лежат в основе фантастических образов, но они реальны в эмоциональном смысле.
Пользуясь старым грубым примером, мы могли бы сказать, если я, входя в комнату, принимаю повешенное платье за разбойника, то я знаю, что мое напуганное воображение ложно, но чувство страха у меня является реальным переживанием... Суть факта в том, что воображение является деятельностью, чрезвычайно богатой эмоциональными моментами»43.
И вот мы подходим к главному: воображение характеризуется высочайшей эмоциональностью, а это как раз то, чего очень не хватает современному человеку. Стандартизация производства и быта, стереотипы общения, нивелировка вкусов под воздействием массовых коммуникационных процессов – все это характеризуется современной наукой как фактор глобального влияния на личность; одно из неизбежных производных этого влияния – эмоциональная недостаточность.
Пусть в очень небольшой мере, но «Театр у микрофона» способен ее восполнить. Не зря же во все времена его существования в эфире приходят в редакцию отклики, где написано не «я понял», а «я почувствовал».
МХАТ не случайно главенствует в этой радиорубрике.
Если же мы обратимся к «собственным» передачам радио, то в течение 1928-1945 годов найдем более пятидесяти спектаклей, литературно-музыкальных монтажей, документальных радиодрам, художественно-публицистических программ разных жанров, а также серию информационно-публицистических репортажей, где участвовали ведущие артисты МХАТа.
Нельзя сказать, что приход к микрофону у мхатовцев всегда и у всех был радостным. Кое-кому он стоил немалых огорчений, чаще всего – «молодым». Я имею в виду не молодых по возрасту артистов, а тех, кто получил приглашение Константина Сергеевича или Владимира Ивановича перейти из «своего» театра в труппу МХАТа. Примечательна в этом смысле история, случившаяся с В.О. Топорковым.
В 20-е годы Василий Осипович Топорков работал в бывшем театре Корша и по совместительству – диктором на радио. Вел разные программы и делал это всегда с азартом и озорством. Любимой его передачей был «Радиокалендарь» – он шел поздним вечером, и Топорков еле-еле успевал прямо в гриме прибежать из театра, чтобы порепетировать перед эфиром.
«Радиокалендарь» – обозрение, включавшее разнообразную информацию, от исторических событий и биографий знаменитых людей до рецептов украинских галушек и советов авиаконструкторам-любителям.
В.О. Топорков вспоминал: «Помню, однажды мне достался рассказ об учителе и учениках. А я знал, что у нас в театре только что установили репродуктор и товарищи будут меня слушать. Я взял да и заменил все фамилии в рассказе на фамилии друзей актеров: Боря Борисов, Коля Радин, Володя Кригер! В театре хохотали, а редактор „Календаря“ на другой день сделал мне внушение»44.
Топорков быстро выдвинулся – ему поручали сложные и ответственные передачи и инсценировки.
Е.И. Гольдина рассказывала: «В первые мгновения после включения микрофона он казался нам каким-то отрешенным, даже растерянным. И вдруг на наших глазах совершалось чудо: рядом с тобой стоял уже не Топорков, а персонаж, которого он играл. И мы вместе с ним тоже начинали чувствовать свои роли, жить ими»45.
В 1927 году Топоркова пригласили в МХАТ. После двух бесед со Станиславским – в театральном кабинете и дома, в Леонтьевском переулке, – молодому артисту дали роль в пьесе В. Катаева «Растратчики» и назначили показ. Актер понравился, и начались репетиции. Они шли мучительно для Топоркова, уже имевшего опыт работы – двенадцать лет на сцене и еще несколько, в параллель, у микрофона.
Только ему покажется, что он нашел верную интонацию, как Станиславский, любезно улыбнувшись, останавливает:
– Простите, Василий Осипович, но это у вас «тончик».
Артист недоумевает. Режиссер поясняет:
– Вы хотите сыграть роль выработанным для нее «тончиком». Вы играете амплуа, а не живого человека.
Число замечаний увеличивается, число улыбок значительно уменьшается. Станиславский начинает предлагать Топоркову совсем уже непонятные задания:
– Вам надо открыть окошко кассы (Топорков играл кассира), вот вы и займитесь делами, которых много перед началом работы, -сотрите пыль, очините карандаш, почистите лампочку... Это не важно, что автор ничего такого не написал.
Топорков готов взорваться.
– Да дайте ж мне произнести хоть фразу-то! Может, что и получится.
– Ничего не может получиться, раз вы не подготовлены.
– Нет, я занимался.
Станиславский очень жестко:
– Не тем занимались. Все ваше поведение не подводит к той сцене, которую вам надо играть. Следовательно, нечего и пытаться только набивать свой слух фальшивыми интонациями, от которых потом трудно будет отделаться. Вы не думайте о фразе, интонации – они сами сложатся.
Репетиция прерывается. К огорченному Топоркову обращается режиссер спектакля И.Я. Судаков и очень любезно спрашивает, продолжает ли артист ежевечерне выступать по радио и не мешает ли ему «тончик», наработанный там. М.М. Тарханов, занятый в главной роли, менее деликатен:
– Тебе надо бы поаккуратнее – или там, или здесь. Привык уже все в одну дуду, лишь бы покрасоваться голосом. У нас тут «с листа» не играют.
И уходит с репетиции.
А Топорков – из радио. Он вернется к микрофону, но тогда, когда осознает, что и здесь надо искать не обаятельный «тончик», а подлинность внимания и чувств. Через этот этап – отрицания радиоопыта, вернее, легкости в определении интонаций – пройдут и М.М. Яншин, и А.Н. Грибов, и П.В. Массальский, и многие актеры МХАТа, чьи чтецкие работы составят потом «золотой фонд» радио. Сосчитать даже приблизительно количество этих литературных чтений за период с 1928 по 1945 год не представляется возможным – цифра должна получиться четырехзначной.
Характеризуя, к примеру, радиотворчество А.Н. Грибова, «Каталог» Всесоюзного фонда телевизионных и радиопрограмм называет 110 его работ. Это только те, что «поставлены на вечное хранение». А сколько было оперативных передач? А сколько вообще не сохранилось в звукозаписи?
Среди постановочных просветительских программ, в которых регулярно были заняты мхатовцы, на первом месте и по значимости, и по уровню художественных решений – передачи об искусстве драматической сцены и ее мастерах – писателях, актерах, режиссерах.
«Чехов и МХАТ » – тема лекции П.А. Маркова, открывшей мхатовский цикл «Радиобесед по истории театра» в 1935 году. Второе выступление завлита Художественного театра и его историографа посвящалось современной драматургии. Марков популярно и с большим тактом объяснял, почему после 1924 года МХАТ обратился к беллетристам, а не к драматургам в поисках жизненного содержания, почему Художественный театр «должен был неизбежно пройти период попутничества и лишь затем прийти к спектаклю глубокой политической мысли »46. П.А. Марков говорил 25 минут, но сумел не только охарактеризовать внутреннюю перестройку МХАТа в годы революции, но и сообщить много интересных и малоизвестных фактов о жизни театра, его осуществившихся и неосуществившихся планах: о переговорах с Маяковским «по поводу пьесы, специально для Художественного театра (диалог о любви)», о работе с Горьким.
Инсценированные рассказы Чехова в исполнении Ф. Шевченко и А. Грибова продолжили рассказ критика в первой передаче об искусстве МХАТа; далее шли сцены из спектакля «Хлеб» по
В. Киршону, где играли Е. Елина, Б. Добронравов и Н. Хмелев, – во второй.
Первая «мхатовская радиосерия» заложила основу для циклов, которые позднее стали регулярными: к сорокалетию МХАТа пошли в эфир несколько программ, не только представивших многообразие репертуара театра, но и обозначивших требования «системы» в сфере творческого процесса актера у микрофона.
С 1938 года «юбилейные», повторяющиеся каждые пять лет радиосерии дополняются циклом портретов основоположников и ведущих актеров МХАТа разных поколений. Одна из первых передач такого рода – о К.С. Станиславском; в ней выступления соратников и учеников, страницы из книг, фрагменты спектаклей воссоздавали облик реформатора театрального искусства, демонстрируя творческие принципы Художественного театра, наиболее ценные для практики незримой сцены радиотеатра.
Традиция не прерывается.
Середина 60-х годов: радио организует серию программ «Эстафета поколений. Молодежь на сцене МХАТа».
В 1975 году в эфире звучит первая из мемуарных «радиокниг» ветеранов Художественного театра – «Михаил Яншин рассказывает...». Инициатором ее появления стала Т.Н. Филиппова, многоопытный редактор радио и блестящий знаток его «театральных фондов». Она обратилась к М.М. Яншину по какому-то конкретному поводу, но деловой и вполне традиционный разговор затянулся. То, что рассказывал в тот день Михаил Михайлович о себе и о театре, частицей которого он себя считал, явно не вмещалось в рамки локальной задачи. И вместе с тем было необыкновенно интересно -по материалу, нигде ранее не публиковавшемуся, по гражданской позиции артиста. За разговором встала своеобразная личность большого художника.
Г. Я. Филиппова рассказывала:
– Тогда пришло решение: никакими рамками – ни формальными, ни временными – Яншина не ограничивать. Но поставить перед артистом задачу рассказать о времени и о себе, рассказать, как рассказывается, – о своих великих учителях К.С. Станиславском и В.И. Немировиче-Данченко, о товарищах по искусству, о той атмосфере, в которой он формировался как художник и гражданин, об увиденном и сыгранном, о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне театра47.
Шесть раз приезжали редактор, режиссер и звукотехник домой к М.М. Яншину с магнитофоном на полную рабочую смену. После одной из таких записей техник, собирая аппаратуру, сказал Филипповой: «Попросите у начальства, чтобы опять с вами к Яншину меня назначили. Ох и интересно же он рассказывает!»
Михаил Михайлович уехал с театром на гастроли, а редактор осталась с четырнадцатью рулонами пленки, где был записан его рассказ. Из этих четырнадцати километров магнитной ленты и родилась «звуковая книга».
Вспоминает М.М. Яншин об актерах старшего поколения МХАТа – звучат голоса О.Л. Книппер-Чеховой, В.И. Качалова, Л.М. Леонидова. Обращается к театральным впечатлениям юности – мы слышим М.Н. Ермолову, М.М. Блюменталь-Тамарину, П.М. Садовского.
Идет рассказ о клубе, где в 1919 году самостоятельные спектакли ставил Р.Н. Симонов, в суфлерской будке сидел О.Н. Абдулов, а автор «стоял на занавесе». Примечания, деликатно прочитанные диктором, напоминают, каким актером и режиссером стал впоследствии Р.Н. Симонов, много лет возглавлявший Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова; в какого актера вырос О. Н. Абдулов, – и звучат их голоса в ролях, созданных через много десятилетий после того скромного клубного спектакля.
Ну и, конечно, в полную силу представлены были актерские работы самого М.М. Яншина.
Рассказы М.М. Яншина продолжили «радиокниги» Б.Я. Петкера, М.И. Прудкина, А.О. Степановой. Каждая из них включала записи старых спектаклей, голоса корифеев Художественного театра.
Звукозапись как техническое средство использовалась радиовещанием с конца 20-х годов. В 1931 году была организована по типу киностудии фабрика «Радиофильм» специально для подготовки передач, фиксированных предварительно на кинопленке48. «На ленте радиофильма отсутствуют кинокадры. Это обыкновенная стандартная кинопленка с нанесенной на ней сбоку фонограммой, фотографией звука»49.
Экспериментальные работы фабрики «Радиофильм» появились в эфире в том же 1931 году.
Но уже 20 октября 1930 года в Наркомпочтеле был подписан Приказ № 246 – о создании «экспериментальной лаборатории звукотехники Сектора художественного вещания». В состав экспертов этой лаборатории приказом вводились артисты Московского Художественного театра Н.П. Хмелев и В.О. Топорков50.
А первым мхатовским артистом, записавшим свое выступление, стал В.И. Качалов. Но об этом мы поговорим в следующей главе.
Звукозапись потребовала новых навыков, «мастерам у микрофона» пришлось переучиваться. И.М. Москвин со свойственным ему юмором давал советы менее требовательным партнерам перед началом записи:
«Главное, если родная мама или домашние не узнают, чтобы ты сам не засомневался. – И таинственным шепотом сообщал, как во время первой своей записи встал перед микрофоном: – „Не на прямую передачу – рядышком, а на почтительном расстоянии“ и совершенно как на эстраде прочел рассказ. Послушали товарищи-граждане запись на пластинку и заявили: „Никакой это не Москвин. На гонорар пусть он не претендует“. Пришлось наговаривать второй раз, вплотную к микрофону – типичный получился Москвин, с при дыханьем и оканьем»51.
Актерская работа при записи спектакля сопровождается определенным раздвоением внимания. С одной стороны – привычная театральная мизансцена, обусловленная приемами и методом общения с партнером; с другой – микрофон, деформирующий тембр голоса и воспринимающий каждое передвижение в звуковом пространстве. Для успешной записи спектакля в студии надо было искать методику, объединяющую эти два условия. Мхатовцы такой методики не вырабатывали. Ее обозначил Мейерхольд, но об этом позднее. А очередное соломоново решение было такое: запись вели по трансляции из зала театра. Потом кое-что корректировали (стараясь не монтировать очень уж сильно) и давали в эфир. Причем записи, как правило, предшествовала прямая передача спектакля – для тренировки звукотехников и радиофонического режиссера. «Анна Каренина», например, впервые прошла по радио 10 мая 1937 года, меньше чем через три недели после сценической премьеры, а записана на пленку после нескольких повторов, «живьем в эфире», в 1939 году.
А.К. Тарасова рассказывала: «Многих интересует, как реагировала лично я на трансляцию „Анны Карениной“. Мысль, что будет слушать весь Союз, говоря откровенно, как-то беспокоила меня вначале. Увидев на сцене микрофон, я в первых двух картинах волновалась. Но потом я уже не чувствовала микрофона, забыла о нем и играла, как обычно, то есть совершенно свободно, без всякого напряжения... Я получаю теперь много теплых писем и телеграмм не только от зрителей, но и, что особенно радостно, от радиослушателей. Я не была уверена, что радио даст цельное впечатление об Анне Карениной, не исказив ее образа»52.
Искусство, где результат возникает лишь при соприкосновении актерской индивидуальности с техникой, среди многих требований к артисту содержит обязательно и такое свойство дарования и личности, как терпение. Бесконечные сетования на безалаберность и суету, царящие в кинопавильоне или на телестудии, – не пустые разговоры. Но есть и другая реальность: не умея сосредоточиться на съемочной площадке, не владея навыками психогигиены публичного одиночества, артист, будь он семи пядей во лбу, не справится с элементарными художественными задачами. Радио 30-х и 40-х годов по уровню дезорганизации психотехники артиста уступало, конечно, современному кино и телевидению, но и тут актер нередко попадал в трудные ситуации.
Освоение актерами качаловского опыта самососредоточения и выработка своих собственных навыков общения с микрофоном и аудиторией радио шли в конце 30-х годов весьма активно. Тем более что и техническая база вещания позволяла заниматься этим шире, чем прежде. 3 октября 1937 года было принято постановление об организации Отдела механического вещания ВРК, в задачу которого входит всемерное развитие звукозаписи, прежде всего для разнообразия художественных программ.
В предвоенный год актеры Художественного театра уверенно занимают лидирующее положение на радио: читают прозу и стихи, играют монологи и сцены из спектаклей, все чаще пробуют свои силы в оригинальных постановках.
В. Д. Бендина занята в «Тимуре и его команде»; И. М. Москвин разыгрывает у микрофона маршаковскую «Сказку про лентяя»; в музыкальном радиоспектакле «Иван Батов» по повести С. Голубева «Страдиварий на оброке» играют П. В. Массальский, В. А. Вербицкий, Б. Я. Петкер.
В. Н. Попова исполняет одну из главных ролей в инсценировке толстовской повести «Детство».
И. М. Москвин и Б. Г. Добронравов участвуют в радиоспектакле «Мать», поставленном О. Н. Абдуловым по роману А. М. Горького. Премьера прошла 28 февраля 1941 года. В главной роли – Алла Константиновна Тарасова.
Из рецензии Вл. Блока:
«Это кажется немножко неожиданным. После Анны Карениной, чеховской Маши – Пелагея Ниловна! Если бы Тарасова сыграла эту роль на театре, ее восприняли бы как „этапную“ в сценическом пути актрисы. Радио же до сих пор не принимается театральной критикой всерьез. Большей частью это несправедливо. На этот раз – в особенности».
В. О. Топорков начинает работу над инсценировкой «Тараса Бульбы ». У него заняты Ливанов, Станицын, Болдуман, Петкер, Гошева, Георгиевская. Художественный совет радио устраивает прослушивание двухчасового спектакля в первой декаде июня 1941 года и без поправок рекомендует его для эфира. Премьера назначена на воскресенье 22 июня, на 16.30 дня – «самое слушаемое время».
Премьера не состоялась. Ранним воскресным утром вещательная программа дня была изменена «по соображениям военного времени». В 16.30 по радио звучал Качалов. Он читал отрывок из романа «Война и мир» – «Батарея капитана Тушина». А потом – пушкинскую «Полтаву».
В огне, под градом раскаленным, Стеной живою отраженным, Над падшим строем свежий строй Штыки смыкает...Из интервью В. И. Качалова:
«Мне кажется, что концертная эстрада и радио – более быстрый и эффективный путь общения с аудиторией в дни войны».
Эта мысль была реализована в десятках и сотнях художественных передач радио военных лет. Голос Качалова задавал им тон.
Разговаривать с аудиторией радио училось у мастеров Московского Художественного театра. Познать своеобразие эстетической природы, выстроить свою, отличную от других искусств образную систему помог ему другой театральный мастер. О нем пойдет речь в следующей главе.
Примечания
1 Говорит СССР. 1933, № 21. С. 25.
2 Советское радио и телевидение. 1969, № 5. С. 17-18.
3 Кирсанов С. Однажды завтра. М., 1964. С. 31.
4 Журавлев Д.Н. Актер у микрофона. // Советское радио и телевидение. 1969, № 2. С. 33.
5 Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись, т. 4. М., 1976. С. 312.
6 Станиславский К.С. Соч. в 8 т., т. 1-8. М., 1954-1961. Т. 8. С. 419.
7 Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись. Т. 4. С. 433.
8 Станиславский К.С. Соч. Т. 6. С. 277.
9 Борис Ливанов. М., 1983. С. 18.
10 Топорков В.О. Станиславский на репетиции. М., 1950. С. 31.
11 Радиослушатель. 1930, № 13. С. 4.
12 Там же. 1932, № 1. С. 13.
13 Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20 т., т. 7. М., 1963. С. 8.
14 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 240.
15 Говорит СССР. 1932, № 1. С.13.
16 Говорит СССР. 1934, № 19. С. 7.
17 Шверубович В. О людях, о театре и о себе. М., 1976. С. 39.
18 Бояджиев Г. Марецкая. М., 1954. С. 55.
19 Станиславский К.С .Соч. Т. 8. С. 370.
20 Марков П.А. Соч. в 4 т., т. 3. М., 1976. С. 347.
21 Станиславский К.С.Соч. Т. 8. С.567.
22 Толстова Н.А. Внимание! Включаю микрофон! М., 1972. С. 82.
23 Говорит СССР. 1935, № 8. С. 42.
24 Там же. № 24. С. 40.
25 Там же. С. 40-41.
26 Там же. С. 41.
27 Там же. № 20. С. 26.
28 Там же. № 7. С. 14.
29 Там же. С. 7.
30 Там же. 1933, № 19. С. 33.
31 Говорит Москва. 1931, № 13. С. 7.
32 Третьяков С. Радиомай.// Говорит СССР. 1932, № 13. С. 7.
33 Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., 1984. С. 153.
34 Московский Художественный театр в советскую эпоху. М., 1974. С. 47.
35 Радиослушатель. 1930, № 7. С. 11.
36 Бейер М. МХАТ у микрофона // Говорит СССР. 1935, № 6.
37 Говорит СССР. 1935, № 2.
38 Там же, № 8. С. 30-31.
39 Там же. №2. С. 35.
40 Литовский О. Зрелище в эфире // Говорит СССР. 1933, № 22. С. 18.
41 Говорит СССР. № 25. С. 15.
42 Там же.1932, № 18. С. 8-9.
43 Выготский Л.С. Соч. в 6 т., т. 2. М., 1982. С. 449-450.
44 Толстова Н.А. Внимание! Включаю микрофон! М., 1972. С. 41.
45 Там же. С. 42.
46 Говорит СССР. 1935, № 3. С. 17-18.
47 Телевидение и радиовещание. 1976, № 2. С. 8.
48 Пятов О. Тридцать лет назад // Советское Радио и телевидение. 1961. № 7. С. 32-33.
49 Что такое радиофильм? //Говорит СССР/ 1932, № 22. С. 14.
50 Архив Гостелерадио СССР.
51 Толстова Н.А. Внимание! Включаю микрофон! М., 1972. С. 46.
52 Там же. С. 47.
Глава 15 У микрофона – Качалов
В бюро пропусков Дома звукозаписи на Качалова, 24, сталкиваюсь со знакомым актером. Он вытаскивает из ящика, где редакторы оставляют будущим исполнителям тексты передач, целую кипу машинописных страниц.
Не без удивления интересуюсь:
– Это на сколько же дней?
– Дней? – в ответ удивляется актер. – У меня завтра выходной, управлюсь...
– Но ведь тут, кажется, материалы сразу на несколько редакций?
– Чего мелочиться, – смеется актер.– Сами же когда-то писали, что для меня радио – дом родной. Чего же стесняться в своем-то «отечестве»?
И не без гордости, в которой, впрочем, больше простого самодовольства:
– Звучу! Звучу! Во всех отношениях прекрасно!..
Настроение портится мгновенно, и, сообразив, что до начала
«моей» смены в аппаратной еще есть время, поворачиваюсь и снова иду на улицу – в тихие «патриаршии» переулки приводить себя в рабочее состояние.
Грешен, действительно писал когда-то об этом актере как о художнике, который вполне овладел спецификой творчества у микрофона. Писал, что он несет в радиостудию подлинную культуру мхатовской школы, ее тщательность и точность постижения предлагаемых обстоятельств и характеров... Разве мог я предположить, что пройдет несколько лет и свою способность транспонировать навыки театрального перевоплощения на незримую сцену радиотеатра он превратит в отхожий промысел?
Навык – вещь прекрасная, если на нем есть уздечка совести. А если нет? Если «навык» – лишь удобство для не слишком трудолюбивых режиссеров и редакторов и повод для дополнительного заработка?
...В глаза вдруг бросаются буквы на угловом доме: «Улица Качалова»...
Дата его дебюта в эфире известна совершенно точно – 8 сентября 1924 года. Известны и обстоятельства – концерт в Большом театре, который зафиксирован в истории социалистической культуры как «Первый радиопонедельник».
Наркомпрос А. В. Луначарский держал перед началом речь. А Качалов читал Пушкина и Горького.
Потом артист немало выступал в «Радиотеатре с публикой». Чтобы облегчить жизнь актерам, в студию начали пускать на время передачи два-три десятка зрителей, чуть позже с этой же целью переоборудовали зал уже на несколько сот человек. Василий Иванович имел здесь успех, но предпочитал все же «одиночество» у микрофона. В одном из интервью он заявил: «Легче всего выступать мне, конечно, в студии: не раздваивается внимание на публику -близкую и далекую ».
Но по-настоящему он увлекся радио, когда в художественном вещании появилась звукозапись. Василий Иванович стал, кажется, первым мхатовским артистом, чьи студийные записи пошли в эфир.
А это было трудное мероприятие. Услышать – и, как правило, не узнать свой собственный голос – до сих пор потрясение. Что же говорить о том, далеком, времени? Ведь и К.С. Станиславский, услышав себя самого, замахал руками на фонограф: «Нет, нет. Уберите. Это – дьявольская машина». И больше никогда не записывался.
Первые записи В.И. Качалова датированы 1933 годом – несколько фрагментов из «Гамлета». Качалов читал за Гамлета, Полония, Розенкранца и Гильденстерна. Вскоре опыт был повторен с отрывком из «Горя от ума», где артист одновременно был и Чацким, и Фамусовым, и Скалозубом. Потом он записал диалог Сатина и Барона из «На дне». Серия пробных звукозаписей Качалова завершилась фиксацией диалога из пьесы А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного».
Прослушав запись, Качалов не удержался:
– Да! Это действительно два разных человека.
А он редко бывал доволен.
Однажды, уже после войны, Качалов записывал своего любимого Блока. Стихи следовали один за другим, и, чтобы не прерывать технический процесс (тогда еще ножницы и клей не были главными художественными средствами режиссера), диктор объявлял названия в паузе, которую делает артист.
Уж не мечтать о подвигах, о славе, Все миновало: молодость прошла...Диктор Н. А. Толстова слушала проникновенный голос, волшебную его красоту, смотрела на артиста, на седину и морщины и чуть не плакала. Несмотря на опыт, она едва не пропустила «свой выход». Потом она вспоминала об этом случае:
«Опомнилась я от прикосновения руки Василия Ивановича: кончив читать, он кивком головы указал мне на микрофон. Я овладела собой и объявила следующий номер».
После прослушивания Качалов нещадно забраковал все без исключения записи:
– Нет, нет, этого нельзя оставлять! Смотрите. Абсолютно не звучит...
А его письмо из Кремлевской больницы в последний год жизни?
«Вчера два раза слушал себя по радио, в 6 часов Маяковский -это только плохо, а в 11 часов – Гамлет, это просто ужасно».
Известно, как реагировал великий артист на передачу в записи его творческих вечеров – они ему не нравились. В Барвихе, в санатории, он однажды устроил импровизированный концерт, только чтобы отвлечь окружающих от своего «радиобенефиса».
В интервью в 1933 году В. И. Качалов говорил:
«Чудесная вещь – запись на пленку. Какие огромные возможности связаны с этим делом. Оно должно найти свое широкое применение в производственной работе театров. С помощью пленки актеру легче всего проверять самого себя, устранять свои недостатки. Своего голоса не знаешь, самого себя ведь не слышишь... Не веришь и режиссерам. Когда, например, К.С. Станиславский делает замечание вроде того, что в этом месте у меня какая-то заштампованность, в этом – сентиментальность, а вот тут медлительность темпов, то не хочешь верить ему. А прослушаешь запись этого куска на пленке и думаешь: „А ведь прав, на все сто процентов прав Константин Сергеевич“».
В 1935-1936 годах фонотека Центрального вещания состояла из трех с половиной тысяч пластинок с записями музыки. Передачи с помощью граммофона и тонфильмов[4] составляли до двадцати процентов от общего числа музыкальных передач Сектора искусств. Драматическое вещание к этому времени имело несколько десятков тонфильмов, и среди них, кроме уже упоминавшихся, часовую запись фрагментов из романа Л.Н. Толстого «Воскресение» в исполнении Качалова (премьера прошла 18 июля 1935 года).
Тогда же начали фиксировать на фоновалик и пленку сцены из мхатовских спектаклей. Впечатление – по крайней мере на исполнителей – прослушивание производило устрашающее.
В. О. Топорков рассказывал:
«Уж, кажется, в Художественном театре атмосфера чеховского „Вишневого сада“ была найдена, но когда мы записали первый акт, то услышали, что по радио эта атмосфера никак не передалась, а в результате наших стараний передать эту атмосферу только затуманились слова к мысли А.П. Чехова».
Конечно, где встать у микрофона во время записи, артисту мог подсказать звукорежиссер (тогда эта профессия именовалась радиофонический режиссер). Сложнее было с освоением и осмыслением звуковой мизансцены – той самой условной сценической площадки, которая в результате должна возникнуть в воображении слушателя. Микрофон и пленка воспринимали отчетливо шепот, шорохи, случайные междометия – все, что скрадывают в театре подмостки.
В 1939 году записан на пленку спектакль МХАТа «Горе от ума» с Качаловым в роли Чацкого.
Из дневника А.М. Леонидова:
«Качалов показывает секрет молодости. Играет очень просто, совсем не по-качаловски, бережет себя для 4-го акта. Вообще будет царем спектакля. Хорошо придумали, назначив его в „Горе от ума“, не только для спектакля, но и для него самого. Он, как никто, тяжело переживает свою старость, а тут, я думаю, помолодеет. Взлет».
Первый актер Художественного театра был и первым актером советского радио. Влияние его имени и опыта на практику и редакторскую и исполнительскую очень велико не только потому, что по количеству работ у микрофона и их жанровому разнообразию он не имел себе равных. Качалов своей творческой манерой на радио аккумулировал идею Станиславского и Немировича о слове как источнике психологических характеристик образа и всего произведения.
Следуя урокам великих учителей, он никогда не забывал, что «публика терпеть не может, когда ее заставляют вслушиваться, потому что от такого напряженного внимания она скоро устает». Радиоаудитория Качалова получала сгусток его энергии в свободном, летящем, стремительном движении. При этом технология творческого процесса у Качалова в студии никак не разнилась с традиционным тренингом сценического самочувствия.
Для театрального актера мхатовской школы микрофон, становясь объектом внимания, по привычке превращался в «четвертую стену». Радиокритика 30-х годов писала, что эта «четвертая стена» действовала в студии гипнотически, вызывая боязнь перемены позы, расстояния от микрофона, побуждая артиста ежеминутно заглядывать в окошко аппаратной с безмолвным вопросом: «Слышно?», «Далеко я не ушел?», «Вам нравится?» и так далее и тому подобное. Внутренняя свобода, обуславливающая необходимое рабочее состояние, даже с опытом возникала крайне редко. Качалов демонстрировал удивлявшую всех способность извлекать «гвоздь роли» в обстоятельствах на первый взгляд губительных для нормального творческого процесса.
Сколько записей было сорвано из-за того, что прямо за стеной радиодома «вдруг» начинал тарахтеть какой-нибудь асфальтовый укладчик или насос пожарной машины! Или просто дворники кололи лед, и выяснялось, что совершенная в инженерном отношении звукоизоляция студии перед их ломами бессильна. Какие замечательные мастера не выдерживали пытки сломавшимся магнитофоном или ожиданием помощницы режиссера, которая «вот-вот, сию секундочку, еще один момент и принесет неожиданно возникшие позавчера редакторские поправки...». А несогласованность в работе звукотехников и операторов, коим по идее полагается в момент записи стать сиамскими близнецами?
Для Качалова всех этих проблем вроде и не существовало.
Леонид Миронович Леонидов любил приводить в пример один разговор. У известного летчика спросили: «Вам не бывает страшно в воздухе?» Летчик ответил: «У меня нет на это времени». Вот этот принцип психологической сосредоточенности исповедовал и реализовывал Качалов.
Отмечали 65-летие со дня его рождения. Заранее на первые числа февраля 1940 года назначили запись специального, «юбилейного» концерта. Рассчитывая на опыт Качалова, программные редакторы решили совместить запись с прямой передачей в эфир.
В комнате отдыха на Телеграфе дикторы накрыли стол для небольшого банкета, приготовили сувениры.
Качалов немного нервничал – программа им самим была выбрана довольно сложная, очень разные авторы и разные сочинения, и по почерку, и по восприятию жизни: Пушкин, Горький, потом Достоевский. Перед началом передачи он еще раз обговорил с диктором последовательность номеров и попросил:
– Перед монологом Карамазова, если можно, сделайте для меня секундную паузу, выключите на мгновение микрофон.
Передача началась. Как было условлено, перед монологом Ивана Карамазова диктор выключил микрофон и, прежде чем включить его снова, предупредил всех обычным: «Внимание!» А Качалов решил, что это сигнал ему начинать, и произнес первые слова исповеди своего героя: «Я люблю жизнь, Алеша... Я люблю эти клейкие зеленые листочки...»
Из воспоминаний H. А. Толстовой:
«Войдя в образ, он, казалось, осязал эту свежую липкую зелень молодой березы... А у диктора не включен микрофон! К столу бесшумно подбегает редактор, лицо его искажено негодованием. Испуганно смотрят на своего товарища дикторы. Из окна аппаратной тревожно „сигналят“ техники.
И вот ведущий осторожно кладет руку на плечо артиста.
– Василий Иванович, микрофон не был включен. Вы читали без эфира. Извините, но вам придется начать сначала.
Он как бы возвращается из другого мира:
– Что? Микрофон? А, да-да, конечно, микрофон. Пожалуйста, включайте.
Ни тени раздражения. Ни капли недовольства. И перед нами снова Иван Карамазов»1.
Ну а после передачи? Не без основания окружающие ждали бури. Ни о каком застолье уже не было и речи.
Качалов поблагодарил ведущего за помощь, которую «дикторы всегда оказывают артисту у микрофона», и с удовольствием принял приглашение на чашку чая.
Из беседы с Ю. Б. Левитаном:
- У меня лично возникло впечатление, что он просто-напросто не заметил технической накладки. А если и заметил, то внутренне, психологически никак на нее не отреагировал.
– Неужели такое возможно? Ведь все рассказывают, как он нервничал. Да и дата не сладкая. Помните, как Леонидов писал
0 его страхе перед старостью?
– Все может быть. Но учтите главное – качаловский уровень творческой дисциплины. Он был и остается недосягаемым...
Примечания
1 Телешова Н.А. Внимание! Включаю микрофон! М., 1972. С. 50.
Глава 16 Мейерхольд в студии радиотеатра
У юной музы радио в пору ее взросления и самопознания было много прекрасных учителей. Если проследить, чьи эксперименты 30-х годов достались истории, а чьи прочно связаны со всеми последующими десятилетиями художественного вещания, с нынешней его практикой, то обязательно возникнет имя Всеволода Мейерхольда. Этому человеку принадлежит пальма первенства в определении многих принципов радиорежиссуры. Хотя и работал он у микрофона недолго и немного.
В начале 60-х годов Илья Григорьевич Эренбург читал в университете главы из только что написанных воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Отдельным изданием книга еще не вышла, и потому вопросов к автору было превеликое множество. Эренбург отвечал неохотно, повторял хмуро одну и ту же фразу:
– Я написал то, что знал и думал. Другие люди могут дополнить.
Когда он кончил читать главу о Мейерхольде, один из нетерпеливых слушателей заорал с галерки:
– А кто может дополнить о Мейерхольде?
Эренбург назвал несколько имен. Так родилась идея вечера, посвященного творчеству Мейерхольда. 27 марта 1961 года такой вечер состоялся – в старом университетском клубе на улице Герцена. Его открывал Сергей Юткевич; фрагменты из спектаклей играли Ильинский, Свердлин, Мартинсон, Штраух; воспоминания читали Назым Хикмет, Волков и Гладков; у студентов в гостях были Бабанова и Плучек, Марков и приехавший из Ленинграда Меркурьев. Вечер, начавшийся в 6 часов открытием небольшой экспозиции афиш, фотографий и личных вещей Мейерхольда, закончился в половине второго ночи показом кинофильма «Белый орел».
Учитывая компетентность выступающих, можно было предположить, что они не обойдут ни одной мало-мальски заметной сферы искусства, где проявилось влияние Мейерхольда. Слово «радио» на этом вечере вообще не было произнесено.
К 90-летию Мейерхольда в феврале 1964 года Всесоюзное радио подготовило специальную программу. В ней участвовали многие корифеи театра, кино, музыки. На прослушивании им был задан вопрос: а почему никто из них не вспомнил о Мейерхольдовых «опусах» у микрофона? Половина из присутствующих отделалась смущенными репликами:
– Да, что-то ведь было и на радио тоже.
Лишь в середине 60-х годов в журнале «РТ » появилась первая ласточка – небольшая заметка, рассказывавшая о работе над радиоспектаклем «Каменный гость». И была напечатана фотография: Всеволод Эмильевич Мейерхольд в аппаратной, с наушниками на голове и карандашом в руке, записывает замечания актерам.
«РТ» был очень популярным журналом, и на эту публикацию обратили внимание: материалы аналогичного характера появились в журнале «Советская музыка», в других периодических изданиях.
Полю Валери принадлежит точное наблюдение о причинах долговечности всего истинно талантливого в искусстве. Жизнь всякого произведения обусловлена, по мнению французского поэта и философа, его полезностью. «Она лишена непрерывности. Вергилий столетиями был ни к чему не пригоден. Но все бывшее и не погибшее может воскреснуть снова. Мы всегда нуждаемся в каком-то примере, доводе, прецеденте, предлоге»1.
Один из самых преданных учеников Мейерхольда – Игорь Владимирович Ильинский говорит:
– Если трезво посмотреть на ряд выдумок Мейерхольда или перечитать некоторые его декларации теперь, то многое в его творчестве можно не принять в еще большей степени, чем в те годы, когда он создавал свои спектакли и провозглашал свои лозунги.
И это только потому, что фантазия его в то время была азартнополемической, непримиримо-дерзкой и вызывающей2.
Едва ли не самой характерной чертой дарования этого художника было отрицание того, чему он поклонялся еще вчера. Для человека менее талантливого это обернулось бы нечеткостью эстетических позиций, эмоциональным разбродом, а то и просто беспринципностью. Для человека менее талантливого. А для Мейерхольда? Многое из того, что последовательно он утверждал, потом отвергал и снова утверждал, превращалось в самостоятельные, оригинальные направления современного искусства. Именно такая личность нужна была радио, особенно в пору его юности и возмужания.
Первые контакты, впрочем, были не лишены взаимной настороженности и даже обид.
Как на способ рекламы своего театра и своих художественных концепций Мейерхольд смотрел на радио вполне благосклонно. Тут инициатива исходила чаще от него самого.
В III -м выпуске «Радиогазеты» 21 апреля 1926 года прозвучало:
«Театр и кино.
Товарищи! Сегодня мы вторично напоминаем вам, что 25 апреля Союз Советских Республик отмечает пятилетие Театра имени Мейерхольда.
Для проведения этого празднования образован юбилейный комитет, насчитывающий свыше 100 человек, под председательством тт. Клары Цеткин, Луначарского, Славинского. В число членов комитета входят тт. Семашко, Буденный и др., а также представители центральных и губернских организаций, профсоюзов, партийных и военных учреждений, школ, культурно-просветительных и общественно-художественных организаций, отдельных фабрик, заводов и театров.
Приглашения разосланы также многим деятелям литературы и искусства Европы и Америки, откуда уже получено большое количество приветственных телеграмм.
Спортинтерн, а также некоторые фабрики и заводы готовят массовое приветствие театру.
Празднование займет три дня. 25 апреля состоится торжественное заседание юбилейного комитета и показ отрывков из 10 основных постановок театра; 26 – открытие выставки музея Театра имени Мейерхольда и выступление клубов, связанных с клубно-методической лабораторией при нем; 27 – спектакль «Рычи, Китай!» для рабочих и красноармейцев.
В программу празднования входит также первый выпуск Государственных экспериментальных мастерских имени Вс. Мейерхольда»3.
Текст этот отредактирован самим Мейерхольдом.
Очень ревностно относился директор и художественный руководитель ГОСТИМа к форме и размерам радиообъявлений по поводу премьер и текущих спектаклей. Александр Безыменский вспоминал, какую взбучку устроил Мейерхольд своему заведующему административно-финансовой частью, узнав, что оповещения о премьере «Выстрела»[5] не пошли по радио.
– Помилуйте, Всеволод Эмильевич, – защищался администратор, – во всех газетах – анонсы, афиши – самые яркие на улицах, вся Москва знает.
– А театру мало, что Москва знает! – гремел Мейерхольд.– Надо, чтобы знал Союз. Радио для этого и существует!
В трудных ситуациях Мейерхольд заботился именно через радио известить о своих творческих проблемах, делах и планах. Такая ситуация сложилась осенью 1928 года.
2 декабря 1928 года режиссер возвращается из-за границы в Москву, и уже на следующий день по радио в «Рабочей радиогазете» № 282 передается большое интервью с ним:
«Театр на Западе испытывает очень сильный голод в пьесах и сценариях. За недостатком их там перелицовывают старые классические пьесы. Пьесу Шекспира «Гамлет» там до того осовременили, что принц Гамлет щеголяет по сцене в сюртуке. Театр имеет достижения только в технике, стремясь, главным образом, поразить, удивить зрителя. Так, в одном парижском театре сцена моментально затопляется водой. На сцене малых театров почти нет искусства. Здесь рекламируют роскошные костюмы, конечно, с указанием фирмы, изготовившей их...
В Америке очень добросовестно изучают вопросы искусства и, в частности, с огромным интересом следят за советским театром...
Репертуарный кризис нашего театра мы наполовину преодолели. Сейчас мы имеем три новых пьесы: Багдасаряна, Эрдмана и Сельвинского. Меня упрекали за малую продуктивность работы в прошлом сезоне. Но этому причиной были крайне неблагоприятные условия нашей работы: отсутствие помещения для репетиций, для склада декораций, для сооружения конструкций.
Если нам не возвратят помещение бывшего „Казино“, мы и в этом сезоне работать не сможем»4.
Радио интересовало Мейерхольда и как художественное средство – он видел в нем привычный элемент быта, необходимый для решения разнообразных идейных и эстетических задач в театральном представлении.
В «Последнем, решительном» самый экспрессивный эпизод спектакля был построен на контрасте «реальной жизни » и музыки, звучащей по радио: в грохоте пулеметного боя гибли защитники пограничной заставы, а из репродуктора неслись фокстротные синкопы и песенки элегантнейшего из французских шансонье.
Когда Мейерхольд в 1936 году готовил вторую редакцию «Клопа», он собрал близких друзей Маяковского, чтобы обсудить с ними наиболее важные перемены в спектакле. Ход совещания записан в стенограмме:
«Февральский. Пятая картина: сцена голосования – здесь очень значительное изменение.
Л. Брик. Это такая скучная сцена!
Мейерхольд. И тут ирония из-за того, что масса механизирована....
Л. Брик. Видите ли, мне кажется, что в этой сцене совершенно неудачно это механическое голосование, но перекличка по эфиру разных мест – это можно.
Мейерхольд. Этого мы и хотим. Чтобы не было абстракции, а чтобы весь земной шар говорил с помощью этого аппарата. Как сейчас бывает перекличка по радио; в это публика поверит, и это не покажется абстракцией.
Л. Брик. Может быть, так и сделать – радиоперекличка.
Мейерхольд. Можно смешать и перекличку, чтобы было так: и люди на сцене голосуют, и вдруг через рупор слышны голоса.
Слова газетчиков передаются дикторам, а то эти газетчики стали избитым приемом мюзик-холла, оперетты и т. д. А лучше дикторы произносят у каких-то аппаратов на сцене. Это какая-то радиостудия, чтобы люди, здесь находящиеся, говорили для тех, кто находится вовне. И опять публика поверит, а потом, это публике и интересно... Это дает и какую-то фантастику»5.
Идея разыграть второй акт «Клопа» в обстановке радиостудии была реализована. Режиссер использовал возможности, которые предоставляла такая декорация, – техника стала его выразительным инструментом. Но радио как аккумулятор театральной культуры, пропагандист сценических искусств его не привлекало. Уже все известные московские театры сыграли специально у микрофона по нескольку спектаклей, а Мейерхольд не пускал «радийщиков» на порог.
Это выглядело тем более странно, что с начала 30-х годов дверь литературно-художественной редакции располагалась как раз напротив служебного входа ГОСТИМа, а отдел оперативных «актуальных передач» соседствовал с кабинетом-гримерной Мейерхольда. Ходили друг к другу в гости, разговаривали... предложения о сотрудничестве отводились решительно и бесповоротно.
Есть разные версии по поводу «прохладного» отношения Мейерхольда к радиотеатру.
Конфликт и вправду имел место. В декабре 1924 года «Радиогазета» объявила Мейерхольда главой московского Пролеткульта6. Можно представить себе возмущение режиссера, который не только не собирался принимать на себя руководство этой организацией, но находился по отношению к ней в тот период в открытой и бескомпромиссной оппозиции.
И вот в кругах, близких к радио, кое-кто посчитал, что Мейерхольд не хочет иметь с ним никакого дела.
Это суждение не вызывает ни доверия, ни, честно говоря, уважения – уж очень оно мелочно[6]. По той же причине трудно разделить мысль, что Мейерхольд чуждался радио в силу большой приверженности последнего к спектаклям его художественных «противников» – МХАТа, Малого и особенно Камерного театра.
А. Гладков – со слов Мейерхольда – записал: «Считается, что полюсами театральной Москвы являются мой театр и МХТ. Я согласен быть одним из полюсов, но если искать второй, то, конечно, это Камерный. У МХТ одно время было четыре студии. Я могу дать разгуляться воображению и допустить, что мой театр – тоже одна из студий МХТ, но только, конечно, не пятая, а, скажем, учтя дистанцию, нас отделяющую, 255-я. Ведь я тоже ученик Станиславского и вышел из этой альма-матер. Я могу найти мостки между моим театром и МХТ и даже Малым, но между нами и Камерным театром – пропасть. Это только с точки зрения гидов Интуриста Мейерхольд и Таиров стоят рядом. Впрочем, они готовы тут же поставить и Василия Блаженного. Но я скорее согласен быть соседом с Василием Блаженным, чем с Таировым»7.
В этом полемически заостренном высказывании порой пытаются найти причину отказа руководителя ГОСТИМа от сотрудничества с радио на рубеже 30-х годов, когда таировские спектакли занимают значительное место в «Театре у микрофона».
На мой взгляд, такая точка зрения обвиняет не Мейерхольда, а людей, ее разделяющих, указывая на их неспособность проникновения в характер мышления такого художника, как Мейерхольд.
Думается, причина достаточно долго откладывавшегося дебюта этого режиссера у микрофона лежит как раз в сфере сугубо творческой.
Прежде всего, имея опыт работы в кинематографе, Мейерхольд представлял себе, как сложно освоение нового вида художественной деятельности, где техника диктует свои эстетические законы. Такова, по мнению К.Л. Рудницкого, одна из главных причин осторожного сближения Мейерхольда с радио – и с этим мнением я полностью согласен. Но это не все.
Мейерхольд не мог не замечать противоречий между излюбленными средствами театральной выразительности и возможностями, которые давало ему радио. Логика жеста в его спектаклях чаще всего первенствовала над логикой слова. «У него свой театральный язык, язык жестов и ритмов, который он изобретает для выражения своего замысла и который столько же говорит глазу, сколько текст слуху»8 . Эта емкая и точная формула Шарля Дюл-лена помогает понять настороженность Мейерхольда в данном случае как признак высочайшей профессиональной требовательности к себе.
16 октября 1927 года Культотдел акционерного общества «Радиопередача» устроил публичную дискуссию – «митинг для проработки вопросов художественного радиовещания». В студии собрались актеры, режиссеры, критики. Приехал Мейерхольд. Ему предоставили слово одному из первых, и все были поражены тем, как, против обыкновения, тщательно и осторожно подбирал слова человек, отличавшийся неистовым темпераментом в своих выступлениях:
«Соединение фотографии с театром дало новое искусство – кино. Соединение радио с театром также должно дать новое искусство, о формах которого, однако, еще преждевременно высказываться. Для передачи по радио более всего подошли бы те пьесы, в которых слово играет особую существенную роль. Я подразумеваю здесь те постановки, в которых мы работали над ударностью, броскостью и разнообразием интонаций, как, например, „Земля дыбом“, „Лес“ и „Мандат“»?.
Видно было, что Мейерхольд своей речью недоволен – он уехал прежде, чем кончилась дискуссия, хотя многие из выступающих спорили с ним.
Через день в его квартиру приехал репортер из газеты «Новости радио» – редакция желала напечатать мысли режиссера в виде отдельной статьи. Мейерхольд просмотрел репортерскую запись своего выступления и лишь приписал всего несколько слов.
– Никаких статей, – предупредил он, – только это интервью.
Дописал он следующее: «Радиопьесы, вернее радиоинсценировки, будут сильно отличаться от произведений, написанных для сцены... Здесь нужна, так сказать, выпуклость, рельефность звука»10.
Мейерхольд не чувствовал себя всевластным творцом в радиостудии – к чему он привык на театральных подмостках. Все было непривычно, и он ощущал это тонко и остро:
«Я всегда чувствую фантастику в радиостудии: закрывают окна, тишина. Мне все это кажется какой-то уэллсовщиной... Мне всегда там (в радиостудии) страшновато. Сидишь так, идет передача, вдруг подходит какой-то техник и ногу вашу подымает (Мейерхольд становится на пол на колени и переставляет чью-то ногу, показывая, как это с ним делали), какую-то штучку вытаскивает и потом дальше идет. Мир какой-то страшноватый. С наушниками ходят, через стекло, как в аквариуме, какие-то жесты делают»11.
Постепенно ведущие московские театры сменили эпизодические выступления у микрофона на систематические радиопремьеры в Студии на Телеграфе. Но не ГОСТИМ.
За оригинальную радиопьесу или инсценировку Мейерхольд не мог взяться из-за занятости в театре.
Что же касается радиоадаптации его спектаклей, то можно высказать такую мысль. Мейерхольд достаточно внимательно следил за «Театром у микрофона» и не мог не видеть, что успех в этой передаче приходит лишь при соблюдении целого ряда условий. Мейерхольд понимал, что радиоверсия его спектакля, где постановщик вовсе «не умирал в актере», сложна именно из-за трудностей передачи по радио особенностей режиссерского почерка – сюжетные коллизии пересказать нетрудно.
Успех пришел, но не сразу и не просто. Поэтому и интересен нам путь Всеволода Мейерхольда в радиостудию, где его работы в концентрированном виде отразили его художественные пристрастия вообще.
Мы можем восстановить с определенной достоверностью историю по крайней мере двух неудавшихся контактов ГОСТИМа и радио.
В начале 1930 года договорились в предварительном порядке о трансляции «Ревизора». На очередной спектакль пришли редакторы радио и начали отмечать в своих блокнотиках места, которые, по их суждению, необходимо было «переакцентировать».
Редакторский глаз и слух смутил уже третий (из пятнадцати)[7] эпизод спектакля: знаменитый монолог Осипа режиссер превратил в диалог с трактирной девкой-поломойкой. Она была просто слушательницей, но по мизансцене – действующим лицом.
К. Рудницкий писал: «Девка в номере – элемент города. Грязная, потасканная – говорил Мейерхольд. – Она городская, к услугам приезжающих. Грязный оттенок на ней такой, надо, чтобы чувствовалась атмосфера замызганных меблирашек».
И атмосфера такая действительно возникала. Но девка была молоденькая, краснощекая, смешливая, и, когда Осип рассказывал ей про своего барина, она заливисто хохотала на неожиданно низких, почти басовых нотах. Ее странному хохоту всегда отвечал изумленный смех зрительного зала. Потом Осип затягивал вдруг удалую и охальную деревенскую песню»12.
В блокноте одного из редакторов появилась запись: «Песня Осипа компрометирует фольклорную музыку русского народа».
В блокноте другого: «Введением дополнительных персонажей искажается драматургия Гоголя».
Уже эти первые записи, перенесенные в протокол редакционного заседания, давали основание «воздержаться». Главная претензия была не нова: Мейерхольда и в прессе всячески поносили за «убийство гоголевского смеха», за «ревизию „Ревизора“», выразившуюся в полном отказе от традиций постановки этой пьесы на русской сцене. Бдительные работники радио оказались не одиноки и в полной мере могли отнести к себе строки проницательного критика, писавшего о своих собратьях по перу.
А.А. Гвоздев в статье «Ревизия „Ревизора“» писал:
«Не заметили, что, защищая штампы старого водевильного „Ревизора“, они защищают традиции театра эпохи реакции, театра николаевского режима, который не смел вскрывать „свиные рыла“ петербургского чиновничества и поневоле переносил действие великой сатирической драмы в „идеальную даль“, в провинциальное захолустье, в театральную „Чухлому“...
Гоголевские „правда и злость“ комедии сохранены Мейерхольдом незыблемо, но стремление Гоголя „собрать в кучу все дурное в России“ – расширено до мощных контуров»13.
Нельзя сказать, что у спектакля совсем не оказалось приверженцев в редакции радио, но они явно были в меньшинстве. Вопрос о передаче «Ревизора» из ГОСТИМа в эфир отпал на несколько лет.
Э.П. Гарин рассказывал:
– А жаль, очень жаль. Эксперименты как раз именно с «Ревизором» могли бы дать бесценный опыт радио – такое превеликое множество интереснейших творчески-постановочных задач пришлось бы решать и актерам, и больше всего – режиссерам. Уж тут бы Мейерхольд развернулся...
Подробно я останавливаюсь на этой истории из желания подчеркнуть: не всегда сложности радиоадаптации спектаклей ГОСТИМа оказывались главной причиной для того, чтобы премьеры в эфире так и не состоялись. Хотя преуменьшать эти сложности нельзя.
6 февраля 1931 года, после общественного просмотра спектакля «Последний, решительный» по пьесе Вс. Вишневского, в Театре имени Вс. Мейерхольда состоялось обсуждение с участием весьма авторитетных критиков, партийных и советских работников. Присутствовали представители Политического управления РККА. Председательствовал Ф.Я. Кон, заведовавший сектором искусств Наркомпроса. Начавшаяся полемика продолжилась на страницах прессы после премьеры, сыгранной на следующий день. РАПП и РАПМ были категорически против: В. Киршон, В. Ермилов, Л. Либединский выступали устно и печатно с резкими обвинениями в адрес автора и постановщика. А. Луначарский, Н. Асеев, Н. Семашко были «за». Ф. Кону спектакль тоже понравился, он написал письмо Мейерхольду, где среди прочих достоинств постановки отмечал ее финальный эпизод «Застава № 6».
К. Рудницкий описал его: «В этом заключительном эпизоде Мейерхольд и Вишневский показывали гибель всех 27 бойцов, принявших на себя удар врага. Внезапное видение будущей войны возникало в спектакле с устрашающей реальностью... Мейерхольд выделил из массы старшину Бушуева, дал эту роль Боголюбову и выдвинул в центр эпизода мощную фигуру героя. Застава, по мысли Мейерхольда, принимала бой в школьном здании... Последним погибал Бушуев. Уже смертельно раненный, он с трудом приподымался и мелом, крупными цифрами выводил на обыкновенной классной доске:
162 000 000
–
27
__________________
161 999 973
Потом ронял мел, падал, растерянно улыбаясь и недоуменно глядя в зал, и умирал.
Ведущий в этот момент спрашивал с возмущением: „Кто там плачет?“
В зале плакали непременно. Мейерхольд без колебаний применил „подсадку": в партере сидела актриса, которая в нужный момент начинала всхлипывать и все вокруг вытаскивали платки»14.
Феликс Кон писал по этому поводу Мейерхольду, что спектакль мобилизует: «Я убедился в этом на самом себе, когда по призыву со сцены вскочил с места и, спохватившись, хотел сесть и, только оглянувшись, увидел, что магическое действие призыва подействовало и на весь театр»15.
Письмо написано в конце февраля, а 10 сентября того же 1931 года постановлением Совнаркома СССР был организован Всесоюзный комитет по радиовещанию при Наркомате почт и телеграфов СССР (ВКР) и его председателем назначен Ф.Я. Кон. Среди первых своих предложений руководитель вещания высказал мысль о трансляции «Последнего, решительного».
Кон сам позвонил Мейерхольду. Тот поблагодарил и... спустя несколько дней ответил отказом. В поиске эквивалента финальной мизансцене и атмосфере, рождающейся в зрительном зале, гениальная фантазия режиссера оказалась бессильна. Снять эпизод вообще? Но в «Заставе № 6» концентрировалась политическая и художественная идея этого, в общем-то, довольно бледного драматургического сочинения.
Перевести в слова, в «пояснительный текст»? (В спектакле существовал весьма подходящий для подобной метаморфозы персонаж – Ведущий от театра.) Тогда пропадет накал чувств, который поднимал зал на пение «Интернационала». Наконец, просто дать «Интернационал»? Но, не подготовленный всем ходом представления, он неизбежно превратится в сугубо формальную музыкальную вставку, разрывающую нравственно-эмоциональную ткань театрального действа.
Отрицательный результат меж тем тоже результат. Разумеется, если из него делают соответствующие выводы. Для организаторов вещания несостоявшаяся радиоверсия «Последнего, решительного» поучительна и полезна, так как они получали ответ на генеральный вопрос развития «Театра у микрофона» – всякий ли спектакль можно и нужно адаптировать к условиям передачи через микрофон. Ответ на этот вопрос рождал множество новых, что предохраняло эту форму пропаганды искусства от преждевременного кризиса. Для Мейерхольда этот случай послужил поводом к новым размышлениям и к еще большей осторожности. Он не мог себе позволить выйти в эфир с произведением, не соответствующим репутации его театральных «опусов».
Очевидно, поэтому первым спектаклем ГОСТИМа, сыгранным у микрофона, стал «Выстрел» Александра Безыменского, в постановке которого Мейерхольд участвовал как консультант. Режиссировала постановку целая бригада его учеников: В.Ф. Зайчиков,
C.B. Козиков, A.E. Нестеров и в качестве ассистента – Ф.П. Бондаренко. Если в театральный вариант Мейерхольд вмешивался активно, то «перевод на рельсы радио» он полностью передоверил автору и режиссерам.
По выражению Безыменского, «Выстрел» проскочил в эфир с трудом. Выручила тема. Этот спектакль не был большим достижением ГОСТИМа – очевидны и общая слабость литературной первоосновы и отсутствие опыта у постановщиков. Но пьеса прославляла социалистическое соревнование и ударные бригады, становившиеся реальной силой первой пятилетки. В спектакле, поставленном в декабре 1929 года, Мейерхольду удалось несколько усилить социальное звучание пьесы, перемонтировав ряд эпизодов.
Прошло еще два года, и Мейерхольд разрешил сыграть перед микрофоном несколько сцен из «Леса». (Переговоры об этом шли с осени 1925 года.) Режиссером от радио назначили Анатолия Дорменко. В своих воспоминаниях он написал об этом:
«Всеволод Эмильевич пришел на репетицию в студию на Тверскую. В аппаратной кричал контрольный репродуктор. Техники возились около усилителя и, как всегда, недружелюбно косились на забегавших в аппаратную актеров. Мейерхольд чувствовал себя гостем. Кажется, ему мешали наушники, он часто снимал их и отдыхал в характерном для него положении, подперев подбородок рукой, выдвинув лицо вперед. Суровый мастер Мейерхольд при корректировании передачи был рассеянно-любезен. Возможно, тогда он не понял радио. Или оно ему показалось театром на телефонной станции»16.
Дорменко ошибается: Мейерхольд не был ни рассеян, ни любезен – после репетиции он жестко бросил актерам: «Этому в один день не научишься». Больше замечаний делать не стал. Он уже ощущал специфику «незримого» представления, и его заботило, чтобы потери, которые могут сопутствовать переводу театрального спектакля на язык радио, не оказались катастрофическими.
Мейерхольд вмешался все-таки в эту работу, уточнив с ассистентами список и порядок сцен эфирной версии. Когда это сделали, он вдруг попросил сыграть один из отобранных эпизодов – объяснение Буланова и Несчастливцева, озаглавленный в режиссерской экспликации спектакля «Ум практический ».
Гимназист появляется на сценической площадке со стульями, надетыми на шею, и на протяжении всего диалога с актером то балансирует, составляя стулья в пирамиду, то прыгает через них, как через забор, то делает кульбиты.
В этой сцене Несчастливцев рекомендует Буланову «подыграться к тетушке »:
«– Молод ты еще, а впрочем, как знать, эти способности рано открываются. Умеешь?
– Умею-с... Маменька говорит, что у меня ум не такой, не для ученья.
– Какой же?
– Практический-с...»
Эпизод этот меньше других вызывает какие-либо сомнения – он разговорный в сути своей. Многозначность интонаций, которая может несколько упроститься, если слушатели не увидят балансирующего на стуле Буланова и его кульбиты, в конце концов, может быть восполнена четким дикторским комментарием. Так предполагают ассистенты.
Мейерхольд, кажется, думает иначе.
Актеры играют сцену привычно, как перед публикой. Мейерхольд просит повторить – посадив их на кушетку. Потом просит «третий дубль» – сохраняя мизансцену, но отменив кульбиты Буланова. Потом исключает эпизод из радиопередачи: слишком велика разница в речи исполнителей – в привычных условиях подмостков и вне их.
«Этому в один день не научишься»...
Еще перерыв – на два года. В 1934 году Мейерхольд решается на радиовариант спектакля «Дама с камелиями ».
Мне кажется, есть несколько обстоятельств, заставивших Мейерхольда побороть вполне сложившуюся к тому времени настороженность по отношению к радио.
Постановка пьесы Дюма-сына стала для него не просто очередной удачей – в ней блистательно продемонстрировала свое дарование Зинаида Николаевна Райх. Передача по радио закрепляла успех – Мейерхольд великолепно это понимает. К тому же приближается Второй театральный фестиваль в Москве. Он назначен на сентябрь, и советская столица ждет около трехсот иностранных гостей – видных актеров, режиссеров и критиков из Западной Европы и Америки. В рамках фестиваля организуется цикл радиопередач, рассчитанных и на советских и на зарубежных слушателей.
Само собой разумеется, что Мейерхольд не может не участвовать в этих передачах. Но, в отличие от мхатовцев, вахтанговцев, в отличие от Таирова и Охлопкова, у него не было ни одной «громкой» премьеры в «Театре у микрофона». Надо наверстывать. «Дама с камелиями» – подходящий случай и подходящий материал.
В начале 1934 года отмечается 10-летие советского радиовещания.
В числе других поздравление пишет и Всеволод Мейерхольд:
«Советское радио – великое завоевание человеческой мысли, прочно вошедшее в быт народов Советского Союза, – несет культуру во все уголки Союза, крепя связь города и деревни. Советское радио на всех участках культфронта формирует нового человека, воспитывая его на высоких образцах советского искусства и культурного наследия прошлого.
Необходимо, однако, отметить недостаточно глубокое освещение театральной жизни по радио. Недостаточно пропагандируются лучшие советские композиторы. Качество исполнения многих музыкантов и вокальных передач очень невысокое. Особенно слабы по подбору репертуара колхозные и детские передачи »17.
В ответ – благодарность, сдобренная недвусмысленным примечанием: рады углубить освещение театральной жизни демонстрацией спектаклей вашего театра.
И наконец, есть еще одно обстоятельство, которое стоит принять во внимание, оценивая переменившееся отношение Мейерхольда к творчеству у микрофона, – радиоуспех ведущего актера его театра Э.П. Гарина. Успех, достигнутый некоторым образом против воли Мейерхольда.
«Безумству храбрых...» – с некоторым недоумением проговорил кто-то на редакционной летучке, когда стало известно о согласии Мейерхольда дебютировать на радио спектаклем «Дама с камелиями». И в этой формулировке, и в недоумении был свой резон.
Радиокомитету, как и Главискусству, прежде всего предстояло примириться с мыслью, что ведущий театр страны, демонстрировавший тягу к спектаклям активного политического звучания, и его руководитель – глашатай Театрального Октября – выйдут в эфир не с произведением масштабного гражданского настроя, а с салонной французской мелодрамой.
С сомнениями такого рода Мейерхольд справился быстро. Он обратил внимание на то, как «Даму с камелиями» смотрел В.И. Ленин. По воспоминаниям старого большевика М.Н. Лядова (Мандельштама), Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной в годы эмиграции смотрел «Даму с камелиями» в Женеве в исполнении заезжей французской труппы. Во время спектакля Лядов, сидевший в первом ряду ложи, обернулся и увидел, как Владимир Ильич несколько стыдливо вытирал слезы – столь сильное впечатление произвели на Ленина пьеса и спектакль, разоблачение буржуазной морали, рабское положение женщин18.
Аргумент был достаточно убедительным и для Радиокомитета и для Главискусства, чтобы снять возражения конъюнктурного характера. Сомнения художественные оставались.
Даже самым восторженным поклонникам ГОСТИМа это предприятие казалось немыслимым. Мейерхольд, «бог театральной пластики», всегда отдавал предпочтение движению, мизансцене, а не слову. Атмосфера театрального действия в «Даме с камелиями» приглашала зрителей любоваться и восхищаться красотой обстановки, костюмов, красок, увлекая изяществом декораций, блеском сверкающих канделябров, грациозностью поз и элегантностью туалетов.
Ю. Юзовский писал: «Бесспорно, „Дама с камелиями" очень красивый спектакль. Мейерхольд ставит на стол настоящую античную вазу. И вся сцена отражается и любуется собой в этой вазе, хочет походить на нее, составить с ней некий законченный ансамбль»19.
Возникает естественный вопрос: а каким образом передать эту обволакивающую зрителя элегантность за тысячи километров, в Елабугу или Свердловск, слушателю, лишенному возможности видеть упомянутую вазу?
Мейерхольд начинает с тщательной проработки текста радиоверсии. На очередном спектакле «Дамы с камелиями» он пришел в ложу и, усадив рядом с собой Анатолия Дорменко, раскрыл экземпляр пьесы в черном кожаном переплете. По ходу спектакля на полях появлялись птички, восклицательные и вопросительные знаки. Некоторые эпизоды и вовсе перечеркивались, едва артисты успевали произнести первые реплики.
Толстый знак вопроса появился уже на первых страницах пьесы – театральную сцену в этот момент пересекала веселая кавалькада: двое молодых людей во фраках и цилиндрах подпрыгивали, изображая скачущих во весь опор коней, а за ними с хлыстом и вожжами выскакивала Маргерит. Следом бежала ее подруга с теплым платком в проятнутой руке – у Маргерит ведь чахотка.
– Теряем!
Крест-накрест Мейерхольд перечеркнул и конец акта – костюмированный бал с пляшущими масками всевозможных уродцев, среди которых как трагическое напоминание о смертельной болезни героини мелькает Смерть с косой в руках.
– Теряем!
Второй акт. Вечеринка у подруги Маргерит. Сцена, о которой С.М. Михоэлс позднее скажет как о выдающемся образце театральной выразительности.
Огромный игорный стол окружают люди, поставившие ва-банк, – кажется, не просто деньги, но саму свою судьбу. У Маргерит от волнения случается обморок. Она падает, но не на пол, не в кресло, а прямо на стол – как последняя ставка Армана. Она уже не человек с чувством собственного достоинства, но лишь красивое тело – объект страстей, который продается и покупается.
На полях пьесы Мейерхольд ставит два вопросительных знака, а потом вычеркивает эту сцену полностью.
– Теряем!
Дорменко, до этого момента сидевший тихо и послушно, аккуратно переносивший пометки на свой экземпляр, не выдержал:
– Не много ли теряем? Диктору придется пересказывать половину пьесы.
– Диктору – не придется. Для этого у нас будет Вожатый спектакля.
Так Мейерхольд назвал новый персонаж «Дамы с камелиями», который появится и будет существовать только в ее радиоверсии. Комментатор от радио или Лицо от театра – называть его можно как угодно. Введение такого персонажа в спектакль не требовало от Мейрхольда преодоления психологического барьера, какой возникал в подобных случаях у многих его коллег. Ведущий – назовем все же это действующее лицо более привычным нам именем – представлялся ему вполне естественным дополнением к сюжетно-образной конструкции спектакля, вернее сказать, вполне органичной опорой этой театральной конструкции.
Да что – театральной! И в кино такой персонаж его ничуть не смущал. Готовясь в конце 20-х годов к съемкам фильма «Евгений Базаров» по мотивам тургеневских «Отцов и детей», Мейерхольд придумал множество интересных эпизодов, которых в романе не было, да и быть не могло. Например, бал у губернатора, вполне благожелательно описанный Тургеневым, продолжался в сценарии эпизодами в казематах, где томятся люди, заключенные этим самым губернатором. Сцена продолжается во времени: мазурка на балу сменяется фокстротом, губернатора на экране заменяет фашист-чернорубашечник, губернскую тюрьму в России XIX века -застенок в муссолиниевской Италии... Таких «отклонений» от канонического сюжета предполагалось немало. И чтобы столь своеобразная композиция ленты стала понятна зрителю, Мейерхольд придумывает роль Вожатого фильма.
Если «посторонний» комментатор приемлем был Мейерхольдом в кинематографе, то на радио его появление представлялось если не непременным, то закономерным. Важно было определить меру его «остранения» от сюжета и от остальных героев. Тут мнения разделились. Дорменко видел задачу Ведущего в том, чтобы он обрисовал и объяснил слушателям обстоятельства, в которых происходит действие, «заполнил паузы» между сценами. У такой позиции была своя логика. Мейерхольд столь сурово обошелся с текстом спектакля, что до эфира «дошли» (и то с измененными ритмами и перестроенной композицией) лишь сцены с участием трех главных действующих лиц – Маргерит Готье (3. Райх), Армана Дюваля (М. Царев) и его отца (Г. Мичурин). «Объяснять» действительно надо было много – иначе исчезала из радиоверсии центральная интонационная и сюжетная нить спектакля. В этих условиях о «взаимодействии» Ведущего с другими персонажами говорить трудно. Мейерхольд же самый отбор эпизодов производил так, чтобы будущий Вожатый спектакля мог «общаться» и с Маргерит, и с обоими Дювалями. Симбиоз, родившийся из столкновения двух точек зрения, вызвал весьма противоречивые оценки.
Б. Велижева в статье «Мейерхольд на радио» писала: «Хирургическая операция над живым организмом драмы, именуемая монтажом, в данном случае прошла почти безболезненно. Сцены выбраны удачно и раскрывают сквозное действие пьесы.
Единственным досадным диссонансом передачи был конферанс; сентиментально-слащавый, излишне многословный, он врывался в ритм драмы чуждым элементом и не только не дополнял впечатления, но разбивал его»20.
Тогда же 3. Н. Райх в интервью сказала:
«В „Даме с камелиями" Ведущий настолько органичен, что я его ощущаю, как одного из партнеров»21.
Мы склонны довериться больше мнению актрисы, чем критика -и не только из-за того, что творческое самочувствие весьма убедительный аргумент. Михаил Иванович Царев, вспоминая репетиции в Студии на Телеграфе, рассказал, что вели их А. Дорменко и в качестве ассистента – будущий артист МХАТа Л. Еремеев. А Мейерхольд, присутствуя на всех репетициях, делал короткие замечания, но присущей ему активности первое время не проявлял. Однако с первых дней подготовки передачи был крайне щепетилен по отношению к «пояснительному тексту». А зная его придирчивость и самоотверженность в сокращении и полном удалении неточно, неубедительно звучащих сцен и фрагментов, можно предположить, как скрупулезно отрабатывал он с актером и редактором функцию Вожатого. На этот персонаж, между прочим, обратили внимание и зарубежные гости Второго Московского театрального фестиваля. 8 сентября 1934 года им была предложена специальная радиопрограмма, включавшая выступление В. Мейерхольда и отрывки из спектакля «Дама с камелиями». На ее обсуждении французский журналист и искусствовед Поль Гзелль, а вслед за ним генеральный секретарь Международного театрального объединения Андре Мопра и американский критик профессор Гарри Дан отметили, что даже в переводе комментарий, соединяющий отдельные эпизоды пьесы Дюма-сына, воспринимается как единое, целостное, организующее начало.
Удивившая несколько М.И. Царева «пассивность» Мейерхольда на первых репетициях была на самом деле мнимой. Он был дальновиден и прекрасно понимал, что «Дама с камелиями » обладает множеством эстетических ценностей, которые неизбежно проявят себя именно у микрофона. И ему оставалось наблюдать, почти не вмешиваясь в процесс «подгонки » спектакля к эфиру, за реализацией этих достоинств, заранее «заложенных» им в «театральный опус № 108».
С поразительной жизненной, а не театральной достоверностью режиссер проработал речевую сторону спектакля.
Ю. Юзовский писал об этом:
«Зинаида Райх (хорошо, умно играющая) говорит вполголоса, иногда голос падает до шепота, она словно бы боится выпустить его далеко, чтобы он не передал пышной страсти Дюма. Она „держит голос у груди“ для того, чтобы питать его тонкими, интимными, трогательными интонациями, чтоб в него поверили. Мейерхольд допускает эти „мхатовские“ переживания, он идет на то, чтобы актрисы даже не было слышно и зритель замечал лишь мимику, движение, слышал хотя бы сам по себе вибрирующий звук, так сказать, „трепет души“, режиссер стремится уверить зрителя в истинности страданий Маргерит, потому что в патетические страсти Дюма зритель поверить не захочет»22.
Когда Мейерхольд убедился, что интонации, наработанные для сцены, не требуют никаких принципиальных перемен в спектакле у микрофона, он начал поиск звуковых мизансцен, адекватных по настроению и темпоритму мизансценам театральным.
Объяснение с отцом Армана. Господин Дюваль-старший произносит монолог, обличающий молодую женщину, тоном прокурора. На сцене 3. Райх сидела спиной к зрителям, выслушивая Г. Мичурина; когда же она начинала ему отвечать, актеры менялись местами – теперь Жорж Дюваль оказывался как бы на скамье подсудимых. В радиостудии режиссер делает следующее. Актер встает на некотором расстоянии от микрофона, свисающего с потолка, – и у слушателя возникает ощущение, что Жорж Дюваль «обвиняет» Маргерит не тет-а-тет, а словно бы в огромном зале, в присутствии безмолвной толпы свидетелей. Актриса же говорила свои реплики прямо в микрофон, передавая аудитории у приемников тот самый «трепет души», который так приметливо оценил критик.
Тот же прием – в эпизоде решающего разговора Маргерит с Арманом.
К. Рудницкий описал это: «Мейерхольд усаживал Райх в кресло на планшете сцены, а Царева заставлял начинать монолог на вершине лестницы. Лицо актера выхватывал из полутьмы узкий, меткий луч света. Арман говорил и после каждой фразы делал шаг вперед, постепенно приближаясь и спускаясь к Маргерит... Движение строилось на белом свежем фоне, среди сверкающих огней. Маргерит, вся в черном, сидела неподвижно, потом в отчаянии вскакивала, бежала вверх, к той самой площадке лестницы, которую Юзовский назвал „местом казни“, и падала»23.
В радиостудии сперва построили лестницу, чтобы имитировать театральную мизансцену. Потом Мейерхольд приказал ее вынести – то ли потому, что она нестерпимо скрипела под ногами артистов, то ли потому, что не увидел надобности в таком приспособлении. И опять между актером и микрофоном оказалось «пустое» пространство, и слова его доносились вроде бы издалека, тогда как Райх не просто произносила свою реплику прямо в микрофон, но аудитория всю сцену слышала ее дыхание, сдерживаемый стон, «накладывающиеся» на бесстрастный, холодный, как мраморная ваза, голос Армана.
Так возникал смысловой и эмоциональный «крупный план» -звуковая авансцена, где живет, мучается, любит и страдает героиня Дюма-сына по имени Маргерит Готье.
Мейерхольд требовал от исполнителей особой собранности:
– Вся энергия, затрачиваемая в спектакле на мизансцены и действие, должна перед микрофоном переключаться на внутреннюю сосредоточенность. Концентрация эмоций должна быть много больше, чем на сцене24.
Спустя сорок лет это требование станет обязательным условием при определении способности или неспособности актера к творчеству у микрофона.
Инструментом режиссера и исполнителей стали экспрессия и музыкальность каждого слова, каждой фразы, мелодичность и красота звучания.
З.Н. Райх рассказывала:
– Средства подачи – чисто музыкальные. Я свой голос ощущаю у микрофона как музыкальный инструмент. Интонационное построение и ритм еще более усложнены, чем на сцене, и с партнерами у меня связь тоже чисто музыкальная: вся моя сосредоточенность в общении с партнером – это как бы вернее «ответить» ему не только по внутреннему образу, но и по музыкальному тону.
Я сохраняю в памяти все сценические движения, ощущаю свои мизансцены, но не даю их перед микрофоном, потому что они вливаются в общий поток «несения» внутреннего сценического образа. Мимика остается той же, что и на сцене, ибо и она есть часть общего музыкального аппарата25.
Методология творческого процесса у микрофона в радиоверсии «Дамы с камелиями » вытекала вполне естественно из ведущего эстетического принципа, воплощенного Мейерхольдом в театральном представлении. Мейерхольд, без сомнения, был одним из самых «музыкальных» режиссеров своего времени.
В. Э. Мейерхольд говорит об этом в докладе «Искусство режиссера»:
«Если бы меня спросили: „Какой главный предмет на режиссерском факультете будущего театрального университета, какой главный предмет должен быть включен в программу этого факультета?" – я сказал бы: „Конечно, музыка". Если режиссер – не музыкант, то он не сможет выстроить настоящего спектакля»26.
На одной из репетиций Мейерхольд как-то выгнал со сцены дебютантку – студентку первого курса театральных мастерских при ГОСТИМе. Роль у нее была совсем маленькая, и режиссер ограничился двумя указаниями. Одно – осветителям:
– Прожектор!
Второе – молодой артистке:
– Слушай музыку!
Девушка растерялась, не знала, что ей делать, и была с позором удалена со сцены и, как ей показалось, из спектакля. Она ничего не понимала – ведь режиссер не объяснил, куда идти, «что чувствовать», как поступать. А между тем в короткой реплике Мейерхольда содержалась целая программа: «Слушай музыку» означало: «Действуй так, как она тебе подсказывает». Опытные мейерхольдовцы знали это и умели выполнять. В «Даме с камелиями» заняты были опытные. Мейерхольд это учитывал. Нет, пожалуй, ни одной статьи о мейерхольдовской «Даме с камелиями», где не говорилось бы о своеобразной режиссерской партитуре спектакля. Она была обнародована Мейерхольдом в программках. Каждый из трех актов делился на три части, а каждая часть, в свою очередь, – на эпизоды, обозначенные музыкальными терминами: Andante, Allegro graziozo, Grave и т. п. Но эти термины – характеристика не музыкальных номеров, включенных в действие, а самого действия. Мейерхольд говорил не единожды, что «Дама с камелиями» выстроена как музыкальное произведение: «Дело не только в насыщении музыкой, написанной композитором Шебалиным, всех точек подъема, всех линий взлета; структура спектакля основана на сложной смене ритмов, воздействующих на зрителя через внутреннее музыкальное восприятие»27.
Заметим: «радийность» такого подхода к воплощению драматургического текста, конечно, не закладывалась Мейерхольдом специально, но не могла не учитываться им при решении вопроса о его дебюте в эфире именно с этим произведением. И не случайно критики писали после радиопремьеры о музыке словесной ткани, раскрывавшей подлинное биение жизни, – непрерывная ритмическая цепь властно держала внимание слушателя. Воображение его, «сконцентрированное исключительно на слуховых впечатлениях, впитывало образы драмы с не меньшей, если не с большей интенсивностью, чем во время спектакля» (Б. Велижева).
Итак, собственно музыки могло и не быть, но принцип музыкальности определял компоновку каждой сцены.
Во втором акте спектакля вообще не звучит ни один инструмент, но вот как развивается эмоциональный посыл одного из ключевых эпизодов, описанный А. Февральским.
«Арман сразу начинает с сильного напора, и вся сцена идет crescendo. Когда Маргерит окончила свой монолог (программа называет его „исповедь куртизанки") – пауза – Арман „вступает" со все возрастающей страстностью, он вырывает из рук Маргерит бокал и швыряет его. Несмотря на очень сильный подъем, напряжение нарастает и дальше, оно отмечено в программе музыкальным термином molto appossionato. Арман почти кричит, и Маргерит сдается. Стук в дверь разряжает напряжение»28.
Внимательному читателю, наверно, уже стало ясно, что эта сцена вошла в радиоверсию спектакля без каких-либо изменений и добавлений.
Музыкальность «Дамы с камелиями» рождалась из мелодичности интонаций, из контрапунктной смены темпоритмов, из пластики сценического действия, из элегантности декораций и – простится нам тавтология – из собственно музыки, использованной постановщиком.
Сценическая редакция спектакля включает сорок семь музыкальных номеров из сочинений разных композиторов, заново аранжированных В.Я. Шебалиным или им же сочиненных: польки, галопы, канкан, марши, мазурки, романсы, салонные фортепианные пьесы, народные песенки и вальсы. Целых семь вальсов: «грубоватый» и «прозрачный», «мягкий, нежный», «бравурный, черт-те что, вихревой» и «эдакий покачивающийся, сосредоточенно-глубокомысленный », «сладострастный, пряно-цветистый » и «бойкий, нервный, порывистый». Это все определения из заданий, которые режиссер давал композитору и которые успешно были выполнены.
В радиоверсию из всего богатства отобрано несколько номеров. И это вызвано отнюдь не только исключением многих эпизодов театрального спектакля из его радиоверсии. Мейерхольд искал возможность еще больше усилить ассоциативную роль того или иного мелодического фрагмента, чтобы музыка не сопровождала действие, а выполняла сюжетную функцию – предваряя появление действующих лиц, характеризуя драматургическую ситуацию, акцентируя смысловые пики в поступках героев. На сцене музыкальный материал редко повторялся в ходе спектакля: всего четыре раза звучали одинаковые мелодии. В эфире эти повторы сохранились, и к ним прибавились еще несколько. Так, вальс в соль миноре объявлял о «выходе» Жоржа Дюваля. Как и в театре, повторялась мелодия волынки, открывающая и завершающая третий акт, – только в первый раз она символизировала безмятежность счастья Маргерит, а во второй – почти иронически подчеркивала его призрачность.
Со свойственным ему проникновением в специфику художественных средств того вида искусства, которым в данный момент занимался, Мейерхольд очень точно представлял способность радио побуждать слушателя к сотворчеству. Ассоциациям аудитории режиссер всегда отдавал ведущее место. «Наблюдая зрительный зал, вижу, что всегда больше всего действует исполнение с точки зрения ассоциаций. К этому мы апеллируем разными сторонами спектакля, и разные приемы игры и мизансцен и приемы постановки спектакля рассчитаны на способность человека к ассоциациям»25 – это из доклада, прочитанного задолго, почти за десять лет до работы в радиостудии, 1 января 1925 года. Доклад имел подзаголовок «Проблема спектакля на музыке», и в нем Мейерхольд сформулировал свое понимание такого приема, как повтор музыкальной темы в драматическом представлении. Если в первом акте мелодия сопровождает диалог, то повтор ее в третьем акте означает возникновение новой драматургической ситуации. При этом зритель лучше постигает глубину характеров и положений.
Ну а слушатель – тем более: отсутствие зрелища, точнее, восприятие его лишь через звуковые образы стимулирует игру воображения.
В первом акте «Дамы с камелиями» существовала очаровательная песенка Маргерит – она возникала в начале спектакля как впечатление от знакомства и первого объяснения с Арманом, как выражение восторга любви, не знающей сомнений.
Психологическим и эмоциональным контрапунктом появлялась эта песенка вторично – в начале финальной картины, когда у героини оставались лишь воспоминания и ужас надвигающегося небытия.
В радиоверсии мелодия песенки Маргерит зазвучала еще раз.
Л. Варпаховский писал:
«Последние слова Маргерит были соответственно отредактированы Мейерхольдом.
– Я не страдаю! Словно возвращается жизнь... Никогда мне не было так легко... Значит, я буду жить?.. Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная... Жизнь идет! Это она потрясает меня!
При произнесении этих последних слов Маргерит неожиданно вставала со своего кресла, выпрямлялась и, двумя руками обхватив штору, открывала окно. В полутемную комнату... врывался яркий солнечный свет. Маргерит, так и не выпуская из рук занавеса, падала в кресло, полуспиной к зрителям. Общее оцепенение. После паузы только левая рука соскальзывала с подлокотника. Это знак смерти »30.
Но это еще не конец спектакля. В томительной тишине каждый из персонажей делал небольшое движение назад, а затем приближался к креслу, где застыла героиня. Арман бросался на колени, и его возглас: «Маргерит, Маргерит!» – завершал представление. Новую долгую паузу прерывали уже аплодисменты зрительного зала.
На радио Мейерхольд отказывается от длинной паузы и от громкого восклицания Армана.
Прозвучала реплика Маргерит, и незримое пространство радиосцены заполнила ее песенка. Сперва она еле слышна. Но вот, подобно солнечному лучу, мелодия заполняет всю сцену. И тогда на ее фоне раздается трагический шепот-всхлип Армана:
– Маргерит! Маргерит!
Будто напуганная человеческим голосом, музыка чуть стихает, но продолжается еще около минуты – то ли как отзвук последних слов Маргерит, то ли как своеобразный занавес, медленно закрывающий сцену.
Газета «Радиопрограмма», в № 7 от 12 февраля 1935 года писала:
«Мы стонали, слушая все это, потому что наше наслаждение было мучительно» В. Белинский. «Мочалов в роли Гамлета».
В Театре им. Мейерхольда репертуар всегда был советский, остро полемический, здесь взвилось знамя с лозунгом «Театральный Октябрь».
В этом театре увидели себя со сцены поэты: Маяковский, Безыменский, Третьяков, Сельвинский, здесь русские классики: Гоголь, Сухово-Кобылин, Грибоедов, Островский – были пересмотрены с вышки лозунга «Театрального Октября».
Выбор пьесы «Дама с камелиями » – это утверждение необходимости лирики в драматургии социальных чувств. Мы принесли эту пьесу хозяину страны – пролетариату, она им принимается. Об этом говорит прием спектакля рабочими завода им. Кирова (б. Путиловский), об этом говорят и бесчисленные корреспонденты, слушающие передачу по радио.
«Только что слушали по радио „Даму с камелиями", – пишет группа летчиков ВВС РККА. – Вместе с Вами переживали роль Вашей героини (Дамы с камелиями). Мы потрясены той трагедией, какую переживала женщина в капиталистическом обществе. Мы возмущены той циничной наглостью, с которой буржуа разговаривают со своей жертвой – женщиной. Вы мастерски показали и заставили нас переживать то, что переживала героиня».
В репертуаре всесоюзного «Театра у микрофона» спектакль «Дама с камелиями» существовал до последних дней работы ГОСТИМа. Успех несколько изменил отношение Мейерхольда к радиотрансляциям его сценических творений.
25 января 1935 года, на премьере своей «Пиковой дамы» в Ленинградском Малом оперном театре, Мейерхольд дает редакторам радио разрешение на передачу в эфир прямо со сцены. Сам присутствует на репетициях, в ходе которых определяются наиболее выгодные места для микрофонов. Вечером 15 февраля ленинградское и Всесоюзное радио в течение четырех с лишним часов ведут передачу из театра – дирижирует С.А. Самосуд.
7 июня 1935 года, во время гастролей ГОСТИМа в Киеве, организуется (для всей страны) радиомонтаж спектакля «33 обморока ».
24 января 1936 года из Студии на Телеграфе идет в эфир «Горе от ума». В августе театр снова на гастролях в столице Украины, и здесь повторяется трансляция грибоедовской комедии.
Наконец, в декабре 1937 года «Радиопрограмма» сообщила любителям театра о том, что 21 декабря, в 7 часов вечера в программе Радиостанции имени Коминтерна их ждет встреча с Мейерхольдовским «Ревизором». Режиссер решил, что сначала в эфир должны пойти всего несколько отрывков – «в качестве пробы», экспромтом, практически без специальных репетиций в студии. Затем уже по результатам – отзывам слушателей, впечатлениям автора и участников спектакля – предполагалась «корректировка» в расчете на трансляцию всего спектакля. К сожалению, работа над целостной радиоверсией спектакля оказалась невозможной.
Здесь, наверное, стоит упомянуть, что нарождающееся тогда телевидение проявило большой интерес к спектаклям ГОСТИМа и в январе 1937 года экспериментальные программы Московского телецентра включали несколько сцен из второй редакции «Горя от ума» – у телекамер играли А.Н. Хераскова (Софья) и Е.В. Самойлов (Чацкий).
Опыт работы над радиоверсией «Дамы с камелиями» приводит Мейерхольда к идее поставить «оригинальный» спектакль у микрофона. Он ищет радиогеничного автора, писателя, чья литературная манера наиболее соответствует требованиям невидимой сцены.
Находит его в Пушкине.
О Пушкине Мейерхольд думал еще в актерской гримуборной Художественного общедоступного театра. Режиссерские замыслы на эту тему сформировались с началом работы в Александрийском театре в Петербурге. «Я проследил свои работы с 1910 года и вижу, что всецело нахожусь в плену режиссера-драматурга – Пушкина»31, – заявил Мейерхольд на лекции «Пушкин и драма», прочитанной 24 октября 1935 года в Ленинграде.
Он всю жизнь мечтал поставить Пушкина на театральных подмостках. А сделал это у радиомикрофона. Выбор именно Пушкина и именно «Каменного гостя» для первого «опуса» на радио, на мой взгляд, отражает весьма определенную закономерность.
Радио по природе своей обладает крайне ограниченным комплексом выразительных средств, рассчитанных на ассоциативное воспроизведение жизненных реалий. Передача радио способна через слуховое восприятие вызвать ощущение пластического облика предмета – формы, линии, цвета, – его движения в пространстве, способна воспроизвести облик человека. Поэтому жизнь через радио мы воспринимаем не только как слышимое, но и как видимое. Но это условная видимость, ибо непосредственного общения с людьми, природой, обстановкой и атмосферой события, ставшего предметом искусства, слушателю не дано.
Условность – главное свойство природы радиоискусства – подразумевает и особую форму правдоподобия в изложении чувств, мыслей, поступков героев. Но именно это «условное правдоподобие» более всего ценил Мейерхольд в драматургии Пушкина и говорил об этом в докладе «Пушкин-драматург»[8].
«На что же направлял внимание постановщиков Пушкин, призывая их реформировать сценическую технику?
Вот:
Пушкин изумительно тонко вскрыл условную природу сценической площадки.
Пушкина в хрониках Шекспира поразило прежде всего искусство изображения действительной жизни. Но тут тотчас же необходимо отметить, что Пушкину противно было брать (как тонко определил это Гоголь) «растрепанную действительность нагишом»32.
Мейерхольд цитировал и самого Пушкина: «Вспомните древних – их трагические маски, их двойные роли, – все это не есть ли условное неправдоподобие?» Эта выписка из черновика пушкинского письма Н.Н. Раевскому не случайна. «Двойные роли» -у древних. Здесь ключ к режиссерской загадке «Каменного гостя» на радио, где обе женские роли – Доны Анны и Лауры – исполняла одна актриса – Зинаида Райх.
Дело было не в амбициях артистки и не в режиссерском увлечении ее творческими возможностями, а в художественном принципе.
А.В. Февральский писал:
«Еще в 1917 году, при постановке оперы А.С. Даргомыжского «Каменный гость», Мейерхольд, усматривая в Доне Анне и Лауре различные выражения одной сущности женской страстной натуры, проводил эту свою мысль посредством декоративного приема»33.
В спектакле Мариинского театра режиссер потребовал от художника Головина сделать две одинаковые комнаты – и для вдовы Командора и для актрисы: «Лаура и Дона Анна представляют собой различные маски одной и той же эротической сущности»34.
По интересному наблюдению К. Рудницкого, такое решение доводило до остроты парадокса мысль о роковой ошибке и о бездушии главного персонажа, для которого нет разницы между бурным, открытым темпераментом Лауры и тайной, глухой чувственностью Доны Анны. Условная природа радиоспектакля позволяла Мейерхольду довести эту идею до абсолюта.
Микрофон требует особого владения словом? Жестко выверенных ритмических переключений действия? Здесь нельзя спрятаться за пластический рисунок? Пушкинский театр соответствует этим требованиям.
В докладе «Пушкин-режиссер» Мейерхольд говорил: «Драмы Пушкина требуют большего внимания к паузам и более частого замедления темпов при произношении, нежели другие драматические произведения... Пушкин был против декламации и „драмоторжественного рева“. Он критически и с пренебрежением относился к сценическому эффекту»35.
Режиссер открывает в пушкинских стихах важную для исполнителя зависимость: поэт так расставил слова, что смысловые акценты возникают сами по себе, если их произносить с паузами, уже запрограммированными Пушкиным. Надо только расшифровать эту «программу» – по законам, бывшим обязательными для поэта, соблюдая напевность стиха: «У Пушкина так хитроумно расставлены в строчках слова, что логические ударения, помимо воли актера, отстукиваются в сознании слушателя, плывите только за поэтом по его музыкальной реке, на его хорошо уснащенной лодочке»36.
И еще обстоятельство, ставшее, как мне кажется, одной из причин появления «Каменного гостя» в эфире. Тут я позволю себе личное воспоминание.
В начале 60-х годов мне посчастливилось стать соавтором Александра Константиновича Гладкова – писателя и драматурга – в работе над радиопортретом В.Э. Мейерхольда. Передача готовилась на Всесоюзном радио – около полутора часов в эфире с участием выдающихся учеников и соратников режиссера. Мы записывали Эренбурга и Юткевича, Свердлина и Ильинского, Гарина и Боголюбова. Интерес к передаче был такой большой, что «Известия» накануне премьеры поместили репортаж о том, как она готовилась.
Помнится, несколько ее участников собрались в уютной столовой всегда гостеприимного дома Эраста Павловича Гарина и Хеси Александровны Локшиной на Смоленском бульваре – ответить на вопросы корреспондента и заодно обсудить окончательный вариант сценария. Многое, о чем хотелось сказать, не умещалось в девяносто минут эфирного времени, отведенного в программе[9].
Традиционные в этой ситуации расспросы корреспондента закончились фразой: «Значит, в передаче говорится не о всех, а о самых ценных спектаклях...» Хозяйка дома со свойственной ей запальчивостью, принялась объяснять журналисту, что нельзя делить спектакли на «черненькие и беленькие».
Гладков не согласился. Фаина Георгиевна Раневская присоединилась к нему, заявив, что «памятники чаще вредят, чем помогают памяти». Добрейший Лев Наумович Свердлин пытался примирить спорящих, напомнив, как Мейерхольд некоторые свои спектакли сам называл вариациями и эскизами.
Вот тогда Гладков и высказал впервые свою мысль (позднее он записал ее в книге «Театр», вышедшей в начале 80-х годов) о том, что правомерно делить спектакли Мейерхольда на две группы: те, что он вынашивал много лет...
– Магистральные, – подсказал Эраст Павлович.
– ...И те, которые он принужден был ставить быстро и ставил, развивая и варьируя приемы, уже найденные им в других работах. Таким образом, эти «быстро поставленные» спектакли создавались на основе многолетних разработок и заготовок, и творческий процесс тут был облегчен.
Слова об облегченном творческом процессе мне лично кажутся полемическим преувеличением, особенно когда смотришь блокноты с режиссерскими замечаниями актерам или стенограммы репетиций вот этих «быстро поставленных» спектаклей. Но идея, что Мейерхольд любил проверять на практике, на зрителе, а не в лабораторных условиях «открытых репетиций » и «закрытых просмотров» глубинные, самые важные и дорогие творческие замыслы, -эта идея Гладкова представляется справедливой. А как иначе понять реплику Мейерхольда: «Прежде чем я поставил своего „Ревизора", я сделал двадцать работ, которые были эскизами к „Ревизору"»37.
Теперь сопоставим некоторые даты.
Летом 1934 года рассматривается вопрос о том, как будет отмечаться 100-летие со дня гибели великого русского поэта. Весь 1937 год объявляется «Пушкинским».
В 1936 году Мейерхольд вновь начинает репетиции «Бориса Годунова» – спектакля, к которому он уже «примерялся» в 1925 году, о котором он грезил десятилетиями.
А в 1935 году почти одновременно появляются два пушкинских спектакля Мейерхольда – «Пиковая дама» в Ленинградском Малом оперном театре и «Каменный гость» на Всесоюзном радио[10]. Добавлю, что Пушкина Мейерхольд предложил редакции литературно-драматического вещания сам в ответ на просьбу выбрать любой интересующий его и подходящий для радиопредставления материал – безразлично, классический или современный. На то была у него веская причина. Он говорил об этом в докладе «Пушкин-режиссер»:
«Когда мне пришлось поработать для радио над „Каменным гостем", я, как полагается, конечно, всякому современному режиссеру, привлек в качестве исполнителей наших профессиональных актеров. Но ужас! Современные актеры не умеют читать Пушкина»38.
Доклад прочитан в Государственном институте искусствознания в июне 1936 года – больше чем через год после премьеры «Каменного гостя» в эфире. Кажется, режиссер здесь чуть-чуть слукавил. О том, что в большинстве своем актеры современного русского театра плохо владеют стихом на сцене, Мейерхольд прекрасно знал и до начала работы над пушкинской «маленькой трагедией». Знал и неоднократно писал об этом. Он считал, что стихи Алексея Толстого, рифмованные тексты исторических драм Островского или его же «Снегурочки», плохие переводы античных авторов постепенно, но прочно отбили у драматических артистов вкус и навык к сценической интерпретации истинной поэзии:
«Естественно, что у актеров не было специального тренинга для того, чтобы заняться таким поэтом, как Пушкин»35.
А впереди был «Борис Годунов» – одна из вершин пушкинского стиха...
По заданию Мейерхольда и вместе с ним поэт В.А. Пяст разработал ритмическую партитуру пьесы – сто восемь страниц карманного издания «Бориса» были испещрены условными знаками, определяющими цезуры, паузы, ударения, повышения и понижения голоса и т. д. Режиссер хотел, чтобы актеры черпали глубочайшую правду чувств и драматургических коллизий из стихов, из музыки – «бесконечно разнообразной, точно характеризующей каждую картину „Бориса Годунова", каждый момент любой роли в этой трагедии»40. Этому надо было учиться.
Вот почему можно согласиться с А.К. Гладковым, утверждавшим, что пушкинский радиоцикл Мейерхольда 1935-1937 годов «мы вправе рассматривать как подготовку к осуществлению «Годунова».
Репетиции «Каменного гостя» сначала шли попеременно в театре и в радиостудии. С конца марта они идут через день по три-четыре часа, с 8 апреля – ежедневно, с двух до пяти часов вечера,-уже на втором этаже Телеграфа.
В ЦГАЛИ хранится тетрадка, на первой странице которой рукой Мейерхольда обозначены даты и часы студийных репетиций «Каменного гостя»“: 29 часов заняли «прогоны» отдельных сцен и всего представления.
Особенно внимателен Мейерхольд к сочетанию музыки и слова. Десять... Двадцать... Тридцать два раза репетируется эпизод, где голоса актеров должны совпасть с голосом оркестра. А перед этим режиссер часами просиживал с композитором В.Я. Шебалиным, вслушиваясь в каждую ноту клавира.
Эти цифры – укор и урок потомкам.
Укор тем, кто смотрит на радиоработу как на некий «отхожий промысел» (пришел, бегло проглядел машинописный листок с текстом – и к микрофону), и редакторам, порой планирующим запись двух-трехчасового спектакля «за неделю с репетициями».
В 30-е годы (как, впрочем, и потом, когда радио из «живого» стало «фиксированным на пленке») никаких временных норм в процессе подготовки радиоспектакля не было узаконено. Но редакционный опыт позволял устанавливать определенные условия. Мейерхольд эти условия нарушал – он работал медленнее других. В тщательности его репетиций было не просто стремление к совершенству, но и откровенное намерение вести актеров к премьере привычным путем «созревания» театрального представления. В этом урок, ценность которого по-настоящему выявилась много лет спустя.
Актерам неудобно и трудно без движения? Определяются мизансцены, артисты ходят, пританцовывают, Мейерхольд азартно фехтует с исполнителем роли Дон Карлоса, показывает, как должна спускаться Дона Анна по каменным плитам у могилы Командора...
М. Долгополов в статье «Пушкинский радиоспектакль» писал:
«В. Мейерхольд показал, как при помощи... тщательной расстановки артистов перед микрофоном можно добиться большей доходчивости вещи и восприятия ее только на слух»42.
Отвечая на вопросы журнала «Говорит СССР» по поводу «Каменного гостя», З.Н. Райх утверждала – со слов режиссера, разумеется, – что у микрофона, равно как на сцене, «мизансцены, движения совершенно необходимы, – они помогают интонационно оформить слово, его содержание»43.
Осип Наумович Абдулов не был занят в «Каменном госте» -Мейерхольд пригласит его в следующий свой «радиоопус», – но старался не пропускать ни одной репетиции в Студии на Телеграфе. Впитывал увиденное, размышлял и, кажется, именно тогда пришел к выводу, что технические условия производства спектакля у микрофона никоим образом не должны мешать театральной методологии в работе актера над образом.
Четверть века спустя ученица Абдулова, замечательный режиссер Роза Иоффе, сформулирует методологические принципы своего радиотеатра и напишет об этом44.
Правда физического самочувствия, обусловленная восприятием партнера и предлагаемых обстоятельств, давно стала критерием актерского мастерства и на радио.
А начиналось все это у Мейерхольда на репетициях «Каменного гостя».
Пушкинский текст – неприкосновенен. Никаких ведущих – музыкальная и шумовая партитура разработаны так тщательно, что в словесных пояснениях нет необходимости. Ремарки надлежит раскрыть через психологическое состояние героев; все внимание -слову.
Выстраивая эмоционально-речевой конфликт, Мейерхольд возвращается к своей же театральной находке. В 1910 году он поставил мольеровского «Дон Жуана» в Александринском театре. Дон Жуан – Ю.М. Юрьев; Сганарель – К.А. Варламов.
Ю. М. Юрьев вспоминал:
«Быстрая, стремительная речь, почти без повышения тона. Все внимание было устремлено на смены темпа и быстрое смелое переключение с одного ритма на другой, на четкость дикции и разнообразие шрифта, – то курсив, то петит, то нонпарель, и только в отдельных случаях более крупный шрифт, – окрашивая их то одной, то другой мягкой, нежной краской, добиваясь при этом предельного мастерства.
Ясно, что такая моя установка шла вразрез с варламовской, и я долго недоумевал... И вот, наконец, на одной из репетиций я почувствовал, что на контрасте построенные наши диалоги, в силу различия характеров наших образов и происхождения каждого из них, могут даже выиграть... Так оно в конце концов и вышло»45.
...В Студии на Телеграфе дошли до сцены, когда Дон Гуан объявляет Доне Анне о том, что он убил ее мужа.
– Где я?.. Где я?.. Мне дурно, дурно! – восклицает Зинаида Райх.
Режиссер останавливает актрису:
– Каждое произнесенное вами слово должно «падать», как падает с цветка чистая капля росы или как падает душистый лепесток розы, роняемый на дивный ковер, по которому вы нас ведете...
Тут же прямо противоположное – Цареву – Дон Гуану:
– Резче. Активнее. Жестче... Текст сцены включал несколько строк из ранней редакции. После обморока Доны Анны следовало:
«Дон Гуан
О, как она прекрасна в этом виде!
В лице томленье, взор полузакрытый,
Волненье груди, бледность этих уст...
(Целует ее)».
Режиссер несколько раз репетирует эпизод, потом тихо бросает:
– Шенкеля нужны, барьер, выстрел, а не менуэтом по паркету.
И снимает эти строчки вообще.
Критик характеризовал после премьеры голосоведение Царева такими словами: «Бурность, стремительность темпа, „обнажение" метрической конструкции стиха»46.
Надо отметить, что на артиста Царева режиссер Мейерхольд возложил особую и сложную задачу – доказать своим исполнением на практике правоту Мейерхольда в его давнем споре о трактовке пушкинских «маленьких трагедий ».
Спорил Мейерхольд с Художественным театром, а точнее, с режиссером и художником А. Бенуа – соавтором К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в работе над спектаклем МХТ. 26 марта 1915 года «художественники » сыграли в один вечер «Пир во время чумы», «Каменного гостя» с Качаловым и Германовой и «Моцарта и Сальери», где роль Сальери исполнял Станиславский. А 29 мая Мейерхольд заканчивает большую статью под названием «Бенуа-режиссер», которую публикует в своем журнале Доктора Дапертутто «Любовь к трем апельсинам». Претензии к спектаклю МХТ, да и сама тема разговора столь серьезны, что автор статьи не пользуется привычным псевдонимом и подписывается своим именем. Главное, что не устраивает Мейерхольда в «Каменном госте» МХТ, – «грубый мелочный натурализм», за которым теряются и поэтичность пушкинского слова, и волшебство драматургических ситуаций, призванных «потрясти все струны нашего воображения».
Термин «душевный реализм», которым А. Бенуа воспользовался для обозначения стилистики «пушкинского спектакля» в Художественном театре, вызывает у Мейерхольда страстную и горькую иронию, он пишет:
«„Душевный реализм" был налицо у Станиславского, но почему режиссер не научил этого гибкого актера произносить стихи как стихи, а не как прозу? „Душевный реализм" лез из всех пор сладкого испанца Качалова, но почему этот актер походил, как кто-то остроумно заметил, на „присяжного поверенного"?.. С помощью „душевного реализма" и „жизненной игры" маленькая драма, написанная в стихах и полная волшебства, звучит со сцены точно инсценированное либретто при афишах»47.
Бенуа ответил не менее резко.
За рамками нашей темы – пересказ дискуссии, растянувшейся на два десятилетия и не всегда отличавшейся изысканным отношением участников друг к другу. Замечу только, что среди сторонников Мейерхольда оказались Станиславский и Немирович.
Немирович, в частности, писал в одном из писем 8 апреля 1915 года:
«Пушкинский спектакль, в конце концов, конечно, является неудачей театра, что бы ни писали защитники »48.
Станиславский писал о том же:
«Для себя самого – я жестоко провалился в роли Сальери.
Стоило мне начать громко произносить пушкинские стихи, -и все набитые годами, въевшиеся привычки точно лезли толпами изнутри. Чтобы уйти от них, я усиленно отчеканивал смысл слов, душевную суть фразы, не забывая при этом и стихотворные остановки. Но в результате вместо стихов получалась тяжелая, глубокомысленная проза... Голос должен петь и в разговоре, и в стихе, звучать по-скрипичному, а не стучать словами, как горох о доску»45.
Эти строки из книги своего великого учителя Мейерхольд не единожды повторил М.И. Цареву на репетициях радиоспектакля.
В слове, не укутанном в бытовые интонации, а обнаженном до истинно романтической чистоты, видел он единственное средство отразить высокую трагедию Дон Гуана – циника и жизнелюбца, скептика и отзывчивого сердечного друга. Герои «маленьких трагедий всегда находятся перед необходимостью выбора нравственных полутонов, перед ними каждый раз возникает такой клубок противоречий, который должен неминуемо – и немедленно! – разрешиться катастрофой, взрывом»50.
Дон Гуан – Царев ведет непрерывную любовную игру на грани жизни и смерти, игру, в которой погибли уже многие, но не он. Любовное приключение не может, не способно привести его к смерти. А вот любовь – убивает, Смерть приходит к Дон Гуану тогда, когда под влиянием внезапно нахлынувшего и дотоле неизвестного ему чувства начинается его перерождение.
Когда б я вас обманывать хотел, Признался ль я, сказал ли я то имя, Которого не можете вы слышать?В режиссерском блокноте Мейерхольд поставил возле этих строк три восклицательных знака. И записал:
«Наша работа над „Каменным гостем" А.С. Пушкина для радио (1935-1936) наилучшим образом показала нам порочность коровя-ковской (она же мхатовская) системы в области произнесения стихов в пьесах. И ее мы преодолевали. И ее мы до известной степени преодолели»51.
Заочный спор с «художественниками» в работе над «Каменным гостем» Мейерхольд вел и по линии владения словом, и по поводу музыкально-шумового решения. Он категорически отверг формальные, иллюстративные приемы мхатовского спектакля, где звяканье цепей, щелканье замков, перекличка ночных сторожей за сценой должны были представить зрителям «старую Испанию».
Музыка и шумы в радиоспектакле были не элементом эмоционального оформления действия, но частью его – и немаловажной. Испанские танцы, ночные серенады, с одной стороны, и противоборствующие им мрачные хоралы, символизирующие католическую церковь, инквизиторское убиение плоти – с другой, выполняли прежде всего функцию декораций, создавали у слушателя пластический образ места, где происходят события «Каменного гостя».
Лязг замков, скрежет чугунных ворот монастыря тоже были в радиоспектакле. Но все эти и подобные им звуковые эффекты появлялись не в дополнение к тексту, а как бы в продолжение его. Все без исключения, кто вспоминает постановку, указывают на выразительную деталь. Монах объясняет Дон Гуану, что вдова Командора никогда с мужчиной не говорит.
– А с вами, мой отец? – Со мной иное дело; я монах. Да вот она.Здесь наступает пауза, в которой раздается звон ключей, потом легкие женские шаги. Этот звон лучше всего дополняет рассказ монаха о женщине, которая приезжает каждый день сюда, в монастырь, молиться и плакать. Ей это уже привычно – у нее свои ключи от внешних монастырских ворот, свой привычный маршрут по церковному двору. Шаги приближаются, и слышно, как женщина проходит мимо, ничего не говоря. Только отойдя от Дон Гуана к дверям часовни, Дона Анна обернется, несколько удивленная поведением монаха, появлением неизвестного мужчины – нарушением привычного распорядка, и снова зазвенит ключами, но уже будто колокольчиком, подзывая; тогда лишь раздастся ее голос: «Отец мой, отоприте».
И монах заторопится, грубо забренчав своей связкой ключей: «Сейчас, сеньора; я вас ожидал».
В дневнике Мейерхольд записал:
«А.П. Чехову, пришедшему всего второй раз на репетицию „Чайки" (11 сент. 98 г.) в Московском Художественном театре, один из актеров рассказывает о том, что в „Чайке" за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки.
– Зачем это? – недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.
– Реально, – отвечает актер.
– Реально, – повторяет А.П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: – Сцена – искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нарисованный нос и вставить живой? Нос – „реальный", а картина-то испорчена... Сцена – говорит А.П., – требует известной условности... Сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни, не надо вводить на сцену ничего лишнего»52.
Время покажет, как чеховское высказывание превратится в один из основных творческих принципов Мейерхольда. Оно отразится во всех сторонах его режиссерской практики, в том числе и в стремлении выстраивать атмосферу спектакля не с помощью жизнеподобных шумов, а через тщательно выверенные звуковые акценты; создавая условный звуковой фон.
Мейерхольд пройдет через искусы натуралистических шумовых красок. Экспликация драмы Л. Мея «Псковитянка» (Херсон, 1902 год, первая, неосуществленная режиссерская работа Мейерхольда) включала описание мизансцен, исторической обстановки, декораций и «натурального» звукового фона. Тут были и звон колоколов, и стук железа о камень, когда мальчишки играют в бабки, и звук труб и рогов в эпизоде охоты, и, разумеется, топот лошадей (приписка автора экспликации: «...если удастся имитация»). В первом акте предполагалось воркование голубей и пение малиновок; во втором, в любовной сцене – «хорошо бы дать фон звуков: лягушки, ночные птицы».
При страстие к бытовым шумам, «оформляющим» сценическое действие, то есть, по сути своей, необязательным, достаточно быстро сменяется поиском звуковых эффектов, включенных непосредственно в ткань театрального представления, как важный художественный элемент.
В 1906 году в тифлисском «Товариществе новой драмы» Мейерхольд ставит пьесу Е. Чичикова «Евреи », где кульминация сюжета решена была вообще только звуком.
...Погром идет в течение всего акта где-то вдалеке, откуда не слышны ни отдельные крики, ни брань, а доносится лишь гул толпы. Он приближается, и в тот момент, когда публике кажется, что брань и визг большого количества людей вот-вот вывалятся на сцену, режиссер «снимает» весь шум. Никто не кричит, дверь и окна ломают, перешептываясь. Стоящие на сцене гасят свечи. Полная темнота. Тогда начинается разгул погромщиков – со сцены несутся стон, треск ломаемой мебели, выстрелы. Звуковой вихрь внезапно переносится далеко в кулисы. В тишине входит человек с лампой, и ее слабый свет призрачно освещает трупы на авансцене. Бьют часы...
«Эффект поразительный», – напишет режиссер в письме к близким.
Постепенно Мейерхольд вырабатывает навыки, позволяющие придавать выразительной звуковой детали символическое значение.
Так, в начале «Учителя Бубуса» (ГОСТИМ, 1925 год) перестук деревянных палок своеобразно регламентировал атмосферу действия и движения сюжета. Стремительное появление каждого персонажа сквозь бамбуковую завесу (закулисные помещения отделялись от зрительского глаза бамбуками, подвешенными на медных кольцах) сопровождалось характерными звуками их ударов друг о друга.
Необычную звуковую среду намеревался режиссер создать в «Ревизоре». Он поручает художнику И. Шлепянову разработать и ввести в вещественное оформление спектакля систему резонаторов, которые усиливали бы сценические шумы, сопровождающие действие, отдельные реплики персонажей.
В театре идея оказалась нереализованной[11], но в студии она нашла воплощение, – такое техническое средство, как реверберация, в качестве эстетического элемента структуры спектакля утвердилось в радиотеатре вслед за Гариным и не без помощи Мейерхольда.
А финал «Последнего решительного», где грохот подлинного -не бутафорского! – станкового пулемета становился символом непобедимости бойцов-пограничников! И не нужен стал старательно приготовленный автором пьесы длинный монолог по поводу нерушимости наших границ; не понадобился и эффектный «световой взрыв», не менее старательно придуманный художником...
Вот эту тщательность отбора звукошумовых компонентов, несущих образно-поэтический смысл, Мейерхольд сохранил и в своей работе на радио.
Премьера «Каменного гостя» по графику репетиций предполагалась 27 апреля 1935 года. Но после четырехчасовой генеральной и прогона 12 апреля режиссер понял, что пора выходить в эфир -иначе исполнители могли «перегореть». Вмешивалось и такое обстоятельство: между 12-м и 26 апреля Студию на Телеграфе «Каменному гостю» отдавали только на один вечер – семнадцатого. Десять дней перерыва могли оказаться губительными. И Мейерхольд перечеркивает график: против даты 17 апреля 1935 года вместо слева «прогон» появляется – «эфир!»[12].
На премьеру приехали в студию писатели, музыканты, ученые-пушкинисты. Были Юрий Олеша, Сергей Прокофьев. Гости и журналисты – к восьми часам вечера их собралось немало, и представляли они разнообразные центральные московские и провинциальные издания – расположились в комнате для прослушивания, напротив входа в студию. Мейерхольд, явно взволнованный, поглядывая на часы (спектакль был объявлен в программе в 20.30), произнес несколько слов и ушел в аппаратную. Потом вернулся и сел рядом с Прокофьевым и Шебалиным.
В студии прозвенел звонок. Дирижер Е. Сенкевич подняла палочку.
В журнале «Говорит СССР» была опубликована рецензия на премьеру.
«Постановка на радио „Каменного гостя“ обнаружила, что драмы Пушкина дают ключ к разрешению наиболее трудных задач, стоящих перед современной драматургией по линии радиозадач, которые рядом наших писателей и драматургов считаются неразрешимыми... С этой точки зрения та работа, которая проделана Мейерхольдом по раскрытию словесной ткани драмы Пушкина „Каменный гость“, совершенно исключительна по своему значению. Радиоспектакль „Каменный гость“ является спектаклем историческим»53.
Прокофьев так увлекся спектаклем, что сразу же после передачи подошел к руководителю Радиокомитета и предложил свои услуги в качестве «композитора для следующего радиопредставления». Через несколько дней он приехал к Мейерхольду, и они сели за «Пир во время чумы». К сожалению, этот замысел остался невоплощенным.
Успех подтверждали и письма с просьбами и требованиями повторить передачу.
Сопоставление рекламных заметок в газете «Радиопрограмма» и хранящихся в архиве «явочных» листков ГОСТИМа дают возможность определить частоту этих повторов по заявкам слушателей: первый радиоопус Мейерхольда шел в эфире чуть ли не еженедельно: 27 апреля, 6 мая, 15 мая; потом летне-осенний перерыв и снова: 30 ноября, 18 декабря, 24 декабря, 18 января 1936 года...
А. Февральский писал:
«Будь этот спектакль поставлен позже, он, вероятно, смог бы и теперь звучать в эфире, но в те годы радиопередачи на пленку не записывались, и поэтому спектакль невозможно вернуть слушателю»54.
Александр Вильямович Февральский, историограф ГОСТИМа, составитель и комментатор двухтомного собрания сочинений его руководителя, очевидец и участник многих событий в жизни этого театра, – безусловный авторитет во всем, что касается творческого пути Мейерхольда. Но здесь и он ошибается.
Запись на магнитную пленку действительно не практиковалась. Но «Каменный гость» был записан. Правда, сначала не на пленку, а на фоновалики. Причем делали запись дважды. Первый раз -17 и 20 мая 1935 года, то есть почти сразу же после премьеры. Запись происходила в радиоателье на Солянке. Уже отсюда, а не из Студии на Телеграфе прошли в эфир несколько представлений «Каменного гостя» в «живом варианте», – очевидно, первая попытка зафиксировать спектакль на фоновалик не удалась. Вторая попытка, удачная, относится к весне 1936 года – писали на кинопленку (тонфильм).
Очередное, десятое исполнение «Каменного гостя» назначено было на вечер 28 февраля. Реклама прошла во всех газетах. Утром в театр позвонил Царев и сказал, что заболел. По правилам, установленным в ГОСТИМе, на доске объявлений и в журнале явки актеров появилось предупреждение: «Спектакль на радио отменяется из-за болезни артиста М.И. Царева. С Зин. Ник. согласовано»55.
Болезнь актера – причина вполне уважительная. Но в редакции радио решили все-таки поторопить техническую службу, чтобы избежать возможности новых срывов вещательной программы. И 6 августа 1936 года впервые прозвучал в эфире тонфильм «Каменный гость». Он тоже многократно повторялся – вплоть до весны 1938 года. Пушкинская постановка Мейерхольда была, кажется, вообще первым радиоспектаклем в советском массовом вещании, полностью фиксированным в звукозаписи.
Личная судьба В.Э. Мейерхольда не могла не отозваться на судьбе его творений. «Каменный гость» не стал исключением. Однако возвращаются же к нам, казалось, навечно утраченные рукописи режиссера и афиши его театра... Может быть, лежат где-то два-три восковых валика или рулон кинопленки без изображения, хранящие живые голоса Доны Анны и Лауры – Райх, Дон Гуана – Царева, Лепорелло – Зайчикова, монаха – Старковского, Дон Карлоса -Мичурина. Ведь сохранились же в личных архивах звукозаписи гаринских монологов из «Мандата», пластинки с песнями из «Тевье-молочника» Михоэлса с голосами молодых Алисы Коонен и Михаила Чехова...
Радиоверсия «Каменного гостя» имела еще одно продолжение.
Третьего февраля в актерском фойе ГОСТИМа был вывешен приказ по театру:
«10 февраля, в день смерти А.С. Пушкина (1837-1937), согласно указанию Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР сп. „Горе от ума“ снимается. 10 февраля вечером назначается „Каменный гость“ в концертном исполнении, в составе исполнителей, выступавших в этой пьесе на Радио (1935-1937 гг.)
Подпись: Мейерхольд».
Он перенес спектакль из радиостудии на концертные подмостки практически без изменений. Но вот Райх на этот раз играла только Дону Анну. Лауру поручили другой актрисе. На то была причина, и о ней – чуть позже. Посреди сцены поставили бюст Пушкина. Артисты сели по обе стороны от него. Никакого грима, никаких сценических аксессуаров. Всё, как у микрофона.
Прецедентов не было, а традиция родилась. И потом уже многие превосходные режиссеры стали выходить со своими радиоработами на эстраду Колонного зала, в Зал имени Чайковского, в Консерваторию и на другие филармонические сцены.
После антракта было концертное отделение – пение, художественное чтение. А в завершение Зинаида Райх, Михаил Царев и Осип Абдулов сыграли отрывок из «Русалки», второго пушкинского радиоспектакля В.Э. Мейерхольда.
Премьера «Русалки» состоялась 24 апреля 1937 года. Она шла в эфире около часа: «Начало в 6 ч. 34 м. – окончание 7 ч. 26 м. вечера», – отмечено в режиссерском блокноте постановщика. 18 мая 1937 года этот спектакль второй раз сыграли в Студии на Телеграфе. Больше он не повторялся.
Скрупулезность предыдущего абзаца намеренная. Вокруг этой работы Мейерхольда по сей день существует некая зона молчания и порядочная неразбериха. В 1979 году молодой журналист и искусствовед Алексей Колосов предпринял интересную и смелую попытку исследовать радиотворчество Мейерхольда. Это было первое, по сути, обращение к теме, и, несмотря на то что Колосов начинал свой труд еще на студенческой скамье, ему удалось с помощью кропотливого анализа прессы, документов и воспоминаний очевидцев восстановить если не сами передачи, то атмосферу общественного резонанса от них. Он нашел и «единственный печатный отзыв о „Русалке", – скорее, даже не рецензию, а полурек-ламного типа заметку в „Радиопрограммах"». Естественный вопрос: почему в печати не было широковещательных анонсов? Почему ведущие актеры ГОСТИМа (Э. Гарин, Е. Тяпкина) не могли вспомнить, существовал ли такой спектакль? Так же, как и его участница (!) М. Суханова.
Стоит ли удивляться, что на страницах разных книг, в том числе и серьезных, появились сомнения: а была ли «Русалка» в эфире, или дело остановилось на стадии репетиций?
Г. Лапкина писала: «В 1935 году он (Мейерхольд. – А. Ш.) ставит радиоспектакль „Каменный гость" и почти одновременно работает с З.Н. Райх, М.И. Царевым и О.Н. Абдуловым над „Русалкой"... Работа эта не была доведена до конца, но отрывок из „Русалки" театр показал в день пушкинского юбилея»56.
Неточности исправляет время; человеческая память и вправду не очень надежна, особенно спустя полвека после события. Но мне кажется, что причина такой коллективной забывчивости кроется в самом спектакле.
Режиссерская партитура «Русалки» сохранилась полностью57. Ее, возможно, когда-нибудь опубликуют как приложение к пособию по режиссуре радио. Конечно, трактовка произведения у каждого постановщика своя. Но логика и изящество того, как сюжетные коллизии и пластические формы пушкинской драмы находят свою реализацию в звуке, неповторимы и поучительны именно у Мейерхольда. «Русалка» могла, видимо, стать самой совершенной работой в его радиоцикле.
Задачи актерам прежние – правда и сила эмоций, выверенная экспрессия и музыкальность фразы. Общение с партнером – по законам сценического действия.
Готовясь к репетиции первой встречи дочери мельника с возлюбленным, Мейерхольд отчеркивает строки:
Иль выведать мои ты мысли хочешь, Или со мной пустую шутку шутишь... -и записывает указание исполнителям: «Говорить, заглядывая друг другу в глаза».
Задача режиссера в принципе тоже сформирована уже опытом предыдущих спектаклей у микрофона – поиск стилевого интонационного единства и действенности музыкально-шумовых компонентов.
Можно различить три пласта или, точнее, три этапа звукового освоения литературного первоисточника.
Сначала это выявление ситуаций, где шумовые эффекты способны и должны описать место и время действия, объяснить обстоятельства и жесты, заменяя ремарки. Мейерхольд заранее исключает возможность появления комментатора.
На первой странице текста «Русалки» – размашистая запись: «Эф. звук. № 1 ». Она относится к начальной пушкинской ремарке: «Берег Днепра. Мельница». Последнее слово обведено карандашом и рядом – режиссерская помета: «Звук колеса».
Разговор Наташи с Князем о его предстоящей женитьбе.
Князь
...Не забывай меня; возьми на память Повязку – дай, тебе я сам надену. Еще с собой привез я ожерелье - Возьми его. Да вот еще: отцу Я это посулил. Отдай ему. (Дaem ей в руки мешок с золотом.) Прощай.Мейерхольд – на полях книги: «Звук эф. № 3. Повязка. Ожерелье – позвякивание. Деньги...»
Так проработаны все без исключения пояснительные тексты автора «Русалки». При этом шумовой ряд выстраивается не как формальный пересказ отдельных ремарок, а по принципу параллельного сюжета, сопровождающего и оттеняющего психологическую основу словесного действия.
У Пушкина, например, нет обозначения приближающегося к мельнице всадника.
У Мейерхольда реплике Наташи: «Чу! Я слышу топот / Его коня... Он, он!» – предшествует целая звуковая картина, с чрезвычайной тщательностью разработанная. Режиссер отсчитывает (пронумеровывая) пятнадцать строк, предваряющих цитированные слова, и вводит цоканье копыт мчащегося княжеского скакуна. Они звучат как бы в сознании девушки, невольно подчиняя своему ритму ее разговор с отцом о настоящей или мнимой занятости князя.
Тот же прием завершает сцену объяснения Наташи с Князем. Он уехал, бросив с явным облегчением:
Я бури ждал, но дело обошлось Довольно тихо.У Пушкина – ремарка: «Уходит. Она остается неподвижною».
После этого по тексту следует длинный диалог дочери с отцом. Режиссер дает весь разговор на фоне опять-таки топота копыт, который слышит только Наташа (и слушатели, разумеется). И вновь разворачивается целая звуковая панорама. Мейерхольд записывает ее: 1) Пауза, 2) Топтанье коня, 3) Цоканье, 4) Оркестр, 5) Цоканье, после темы скрипки...
Это все громко, потом все тише и тише, сводится на нет и к реплике: «Он растоптал меня своим конем» – завершается трубой, которая будет корреспондироваться с началом третьей картины, «Светлица», где трубят по поводу приезда князя к княгине.
В режиссерской партитуре «Русалки» записано: «Но здесь надо выполнить и вторую задачу: в музыке удаляющегося цоканья коня отобразить еще и горестную неподвижность покинутой Наташи».
Режиссерская находка – «звук в сознании одного только из персонажей» – станет позднее каноническим приемом радиодраматургии. В «Русалке» же он повторится еще несколько раз, с наибольшей силой – в сцене свадьбы. Условность литературного приема – невесть откуда прозвучавшая грустная песня Наташи, слышимая всеми, - умножится на условность режиссерского решения: в течение свадьбы слышны стоны Наташи, ведомы-е одному Князю («...как бы слуховая галлюцинация», – пишет режиссер). Именно этот горестный, слабый крик заставит его нервно требовать от слуги: «Ищи, она, я знаю, здесь» – в самый разгар свадебного веселья.
Эмоциональное воздействие на аудиторию здесь предполагалось столь сильным, что Мейерхольд перед ремаркой: «Все встают. Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем и ведут в спальню» – делает помету: «Слуховая передышка. Потом „Хмелевой обряд“».
Вторая ступень постановочного освоения пушкинского текста -поиск и выявление контрапунктирующих интонационно-смысло-вых акцентов в музыке и поведении персонажей.
Хмелевой обряд – зажигательный, радостно-величавый. В этот музыкальный фрагмент режиссер вплетает вдруг неожиданный плач княгини. Нет, для Мейерхольда как раз нет никакого «вдруг»: «...плач княгини как бы зародился из стонов Наташи».
Подобным способом Мейерхольд усиливает психологическую глубину каждого образа, помогая исполнителям на протяжении всей радиопередачи.
Третий, завершающий этап предварительной работы над конструкцией спектакля – обеспечение непрерывности действия, отработка переходов от одной драматургической ситуации к другой без разрыва эмоциональных связей; иначе говоря, выявление единой интонации, внутри которой возможны любые смысловые и сюжетные переключения. Для этого режиссер заказывает композитору кроме музыки, необходимой по сюжету, цикл intermezzo, обозначая их как цепь из нескольких «мелодрам», возникающих «внутри сцен»; но главное их назначение – продолжить действие «между картинами» пушкинской пьесы.
Свой заказ Мейерхольд формулирует с предельной конкретностью, записав его в режиссерской партитуре.
«На реплику „Прощай, кума“« (конец второй картины – „Свадьба". – А. Ш.) – удаляющееся цоканье. Здесь оно переходит в intermezzo № 2. Содержание этого intermezzo извлечь из состояния княгини, которой кажется, что трубят. Intermezzo мятущееся, минорное, с постоянным возникновением трубных стонов, срывающихся как бы во сне. Те трубные звуки, которые не есть трубные, а те, которые только кажутся трубными...
Intermezzo № 4 – на тему „листья, поблекнув, вдруг свернулись и с шумом посыпались как пепел на меня“[13]. Это intermezzo в силу его короткости должно возникнуть как эхо intermezzo № 3 (предваряющего начало картины „Днепр. Ночь“ и хор русалок), но в него должна быть внесена некая конкретность – именно это шорох падающих листьев („с шумом“)».
Интонационное сплетение слова и музыки должно стать неразрывным к финалу. Здесь Мейерхольд один-единственный раз отступает от канонического текста «Русалки». Он отказывается от монолога «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила...» ради фрагмента из первоначального наброска этой пьесы:
Как счастлив я, когда могу покинуть Докучный шум столицы и двора И убежать в пустынные дубравы, На берега сих молчаливых вод. О, скоро ли она со дна речного Подымется как рыбка золотая?..Эта исповедь князя представляется постановщику более логичным завершением сюжета. Эмоциональная характеристика финала дана в следующей записи:
«Музыка напряженно подкрадывается к скачку в финал, к скачку, трамплином для которого является последняя строка монолога:
И в этот миг я рад оставить жизнь».Так и заканчивался спектакль, вызвавший разноречивые толки, обернувшиеся со временем вежливым молчанием. Гениальный замысел оказался выполненным лишь в части режиссерско-постановочной. Актеры с ним не справились. И прежде всего – исполнительница главной роли. Была ли в этом ее вина, или обстоятельства помешали актрисе проявить дарование? Мне кажется, обе точки зрения в определенной степени правомерны. И тут мы вынуждены коснуться деликатной сферы творческих взаимоотношений участников передачи – вынуждены, ибо нет другого пути познания истинной ценности этого произведения, которое вполне могло войти в «золотой фонд» советской радиоклассики.
Дочь мельника Наташа, Русалка, – Зинаида Райх.
К. Рудницкий писал о ней: «Она была уже давней спутницей Мастера – и в жизни, и на сцене. За ее плечами – за ее красивыми, округлыми и покатыми плечами! – остались и Аксюша в „Лесе“, и Стефка в „Бубусе“, и Варвара в „Мандате“, и Анна Андреевна в „Ревизоре“, и Стелла в „Великодушном рогоносце“, и Софья в „Горе от ума“, и Вера в „Командарме-2“, и Фосфорическая женщина в „Бане“, и Пелагея – Кармен в „Последнем решительном“, и Гончарова в „Списке благодеяний“. Короче говоря, Райх уверенно занимала в ГОСТИМе положение первой актрисы театра, и с каждым годом ее сценические создания становились все сильнее, все интереснее»58.
Однако и современники, и историки театра не единожды писали о том, что бесспорные успехи Райх вызывали ревность ее коллег. Ко времени начала работы над «Русалкой » отношения в труппе театра были крайне напряженными. Мейерхольд очень болезненно относился к возможным творческим неудачам Зинаиды Николаевны и тем более к разговорам на эту тему. А с «Русалкой » у нее не складывалось.
Если внимательно перечитать список ролей, упоминаемых К. Рудницким, легко заметить, что пушкинская Наташа, прямо скажем, наверняка окажется на периферии творческих устремлений актрисы. На сцене Райх вряд ли претендовала бы на эту роль. Дело не в соответствии или несоответствии внешних данных, хотя и это фактор немаловажный. По природе художественного темперамента актриса была далека от образа наивной деревенской девушки, тихой и безропотной в любви:
Позволишь – буду плакать: не позволишь - Ни слезкой я тебе не досажу.Несколько аффектированная манера речи, естественная, может быть, в роли испанской дворянки, здесь оказалась напыщенной. Трагедия не получалась, да и не могла получиться – не зря же в режиссерской экспликации появилось слово «мелодрама». Это ведь не совсем по Пушкину, которому режиссер в принципе стремился быть верным. Это, скорее, приспособление для Райх. И приспособление вынужденное, вызванное пониманием реального несовпадения роли и исполнительницы. Процесс освоения литературного текста правильнее было бы назвать в этом случае процессом его преодоления.
Нельзя не принимать во внимание и еще одно чисто творческое обстоятельство: на актрису давила неудача с чтением Пушкина у микрофона. 9 февраля 1936 года Мейерхольд выдал в эфир очередной свой «эскиз» к пушкинскому радиоспектаклю: Райх читала «Медного всадника» без музыкального сопровождения, просто «для проверки себя в интонационных возможностях пушкинской речи». На фоне триумфального успеха «Каменного гостя» неудача прошла малозаметно, но болезненно ощущалась режиссером и актрисой. Еще накануне премьеры «Медного всадника» Мейерхольд отменил все уже назначенные повторы передачи. А в концертном варианте «Каменного гостя» появилась вторая актриса на роль Лауры.
На репетициях «Русалки» Райх нервничала, ее волнение передавалось режиссеру и партнерам. Мейерхольд начинает менять исполнителей: вместо М. Сухановой («голоса совпадают») на роль княгини назначается А. Хераскова; через два дня производится обратная рокировка. Режиссерский блокнот на прогонах будущей передачи в радиостудии заполнен указаниями в адрес Райх. Мейерхольд еле удерживается на границе корректности. Ничего подобного не было на репетициях «Каменного гостя» – там даже самые резкие замечания не разрушали общую радостную атмосферу творчества, да и было их к генеральной куда меньше.
На одну из репетиций приходит Николай Александрович Басилов, режиссер и композитор, недавно ушедший из ГОСТИМа с должности помощника режиссера. У него была привычка записывать свои художественные впечатления – десятки обыкновенных ученических тетрадей, заполненных бисерным почерком, хранятся теперь в архиве, представляя уникальный документ эпохи – эволюцию «общепринятых» эстетических пристрастий и антипатий театральной общественности за несколько десятилетий. Вернувшись с Телеграфа, Басилов пишет о «замечательности постановочного решения» Мейерхольда, прекрасной игре Абдулова, Царева, Самойлова и о полной несостоятельности Райх. И тут же следует приписка: «Может быть, я слишком раздражен в ее отношении?» Эта приписка многое объясняет.
В этой атмосфере играется «Русалка» у микрофона. Настроение нередко становится определяющим фактором в таком тонком деле, как актерское ремесло. На премьере З.Н. Райх выступает гораздо ниже и своих возможностей, и режиссерского замысла.
Пока передача идет в эфире, Мейерхольд в аппаратной возбужденно записывает замечания исполнителям. Больше всего он не удовлетворен Зинаидой Николаевной.
Если бы запись на магнитную ленту была уже в ходу! Если бы можно было записать фрагмент, дать послушать актрисе, уточнить интонацию и ритм, скорректировать монолог, фразу, слово и снова записать. А потом выбрать наилучший вариант. Но ничего этого еще нет. А есть необходимость сыграть спектакль в радиостудии от начала и до конца, как в театре, без остановок, без возможности «спрятаться» за реакцию публики или за партнера. И черная коробка микрофона опять представляется глубоким колодцем, в котором исчезают неведомо куда улетающие слова...
Актриса старалась, очень старалась, может быть, даже слишком. Газета «Радиопрограммы» 29 апреля 1937 года написала:
«Из исполнителей следует отметить прекрасное чтение Абдулова – Мельника и отличную передачу роли дочери Мельника – Русалки Зинаиды Райх. Впрочем, в последнем монологе Русалки („С той поры как бросилась..“) звучит некоторый избыток декламации, за счет чувства».
29 апреля, через пять дней после премьеры, Мейерхольд читает эту заметку М. Возлинского и звонит в редакцию литературно-драматического вещания по поводу повтора «Русалки» в эфире. Репетиции организуются дома, главным образом с Райх. Второй спектакль идет гораздо лучше, и возникают планы сыграть «Русалку» еще несколько раз в будущем сезоне и, возможно, записать ее на тонфильм или даже на магнитную пленку. Но к осени определился переход М.И. Царева в другой театр, и совсем иные проблемы озаботили ГОСТИМ и его руководителя.
Радиопериод в творчестве В.Э. Мейерхольда короток. Но именно ему удалось сформировать важные принципы радиорежиссуры, главный среди которых – умение обозначить ведущую и единую интонацию радиоспектакля. Стремясь выявить в речи и музыкальном сопровождении акценты, точки возможного пересечения, при совмещении которых возникает единая мелодия, Мейерхольд вывел закономерности организации эмоциональной среды радиопредставления. Особая роль в создании этой среды придается совпадению или противопоставлению ритмических основ литературного текста, речи исполнителя и музыки. Мейерхольд был первым режиссером радио, утвердившим на практике мысль, что именно ритм – наиболее выразительная составляющая голосовой характеристики персонажа и, следовательно, его индивидуальности.
Сегодня это уже не открытие. Сегодня выпущено множество книг и статей, где подробнейшим образом «эмоциональный тип» человека классифицируется суммой ритмических признаков его речи: «короткой волной» говорят легко возбудимые индивидуумы, по характеру резкие и эксцентричные; «длинная волна» свойственна людям медлительным, любящим уют и удобства, и т. д. Мейерхольд не написал ученых трудов на эту тему, но в практике своего ремесла опередил науку на несколько десятилетий.
Впрочем, почему науку? Примерно через десять лет после выхода в эфир радиоспектаклей Мейерхольда звукозапись станет основой технологии творческого процесса на радио. «Театр у микрофона» получит такое великолепное средство, как монтаж, и опытные звукооператоры научатся «собирать» на пленке целые фразы, соединяя и отсекая даже не слова, а звуки, вздохи и междометия. Найдутся неразумные люди, которые захотят весь опыт так называемого «живого» радио сдать в архив за ненадобностью. Наивные это будут люди. Пройдет немного времени, и станет очевидно, что основные методы и приемы монтажа предварительной звукозаписи передачи повторяют, по сути своей, методы и приемы монтажа, компоновки радиопредставления в условиях «живого» вещания. Только теперь все происходит в аппаратной, а раньше – прямо в студии, в момент передачи.
«Радиоопусы» Мейерхольда не просто помогли сформировать принципы режиссерского и актерского творчества у микрофона, но и обозначили три этапа работы режиссера с актером в процессе создания «звукового образа»: отбор по природным данным (тембр, определение необходимого интонационного диапазона), затем нахождение речевой характерности персонажа и, наконец, определение ритма, соответствующего общей интонационной стилистике спектакля. Успех и неудачи Мейерхольда в радиостудии в равной мере служат доказательством того, что поиск убедительной и, еще раз подчеркнем, единой эмоциональной тональности радиопредставления – это поиск соответствия избранной формы и стиля повествования существу жизненного материала, положенного в основу спектакля.
Уроки Мейерхольда в этом смысле имели огромное влияние на развитие советского радиоискусства. Работы этого режиссера у микрофона пришлись как раз на ту пору, когда молодая муза радио активно искала собственное лицо, иногда – копируя старших сестер, чаще, как и бывает в юности, – претендуя на полную автономию и исключительность своего предназначения.
Примечания
1 Валери П. Об искусстве. М., 1976. С. 152-153.
2 Ильинский И.В. Со зрителем наедине. М., 1964. С. 115.
3 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 7, д.39, л.12.
4 Там же, л. 47-48.
5 Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. М., 1978. С. 285-286.
6 Радиогазета. 1924, 12 дек. (ЦГАОР СССР, ф. 391, оп. 6, д. 27, л. 68).
7 Гладков А.К. Театр. М., 1980. С. 269.
8 Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958. С. 71.
9 Нов. зритель. 1927, № 42. С. 5.
10 Новости радио. 1927, 23 окт. С. 4
11 Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. М., 1978. С. 286.
12 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 360.
13 «Ревизор» в театре Мейерхольда. Л., 1927. С. 20, 25.
14 Рудницкий К. Указ. соч. С. 432-433.
15 Мейерхольд В.Э. Переписка. М., 1976. С. 316.
16 Дорменко А. Театр в эфире // Говорит СССР. 1935, № 8. С. 8.
17 Говорит СССР. 1934, № 1. С. 3.
18 Лядов М. Мои встречи с Лениным // Молодая гвардия. 1924, № 2/3. С. 50.
19 Юзовский Ю. Зачем люди ходят в театр. М., 1964. С. 42.
20 Говорит СССР. 1935, № 5. С. 10.
21 Там же. № 7. С. 12.
22 Юзовский Ю. О драме и театре в 2 т., т. 1. М., 1982. С. 24.
23 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. С. 465.
24 Говорит СССР. 1935, № 7. С. 12.
25 Там же.
26 Мейерхольд В.Э. Соч. В 2 т., т. 2. М., 1968. С. 156.
27 Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. С. 342.
28 Февральский А.В. Записки ровесника века. М., 1976. С. 257.
29 Мейерхольд В.Э. Соч. Т. 2. С. 67.
31 Лит. Ленинград. 1935, 1 ноября.
32 Мейерхольд В.Э. Соч. Т. 2. С. 428-429.
33 Февральский А.В. Московские встречи. М., 1982. С. 126.
34 Рудницкий К. «Режиссер Мейерхольд». М., 1969. С. 196.
35 Мейерхольд В.Э. Соч. Т. 2. С. 420, 424.
36 Там же. С. 432.
37 Гладков А.К. Театр. С. 167.
38 Мейерхольд В.Э. Соч. Т. 2. С. 420-421.
39 Там же. С. 421.
40 Громов В.А. Замысел постановки. – В кн.: Творческое наследие Мейерхольда. С. 360.
41 ЦГАЛИ СССР, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 883.
42 Комсомольская правда. 1935, 18 апр.
43 Говорит СССР. 1935, № 7. С. 12.
44 Иоффе Р.М. Слушая – видеть! // Советское радио и телевидение, 1962, № 7. С. 21.
45 Юрьев Ю.М. Записки в 2 т., т. 2. Л.-М., 1963. С. 188.
46 Рутковская Б. «Каменный гость» Пушкина // Говорит СССР. 1935, № 11/12. С. 38.
47 «Любовь к трем апельсинам. Журн. Д-ра Дапертутто», Пг., 1915, № 1-3. С. 115-118.
48 Немирович-Данченко В.И. Театральное наследие в 2 т., т. 1-2. М., 1952-1954, т. 2. С. 327.
49 Станиславский К.С. Соч. Т. 1. С. 369-370.
50 Устюжанин Д.Л. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. М., 1974. С. 27.
51 Мейерхольд В.Э. Соч. Т. 2. С. 432.
52 Мейерхольд В.Э. Чехов и натурализм на сцене // В мире искусств, 1907, № 11/12. С. 24.
53 Рутковская Б. Указ. соч. С. 34.
54 Февральский А.В. Указ. соч. С. 124.
55 ЦГАЛИ СССР, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 882, л. 10.
56 Лапкина Г. На афише – Пушкин. М.-Л., 1965. С. 94.
57 ЦГАЛИ СССР, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 329.
58 Рудницкий К. У Мейерхольда. – В кн.: Михаил Царев. М., 1983. С. 207.
Глава 17 Игорь Ильинский
К середине двадцатых годов Игорь Ильинский был уже «звездой» – ив театре, и в кинематографе. И это, несмотря на «острую охоту к перемене мест».
Дебютировав как профессионал в 1918 году в Театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской, он в поисках своего собственного художественного лица обошел едва ли не все существовавшие тогда в Москве сцены – от оперетты и театра миниатюр «Летучая мышь» до подмостков, где шли драмы Шекспира или оперы Моцарта.
Нашел, кажется, «себя самого» у Мейерхольда, однако продолжал совмещать напряженную работу в ГОСТИМе с участием в спектаклях Первой студии МХАТ; днем в Детском театре играл медведя Балу в киплинговском «Маугли», а вечером в Драматическом театре, руководимом В.Г. Сахновским, удивлял характером трагикомическим в роли Тихона из «Грозы» Островского. Разумеется, в свои свободные дни от спектаклей и репетиций у Мейерхольда. Отсюда Ильинский тоже уходил – и возвращался, и снова уходил, и снова возвращался, ибо Мастер был для него не просто театральным волшебником, гениальным импровизатором, замечательным, хотя и не всегда последовательным, педагогом. Но мыслителем, «трепетно ощущавшим и впитывавшим все ценное, все талантливо необычное, что окружало его»1 – в жизни, литературе искусстве.
Мейерхольд, в свою очередь, понимал «мильон терзаний» актера по поводу складывающейся, особенно в кино, репутации.
Появившись на экране в «Аэлите» (1924 год), Ильинский мгновенно завоевывает колоссальную популярность в «Закройщике из Торжка», а затем в «Процессе о трех миллионах», в «Папироснице из Моссельпрома». Да что говорить – в 1926 году в нашу страну приезжали «суперпримы» мирового кино – Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс, решено было снять фильм с их участием, и требовался актер, который по своей известности соответствовал бы заморским знаменитостям. Никаких сомнений, кто станет этим третьим партнером в ленте «Поцелуй Мэри Пикфорд», не было: сразу и безоговорочно назвали Ильинского.
Вс. Мейерхольд, выступая на творческом вечере И. Ильинского 26 января 1933 года, так говорил о нем:
– Игорь Ильинский дает здоровый смех. Когда с ним беседуешь, он отзывается здоровым смехом на какие-нибудь и не смешные рассказы, но рассказы, верно отображающие жизнь. Он полон тем, что кипит в нашей здоровой жизни. Не удивительно, что этот человек не пьет, не курит, что этот человек поглощен интересом к спорту. Но ему «трудно» заниматься спортом, потому что когда Ильинский приходит на каток, то ровно через 15 минут над ним начинают смеяться. И тут уже начинается трагедия актера: актер, который призван давать очень крупные рисунки, отпечатывать очень крупные контуры, давать очень интересные образы, – этот актер ходит с печатью комика. Это недоразумение. Я считаю, что актеру, который поглощен жизнью, который очень здоров, который солнечен, такому актеру, конечно, тесно в рамках того, что называется на языке беспризорников «смешной человек».
Новые фильмы с участием Ильинского не слишком радовали знатоков – очевидны были сюжетные повторы, наработанность приемов, откровенная эксплуатация режиссерами его обаяния. Но любовь и признание широкого зрителя сопутствовали каждой новой роли кино. Как, впрочем, и театра.
О том, что происходило в душе самого Ильинского, он спустя много лет расскажет весьма откровенно:
– Я начал чувствовать потребность быть самостоятельным художником, а не идти на поводу у любимого мною Мейерхольда, который упорно шел своими, не всегда мне понятными и близкими моему сердцу путями; или отдавать себя в руки кинематографических дельцов, с их сомнительным вкусом, и позволять им утилитарно использовать себя как актера узкой специфики, а не художника...
Все данные были для того, чтобы заболеть головокружением от успехов. Но к счастью, хотя и в сочетании с легким головокружением, появились и некоторые признаки неудовлетворенности, а также неясности моего дальнейшего пути. Слава богу, что они появились! Мы все задним умом крепки. Теперь я вижу, что сомнения эти появились почти бессознательно, но они заставили меня поразмыслить о дальнейших моих путях и не почить на, казалось бы, безусловных, но в то же время сомнительных лаврах. Неясное, смутное беспокойство росло и тревожило меня... Я начал ощущать беспокойство и неудовлетворенность своей творческой жизнью, я интуитивно пытался накопить ту внутреннюю силу, которая помогла бы преодолеть надвигающийся кризис... Время у меня было заполнено работой. И все же один кусочек моей души был неудовлетворен. Этой частицей души я хотел бы поделиться с родным зрителем, поделиться моими личными мыслями и чувствами художника, чего в силу разных обстоятельств и в полную силу я не мог сделать ни в театре, ни в кино. К счастью, я нашел отдушину для этой части моей души. Отдушиной этой стало художественное радиочтение2.
Радио транслировало первые концертные программы Игоря Ильинского. Собственно говоря, таких «целых» программ сначала не было. А были отдельные рассказы Чехова, стихи Есенина, сказки Андерсена.
Но любимый автор – Маяковский.
Поэт отвечал взаимностью. Свое «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Владимировичем Маяковским летом на даче. Пушкино, Акулова гора, 27 километров от Москвы» поэт преподнес артисту «с пылу с жару», в тот самый день, когда стихотворение было написано. Они встретились в Доме печати – и Маяковский с шутливой торжественностью передал рукопись, как свидетельствует очевидец, «на растерзание, но с полным доверием».
Через несколько дней Ильинский прочел стихи у микрофона в Студии на Телеграфе.
Вторая любовь артиста тех лет, с которой многократно знакомились радиослушатели, – рассказы Михаила Зощенко.
Справедливо сказать, что Зощенко читали тогда многие артисты. Но автор среди прочих отличал Ильинского: не просто за новизну и свежесть интонаций, но за то, что актер удачно нашел самый тип, от лица которого ведется рассказ.
А потом была «История Карла Ивановича» – глава из повести Льва Толстого – пятнадцать минут на эстраде и в эфире, ознаменовавшие рождение выдающегося трагического актера Игоря Ильинского.
– Теперь мое «я» уже стало знаменем тех моих сокровенных мыслей, обобщений бичующей сатиры или добрых идей, которые мне были близки, которые я выискивал у любимых мною авторов, которыми делился с моими слушателями и для которых находил и прибавлял свое духовное отношение к искусству художественного слова – живым глаголом жечь сердца людей3.
Радио вырабатывало свои технологические принципы, шли яростные споры о «радиогеничности », об особенностях эстетики невидимой эстрады, о специфике восприятия слова звучащего в отличие от слова написанного.
Ильинский говорил не об эстетике, а об этике и об организации дела. В интервью журналу «Говорит СССР» он, в частности, подчеркивал:
«Точно так же, как кинематография должна строиться на собственных кадрах киноактеров, а не на актерах театральных, которые в очень многих случаях не отвечают специфическим условиям кино, так и радиовещание должно опираться на собственные исполнительские кадры. Конечно, это не исключает работы драматических актеров. Но с их стороны требуется серьезное и ответственное отношение к тому, что они делают перед микрофоном».
Корреспондент журнала спросил Ильинского, выполняет ли он сам те требования, которые предъявляет коллегам у микрофона? Актер ответил: «Должен сознаться, что еще нет».
И это, между прочим, у Ильинского от Мейерхольда – от мейер-хольдовской страсти в поиске совершенства.
Вскоре после смерти Самуила Яковлевича Маршака редакторы радиоальманаха «Поэзия» пригласили Ильинского записать для очередной передачи короткое стихотворение – восемь строк, оставшиеся на рабочем столе недавно ушедшего поэта.
Ильинский читал Маршака несколько десятилетий. Сколько времени нужно ему, чтобы записать каких-нибудь восемь строк?
«Закажите студию максимум на полчаса», – сказал редакционный диспетчер.
«Давайте на всякий случай час», – сказал редактор, который до тех пор с Ильинским не встречался.
«Минимум на два часа», – возразил многоопытный режиссер Алексей Александрович Шипов, который много и успешно работал с Ильинским в радиостудии.
На этот раз даже Шипов ошибся. Короткую лирическую эпиграмму Ильинский записывал около трех часов подряд, пока не согласился с вариантом, который мог быть, по его мнению, выпущен в эфир.
На Ильинского у микрофона радиокритики обратили пристальное внимание с дебюта. Секрет успеха они искали в способности художника сострадать бедам и радоваться радостям своих персонажей, в душевном такте, с каким он рассказывал о людях самых непримечательных в жизни; или, напротив, в той оглушительной суровости, с которой артист мгновенной сменой интонаций показывал убогость глубокомысленной пошлости, чинодральства, воинствующего хамства и не менее воинствующего невежества.
Все это хоть и верно, но не основа, а производное.
В основе же – поразительное качество, которое Мейерхольд целеустремленно воспитывал в учениках: делать узнаваемым даже то, с чем мы прежде никогда не встречались. И потому фантасмагория, гротеск воспринимаются слушателем не как нечто отвлеченное, а как бытовая реальность, существующая порой рядом с ним, а иногда – чего греха таить – и в нем самом.
Парадокс – актер принес в студию радио лучшие из уроков учителя, а учитель никак не желал признать это. Мейерхольд, как вспоминал Игорь Владимирович, обвинял его в формальном подходе к тексту читаемых на эстраде и в эфире произведений – «громче, тише, вот и все творчество», а артист как раз в это время так определял свое кредо:
– Я считаю, что многие исполнители обманываются, думая, что у микрофона возможен только интимный разговор. Довольно часто такая ложно понятая интимность превращается в тусклый шепоток или бездействующую простоту. Через микрофон надо говорить с миром во весь голос. А в случае надобности можно передавать миру и свои задушевные мысли. Это не значит, что надо орать или шептать на весь мир: надо избегать любой крайности. Микрофон требует самого трудного от исполнителя – эмоциональной насыщенности и вместе с тем точной техничности.
Мейерхольд ставил знак равенства между технологией актерского выступления на эстраде и у микрофона, а Ильинский мучился над выявлением специфики творчества в условиях радиостудии: он понимал, что сделанные для эстрады вещи не могут исполняться в студии без соответствующей модификации, ибо здесь «гуляют свободными4 и не несут нагрузки ни лицо, ни фигура, ни жесты, ни мимика»5.
Репетируя «Историю Карла Ивановича», ученик однажды обратился к учителю. Ильинскому показалось, что вступление в рассказ толстовского героя у него звучит неточно, неорганично. Он прочел Мастеру фрагмент. Мейерхольд с лету не слишком, может быть, вдумываясь, высказал несколько замечаний, предложил добавочную игру для этого выступления. И впервые Ильинский ощутил ненужность советов Мейерхольда.
Деликатность, с которой актер записал эту историю в мемуарах, вызвала попытку обоснования такого поведения учителя – наверное, чтецкая работа более интимна, чем роли, рождаемые в коллективе спектакля... Но если теперь, спустя десятилетия, отбросить излишнюю дипломатичность, нетрудно увидеть: в те дни, когда Ильинский всерьез и глубоко познавал основы художественной практики чтеца в концерте и у микрофона, Мейерхольд, относившийся к эстраде с определенным скепсисом, распространил это чувство и на радио.
Позднее Игорь Владимирович напишет в книге «Сам о себе»: «Итак, как говорится, не быть бы счастью, да несчастье помогло: некоторая неудовлетворенность и, наконец, отсутствие работы в театре и в кино разбудили, а потом укрепили мой интерес к художественному слову»6.
В 1933 году Игорь Ильинский был назван в числе десяти самых популярных радиоактеров страны.
Примечания
1 Ильинский И. Побеждающий Мейерхольд. – В кн.: Встречи с Мейерхольдом. М., 1967. С. 250.
2 Процитирована запись беседы автора с И.В. Ильинским, Более подробно на эту же тему актер высказывался в книгах «Сам о себе...», «Наедине со зрителем».
3 Ильинский И. Наедине со зрителем. М., 1965.
4 Выделено автором. – А.Ш.
5 Ильинский И. Сам о себе. М., 1961, С. 292.
6 Там же. С. 293.
Глава 18 Таиров и Коонен на радио
Весной 1938 года Таирова и Коонен пригласили в Радиокомитет на Путинки. Тогдашнему руководителю советской радиослужбы Мальцеву поступило указание из высших партийных инстанций «усилить контакты» с выдающимися деятелями театра.
«На чаек с баранками и душевный разговор» Таиров пришел один. Алиса Георгиевна сопроводила его по Тверскому бульвару до памятника Пушкину – тот возвышался на своем старом законном месте – и пошла по другим делам.
Во время «душевного разговора» главный радиочиновник страны поинтересовался здоровьем замечательной актрисы – «гордости социалистический культуры», и, узнав, что здоровье хорошее, вопросов больше задавать не стал.
Но вечером позвонил сам, не через секретаря:
– А мы вас так ждали, дорогая Алиса Георгиевна, поговорить, посоветоваться о том, как получше показать ваш театр миллионам наших слушателей...
В ответ услышал – как рассказывала много позже Алиса Георгиевна автору этих строк – примерно следующее:
– Но ведь для миллионов ваших слушателей меня, кажется, просто не существует.
– Позвольте, – удивился Мальцев, – мы регулярно передаем спектакли Камерного театра.
– Я очень рада за своих товарищей, – закончила разговор Коонен, – но меня лично это, к сожалению, не касается.
Ситуацию, сложившуюся к тому времени на радио вокруг спектаклей Камерного театра, можно назвать парадоксальной, а точнее – трагикомической. Программы передач конца 30-х – начала 40-х годов, сохранившиеся в архивах, подтверждают: спектакли Камерного театра шли в эфир постоянно, но все это были представления, в которых Коонен не была занята.
В своих воспоминаниях Коонен характеризует этот период в жизни Таирова и своей так:
«Таиров в это время сам почти ничего не ставил. В нашем театре прошли „Очная ставка" бр. Тур и Л. Шейнина в постановке М. Жарова, „Честь" Г. Мдивани в постановке В. Ганшина, „Генконсул" бр. Тур и Л. Шейнина в постановке В. Королёва. Н. Охлопков поставил „Кочубея" В. Первенцева и „Мечту" М. Водопьянова.
Я играла свой репертуар и работала над сценическим вариантом романа „Мадам Бовари". Для меня это было прекрасной отдушиной, Таирову было труднее»1 .
Теперь перелистаем «эфирные папки» рубрики «Театр у микрофона»: «Очная ставка», «Генконсул», «Мечта» – разоблачение вредителей, подвиги очередного «майора Пронина – Штирлица», героические деяния летчиков, описанные то ли самим героем-по-лярником, обнаружившим неожиданно литературный талант, то ли (что вернее) записанные неким «литобработчиком».
Неизбежность такого репертуара исторически очевидна, и кто посмеет бросить камень в сторону замечательного театра. Но ведь самим художникам от этого было не легче.
Спектакли 20-х годов, в том числе и составившие славу тогда только начинавшегося «Театра у микрофона» – «Любовь под вязами», «День и ночь», «Святую Анну», «Адриенну Лекуврер» – «на эфир» больше не ставили.
6 декабря 1935 года в Студии на Телеграфе в 11 утра сыграли монтаж «Жирофле-Жирофля». (В 14-й или 15-й раз!)
На следующий день начальника секции театральных передач и трансляций А.А. Дорменко вызвал председатель Радиокомитета П.М. Керженцев – он хозяйничал до Мальцева. В привычной ему изысканно-фарисейской манере Платон Михайлович поблагодарил Дорменко за разнообразие программ и посетовал на недостаток вкуса и особенно политического чутья, выразившийся, в частности, в пропаганде таких бездумных и далеких от патриотических идей спектаклей Камерного театра, как «Жирофле-Жирофля» и «Сирокко».
Оперетта композитора Половинкина, повествующая о том, как в средиземноморском отеле, застигнутые жестоким ветром, томятся от скуки румынская княгиня, колбасный фабрикант из Цюриха, американский банкир и несколько их братьев и сестер по классу, в течение 7 лет после премьеры на сцене в январе 1928 года вообще-то почиталась за образец именно для радио. В ней, как замечает критик, «лобовые политические выпады дисгармонировали с тонкой иронией по отношению к буржуазной культуре и буржуазному обществу»2.
Дорменко пытается объяснить весьма просвещенному марксисту Керженцеву, что именно в этот спектакль внесены продиктованные требованием времени политические комментарии, напоминает о положительной рецензии в «Правде»3 и вообще о том, что на каждый «повтор» в эфире приходит множество писем слушателей, в том числе и от «рабочих коллективов», – была действительно такая мода на коллективные послания.
Керженцев, глядя оловянными глазами сквозь круглые очки в металлической оправе, бросает одну только фразу – о том, что он не намерен выносить дискуссию в текст приказа по Радиокомитету, но готов к оргвыводам, если Дорменко и его секция...
Во всей этой истории для меня самым важным кажется даже не обвинение в политической близорукости редакторов радио, а упоминание о «непатриотичности» репертуара Камерного театра. Еще почти год до премьеры оперы-фарса «Богатыри» на музыку А.П. Бородина и слова Демьяна Бедного, вызвавшей специальное решение ВКП(б) и соответствующие публикации в прессе по поводу «неверного толкования русской истории», еще более десяти лет до «борьбы с космополитизмом», а Платон Михайлович уже зрит и бдит. Кто-кто, а он ни на секунду не забывал, что великий вождь всех времен и народов в 1929 году лично охарактеризовал Камерный театр как «действительно буржуазный»4.
В отличие от Немировича, от Мейерхольда, от вахтанговцев, Таиров никогда не был «своим» – даже на самое короткое время.
Его эстетическая платформа – «есть две правды – правда жизни и правда искусства. Конечно, местами они соприкасаются между собой, но большей частью бывает так, что правда жизни оказывается ложью в искусстве и, наоборот, правда искусства звучит ложью в жизни»5 – никак не согласовывалась с уже декретированными принципами социалистического реализма.
Его методологические требования к актеру – «сценическая эмоция должна брать свои соки не из подлинной жизни... а из сотворенной жизни того сценического образа, который из волшебной страны фантазии вызывает актер к его творческому бытию»6 – плохо вписывались в рамки утверждающейся «системы» работы актера над собой и над ролью.
А еще больше срабатывало традиционное и естественное недоверие к «спецу» – человеку интеллигентному и творческому, то есть к человеку, который в соответствии с собственной природой был плохо управляем, а следовательно, подозрителен. Конечно, он принимал контрмеры – в той форме, в какой считал это для себя возможным.
К концу 30-х годов волею обстоятельств, а не только благодаря своему творчеству он становился все более одинокой вершиной отечественного театра. Умер Станиславский, закрыт МХАТ-2, погибли Мейерхольд и его театр. Сам Камерный театр с трудом перебрался через художественную пропасть, которая возникла в результате его полуторагодового слияния с Реалистическим театром. К счастью, Таиров сумел организовать театральную практику без особого ущерба и для своего коллектива, и для незваных, но и не виновных гостей7.
В официальную «табель о рангах» советской социалистической культуры народный артист республики Александр Яковлевич Таиров внесен в числе первых. Он заседает во всех полагающихся президиумах и комиссиях, выступает со всеми полагающимися докладами, статьями и откликами на события.
Мне кажется, что он принимает решение сродни тому, которое принял Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он решил огородить свое творчество, способность к художественному самовыражению, частоколом формальных и ничего для него не значащих подписей под всевозможными публикациями «по актуальным политическим вопросам» – и в сфере искусства, и по любым другим жизненным поводам. Гениальный композитор жертвовал своей личной репутацией ради репутации своей музыки, в расчете на то, что до слушателей-потомков вся эта бытовая шелуха вообще не дойдет, а слушатели-современники поймут и не осудят.
Таиров, думается, принял для себя такое же решение, но вот опираться он мог на разум и доброжелательность лишь своих современников, театральный спектакль в веках не живет. Поэтому Таиров не мог, как Шостакович, ограничиваться только публичными заявлениями в прессе по всяким ненужным поводам. Он был вынужден доказывать свою лояльность включением в репертуар пьес, к которым не испытывал ни малейшего интереса.
Интересно совмещение во времени – гонения на Шостаковича, открытые знаменитой статьей «Сумбур вместо музыки», и попытка разгрома Камерного театра в связи с постановкой «Богатырей» -по датам почти совпадают; а еще любопытнее их совпадение с начавшейся по личному распоряжению Гитлера в фашистской Германии кампанией «против формализма, бездуховности и безыдейности в искусстве».
К концу 30-х годов внешние обстоятельства творческой работы Таирова, повторяю, были достаточно комфортабельны. Почетное звание, престижные гастроли. Но вот любопытный факт, свидетельствующий о том, как относились к нему власть имущие на самом деле.
В конце 1938 года проходит реконструкция постоянно действующих трансляционных пунктов, через которые в эфир идут спектакли, концерты, лекции. В Камерном театре нужная аппаратура была установлена еще в 1925 году, когда вся система радиотрансляций из театров и концертных залов только-только начинала отрабатываться и технологически, и эстетически. В 1930 году здание Камерного на Тверском бульваре перестраивали, и для радио это дало повод обновить технические возможности. В тридцать восьмом инженеры и редакторы Радиокомитета, составляя список транспунктов в различных аудиториях столицы, никоим образом не сомневались, что уж Камерный театр в этом списке должен быть упомянут в числе первых. Так и сделали.
Предварительный список ушел на утверждение в «инстанции» и вернулся с некоторыми изменениями, на основании которых и был выпущен «Приказ № 319 по ВРК при СНК СССР „Об организации новых трансляционных пунктов" от 25 августа 1938 года». Камерный театр в списки художественных коллективов, которым предоставлялась возможность более или менее постоянно передавать в эфир свои спектакли, не значится8.
В очередной раз сработала формула Н.К. Крупской, декретированная Наркомпросом еще в 1926 году: «Часто то, что может быть допущено к исполнению в других местах, должно быть запрещено к передаче по радио»5.
Ну не нужен был широким трудящимся массам Таиров с его художественными изысками, по крайней мере, по мнению партийных руководителей искусства.
А запись на пленку тогда была редкостью, предоставлявшейся в исключительных случаях тому или иному художественному коллективу – за особые заслуги или по особому расположению Сталина. Потому-то мы и не имеем не только полной записи, но даже отдельных фрагментов ни «Адриенны Лекуврер», ни «Оперы нищих», ни «Негра», ни даже «Патетической сонаты». А небольшие фрагменты из «Федры», «Без вины виноватых», «Антония и Клеопатры», хранящиеся сегодня в «золотом фонде» радио, на самом деле записаны были уже в 50 – 60-е годы – после закрытия театра и смерти их создателя. От «прежнего времени» сохранились только фрагменты «Оптимистической трагедии» и «Чайка».
* * *
В первый раз отрывки из нового спектакля Камерного театра «Оптимистическая трагедия» по пьесе Всеволода Вишневского передавались в эфир Станцией им. Коминтерна 25 декабря 1933 года – через шесть дней после премьеры.
Премьеру ждали, по Москве ходили слухи, радовавшие самые разные слои общества. Радио – против обыкновения, таировские премьеры оно обычно не рецензировало – рассказывало о репетициях, об авторе и постановщике, интервьюировало Михаила Жарова и Сергея Цейца – Алексея и Вожака. Театральная публика «предвкушала общение с Коонен – в совершенно неожиданной, „чисто мужской" роли».
Чиновники из «инстанций » потирали руки «в ожидании » «сугубо революционного» действа, демонстрирующего отказ Таирова от «чистого искусства». (Приведенные здесь определения взяты из прессы.)
Позицию последних наиболее полно выразил известный литературный палач Осаф Литовский, служивший в должности руководителя Главреперткома. Он лично изволил представлять два фрагмента из спектакля, опубликовав свой радиотекст на следующий день в газете «Советское искусство»:
«Освобождаясь от эстетической мишуры и формалистических изысков, Камерный театр обретает свой, одному ему присущий сценический язык, свой стиль, который является результатом критического освоения, с точки зрения современно чувствующего и мыслящего коллектива, всего лучшего, что накопил театр за время своего существования. „Оптимистическая трагедия" – яркое тому доказательство».
Через шестьдесят лет после премьеры «Оптимистической трагедии», с высоты наших знаний о том, куда завели победившие оптимисты свой многострадальный полк, – можно, наверное, все разделить на «черное и белое».
Уродливая идея – и чистота художественных помыслов.
Пошлость пропагандистских лозунгов – и подлинность актерского вдохновения.
Позорный отказ от личностного самовыражения – и эстетическая одухотворенность спектакля...
И так далее и тому подобное.
Но все дело в том, что и исторически, и художественно в этом спектакле Таиров и его актеры поднялись до высот такой гармонии, которую невозможно разъять алгеброй скептицизма. Каким бы профессионализмом он ни обладал.
«Человечеству брошена жалкая подачка – Мое! Моя гармонь, мои портянки, моя жена, моя вобла!
Вот не будет собственности... Значит, все будет чудно... Будет, опять будет... Слушай, ведь в нас старое сидит. Сами только и ищем, где бы чего разжиться, приволочь, отхватить. И во сне держимся за свое барахло!..
Этакая маленькая штучка – „мое“. На этой вот штучке не споткнуться бы».
Как оценить сегодня этот короткий монолог матроса Алексея, ищущего свою правду в нашей общей жизни?
Как предвиденье, как философское пророчество о неизбежности нынешних практицизма и общественного безразличия, когда воплем в пустыне оказывается даже крик женщины, насилуемой бандитом на лестничной площадке большого дома?
Или как наивность, доходящую до глупости, старую, как мир, – ибо что есть наивнее жалоб на несовершенство человеческой природы?
А может быть, все-таки как веру в могущество человеческого разума, человеческих эмоций, которые пусть не всегда, но достаточно часто позволяют людям удержаться на грани, отделяющей их от стада?
Вишневский и Таиров поставили спектакль о так называемых «вечных» проблемах бытия. А с этой точки зрения конкретные сюжетные коллизии оказываются не более чем литературным их оформлением.
«Вера в правду произносимого» (Станиславский) определяла и обуславливала работу актера, вызывая соответствующие реакции в зрительном зале. Хорошо это или плохо – применительно к идее и сюжету этих конкретных пьесы и спектакля – судить каждому по-своему. Но было так, и это данность, с которой каждый историк театра обязан считаться.
Для нашей же темы важно отметить, что режиссер ставил именно трагедию, где «весь тонус действия находится на грани максимального кипения. В пьесе нет покоя, нет обыденного состояния людей; здесь бушуют и плавятся человеческие страсти, страсти отдельных людей и масс, брошенных в водоворот...»10.
И вот передать средствами радио эту вздыбленность чувств огромного количества людей, перенести через эфир в воображение слушателей этот вихрь, выраженный на сцене яркими пластическими приемами, – эта задача выходила из категории чисто технологических, приобретая общеэстетическое значение.
Опыт, уже имевшийся у радио, – не радовал.
Сомнения в возможности и даже целесообразности трансляции в эфир драматических спектаклей высказывались с самых первых проб подобного рода. Достаточно сослаться на форму объявления в газете «Новости радио» в 1926 году:
«Утром 10-го апреля будет передаваться комедия Гоголя „Ревизор". Кстати, нужно отметить, что вопрос о передаче драматических произведений по радио среди слушателей встретил самое противоречивое отношение. Мы считаем, что вопрос о передаче драмы по радио требует еще дополнительного обсуждения его радиослушателями, и ждем от них дополнительных материалов»11.
Обсуждение «Ревизора», сыгранного в студии, и нескольких следующих премьер «Театра у микрофона» проходило в разносном стиле. Итог дискуссии на этом этапе газета подвела в статье за подписью Театрал: «Если вопрос о передаче опер благодаря музыке решается в положительном смысле, то вопрос о трансляции пьес из театров почти наверняка следует бросить – нестоящее это дело!»12
Черту под первыми театральными экспериментами радио подвел А.В. Луначарский, выступив на московской конференции Общества друзей радио против передач пьес по радио13.
Мало кому известно, что этот категорический отзыв впрямую связан с Камерным театром.
В то время сразу несколько попыток транслировать театральный спектакль со сцены или из студии прошли, мягко говоря, не слишком успешно. Но руководство акционерного общества «Радиопередача» (тогда вещание еще не было государственным) справедливо считало, что пора экспериментов неизбежно чревата провалами и не надо их бояться. Оно заботилось прежде всего о том, чтобы спектакли, отбираемые для передачи по радио, с одной стороны -представляли бы художественную ценность, а с другой – соответствовали бы пропагандистским задачам, сформулированным в Агитпропе ЦК партии, где уже начинали с определенным подозрением присматриваться к новому искусству. В руководство «Радиопередачи» входили достаточно культурные и образованные люди, были среди них друзья и почитатели Камерного театра. И потому, когда в его репертуаре появилась «Косматая обезьяна» по пьесе Юджина О’Нила, тут же последовало предложение Таирову включить его в программу радио.
Очень уж подходил этот спектакль по всем критериям: по теме -стихийный бунт кочегара, гибнущего в джунглях огромного города; по идеологии – яростное обличение буржуазного мира, «бичующий живописный анализ капитализма... пьеса говорит о колоссальной потенциальной революционности пролетариата» (Луначарский)14 ; по престижности премьеры – «спектакль этот является большой и хорошей победой Камерного театра»15.
Сомневался Таиров. Его смущала сама возможность восприятия этого спектакля «только на слух» – по крайней мере, ключевых сцен. Абсолютный восторг и у публики, и у критиков вызывала сцена в кочегарке, длившаяся 7 минут – огромное время для сценического действия. Вот описание этой сцены у Коонен:
«Люди прикованы к огромной огнедышащей топке, мощными взмахами лопат они бросают уголь в ее разверстое жерло. Потрясал четкий ритм работы, отвечавший музыке оркестра. Красота полуобнаженных мускулистых тел давала ощущение всесильного могущества человеческого труда»16.
Луначарский по этому поводу с восхищением заметил:
«Естественно, что мы в России уже неоднократно видели всякие попытки изобразить не только танцы труда, но и танцы машины. Однако еще никому не удавалось дать такой скульптурный и металлический ритм движений и звуков, какие развернуты Таировым»17.
Редакторы радио настаивали, но Таиров, по его собственному признанию, не представлял себе, как реализовывать этот эпизод спектакля у микрофона. Луначарский, который в принципе был большим сторонником и поклонником рождающегося радиоискусства, вмешался в ситуацию и присовокупил свою просьбу к предложению организаторов. И тогда произошла прелюбопытная история.
Нарком просвещения приехал на очередное представление «Косматой обезьяны» вместе с иностранными гостями. Таиров, усадив гостей на почетные места, попросил их шоферов и охранника сесть за кулисы, но поставил им стулья так, что сцену они не видели. Хотя слышали все превосходно, потому что находились буквально в нескольких метрах от оркестра и актеров.
В антракте Александр Яковлевич попросил их поделиться своими впечатлениями с наркомом. В ответ прозвучало: «Ничего не поняли!»
Таиров вспомнил эту историю в конце 30-х годов, на встрече с работниками Радиокомитета, когда ему задали вопрос о том, почему он в принципе не большой поклонник «Театра у микрофона». Он высказал тогда мысль о том, что по своей природе театральный спектакль может быть «не радиен», и более того – попытка зафиксировать откровенно импровизационное начало, рассчитанное на сиюминутную реакцию зрительного зала «усеченными» средствами радиоискусства неизбежно приводит к распаду художественной ткани театрального действия на отдельные стилистически, интонационно и т. п. несовместимые компоненты, так как внимание зрителя-слушателя перестает быть непрерывным.
В этом разговоре Александр Яковлевич употребил слово «версификация» – по отношению ко многим попыткам «Театра у микрофона»18.
К сожалению, и до этой встречи с работниками радио, и после Таирову приходилось сталкиваться с тем, как режиссеры радио оказывались не в состоянии ни передать сущностное обаяние его театральных решений, ни найти им адекватные звуковые формы. Типична в этом смысле история, произошедшая со спектаклем Камерного театра «Судьба Реджинальда Девиса» по пьесе А. Кожевникова и И. Прута, за адаптацию которой через несколько месяцев после премьеры 3 июня 1947 года взялся многоопытный радиорежиссер B.C. Турбин.
В 1960 году он публично каялся:
«Спектакль был поставлен в присущей А. Таирову манере, с хорошей броскостью, эффектностью. Там было много зрелищных моментов: и американские солдаты в тюремных клетках, и объемная панорама города, там были пляски на улице, были убийства из-за кулис во время плясок и т. д. Когда мы приступили к работе, мне было дано задание „подтянуть, сделать лучше“ и т. д. – те общие указания, которые обычно в таких случаях даются.
Сам Таиров в работе не участвовал – был один из его ассистентов. Ассистента мы быстро оглушили „спецификой радио“, и он „свернулся", не вмешивался в работу. И начал я очень настойчиво, честно, принудительно „омхачивать“ спектакль. Спектакль был яркий, плакатный. Совершенно закономерная форма. Мы стали в эту форму настойчиво привносить совершенно чужеродное, противоположное. Естественно, ничего хорошего из этого не получилось. Почему? Потому, что мы пришли в абсолютное противоречие между планом театрального спектакля и спектаклем на радио. Нужно было искать пути к созданию радиоплаката, также вполне закономерная вещь. Но мы сделали коренную ошибку, и вся работа пошла неправильно. Создалось противоречие между решением театральным и решением спектакля для радио»15.
Первое же соприкосновение театрального спектакля и микрофона подразумевает и требует непосредственного участия автора спектакля в процессе радиоадаптации. Ему прежде всего принадлежит первое слово при выборе формы радиоадаптации и способов комментирования сценического действия, если эти пояснения неизбежны. Таиров это очень хорошо понимал, когда соглашался на создание радиоверсии «Оптимистической трагедии».
К этому времени сложились две формы радиоадаптации: трансляция из зрительного зала и монтаж отдельных сцен, сыгранных непосредственно в студии20. После довольно длительных размышлений Таиров остановился на второй.
Прошло несколько пробных репетиций – выбраны были ключевые сцены Комиссара и Вожака, – и перед режиссером возникла проблема: как совместить «Ведущего от радио» (комментатора, который был необходим) и «Ведущих от театра», реплики которых органично входили в эмоциональный и смысловой контекст спектакля.
Протокольный характер конферанса, заключавшегося в чтении ремарок, пришел бы в неизбежное противоречие с гармонией художественных решений. Попытки в «художественной форме» дополнить действие, помогая созданию зрительных образов пространными комментариями, диссонировали бы со стилем речи персонажей. Таиров идет на замечательный эксперимент: во время одного из повторов радиомонтажа «Оптимистической трагедии» в Студии на Телеграфе он передает часть реплик Ведущих исполнительнице роли Комиссара.
Коонен блестяще демонстрирует способности к «интонационному перевоплощению», никоим образом не меняя при этом привычных ей голосовых характеристик, о которых блистательно написала Татьяна Бачелис:
«Странный, медленно льющийся, то раскаленный как магма, то холодный, как льдинка, то мучительно стенающий на высоких нотах, то угрюмо падающий вниз, угрожающе суровый голос Коонен...»21
«Мужская» твердость реплик Ведущих была в ее речи, видимо, потому, что, работая над ролью Комиссара, она «отказалась от игры „под мужчину", практиковавшейся в те годы на сцене в подобных случаях. Мне, – рассказывала позднее актриса, – хотелось показать свою героиню женственной, лиричной, человечной»22 .
«Оптимистическая трагедия», точнее, фрагменты из нее – в том варианте, о котором идет речь, – прошла в эфире два или три раза, но в памяти великой актрисы осталась надолго. И в тот вечер, когда она в последний раз вышла на сцену, – это было 30 марта 1970 года в Центральном Доме актера, где отмечали ее восьмидесятилетие, – Алиса Коонен закончила свое выступление текстом Ведущих из пьесы Всеволода Вишневского:
«Кто это?
Наши потомки. Наше будущее, о котором, помнишь, мы тосковали. Молчат, пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей...
Жизнь не умирает. Люди умеют смеяться и есть пищу над могилами ближних.
И это прекрасно!»
В зале не аплодировали – плакали. Потом все молча встали.
Запись этого вечера хранится в фондах радиотелевизионной компании «Останкино».
Очень хочется верить, что ее не постигнет судьба многих звукозаписей спектаклей Таирова, сделанных в 30-е и 40-е годы – после успешных экспериментов с «Оптимистической трагедией». Архивные документы позволяют утверждать, что начиная с 1934 года редакции литературного и театрального вещания достаточно регулярно фиксировали большинство новых режиссерских работ Таирова. Сначала на тонфильм, затем с помощью шоринофона, а с 1940 года средствами более современной магнитной записи.
Часто писали «на полку» – без передачи в эфир, для будущего, а может быть, и из страха перед этим будущим, которое может призвать к ответу. Но факт остается фактом: к концу 40-х годов в фондах радио числилось около 12 спектаклей в постановке Таирова.
Об этом же свидетельствует и Коонен в своих мемуарах: «В Камерном театре, естественно, я участвовала в записи спектаклей, и, таким образом, мои роли были записаны, но, к большому моему горю, все записи Камерного театра исчезли бесследно вместе с последним закрытием его занавеса»23.
Во второй половине 50-х годов Коонен дебютировала в оригинальном радиоспектакле о жизни и творчестве Шарля Гуно. Спектакль имел широкий резонанс, великолепные отзывы в прессе -возникало опущение, что газеты хотя бы таким образом решили принести извинения великой актрисе за многолетнее умолчание. Коонен обрадовалась и договорилась о записи «хотя бы фрагментов, крупиц из спектаклей Камерного театра».
За пять лет, с 1955 по 1961 год, были увековечены отдельные сцены из «Оптимистической трагедии», из «Без вины виноватых», «Египетских ночей», «Федры», «Антония и Клеопатры» и большая композиция спектакля «Мадам Бовари », которая потребовала долгой работы, около трех месяцев24.
Потом она читала у микрофона стихи и прозу25. Но силы и жизнь были уже на исходе...
На рубеже 80-х годов «золотой фонд» Радиокомитета в очередной раз «чистили» – по личному указанию тогдашнего председателя С.Г. Лапина. О нем говорили как о большом любителе поэзии и музыки. Акты на списание он визировал лично. В число «ненужных» и «устаревших», то есть подлежащих уничтожению, попали и некоторые записи Алисы Георгиевны Коонен, в частности та самая передача о Шарле Гуно и еще несколько программ, сделанных актрисой с профессором Консерватории Константином Христофоровичем Аджемовым, пригласившим опальную актрису в радиостудию. Рука любителя поэзии и музыки не дрогнула.
Но «Чайка» осталась. Полностью!
И кстати, не в одиночестве. Есть записи еще двух послевоенных таировских спектаклей – «Ветер с юга» Эльмара Грина и «Жизнь в цитадели» А. Якобсона. Но это пьесы-однодневки, в первой Коонен вообще не играла, во второй у нее была роль эпизодического плана; ни по сюжету, ни по своим художественным достоинствам эти работы не привлекают. Я уверен, что и хранились они многие годы лишь благодаря политическим пристрастиям консервативного руководства радио.
Совсем иное дело «Чайка». 47 лет пролежала она в фонотеке Дома звукозаписи – и слава Богу, что пролежала там, а то, глядишь, и стерли бы, как «не соответствующую очередным актуальным требованиям».
Но «рукописи не горят». Этот закон действителен во всех видах и направлениях творческой деятельности.
Весной 1993 года редактор Елена Фугарова извлекла старую пленку из фонотеки и отдала на реставрацию, а потом «на эфир».
* * *
«От „Чайки“ остается впечатление музыки. Только вместе с голосом Коонен могло так звучать анданте кантабиле Чайковского, что без этого анданте уже трудно представить монолог о мировой душе. Нет, в Камерном что-то заставляет задуматься. У этого театра есть свое лицо и нет „академической" рутины...»26
Это зрительское впечатление, записанное в дневник юной зрительницей вскоре после премьеры на сцене. Спустя почти 50 лет -после премьеры таировской «Чайки» в эфире – 7 мая 1993 года той же рукой записано:
«Первое (и конечное) впечатление. Коонен играет очень просто. Никакой экзотики, надрыва, излома, изыска, экзальтации – ничего этого нет. Легенда о пряном эстетизме Камерного театра в „Чайке“ не находит подтверждения. В роли Нины Заречной ошеломляющая простота и ясность мысли – от начала и до конца роли, от первой реплики („Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...“) и до последней, на полуслове обрывающей повтор монолога о мировой душе. Найдено самое простое решение трудному финальному монологу, почти неизбежно влекущему других актрис к декламации или мелодраме. „Хорошо было прежде, Костя! Помните?“ Прежде была теплая, радостная, чистая жизнь, были чувства, „похожие на нежные, изящные цветы“. Теперь словами о львах, рогатых оленях и журавлях, которые уже не просыпаются с криком, Нина прощается с тем временем – прощается нежно, ласково, любовно»27.
Эти слова принадлежат Наталье Крымовой, одному из самых трепетных и чутких наших театральных критиков. И ведь что поразительно – прошло столько лет, а впечатление одно и то же: ощущение музыкальной гармонии.
Впрочем, ведь и сама Коонен, характеризуя эту свою работу, говорила о ней музыкальными терминами и свои монологи обозначала как «основную мелодию» в музыкальном произведении.
Рискованное это было предприятие. К началу репетиций «Чайки» Алисе Георгиевне шел 55-й год. Ее партнер Виктор Ганшин -Треплев был почти ровесником.
А режиссер демонстративно отказывался от декораций, грима, костюмов. То есть от всего, что могло бы «прикрыть» возраст исполнителей.
...Невысокая площадка, ограниченная сукнами, несколько кресел, рояль, небольшой стол и в финале чучело чайки, словно парящей в луче прожектора. Один-два раза за задником возникает нечто похожее на абрис озера. Вот и вся сценография.
«Почему мы играем „Чайку“ без грима и костюмов, без общепринятой обстановки, оформления, декораций и т. д.? – говорил Таиров на обсуждении спектакля во Всероссийском театральном обществе 25 сентября 1944 года. – Для оригинальности? Мы так играем спектакль потому, что нам хотелось поставить лицом к лицу Чехова и зрителя...
...Нам не хотелось обманывать зрителя гримом, костюмом, пейзажем, определенной бытовой обстановкой. Нам хотелось от этого уйти и попробовать воздействовать на зрителя непосредственной передачей чеховских идей, чеховского разговора с самим собой, чеховской поэзии...»28
Оставим на совести Болеслава Ростоцкого высказанную им однажды мысль, что превращение театральной сцены в концертную, «открытый ход» как раз и понадобились Таирову, чтобы из-под грима восемнадцатилетней Нины Заречной не полезли старческие морщины... У каждого своя любовь и свое доверие театру.
Точно так же вряд ли стоит внимания утверждение того же критика, что сам прием «концертного исполнения» обусловлен формальным стремлением оперативно отметить чеховский юбилей (40 лет со дня смерти) – на скорую руку, меньше чем за месяц срепетированным представлением.
Таиров мечтал о «Чайке» долго и трудно. В 1934 году, выступая по радио, в беседе с Павлом Александровичем Марковым, он, отвечая на вопрос, какой русский писатель и какое произведение ему кажутся наиболее привлекательными, перечислил несколько названий, среди которых была эта чеховская пьеса. И добавил, что давно ищет решение спектакля, не желая впадать в грех, в котором Треплев обвиняет театр: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки...»
Что касается Коонен, то она знала роль Нины Заречной с ученических лет в Художественном театре, репетировала ее перед возобновлением спектакля с Немировичем-Данченко и некоторое время даже шутливо именовалась в кругу «художественников» Ниной Заречной с Патриарших прудов. Так что ни о каком «одноразовом» юбилейном представлении – наподобие мейерхольдовского концертного варианта «Каменного гостя» – и речи нет.
Гораздо сложнее – вопрос о сопоставлении или противопоставлении спектаклей Камерного театра и МХАТа.
Несколько раз Таиров очень деликатно и в очень мягкой форме говорил, что у него не было желания полемизировать, хотя бы потому, что он сам знаменитой мхатовской «Чайки » не видел (ибо легендарное представление «художественников» при всем искусствоведческом буме вокруг него на публике шло очень немного -всего 63 раза почти за два десятилетия).
Однако, если обратиться к композиции таировского спектакля, несложно заметить, что режиссер, конечно, спорил с постановкой Станиславского.
Тот вычеркнул из текста пьесы, кажется, всего несколько слов. Самые важные из них – слова Нины Заречной: «Я – чайка... Не то. Я – актриса».
Таиров из 56 страниц текста Чехова выбросил 16. Но именно эти слова он оставил. Он вообще старался уйти от бытовой истории к символам лирическим и оптимистическим: «Мне хотелось сосредоточить внимание театра и зрителей на основной проблеме – это проблема любви».
Но мне кажется, что здесь он сам несколько упростил и сузил свою художественную задачу. Я слушаю «Чайку», и меня не оставляет мысль о том, что в этом спектакле Таиров и Коонен выразили метафорически свою подлинную оценку окружающей их жизни, словами Чехова вслух сказали то, что многие даже и про себя боялись говорить в это время.
Как Шостакович своей музыкой.
Внешне Александр Яковлевич Таиров и его театр во время постановки и триумфального успеха «Чайки» были, как теперь говорят, «в полном порядке».
В 1944 году его избирают вице-президентом театральной секции ВОКСа – без согласования с высоким начальством это было невозможно.
28 января 1945 года его награждают орденом Ленина.
Послевоенные премьеры – хороших пьес немного, но восторгами захлебываются даже такие сверхофициальные критики, как В. Ермилов.
Несмотря на негативное упоминание Камерного театра в постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» осенью 1946 года, его положение остается достаточно прочным. Например, Совинформбюро именно Таирову заказывает обзорную статью «Театр сегодня», которая предназначена для публикации в крупнейших советских и зарубежных изданиях.
Летом 1947 года его награждают орденом Трудового Красного Знамени.
Погром начался только осенью того же года статьей «Буржуазный театр в тупике» в газете «Культура и жизнь». Но к этому времени прошло три года после премьеры «Чайки». А что ощутили авторы спектакля в дни репетиций?
Мне трудно согласиться с Натальей Анатольевной Крымовой, что знаменитый монолог «Люди, львы, орлы...» в исполнении Коонен – только читка, хотя и извлекающая музыку из смысла. Не претендую на истину. Позволяю высказать лишь домысел, ощущение, тревожащее меня лично с того момента, когда в маленькой радиомонтажной Дома звукозаписи лет 30 назад я в первый раз услышал этот монолог. Он представляется мне не декадентским символистским экзерсисом, а трагически реальным описанием жизни страны, погруженной во мрак ужасов войны, бесправия и нивелировки личности. И, если хотите, гневным протестом против страха, который владел людьми. Иногда мне кажется, что бесконечные комментарии режиссера и актрисы по поводу лирического и поэтического содержания пьесы – отражение того же страха, желание быть понятыми лишь истинными единомышленниками, говоря современным языком – «защита от дураков ».
Трагический этот спектакль – не просто потому, что главную роль играет великая трагическая актриса, но потому, что в нем выражено трагическое понимание времени, в котором этот спектакль создавался, бессилие художника, которого всеми возможными средствами – от кнута до пряника – стараются загнать в общий строй, лишить свободы интеллектуального и душевного движения.
Из воспоминаний Алисы Георгиевны Коонен: «„Умей нести свой крест и веруй!“ Эти слова затрагивали в моей душе глубоко личное, самое сокровенное... Я произносила их и за Нину Заречную, и за самое себя. Терпение и вера – это путь каждого честного художника»29.
А ведь это написано актрисой, внешние обстоятельства творческой судьбы которой иначе как счастливыми не назовешь.
* * *
Впервые несколько фрагментов из спектакля (минут на 12-15, не более) прошли в эфир в конце 1944 – начале 1945 года в цикле передач, посвященных юбилею Камерного театра и награждению большой группы его работников орденами и медалями. (Эти Указы были опубликованы в «Правде» в конце января.) На радио, как тогда и полагалось, о награждении знали заранее и сделали несколько программ по этому случаю. «Чайка» и «Без вины виноватые» были по времени самыми новыми спектаклями Камерного театра, и надо полагать, что радио не могло обойти их своим вниманием. Но это версия.
Более достоверно можно говорить о включении фрагментов спектакля – примерно того же хронометража – в радиообозрение «По театрам и концертным залам столицы», которое в этот период было постоянным, строго регулярным на I программе Всесоюзного радио и пользовалось огромной популярностью у публики, а также всяческим одобрением у начальства. В эфирных папках, хранящихся в архиве, есть упоминания о премьере и указание на передачу в эфир звукозаписей, сделанных в помещении Камерного театра.
Вообще, судя по всему, было сделано две записи. Одна – непосредственно на спектакле, затем она использовалась в оперативных передачах об искусстве, в частности была включена в радиокомпозицию «Москва – мировой центр театральной культуры», впервые выпущенную в эфир 31 августа 1947 года и затем многократно повторенную.
Вторая – в Студии на Телеграфе, без публики (шум зала, покашливание зрителей – перед началом и аплодисменты – в конце позднее «приклеили» с помощью опытной монтажницы). Качественно эта запись была много выше, чем «по трансляции». Ее и положили в фонд с индексом «Д» – вечное хранение.
Когда она впервые прошла в эфир?
Газета «Радиопрограммы» начала выходить после войны только с осени 1946 года, и в ней никаких упоминаний о часовой передаче таировской «Чайки» нет. Но в архиве сохранились редакционные планы и отчеты за 1946 год, в которых «Радиокомпозиция по спектаклю „Чайка“ Камерного театра, хр. 1 час» упоминается как реализованная, то есть прошедшая в эфир.
Конечно, с конца 1947 года эта пленка попала в «полулегальные». Гонения на Камерный театр совпали со временем генеральной канонизации МХАТа. Оценки критиков: «Именно Камерный театр открыл „Чайку“, первый и единственный сумел найти ее верное звучание» („Советское искусство“, 1945, 28 сентября) сменились на утверждение, что „Чайка“ Таирова есть дискредитация Чехова и МХАТа»30.
Звукозапись окончательно убрали на самую «дальнюю полку». Теперь она возвращается, являя нам души замечательных мастеров театра и апеллируя к нашим собственным душам.
«Сила поэта заключается в том, – говорил Таиров по поводу „Чайки“, – что она берет человека из зрительного зала, настоящего, хорошего человека, и возбуждает в нем художника»31. Есть ли более точная формулировка самой сути радиоискусства?
Примечания
1 Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 373.
2 Режиссерское искусство Таирова. М., 1987. С. 55.
3 П.А. Марков писал в «Правде» по поводу «Сирокко»: «Весь внутренний смысл комедии лежит в ироническом освещении буржуа и бюргеров, на один момент напуганных призраком большевизма. Таиров очистил оперетку от дурных штампов и подарил зрителю возможность задорного смеха». – Правда, 1928, 2 февраля.
4 Театральная энциклопедия в 6 т. Т. 2. М., 1963. С. 1099.
5 Таиров А.Я. Записки режиссера. Статьи, беседы, речи, письма. М., 1970. С. 82.
6 Там же.
7 А. Коонен пишет по этому поводу в своих воспоминаниях: «Наш и Реалистический театры прожили вместе примерно года полтора. Конечно, никакого внутреннего слияния не произошло и не могло произойти. Просто в здании Камерного театра работали две труппы, работали абсолютно по-разному, каждая в своей манере». – Указ. соч. С. 373.
8 Архив Гостелерадио СССР. On. 1 л/с., д. 81, л. 27– 27 об. – Подлинник.
9 ЦГА РСФСР. Ф. 2306, оп. 69, д. 571, л. 49 об.
10 Таиров А.Я. «Оптимистическая трагедия». Доклад труппе Камерного театра 5 декабря 1932 г. – В кн.: Таиров А.Я. Записки режиссера. С. 332.
11 Новости радио. 1925, № 15. С. 5.
12 Новости радио. 1926, № 47. С. 6.
13 Радиослушатель. 1928, № 14. С. 1.
14 Луначарский А.В. Косматая обезьяна // Камерный театр. М., 1934. С. 38-40.
15 Садко. Косматая обезьяна // Известия. 1926. 26 янв.
16 Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 313.
17 Луначарский А.В. Указ. соч. С. 38.
18 По рассказу Ю.К. Арди, присутствовавшего на встрече с А.Я. Таировым в Радиокомитете 20 (?) апреля 1939 года, на следующий день после доклада Таирова о работе Камерного театра во Всесоюзном комитете по делам искусств при Совнаркоме СССР.
19 О работе режиссера на радио. Стенограмма творческого совещания режиссеров Всесоюзного радио, февраль 1958 г. М., 1958. С. 14, 15.
20 Я бы хотел сразу развеять достаточно распространенные заблуждения, что монтаж как способ организации материала получил распространение на радио только с внедрением магнитофонной записи. Как техническое средство – да, но как художественное он существовал с первых лет художественного вещания, только монтировали «вживую»: эпизоды, а иногда и отдельные реплики, «разнесенные» в спектакле по времени и месту, шли рядышком – через паузу, а иногда и специально «наезжая» друг на друга.
21 Бачелис Т. Коонен и Таиров. – Режиссерское искусство Таирова. М., 1987. С. 80.
22 Медведев Б. Рождение «Оптимистической трагедии» // Театр. 1957, № 9. С. 79.
23 Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 441.
24 В этой записи, помимо партнеров Коонен по спектаклю в Камерном театре, участвовали и новые исполнители: Борис Петкер из МХАТа, Евгений Весник из Театра сатиры и др.
25 В 60-е годы Коонен записала на пленку «Блоковскую программу» из 19 стихотворений, рассказ Гаршина «Attalea Princeps», две короткие главы из «Гранатового браслета» Куприна, фрагмент романа Эмиля Золя «Нана», 13 стихотворений в прозе И. Тургенева, стихи Пабло Неруды и Аршалуйса Маргаряна.
26 Крымова Н. Анданте кантабиле // Московский наблюдатель. 1993, № 11-12. С. 34.
27 Там же. С. 35.
28 Таиров А.Я. Записки режиссера. М., 1970. С. 397.
29 Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 413, 414.
30 Во все каталоги звукозаписи – общего типа и квартальные (к юбилейным датам А.П. Чехова) обычно включаются записи радиокомпозиций «Чайки» в постановках МХАТа конца 60-х (Б. Ливанов, с участием А. Степановой, О. Стриженова, С. Коркошко – Д-83701) или начала 80-х годов (О. Ефремов, с участием Т. Лавровой, А. Вертинской и др. – Д-86640). По разделу ДОКов очень редко, но включаются записи фрагментов из пьесы «Чайка» в исполнении артистов МХАТа, принимавших участие в первой постановке «Чайки» или в попытках ее возобновления. Записи эти сделаны в 30-е годы, когда артисты «переросли» первую мхатовскую «Чайку» примерно на 40 лет, и поэтому ни малейшего реального отношения к знаменитой премьере не имеют. Думаю, что сейчас – после чистки радиофонда в 70-е годы и многолетних безобразий в ЦГАЗе, эти записи не сохранились. При всех обстоятельствах они вряд ли имеют какую-то художественную ценность, и составители каталогов звукозаписей в 70 – 80-е годы справедливо их не рекламируют. Другое дело – звукозапись таировского спектакля, хотя она и сохранилась случайно, чему теперь мы можем только радоваться.
31 Таиров А.Я. Записки режиссера. М., 1970. С. 401.
Глава 19 О. Н. Абдулов
«Литературные чтения» 20 – 30-х годов совсем не обязательно, как это представляют ныне некоторые исследователи, – «сериал». Но первые опыты «многосерийного» транспонирования прозы принадлежат исследуемому периоду. Каждая передача – как ступенька лестницы: они ведут все выше, к развязке.
А если читается хрестоматийно известная вещь?
Актер, исполнитель – вот кто властен «приковать» слушателя к приемнику. Вот почему, на наш взгляд, просматривается прямая связь между успехом «постановочного чтения» и приглашением в спектакль известного мастера слова. Образцы этого жанра в эфире существовали не сами по себе, а в конкретном сочетании с актерским именем: «Война и мир» и В.И. Качалов, «Герой нашего времени» и Б.Н. Ливанов, «Старосветские помещики» и И.В. Ильинский, пушкинские «Цыгане» и Л. М. Леонидов, «Кому на Руси жить хорошо» и Д. Н. Орлов...
К середине тридцатых годов работа над адаптацией литературных произведений стала занимать основное место в практике литературно-художественного вещания. Сформировалось несколько актерских трупп – каждая со своим лидером, со своими художественными пристрастиями и антипатиями. В конце концов они были узаконены соответствующими приказами и распоряжениями начальства. Общее художественное руководство после увольнения с должности
А.А. Тарковского возложили на Г.Л. Рошаля, временно ушедшего из кинематографа, а различные «художественные бригады», как в официальных документах именовались вышеозначенные актерские труппы, с правом относительной «репертуарной» автономии и с полным правом выбора художественного стиля и манеры исполнения возглавили (в разное время) И.А. Залесский, В.П. Марков, Н.О. Волконский. Но самой значительной и по уровню актеров, и по художественным результатам, конечно, оказалась «радиотруппа Абдулова».
У микрофона блистали талантом и обаянием великие артисты и режиссеры – экспериментаторы и традиционалисты, но никому не удалось совершить то, что совершил Абдулов. Если Мейерхольд и Качалов, Певцов и Леонидов, Рубен Симонов и Юрий Юрьев вложили каждый свой кирпич в фундамент искусства радио, то Абдулов на этом фундаменте создал «школу».
Радиобиография его уникальна. «Театральная энциклопедия» включает в послужной список О.Н. Абдулова более 200 режиссерских работ у микрофона. Число радиоролей не подсчитано, и, наверное, сделать это не удастся. 2 января 1924 года Абдулов дебютировал в первой пробной передаче Станции имени Коминтерна. 14 июня 1953 года – в день его ухода из жизни – по Всесоюзному радио звучала его очередная работа. Последняя вышла в эфир уже после похорон Абдулова.
Творческие принципы и методология литературного радиотеатра им были не просто осмыслены, но утверждались ежедневно и ежечасно в практике вещания. Именно Абдулову удалось образовать в системе радио некий постоянно действующий художественный организм, основой которого было не штатное расписание, а единство нравственных и эстетических идеалов. Общность критериев и пристрастий в искусстве была непременным условием для всякого актера, режиссера, писателя, композитора, приглашенного в состав «Абдуловского театра».
Здесь играли «Дон Кихота» и гоголевскую «Шинель», «Каштанку» Чехова и «Мексиканца» Джека Лондона, «Школу» Гайдара и «Кондуит» Кассиля; здесь инсценировали главы из «Золотого теленка». Спектакль за спектаклем Абдулов осуществлял силами почти одной и той же группы артистов.
Абдулов в принципе считал, что параллельно с привлечением к микрофону мастеров театра следует создавать кадры, обладающие специальными навыками работы на радио. Но черпать их надо в среде драматических артистов, которые не должны прекращать выступления перед публикой, так как театр обогащает актера непосредственной реакцией живой аудитории. «В этом, – писал Абдулов в 1935 году, – убеждает меня мой личный опыт 12-летней работы на радио без отрыва от театра»1. Разнообразие материала требовало от исполнителей виртуозной голосовой изобретательности, которую позднее актеры назвали «голосовым гримом». Ядро своей группы Абдулов составил преимущественно из артистов острохарактерных, для которых поиск речевой выразительности дело и любимое, и привычное.
Пожалуй, наиболее четко эту особенность «школы Абдулова» описывает его ученик и соратник Ростислав Плятт:
«Суть в том, что „читать“ можно по покойнику, прочитать или „зачитать“ можно протокол собрания или сводку погоды, но любой рассказ, стихи, даже публицистику можно (и нужно) рассказать, даже сыграть, смотря по тому, что в данном случае требуется. Я не знаю, существуют ли другие точки зрения на данный вопрос, но, к сожалению, существует плохое исполнение по радио прозы и стихов, и все это происходит потому, что читают, а не рассказывают. Определяется это не только качеством твоей работы над материалом, мерой глубины или художественности исполняемой вещи. Иной раз – спешкой при выборе вещи или ошибочностью выбора. Но всякий раз, когда я бываю недоволен своим исполнением в ходе передачи или морщусь, слушая свою запись по радио, я думаю одно и то же: изменил своему принципу – просто читал»2.
Конечно, работа над ролью начиналась в «Абдуловском театре» с анализа текста, с разбора характера персонажей, но параллельно обязательно шел поиск звукового решения. «Голосовой грим» никогда не был самоцелью. Осип Наумович, сам владеющий им в совершенстве, требовал от партнеров чувства меры. Звуковая выразительность должна была сделать невидимое – зримым, помочь слушателю представить лицо так объемно, чтобы воображение само дорисовало внешний облик персонажа.
Абдулов считал, что атмосфера спектакля в эфире находится в прямой зависимости от атмосферы репетиции в студии, что неведомыми путями, в нарушение всех законов физики, доброжелательность и теплота личных взаимоотношений непременно прозвучат в эфире, равно как и брюзжание и недовольство друг другом тоже непременно «пролезут» через микрофон в усилители. Очевидцы рассказывают:
У одного очень хорошего актера не получалась песенка, которую по ходу пьесы именно ему надо было запевать. Спел один раз -очень фальшиво. Абдулов из тонмейстерской кричит в микрофон:
– Ничего! Почти получается! Сделаем дубль!
Актер поет второй раз – опять фальшивит. Но Абдулов, не теряет терпения, просит еще и еще раз, причем окружающим строго запрещает говорить актеру, что тот фальшивит, чтобы не травмировать его, так как уверен – он сможет спеть верно.
На первый взгляд это вопрос этики, а не технологии режиссуры, но только на первый взгляд. Умение снять напряжение, которое владеет актером, пока материал не стал частью его самого, спокойствие, вызванное верой в исполнителя, – грани профессионального мастерства. Сам Абдулов и говорил, и писал об этом неоднократно.
В.И. Немировичу-Данченко принадлежит формула современной режиссуры:
«Режиссер существо трехликое:
1. Режиссер – толкователь, он же показывающий, как играть, так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом;
2. Режиссер – зеркало, отражающее индивидуальные качества актера, и
3. Режиссер – организатор всего спектакля»3.
Но применительно к искусству радио режиссеру вменяется в обязанность еще одна функция – он (как в кинематографе) диспетчер, контролер выразительных средств, используемых актером. Искусство радио (как в кино), в отличие от театра, – искусство фиксированное. В кинематографе талант актера проявляется, в конце концов, в той мере, в какой позволяет ему монтаж. На радио талант актера проявляется в той мере, в какой это позволяет профильтрованная режиссером, в соответствии с общим замыслом, звуковая характеристика образа.
Отсюда и специфика дарования режиссера радио: абсолютный слух, причем, как его называют физиологи, слух аналитический, т. е. способность не просто запоминать голоса и шумы, но анализировать их и собирать в новые сочетания, создавая единую тональность из нескольких составляющих. Выбор тона разговора со слушателем и выражает индивидуальность режиссера радио.
Несколько иным путем пошли автор Арсений Тарковский и режиссер Осип Абдулов в спектакле «Повесть о сфагнуме». Если Гаузнер, Гарин и Волконский искали соответствие документального звукового материала и текста рассказчика, то авторы «Повести...», напротив, стремились создать стилистический и интонационный контрапункт документа и эстетического обрамления.
Мы остановимся на этом произведении подробнее, ибо в нем, на наш взгляд, впервые аккумулированы художественные принципы, которые позднее стали главными в документальной драматургии, получив развитие в творчестве многих авторов4.
«Повесть о сфагнуме» – это повесть о торфе, о том, как он был открыт, как начались торфяные разработки. Автор старается в возможно более популярной форме рассказать о том, что торф – это ценнейшее топливо, которое позволяет сберечь лес от вырубки, о том, как необходим торф стране, которая сейчас напоминает гигантскую стройку.
В произведении Тарковского много стихотворных отрывков, рефренов, интонационных столкновений; короткие, рваные фразы перемежаются с повествовательными фрагментами и игровыми эпизодами. Отсюда – внутренняя динамика, которую усиливает продуманное введение музыки. В комментариях к тексту «Повести...» режиссер помечает: «Должно быть занято 4 мужских и 2 женских голоса. Весь текст подан отдельными кадрами, с переменами темпа и ритма»5.
«Повесть...» насыщена отрывками из статистических отчетов, выступлений, докладов, русских народных песен.
В режиссерской экспликации О. Абдулов пишет: «Стихотворное вступление ведут два актера. По нашему мнению, кусок строится на разговоре двух советских научных работников-энтузиастов. Говоря о торфе, они несколько по-различному подходят к нему: один поэтизирует его, другой, наоборот, призывает к реальной действительности...
Нельзя рубить лес на дрова, когда кругом столько болот.
Но еще рубят лес, еще расточается богатство... Редеют под топорами леса.
Весь кусок строится лирически, перемежаясь реальными цифровыми данными»6.
Последняя фраза – ключ к художественному решению «Повести...». Столкновение лирики и «сухого факта». Этот принцип соблюдается автором и режиссером во всех без исключения эпизодах – будь то экономико-географическое описание страны, карта которой «меняется по воле пятилетки», или рассказ об осушении болот машинами, или сцена в научной лаборатории, где рабфаковка узнает о различных применениях торфа, или просто историческая справка о добыче торфа в России.
«...B начале XVII века император Петр I принимал в своих покоях голландца Эразма Армуса.
– Что сие?
– Сие есть торф. В топях блат гниет особого рода мох, именуемый: сфагнум. Там обращается он, высушен бысть, в сие вещество. Торф – есть топливо отменно, и неведомо, сколь сильно будет оно по времени.
– А на Руси мужики пели:
(Возникает мелодия старинной песни)
Ох ты, горе великое, Тоска-печаль несносная. Куда бежать, тоску девать... В леса бежать – топоры стучат. Топоры стучат, рубят сосенки. А и будет сосенка – перекладинкой На той виселице, что на площади.Был государев рескрипт: „Нет из россов никого, кто бы смысл о торфе имел. Посему голландцу Эразму Армусу на десять лет привилегии нами даются, дабы Торфяное дело было и воссияла слава наша. Петр“.
И пошли мужики на болото. В чистом поле трава растет, Трава растет шелковая. На болоте горе растет, Горе растет, беда растет, Тонут ноги мои в сырой воде. С восхода до самой полночи. А на спину мою ложится туман, Да на спину накинуть нечего.– В 1793 году англичанин Медокс открыл разработку торфа у деревни Ивахиной, под городом Гжатском...
...Тонут ноги мои в сырой воде...– В 1836 году мануфактур-советник Кожевенников начал торфяную разработку на Свибловском болоте, близ Петровско-Разу-мовского, под Москвой.
...А на спину мою ложится туман.– В 1869 году открыты торфяные разработки Никольской морозовской мануфактуры у Орехово-Зуева.
...Да накинуть на спину нечего...В той части прежней России, которая теперь составляет РСФСР, в 1916 году было добыто 1 360 ООО тонн торфа, и только в Московской области – 983 ООО тонн, – почти исключительно ручным способом.
...Эх, ложится туман, сырой туман... ...С восхода до самой полночи...7»Контраст бодро звучащих информационных реплик и стихов, стилизованных под народную песню, был так велик, что уже не требовалось никаких комментариев по поводу того, в каких ужасающих условиях работали русские мужики на болотах более 200 лет. Здесь намечается впервые коллажный метод соединения разнофактурных звуковых материалов, который станет ведущим в художественно-публицистических радиопрограммах четыре десятилетия спустя.
«Повесть о сфагнуме» получила одобрение в прессе, множество слушательских писем засвидетельствовали, что усложненная композиция радиопоэмы и расчет на ассоциативное восприятие не помеха для понимания идеи и художественных достоинств спектакля самой широкой аудиторией. И авторы «Повести...» принялись за новую совместную работу на радио.
А. Тарковский писал о ней в том же 1931 году:
«Материалом мне послужили наблюдения над работой небольшого (полукустарного) стеклозавода Нижегородского края. В интересах цельности композиции мне пришлось перенести основное действие на стеклозавод вблизи Ленинграда: этого потребовало введение в сюжет фигуры Ломоносова как устроителя опытного стеклозавода под Петербургом во второй половине XVIII века. Композиция почти целиком написана пятистопным нерифмованным ямбом: мне казалось, что этот стихотворный размер, одновременно „разговорный" и лирически напряженный, радиогеничен и облегчает создание синтетического радиообраза.
В лице Круглякова я хотел показать нового человека, для которого радостный, творческий труд является смыслом жизни»8.
Степан Кругляков, главный герой документальной радиодрамы «Стекло», – фигура вымышленная, но факты, изложенные в спектакле, как и исторические материалы, характеризующие личность и деятельность Ломоносова, – подлинные.
Кругляков, рабочий-самоучка, трудится на небольшом заводике, соревнующемся с соседней лесопилкой «по линии изобретательства». Благодаря Круглякову завод чуть было не побеждает. «Чуть было» – потому что новое изобретение Степана оказывается на поверку... термосом, сконструированным уже сорок лет назад. У заводского начальства и у страстного изобретателя намечаются солидные неприятности. Но тут происходит неожиданная удача: бутылка, сделанная Кругляковым, оказывается из небьющегося стекла. К нему приезжают ученые из города, требуют расчеты -изобретение Степана имеет мировое промышленное значение. Возникает проект нового стеклозавода-гиганта...
Ломоносов появляется в одной сцене, когда действие переносится на 180 лет назад, в императорскую Академию наук. Великий ученый сталкивается с убожеством коллег, тупостью вельмож и косностью двора царицы, которую он никак не может уговорить построить «стеклянную фабрику». Больше самостоятельных сцен с Ломоносовым нет, но некоторые его реплики и строки его стихов возникают в других эпизодах спектакля.
Премьера «Стекла» в эфире состоялась 3 января 1932 года. А 15 января было устроено ее обсуждение, если можно назвать обсуждением «проработку», устроенную по всем правилам рапповского шельмования[14]. Ее организаторы не решились устроить дискуссию прямо в редакции и в качестве подходящего места выбрали радиостудию завода «Авиаприбор». Предполагалось, очевидно, пригласить рабочих, но приглашения не последовало, и в обсуждении принимали участие одни только критики и работники радио. Проходило оно под девизом: «Стекло – удар по пролетарскому радиоискусству!» Отчет под таким заголовком, но без подписи появился в прессе9.
Ругали автора и за содержание: «Степан Кругляков изобретает свою бутылку вне всякой связи с заводской общественностью; он даже не знает, нужно его изобретение и для кого», и за форму: «В пьесе совершенно нет нужных для разрядки слушателя музыкальных интермедий, антрактов». Последнее высказывание вызвало улыбку у непредубежденных профессионалов радио, ибо уже тогда было ясно, что концентрация напряженного внимания аудитории – едва ли не самое важное условие успеха в радиотеатре. Но главные претензии были предъявлены автору «Стекла» не за Круглякова, а за Ломоносова. Из выступления тов. Тимофеева:
«Вся деятельность Ломоносова может быть нами понята только в свете капиталистического развития в XVIII веке. На постройку своего стеклянного завода Ломоносов получил 9000 десятин земли и 211 „душ“ крепостных... Самая постройка его была связана с производством „мозаичных“ картин... При этом первой картиной, сделанной Ломоносовым, был портрет Петра I. Вместо того чтобы разоблачить буржуазную трактовку Ломоносова как „народного", надклассового гения, „Стекло“ безоговорочно...»10
Может, и не стоило бы так подробно вспоминать вульгаризаторский «разнос» спектакля «Стекло», если бы в ходе его не промелькнула мысль, получившая, к сожалению, потом распространение в редакторской среде. Критикуя эстетические установки Арсения Тарковского, арррфовцы более всего обрушились на художественный прием, обусловивший свободную композицию радиопоэмы.
«Явно спиритическое появление Ломоносова у микрофона – одновременно с разговорами о пятилетке!» – с возмущением писал безымянный автор.
Насчет спиритизма, – кажется, подобных обвинений никто из радиоавторов больше не удостаивался. А вот идея о невозможности или, точнее сказать, о недопустимости монтажа по принципу ассоциации, без словесного перехода от одной сцены к другой и вообще вне хронологической последовательности в развитии сюжета – эта идея «внедрилась» в некоторые чересчур осторожные умы.
«Это будет непонятно слушателю: объясните словами, куда, как и почему перемещается действие». Такие или подобные замечания на определенном этапе истории массового вещания стали весьма распространенными. По сути, они маскировали элементарное недоверие к слушателю, ориентацию на аудиторию духовно безынициативную, эстетически малоразвитую: «Спектакль прекрасен, но он непонятен широкой массе!»
Прошло полвека, а радиоспектакли, поставленные и сыгранные Абдуловым, узнают, понимают и любят новые поколения слушателей, которые и радио услышали впервые уже после смерти мастера.
Примечания
1 Говорит СССР. 1935, № 17. С. 9-10.
2 Плятт Р.Я. О чтении, голосовом ритме и радио. // Советское радио и телевидение. 1967, № 6. С. 27.
3 Немирович-Данченко В.И. Театральное наследие в 2т. Т. 1. С. 256.
4 Текст «Повеет...» сохранился в единственном экземпляре малоизвестного журнального издания «Радиодекада», 1931, № 1 в Российской национальной библиотеке (б. ГБЛ). В том же издании приведены комментарии режиссера спектакля О.Н. Абдулова «Как звучит торф?».
5 «Как звучит торф?» Примечания режиссера Абдулова. // Радиодекада. 1931, № 1. С. 14.
6 Там же.
7 Тарковский Арс. Повесть о сфагнуме.// Радиодекада. 1931, № 1. С. 11-12.
8 Говорит СССР, 1931, № 7. С. 9.
9 Говорит СССР. 1932, № 4. С. 6-7.
10 Там же.
Глава 20 В.А. Сперантова
В разговорах об актерской профессии самая привычная аксиома звучит следующим образом: искусство артиста умирает вместе с ним, а то и раньше – когда уходит из репертуара та или иная любимая роль.
Правда, звуковой кинематограф, а потом и телевидение стремятся со дня своего рождения фиксировать театральную практику; это замечательное дело: фильмы-спектакли и фильмы-концерты, запечатлевшие сценические достижения многих знаменитых актеров.
И те зрители, для которых такие фильмы – напоминание о живом театральном чуде, о смехе и слезах, пролитых в зрительном зале, – эти зрители благодарны телевидению и кино за счастливое воспоминание.
А что же делать тем, у кого подобных воспоминаний нет, для кого старая пленка – первая встреча со знаменитостью прошлых лет? Безусловно, всякая встреча с Качаловым и Москвиным в «На дне», с Зубовым и Пашенной в «Горе от ума», со Щукиным во фрагментах из «Егора Булычева» или Бабочкиным в горьковских «Дачниках» – великое благо. Но суть такого общения -в прикосновении к истории культуры. Живой творческий процесс, к сожалению, с трудом поддается консервации. Старая пленка, как правило, не способна донести сегодня дыхание зала, непосредственность чувств, которые, собственно, и составляют смысл хождения в театр.
Никто тут не виноват: стареет не искусство актера, а стилистика киносъемок. Наверное, поэтому не стоит судить слишком строго двадцатилетнего зрителя, который смотрит статичную, весьма архаичную по монтажу и ракурсам, «чисто театральную» по манере исполнения киноверсию спектакля «На дне», и скучает, и удивляется восторгам бабушки и дедушки, и думает про себя: «Ничего старичье, но все-таки прошлый век...»
Можно надеяться – с высоты сегодняшних умений телевидения, – что мы оставим следующим поколениям достойные экранные версии лучших современных спектаклей, облик нынешних наших мастеров в полном блеске, – но об этом уже будет судить критик в другие времена.
А вот на радио «На дне» и тот же «Егор Булычев» звучат как современные спектакли. Оттого, может быть, что лишенное зримой оболочки театральное представление больше стимулирует наше воображение, активнее побуждает к сотворчеству? А может, просто потому, что образы, запечатленные в звуке, меньше подвержены изменениям моды? Да и голос человеческий стареет гораздо медленнее...
Собираясь писать о Валентине Александровне Сперантовой и ее радиоперсонажах, я решился, в соответствии с духом времени, на микросоциологическое исследование: зашел в одну московскую среднюю школу, известную мне высоким уровнем преподавания русского языка и литературы, для собеседования с самыми обыкновенными шестиклассниками. После положительного ответа на вопрос: слушаете ли вы пластинки – я попросил назвать десять самых запомнившихся им героев старых радиоспектаклей. Среди других были названы:
– Мальчиш-Кибальчиш!
– Тимур!
– Димка и Жиган из гайдаровского «Р.В.С.»!
– Димка-Невидимка!
– Также Том Сойер!
– И еще этот, который в старом цирке негру Пепсу помог и всех жандармов обхитрил...
– Артемка?
– Во-во, Артемка...
А ведь все это герои Сперантовой, появившиеся впервые в эфире несколько десятилетий тому назад.
Их называли сегодняшние школьники, практически лишенные возможности слушать радиоканалы, хранившие мощный поток аудиокультуры, законсервированной в передачах отечественного радиотеатра XX века. В их распоряжении вместо ежедневных премьер «Детского радиотеатра» середины прошлого века были лишь отобранные чуткими педагогами старые пластинки, кассеты и диски, на которых сохранены «остатки» того самого уникального богатства, именовавшегося фондовыми работами «Детского радиотеатра» Всесоюзного радио и фирмы «Мелодия». А еще они слушали, а точнее, уже не слушали, а слышали, по случаю, отдельные программы, «сквозь время» прорвавшиеся в вещательные сетки некоторых, наиболее дальновидных современных радиостанций, да не слишком щедрые к радиотеатру программы коммерческого радио «Эхо Москвы», «Наше радио», «Надежда» и некоторых других станций.
И вот спустя много лет новое поколение юных граждан России вспоминало, скажем прямо, очень далеких от них героев Сперантовой. Но вспоминали – запомнили! Хотя сюжеты большинства спектаклей и обстоятельства, в которых действовали герои Сперантовой, давно были вытеснены из их эмоциональной памяти персонажами наших и западных телебоевиков и отечественными джеймсами бондами.
Учителя рассказали мне, что приучают нынешних школьников не к «революционным сюжетам», а к хорошему русскому языку -в противовес «языку современной детективной макулатуры» и чрезвычайно «кровавой» эстетике американского кинематографа и наших телесериалов.
– И слушают? – спросил я.
Ответ был абсолютно однозначным:
– Слушают с интересом, ибо действие очень выразительное, эмоциональное и легко запоминающееся, а русский язык – безукоризненный.
– Они ведь тоже скучают по хорошей русской речи, – продолжил другой учитель, добавив со вздохом: – Хотя сами говорят уже на русско-английском волапюке.
Итак, весьма современные молодые люди увлекаются, оказывается – в опытных руках хороших педагогов, – не только Джеймсом Бондом и Годзиллой и не героинями Марининой, а радиоперсонажами Валентины Сперантовой.
Она пришла на радио уже знаменитой актрисой, любимицей маленьких и больших зрителей. Госцентюз – так именовался на афише самый главный детский театр нашей страны в начале тридцатых годов. Если перелистать старые «Радиопрограммы» и архивные полки писем, нетрудно убедиться, сколь бурным был ее успех и на незримой сцене радиотеатра. Иногда ее премьеры у микрофона разделяли всего несколько дней. А ведь это была эпоха «живого» вещания, когда звукозапись в художественных передачах практически не использовалась. «Спрос на Сперантову» в студии радио был так велик, что иногда ей даже давали дублера: так как она была очень загружена в театре, то хоть и репетировала порой в новом радиоспектакле, но гарантировать присутствие на передаче не могла; и тогда «Радиопрограммы» сообщали: «Главную роль в радиопьесе Воронковой „Весенний дрозд“ исполняет актриса Л. или Валентина Сперантова».
Очевидцы рассказывают, что даже самые популярные московские травести на такие объявления не слишком обижались – Сперантова была вне конкуренции.
О причинах успеха писали критики и педагоги, психологи и искусствоведы. Но мне кажется, что точнее всего написала сама Сперантова: «...Сложностей у детей не меньше, чем у взрослых, а пожалуй, даже больше. Мне нравится вытаскивать из детских душ такие вещи и показывать их...»
У нее было восемь братьев и сестер и не было отца – шла гражданская война. Мать приносила домой пшенную кашу, сухари... Иногда это была плата за шитье, иногда – нищенское подаяние...
Может быть, там – в горьком голодном детстве – искала знаменитая актриса самые убедительные интонации Дэвида Копперфильда или Вани Солнцева из катаевской повести «Сын полка»? В школе в городе Зарайске, где Валя Сперантова узнавала азы и русского языка, и арифметики, тоже было холодно и голодно, и очень хотелось забыть про то, что обеда нет и не будет и что в рваном пальто «на рыбьем меху» гулять невозможно...
Знаменитая детская писательница А. Я. Бруштейн писала в статье о Сперантовой: «Если в жизни ребенка нет ничего яркого, блестящего – ну, что же, ребенок сам найдет или выдумает это! Маленькая Валя Сперантова, ученица трудовой школы Зарайска, не слыхавшая о детской самодеятельности, организовала в своей школе драматический кружок.
В кружок вошли только девочки, – мальчишек не пустили. А так как все участницы кружка, конечно, не хотели играть мужских ролей, а обязательно рвались изображать неотразимо симпатичных красавиц в роскошных туалетах, то роли мужчин, стариков, старух, уродов и оборванцев пришлось играть самой Сперантовой. Но она готова была на все жертвы, чтобы сохранить свой кружок, в котором она была к тому же худруком, главным режиссером и единственным постановщиком»1.
Первый же спектакль – водевиль «Танцующий кавалер» – произвел в Зарайске фурор.
Что было дальше? Маленького худрука позвали на «большую сцену» – в местный профессиональный театр, – при условии, что не будет пропускать уроки и получать плохие оценки. Роли давали детские, зато паек – взрослый. Успех был так очевиден, что специально для Сперантовой театр ставит «Золушку». На этом спектакле она надевает первое в жизни шелковое платье ( «перешили вечерний туалет из реквизированных у буржуазии»). Театральный парикмахер, завивая локоны в вечер премьеры, спалил ей полголовы. Но она была счастлива и, по ее собственному выражению, «помирала от собственного великолепия, так как казалось, приблизилась к своему идеалу актрисы».
Идеал звали – Вера Холодная.
Кинозвездой, впрочем, Сперантова не стала, хотя и поехала вскоре в столицу. Да и в московскую труппу после окончания Театрального техникума имени Луначарского (нынешняя РАТИ (в прошлом ГИТИС)), взяли с трудом. В академические театры она сама не ходила – «не дотянуться, это я хорошо понимала». В театры рангом пониже – «дальше приемной не пускали ».
Пошла в Первый детский педагогический театр при Наркомпро-се – «тут маленький рост не должен помешать».
– Женщин не принимаем. У нас достаточно травести.
– Нет, вы должны меня послушать!
Она была уверена: если послушают – примут. Рассказ назывался «Я – недомерок».
Помощник режиссера сказал: «Идите домой, если что будет для вас положительного – сообщим письменно».
На следующий день прислали письмо – приняли! – текст роли для дебюта – эпизод в «Томе Сойере».
– Главную роль я обязательно сыграю, – заявила она домашним.
Тома Сойера она сыграла на радио, принеся туда опыт сценических решений и неуемный интерес к специфике нового для нее вида искусства. И здесь ее творческая судьба пересекается с судьбами трех замечательных людей: Розы Иоффе, Осипа Абдулова и Марии Бабановой.
«Слушатель должен увидеть то, что мы ему играем» – суть творческого стиля Розы Иоффе. И потому она довела до абсолюта метод физических действий в радиостудии.
Сперантова с восторгом приняла эту методу потому, что она удивительно подходила к ее пониманию театра и к ее художественному темпераменту: ее героические мальчишки могли быть застенчивыми или задиристыми, элегантными или грубоватыми, но всегда энергичными и жизнелюбивыми.
В одном из театральных спектаклей герой Сперантовой – крестьянский паренек – должен был неожиданно выбежать из избы во двор, где собиралась большая группа людей. И вот, уже сделав первый рывок, уже подавшись вперед, уже чувствуя себя мальчишкой-подпаском, живя его чувствами, актриса испытала непреодолимую потребность молодецки засвистеть, подать голос, да так, чтобы даже облака в небе бросились врассыпную... Актеры, игравшие крестьян, шарахнулись от испуга. А Сперантова сама, должно быть, не ожидала такого эффекта – ведь она никого не хотела пугать. Просто надо было ей засвистеть, заорать, как это надо мальчишкам.
Вот такую раскованность Сперантова приносила с собой и в радиостудию.
«Творческая свобода возможна, лишь когда микрофон перестанет быть неодушевленным инспектором актерской индивидуальности», – этими словами подытожила актриса опыт, накопленный двадцатью пятью годами совместной работы с P.M. Иоффе.
25 декабря 1934 года в радиожурнале «Малыш» прозвучала сорокапятиминутная пьеса Ивенсена «Приключения горошины» в постановке Розы Иоффе и с участием Валентины Сперантовой. С этого дня актриса стала верной помощницей или, точнее сказать, «соучастницей» режиссера в самых интересных ее начинаниях.
Вслед за Р. Иоффе Сперантова считала, что все поиски звуковой выразительности должны быть психологически оправданы.
Есть достаточно распространенная точка зрения – мол, когда речь идет о психологической глубине образа взрослого человека, тут спору нет: надо продемонстрировать и жизненный опыт, и особенности характера персонажа, и среду, в которой он действует; но если герой – ребенок, то какая психология; надо придумать ему забавную, оригинальную манеру речи, а все остальное доделает сюжет. Подобная позиция вызвала в свое время отнюдь не схоластический спор.
Сперантова вмешалась в него: «Самый большой грех для актера, когда характер маленького героя опрощается и обедняется... Чтобы дать образ мальчика или девочки, я никогда не начинаю с того, что воображаю себя этим мальчиком или девочкой. Мне, например, предстоит изобразить большое детское горе, которое, на взгляд взрослого человека, вовсе не так велико. Чтобы понять и передать это горе, я стараюсь представить себе, как бы я чувствовала, если бы у меня, взрослой, случилось бы горе настолько же серьезное по моим взрослым понятиям, насколько серьезно детское горе по понятиям ребенка... Нужно понять и передать сложную психологию маленького героя, а она у него есть, даже если ему только семь лет, и точность правды быстрее придет...» Я цитирую лекцию профессора В. А. Сперантовой, прочитанную выпускникам московских театральных учебных заведений в середине 50-х годов.
Особую убедительность словам актрисы придавали неповторимые интонации двух десятков мальчишек, к тому времени сыгранных Сперантовой с абсолютной психологической достоверностью.
К сожалению – с природой не поспоришь, – эти мальчишки остались жить только в эфире.
«Был такой день, я позвонила в театр и сказала, что роли мальчишек больше играть не буду. Меня даже переспросили: „Ты что, заболела?", а у меня в горле комок, с трудом повторяю: „Не буду никогда играть эти роли“... Самое страшное, по-моему, когда зритель скажет: „А ведь мальчишку-то играет старуха!" Надо уходить вовремя... Для меня это была трагедия. В первый день я себя спрашивала: что же у меня осталось? Казалось, словно самое дорогое потеряла»2.
Выручало радио. Микрофон, обладающий способностью продлевать творческий век артиста, скрывая его возраст и внешний вид (конечно, если это очень хороший артист), помогал Сперантовой в самый, наверное, трудный момент всякой актерской биографии -в период «возрастной» смены амплуа.
На сцене Центрального детского театра, которому всю жизнь Сперантова оставалась верна, появились ее восхитительные «старухи» – Коробочка из «Мертвых душ», злополучная героиня пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». А в эфире по-прежнему молодо и азартно звенела песенка Дика Сенда – пятнадцатилетнего моряка, совсем не состарившегося за тридцать лет заседаний в «Клубе знаменитых капитанов»:
Я знал, для брига моего Назад дороги нет... Хотя и было мне всего, Всего пятнадцать лет!С этими словами появился на звуковых страницах легендарной передачи Дик Сенд Валентины Сперантовой.
Легендарной – не преувеличение. Задуманный вначале как научно-просветительский радиожурнал, «Клуб знаменитых капитанов» очень быстро приобрел популярность скорее как своеобразные уроки нравственности. И не столько географии учили на этих уроках, сколько мужеству, истинному чувству товарищества, благородству.
«Капитанов» играли многие замечательные артисты. По разным причинам исполнители большинства ролей за несколько десятилетий сменились. Менялись и персонажи – появлялись новые члены «Клуба». Но в каждом выпуске непременным участником был пятнадцатилетний капитан в исполнении Сперантовой. Справедливо заметить – именно ее герой явился эмоциональным камертоном всего цикла, – хотя бы в силу того обстоятельства, что он по возрасту ближе аудитории, которой и предназначена передача. А если умножить этот фактор на дарование актрисы и непререкаемый авторитет ее героев у юных слушателей!..
Произведение искусства не существует вне конкретных жизненных ситуаций, обуславливающих интерес аудитории. Радио – не исключение. Напротив, процесс старения тут куда быстрее, ибо обилие и разнообразие информации, которая идет по этому каналу, постоянно повышают социальный и эмоциональный уровень запросов.
Когда появились в эфире первые выпуски «Клуба знаменитых капитанов», они были обращены к старшеклассникам, может быть, даже к выпускникам средних школ. Изданные в середине 70-х годов сборники текстов этой популярнейшей передачи предназначались ученикам младших классов. Ничего не поделаешь – процесс, научно-технический прогресс, информационный взрыв... Но вот уже в середине 80-х годов повторяют в эфире несколько «заседаний» «Клуба» с участием Дика Сенда. Познавательный материал – или устарел, или выглядит примитивным, манера обращения к аудитории – наивна, а передачи собирали у приемников тех самых шестиклассников, сердца которых, по всем нашим представлениям, безраздельно принадлежат хоккею и теледетективам.
И на рубеже веков, в 2000 году – первом году нового тысячелетия, столичная коммерческая радиостанция «Эхо Москвы» выдала в эфир – в лучшее эфирное время – воскресными утрами – более пятидесяти выпусков передачи «Клуб знаменитых капитанов». В телерадиофонде отобраны были как раз те программы, где на звуковой авансцене действовал Дик Сенд в исполнении Сперантовой. Это было неожиданностью для всех, и для работников радио, и для многих слушателей, но факт оставался фактом: программа, записанная более пятидесяти лет назад, побила все рекорды концентрации внимания аудитории. Все рейтинги показывали безусловное лидерство этой передачи в современном эфире, хотя по содержанию, конечно, многие «заседания» «Клуба знаменитых капитанов» попахивали нафталином – и в тематическом, и в идеологическом тем более смысле. Но все определяли голоса Сперантовой и ее коллег.
Она опять оказалась своеобразной актрисой. Такова уж особенность ее художественной природы и дарования.
В.А. Сперантова однажды записала в своем дневнике: «Нынче уже с первого класса изучают алгебру, привыкают к обобщенному мышлению, а в третьем уже соприкасаются с элементами высшей математики. Те, кто получает обильную информацию – и чем больше они ее получают, тем сильнее нуждаются в образном мышлении, в эмоциональном совершенствовании. Кто же, как не актер детского театра, способен возбудить образное видение мира в ребенке? »3
В работе над ста сериями «Клуба» чрезвычайно выпукло проявились импровизационный характер дарования Сперантовой, ее склонность к «сиюминутному» поиску, озаренность, подмеченная у нее еще К.С. Станиславским. Она рассказывала:
– Мы уходили с записей «Капитанов» довольные, радостные. О.Н. Абдулов был «заводила», он загорался моментально и всех увлекал. Иногда такие великолепные возникали импровизации – на репетиции того не было, что было в передаче. Это же прелестно, когда у актера глаза блестят, когда он подхватывает ваши реплики, включается в вашу песню озорно, от всей души, желания сделать как можно лучше.
Правда, у нас был однажды такой случай, после которого вывесили приказ: «Сперантову, Плятта, Абдулова к микрофону на месяц не допускать...» Но это, как говорится, «наши недостатки -продолжение наших достоинств...».
Было это в те времена, когда передача записывалась целиком, как спектакль. Шла запись, и вдруг почему-то прервали, а мы уже были разогретые...
Р. Я. Плятт, он играл Гулливера, взял автомобильную камеру, в которую была налита вода (ее покачивали, и она имитировала морские волны, которые бились о наш катер), и надел на себя, как венок, – а я, пятнадцатилетний капитан, – тоже нашла какой-то маленький резиновый кружок и крикнула оркестру: «Ловите!»
У них смычки стали, как серсо... Это было так смешно...
И хотя, конечно, как универсальное средство для сохранения нажитого самочувствия во время перерыва записи такие вещи не порекомендуешь, но для меня этот случай – проявление творческого озорства, которое обязательно должно сопутствовать актерской работе и без которого, может быть, и само творчество что-то теряет...
Она вообще любила всякое озорство в искусстве. Обожала «капустники » – хотя сама, кажется, никогда не принимала в них участия. Но смотреть приходила даже на репетиции, особенно если «капустник» устраивали молодые.
Вскоре после войны при Центральном детском театре организовался юношеский клуб – «актив школьников». Старшеклассники проводили всевозможные дискуссии на литературные и театральные темы, встречались с драматургами и актерами, обсуждали пьесы и спектакли. А на Новый год обязательно устраивали шуточное пародийное представление. Помнится, В. А. Сперантова была участником всех этих мероприятий: спорила, и смеялась, и заставляла собеседников спорить, и смеяться, и забывать при этом, что их оппонент – известная всей стране актриса.
Если для самодеятельного спектакля не давали нужный реквизит, можно было обратиться к Сперантовой, и она шла уговаривать прижимистого бутафора или костюмера, а если тот оставался непреклонен, она говорила:
– Не волнуйтесь, я посмотрю что-нибудь подходящее.
И приносила из дома.
Однажды новогодний «капустник» репетировал с ребятами совсем молодой актер, только вступивший в труппу. На репетиции было весело, и на громкий смех заглянула Валентина Александровна. Посидела немного, а в перерыве подошла к артисту:
– Олег, а вам обязательно надо попробовать себя в режиссуре.
Фамилия актера была Ефремов.
В качестве профессора Театрального училища имени Щепкина (при Малом театре – старейшая наша актерская школа) Валентина Александровна Сперантова не единожды напутствовала выпускников. Студенты были разные, и дипломные спектакли, в которых они показывались, тоже были разные, потому и пожелания высказывались достаточно разнообразно. Но один тезис Сперантовой был неизменным:
«В чем смысл нашей работы?
– Мы отвечаем на вопросы!»
Сперантова относилась к той категории художников, которая верна идее очищающего, облагораживающего влияния искусства. За полвека творческой работы она ни на мгновение не усомнилась в том, что всякий человек обращается к произведению искусства с целью познать самого себя, увидеть глубины своей души, соотнести свои поступки с жизнью общества – пусть невольно, неосознанно, но ведь именно это стремление и питает вечный интерес к театру, живописи, музыке...
«Мы – актеры – отвечаем на вопросы!»
А значит, надо быть готовым к этим все усложняющимся вопросам нашего бытия, надо уметь «не зажмурившись» смотреть на жизнь, надо не только глаза, но и души держать открытыми к миру, его болям и радостям, страстям и надеждам. Надо уметь удивляться – и в пятнадцать лет, и в двадцать пять, и в семьдесят три...
Когда отмечали ее семидесятилетие, критики и театроведы затупили не одно перо, исследуя «феномен Сперантовой» – секрет ее творческой бодрости. Писали о ее работоспособности, о том, как старательно поддерживает она «рабочую форму», говорили о тщательности, с которой она подходит к каждой новой работе, даже если подобная роль уже есть в ее художественном багаже; анализировали ее виртуозную актерскую технику, способность отражать малейшие оттенки человеческих чувств, не допуская их повторения в многочисленных персонажах.
Все это, разумеется, верно. Но главное – она никогда не уставала удивляться...
Однажды на встрече с юными поклонниками она сказала:
– Все они – мои мальчишки, как от одной матери. Могу ли я предпочесть одному другого? И Ваня Солнцев, и Володя Дубинин, и Ганька Семушкин, и мальчишки Гайдара. Если бы для каждой роли нужно было оторвать от себя кусочек души, я бы все равно на это пошла. На деле это не обедняет, а обогащает душу. Но ведь надо же, чтобы они не были похожи друг на друга. Чтобы зритель не «путал» меня с героем.
И она стала говорить о «школе» своего учителя О. Н. Абдулова.
Абдулов не просто давал «пробовать» что-то новое, незнакомое, но, как теперь сказали бы, «вменял в обязанность».
Ну кто мог предположить, что, готовя к эфиру радиоспектакль по поэме М. Алигер «Зоя», заглавную роль Абдулов предложит Сперантовой, а в партнеры даст М. И. Царева! А между тем премьера, состоявшаяся 16 октября 1947 года, стала еще одним успехом актрисы и засвидетельствовала новые, неожиданные для многих краски ее дарования.
И Сперантова скажет через много лет:
– Мне всегда нравились роли, в которых есть героическое начало.
И наконец, еще один учитель – Бабанова – великая актриса русской сцены – человек, впрочем, совсем другого темперамента и совсем другой судьбы в искусстве. Что их объединяло? В конце концов, они встречались у микрофона всего несколько раз почти за полвека. Но почему-то В. А. Сперантова, отвечая на анкету начинающего театрального репортера, сказала:
– В радиостудии я, как и всякая актриса, получала не одни только пышки, но и тумаки и шишки. Уроки были разные. Среди самых жестоких и прекрасных – записи с Бабановой.
Уже после смерти Валентины Александровны мне захотелось спросить у Марии Ивановны Бабановой – что она думает об этом высказывании. Был повод – на радио готовилась передача «Голос Бабановой», и актриса согласилась на интервью – по телефону, в квартире на улице Москвина журналистов, да и вообще новые лица не жаловали.
– Неужели она так сказала? – удивилась Бабанова, когда я процитировал запись из старого блокнота. – А я тут ни при чем. В наших дуэлях мы были равноправны...
Но после паузы лукаво добавила:
– Нам обеим приходилось смирять себя.
Поразительные дуэты Бабановой и Сперантовой – в «Оле-Лукойе» по Андерсену, в радиоверсии книги Марка Твена... Будет справедливо, если мы предоставим слово режиссеру и критику Б. А. Львову-Анохину, который первым решился сказать о своеобразном «противостоянии» двух актрис в названных здесь радиоспектаклях.
– Гиальмар – Сперантовой и Оле-Лукойе – Бабановой – это «земное» и «небесное». Простодушный Гиальмар завороженно внимает волшебному голосу, прилежно учится постигать красоты поэзии, сказки, чуда. И Том Сойер Сперантовой склонялся перед непостижимо хрупким изяществом Бекки – Бабановой, в их диалоге трогательное и забавное воплощение извечного мальчишеского, мужского, и «девчоночьего», женского, начала. Маленькие мужчины Сперантовой становятся бережными и опасливо осторожными, встречаясь с таинственным чудом мудрой и капризной женственности, которое с такой грацией раскрывает в своих героинях Бабанова. И это, пожалуй, единственный случай, когда маленькие упрямцы Сперантовой испытывают чувство почти испуганного, благоговейного смирения.
Со свойственной ему деликатностью и изяществом Б. А. Львов-Анохин выразил суть первого «прекрасного и жестокого» урока. «Цена» его, однако, гораздо выше, чем может показаться. Дело в том, что задолго до «Оле-Лукойе» на радио Сперантовой довелось играть Гиальмара в театре в спектакле «Сказки Андерсена». И не просто играть: она была не только исполнителем главной роли, но и сопостановщиком спектакля, и это был ее режиссерский дебют вообще. Сюжет спектакля был многоплановым – он складывался из нескольких сказок. Гиальмар надевал «калоши счастья» и оказывался в удивительной стране, где жила глупая дочь свиного короля, отвергшая любовь прекрасного принца, где тень бросила своего хозяина, потом заставила его служить себе, где хитроумные портные заставили глупого короля голым появиться перед своим народом... Можно представить, с какой тщательностью был проработан Сперантовой каждый эпизод, каждый поворот сюжета. Потом все закрепили десятки представлений на публике. Пришла уверенность в точности и правильности художественных решений. Пришел успех! И все это надо было отвергнуть – сразу же, в тот самый миг, когда Сперантова встала у микрофона рядом с Бабановой. Потому что имя, поступки и слова у ее героя были те же, а сам он – другой, из другого спектакля. Экзамен, согласитесь из труднейших!
Она умела «начинать с нуля».
За сорок лет творческой практики в радиостудии ей приходилось это делать не единожды.
Так было и когда она взялась за спектакли, в которых одна исполняла все роли.
Дошедшая до нас в звукозаписи «проба пера» – «Р.В.С.» по повести Аркадия Гайдара: здесь актриса «раздвоилась» – и беспечный, лихой Жиган, и степенный, чуть грустный Димка говорят одним голосом – сперантовским. И как различны их характеры, особенно в диалогах! Как сталкиваются они, высекая искры подлинного душевного пламени!
Все же эта работа – лишь ступенька к вершине в этом жанре. А сама вершина обозначена передачей «Мальчиш-Кибальчиш» -опять же по Гайдару, – где артистка играет и храброго Кибальчиша, и трусливого Плохиша, и Главного Буржуина, и Вестового и ведет рассказ «от автора». Подобный моноспектакль – вещь очень коварная: с одной стороны, легко «уйти в эстраду», в стилистику сугубо чтецкую, рассчитанную на прямое обращение к слушателю; с другой – из желания разнообразить голосовую палитру также не трудно впасть в эдакое «голосовое кривляние», невольно уничтожив интонационную достоверность персонажей.
Не будем сейчас дискутировать об идейных постулатах и критериях гайдаровской повести. Она принадлежат времени. Для нас же и сегодня интересна эстетика и психологическая достоверность этого радиопредставления – величины в искусстве постоянные и не поддающиеся тематическим и идеологическим характеристикам художественного материала, если он действительно художественный.
Сперантова с ювелирной точностью, как по нотам, разыграла «по голосам» гайдаровскую притчу, найдя эффектный и абсолютно убедительный прием: она – автор – «слышит» голоса персонажей так, как их услышал бы юный читатель – страстно и нетерпеливо, гневно и скорбно, замирая от восторга и холодея от обиды и боли...
...Я слушаю ее голос и задаю почти банальный вопрос – а есть ли возраст у радиогероев Сперантовой?
Но разве Дик Сенд может постареть?
Примечания
1 Театральная неделя. 1940, № 10 (31). С. 10.
2 Сперантова В. А. Актер у микрофона. // Советское радио и телевидение. 1968, № 2. С. 24.
3 Там же.
Глава 21 Режиссер Р. М. Иоффе
О смерти Розы Марковны Иоффе 4 октября 1966 года «с глубоким прискорбием» известили едва ли не все центральные газеты, включая издания самые официальные.
«Известия» писали:
«То, с чего начала Роза Иоффе, теперь прочно вошло в обиход театрального искусства по радио. Но бывают дни, когда мы вновь обращаемся к истокам созданного, с благодарностью вспоминаем – в искусстве ли, в технике ли, – первооткрывателей. Это бывает, увы, в те горькие дни, когда, оглядывая закончившуюся жизнь, мы видим, как много дано нам этой жизнью...»
Газета «Советское искусство»:
«Не стало больше самобытного художника, отдавшего всю жизнь святому служению искусству. Слишком мало сказать, что она любила свое дело, она бесконечно увлекалась им, в совершенстве знала все возможности радио, виртуозно владела ими, всегда искала, экспериментировала. Она была режиссером-новатором, всегда честным и принципиальным...»
Под этим текстом стояли подписи Радиокомитета, Министерства культуры СССР и Правления ВТО.
Посмертное официальное признание заслуг Розы Иоффе перед отечественной культурой и советским народом было полным и безоговорочным.
Между прочим, визировали эти трогательные тексты те же самые люди, которые всего за несколько лет до кончины великого мастера радиорежиссуры уволили ее из числа штатных работников радио «за профессиональную непригодность».
После войны это сотворили с ней дважды. В 1948 году, когда она попала в блистательную компанию писателей, режиссеров, актеров, журналистов и театральных критиков, названных космополитами. Тогда это была грандиозная государственная кампания, в ходе которой надо было доказать, что «Россия – родина слонов» и что «Наш советский паралич – самый прогрессивный». А во-вторых – изъять из культурного обращения людей по ряду анкетных параметров, и прежде всего по «инвалидности пятой группы» (так именовали людей, у которых в пятом параграфе анкеты была обозначена нежелательная национальность). Изъять как политически и творчески неблагонадежных.
Второй раз P.M. Иоффе была лишена должности и даже права прохода в здание Радиокомитета в начале шестидесятых годов. Потом ей разрешили приходить по разовому пропуску, и она шла по коридору Студии на Телеграфе или по Дому звукозаписи на улице Качалова, 24, и одни ее коллеги с преувеличенным старанием кланялись и улыбались, а другие делали вид, что заняты какими-то глубокими раздумьями и вообще не видят ничего вокруг. Старательнее других глаза прятали ее ученики Николай Литвинов и Николай Александрович.
Но и те, и другие одинаково опускали глаза, чтобы не встретиться взглядом с маленькой седой женщиной, имя которой было известно любому профессионалу радиоискусства.
Наиболее болезненным для P.M. Иоффе было предательство Н. Александровича и Н. Литвинова. Трудно обвинять их в чисто карьеристских мотивах за публичный отказ от работы с P.M. Иоффе, хотя оба затем по очереди получали ее должность – главного режиссера детского радиовещания. С Александровичем, который обучался азам радиорежиссуры у Иоффе, Роза Марковна до конца своих дней не разговаривала. Николай Литвинов был не просто учеником, но и прямым продолжателем ее дела. С ним были сотворены «Золотой ключик» и еще несколько принципиальных для Розы Марковны как для режиссера передач. Это она придумала для Литвинова радиоамплуа Сказочника. И тем не менее у Н.В. Литвинова не хватило ни смелости, ни желания защитить P.M. Иоффе, когда ту лишали куска хлеба. Незадолго до ухода из жизни Роза Марковна все-таки потребовала – при случайной встрече – объяснений. По свидетельству обоих участников разговора, Литвинов долго молчал, потом заплакал и произнес одно только слово: «Прости». Однако никаких шагов к творческой реабилитации P.M. Иоффе не предпринял. Правда, уже после смерти Розы Марковны он во всех интервью старался подчеркивать, что он ученик Иоффе. Но точно такая же правда и такой факт: на обложке пластинки фирмы «Мелодия », посвященной творчеству Н.В. Литвинова, помещена большая статья о жизни и творческой биографии этого известного режиссера, который стал признанным мастером детского радиотеатра, ведущим популярной передачи «Радионяня», народным артистом республики и прочее, и прочее. Но имя P.M. Иоффе в этом тексте не упоминается.
Вот эти обстоятельства и определяют тон дневниковых записей Розы Марковны Иоффе, которые появились в печати спустя несколько десятилетий после ухода ее из жизни.
Этот трагический дневник потрясает не только своей безысходностью, вполне понятной в положении человека, которого лишают работы, дела, основателем которого он является, учеников, которые азы ремесла постигали у учителя, от которого потом вынуждены были отказаться. И в конце концов, репутации, полученой в результате нескольких десятилетий труднейшей творческой работы, в свою очередь увенчанной признанием не только коллег, но и миллионов – именно миллионов, это не преувеличение – благодарнейших почитателей и потребителей ее, как она выражалась, «художественной продукции». При жизни – особенно после «слома» ее творческой судьбы – о ней писали немного. Ее собственная статья, в которой сформулированы законы общения радио с аудиторией, этические нормы творчества у микрофона и правила построения любого художественного и художественно-публицистического радиопроизведения, – статья называлась кратко, но выразительно – «Слушая – видеть!» – была опубликована в одном из узкоспециальных журналов и никогда не переиздавалась. Молодые радиожурналисты и радиорежиссеры переписывали ее от руки, удивляясь и восхищаясь творческой прозорливостью Розы Марковны Иоффе.
Пространные статьи и книги появились много позже. В 1981 году издательство «Искусство» задумало и начало выпускать серию книг, посвященных особенностям и проблемам художественного производства в студии радио. В первом же выпуске научного альманаха, называвшегося «Радиоискусство», была помещена большая статья журналистки и искусствоведа Л. Кавуновской «Открытия делают только отважные...» о жизни и творчестве Розы Марковны Иоффе.
Характеризуя творческую биографию и особенности художественного метода Иоффе, Кавуновская, в частности, обращала внимание на то, что ее героиня аккумулировала в своей практике опыт многих лет работы у микрофона. Она писала о том, что Роза Марковна дебютировала на радио в совсем юном возрасте.
В конце 20-х годов в 20-й школе Хамовнического района, где училась Роза, профессор Суренский организовал кружок художественного слова. Туда записалась и ученица седьмой группы Роза Иоффе. Профессор сразу обратил внимание на способную ученицу и посоветовал ей поступить на Государственные курсы чтения и речи (бывший Институт живого слова).
В первый год занятий на курсах Розе предложили посещать репетиции Театра чтеца, а еще через год она уже выступала вместе с профессиональными чтецами. Ей нравилось выступать перед зрителями, но все же после окончания курсов она не ушла на сцену, а с большим увлечением стала руководить школьными кружками живого слова.
Она очень любила детей, и дети платили ей тем же. Работа шла успешно. В 1930 году на смотре детской художественной самодеятельности всем понравилось выступление ее кружка из 22-й школы Сокольнического района, а сотрудники детского радиовещания пригласили всех его участников выступить по радио. После выступления Розе Иоффе предложили вести при детском радиовещании студию юных чтецов. В сентябре того же года состоялся конкурс среди школьников Москвы, и группа юных чтецов в составе восьмидесяти человек была организована. Так в 1930 году Роза Марковна Иоффе стала одним из первых профессиональных режиссеров радио.
Сначала передачи – в основном радиогазеты всех видов и типов -из студии читали дети. Художественного вещания для детей тогда еще не было. Оно возникло по инициативе Розы Иоффе в 1932 году.
Появление звукозаписи на радио в 30-х годах было обусловлено рождением звукового кино. «Тагефон» – так назывался изобретенный инженером Павлом Григорьевичем Тагером аппарат, который мог производить запись звука на кинопленку. И тогда же возникла мысль использовать новые аппараты для нужд радио. Первые экспериментальные записи, сделанные только что созданной фабрикой «Радиофильм», прозвучали в эфире весной 1931 года. Создание звуковых документальных передач – радиофильмов – было делом дорогим и сложным, к тому же не хватало кинопленки.
Один из первых советских радиорежиссеров, Виктор Семенович Гейман, рассказывал, что в начале 30-х годов искусству звукозаписи на кинопленку учились у него Осип Наумович Абдулов и Роза Марковна Иоффе. Перед войной записи делались на восковых валиках, на «Шоринофоне».
И только после войны на вооружении радио появилась магнитофонная запись, благодаря которой еще не одно поколение будет радоваться миру, созданному талантом Розы Марковны, а мастера радио – учиться на лучших образцах. Нам же остается только сожалеть, что весь довоенный период творчества Розы Иоффе канул в вечность, не запечатленный нигде, так как в ту пору художественное вещание шло в эфир «живьем».
Очень трудно было работать в таких передачах не только актерам (никто не имел права ошибиться или запнуться, ведь каждая оговорка «размножалась многомиллионным тиражом»), но и режиссеру Розе Иоффе, которой нередко приходилось выступать еще и в роли дирижера – не только актеры, но и хор, и оркестр беспрекословно подчинялись движениям ее маленьких, легких рук.
В те годы с детским отделом радио начали сотрудничать Аркадий Гайдар и Вера Смирнова, Лев Кассиль и Самуил Маршак. А радиотруппе Розы Иоффе мог позавидовать любой театр. Здесь были Валентина Сперантова и Мария Бабанова, Александр Морозов и Ростислав Плятт, Наталья Львова и Зинаида Бокарева, Петр Горбунов и Борис Оленин, Тамара Чистякова и Анастасия Георгиевская, Алексей Консовский, Борис Толмазов и Алексей Грибов, Владимир Хенкин и Всеволод Якут, Анатолий Кубацкий и Леонид Пирогов, Александр Ханов и Зиновий Гердт, Ольга Андровская и Фаина Раневская, Вера Гердрих и Елена Фадеева, позднее – Вячеслав Дугин и Юрий Пузырев, Александр Лазарев и Юрий Яковлев, Вера Васильева и Вера Орлова. Потом этих артистов узнали как народных и заслуженных, а в те годы большинство из них только делали первые шаги на радио. Первые шаги с ними делала и радиорежиссер Роза Марковна Иоффе.
Вначале Роза Марковна была режиссером дошкольных передач, и тогда были сделаны ее «Маша-растеряша» и «Горошина». Затем она стала главным режиссером всего детского вещания, и тогда появилась созданная ею игра – «Петрушкина почта». Многие передачи, которые гораздо позже получили свое второе (магнитофонное) рождение с другими актерами, в довоенные годы шли в живом исполнении. Так, «Машу-растеряшу» Л. Воронковой читал Николай Литвинов (Государственный архив звукозаписи хранит грампластинку этой постановки), а «Белеет парус одинокий » Валентина Катаева (сцену «Маевка») читал Александр Морозов. (После войны Р. Иоффе восстановила эту передачу с А. Гаем.)
Сейчас трудно себе представить, что когда-то сама возможность услышать в эфире слово, а затем и музыку потрясала людей. Трудно себе представить и то, что все вещание в 20-30-е годы шло в эфир «живьем». Грампластинки, использовавшиеся в те годы на радио, содержали главным образом музыкальные записи, но они не могли удовлетворить потребности радио даже в музыке, ведь самая большая пластинка звучала не более трех с половиной минут, а долгоиграющих дисков в то время не было.
По три-четыре раза повторялись «живые» передачи, причем исполнительский состав мог меняться. Например, рассказ Л. Кассиля «Есть на Волге утес» читали и А. Консовский, и П. Литвинов, а пели в этих передачах певцы С. Слепцов и А. Королев. «Но вполне возможно, – говорил позднее Алексей Анатольевич Консовский, -что этот рассказ читал у Розы Марковны и еще кто-нибудь».
Удалось установить, что еще до войны Иоффе поставила, не изменив ни слова в авторском тексте, лермонтовскую «Тамань» с артистами Александром Морозовым и Михаилом Ещенко. Именно это стремление – сохранить полностью текст писателя -привело ее к идее «постановочного чтения», при котором прозаическое литературное произведение, не изменяя формы, звучит как драматургически построенное действие, где актер, исполняющий ту или другую роль, читает не только «за своего героя», но и «за автора». При этом не только сохраняется авторский текст, по и создается полное впечатление, что слушаешь драматическую постановку, а не чтецкую передачу, объяснит нам потом Роза Иоффе1.
Ведь если произведение не разбито на реплики, то не обязательно на каждое «действующее лицо» приглашать исполнителя. Если актер может исполнять роль персонажа и читать «за автора», то он может читать произведение целиком. Именно при таком чтении возникает наибольшая возможность передать замысел автора, ибо, работая не только над своей ролью, а над всем произведением, актер проникается его духом, его настроением. А ощущение драматического действия достигалось режиссурой. И ощущение это было настолько полным, что слушатели часто ошибались.
«Почему после передачи тургеневских „Певцов“ не перечислили всех участников постановки, а назвали только А. Грибова?» – спрашивали в своих письмах радиослушатели. Но «Певцов» на самом деле читал один А. П. Грибов (в передаче участвовали и певцы – исполнители песен. Но они, конечно, тоже были объявлены). Старый актер А. Сизов также пишет в своем письме, хранящемся в архиве Р. М. Иоффе: «Уважаемая тов. Иоффе! Только что с большим удовольствием прослушал Вашу работу „Певцы“ Тургенева и надеюсь через некоторое время прослушать еще раз.
Я еще до войны неоднократно слышал Ваши работы и писал в ВРК (сокращенное название Гостелерадио до войны. – А.Ш.) свои впечатления. Я очень люблю Вашу форму передачи... Услышав объявку „Певцы“, я отнесся к ней скептически и даже не обратил внимания на состав. Но потом исполнение привлекло меня, и я прослушал передачу до конца со всем вниманием, заслуженным ею. Очень рискованная и ответственная идея инсценировать „Певцов“, несмотря на кажущуюся простоту. Литературный образ всегда несет в себе нечто идеальное, а тем более когда в нем описывается идеальное исполнение, то очень трудно не снизить этот образ. И надо сказать, что Ваша постановка – очень тонкая работа, не вызывающая никаких возражений со стороны самого взыскательного уха. Не только прекрасно читал А. Н. Грибов, но и весь ансамбль был на уровне требований вещи. Образ Якова и его исполнение вполне соответствовало литературному образу. В нем не было опасного налета „эстрадности“... Хорошо получилась и финальная сцена со знаменитым Антропкой.
Возмутило меня только одно: после исполнения, когда я специально подошел с бумагой к репродуктору, чтобы записать состав, диктор назвал только главного исполнителя. Что же остальные -недостойны, что ли, стоять с ним рядом?..»
Так было и с другими передачами – подчеркивает в своем очерке Кавуновская, – включив радио, человек чувствовал и верил, что он слушает не чтение, а постановку, хотя у микрофона выступал всего один артист. Можно вспомнить по этому поводу «Сонечку» Л. Толстого в исполнении А. Консовского и незабываемого «Буратино» с Н. Литвиновым во всех ролях – соло, дуэты, квартеты и даже целый кукольный хор.
Да что простой слушатель... – писала по этому поводу сама P.M. Иоффе: «Я могла бы привести еще десятки примеров, как, принимая радиопремьеры на художественном совете, опытные радиорежиссеры, редакторы обсуждали исполнение и при этом хвалили одних актеров, поругивали других, не подозревая, что всех действующих лиц исполнял один и тот же артист и что это было лишь постановочное чтение»2.
Но работа одного актера – это не просто чтение. В постановочном чтении задача артиста вдвое и втрое сложнее: он то воплощается в тот или иной образ (а еще точнее – сначала в «тот», потом в «иной »), то рассказывает за автора. Актер должен переходить из образа в образ, из настроения в настроение. Так, В.А. Сперантова в «Р.В.С.» А. Гайдара играла двух разных по характеру мальчишек: Димку, степенного, вдумчивого, и в то же время задиристого, беспечного, озорного Жигана. Зинаида Бокарева в радиопостановке «Городской романс» по рассказу Р. Зерновой играет и влюбленную девушку Нину, от лица которой ведется рассказ, и двух матерей, и дворничиху, и ребенка.
А как прекрасны превращения М. Бабановой и А. Консовского в философской сказке Экзюпери «Маленький принц»! Здесь
А. Консовский играет Летчика, Короля, Пьяницу, Бизнесмена, Фонарщика, Географа и даже воющего и лающего Лиса. Сцену Принца с Розой играет М. Бабанова, проводя ее как диалог двух необычных существ.
В стиле постановочного чтения решался Розой Иоффе отрывок из повести Горького «В людях» – «Королева Марго». Артист Александр Морозов был одновременно и мальчиком Алешей Пешковым, и писателем Максимом Горьким, и даже самой Королевой Марго.
«Вчера я с трудом работала „в сумерках разума“, как мог бы сказать Горький, и поэтому почти не поняла, что же получилось? – записывает 4 марта 1966 года в своем дневнике Р. Иоффе. – 1. Сохранить текст. 2. Найти начало, которое дало бы право ввести романс и музыку, дающие в результате образ времени и главной героини отрывка. Можно разыграть (текст имеет драматургические диалоги), но тогда надо раздвоить автора, что плохо, опасно, безвкусно.
Сохранить чтение одного, но выстроить живой образ (главный) и, таким образом, создать впечатление драматургическое, то есть трехмерное. Интересно, вышло это? – Видимо, вышло! – записывает Роза Марковна через десять дней в дневнике. -...Вписать (целиком!) два старинных романса в литературную ткань трудно и опасно. Вышло!»
Что достигалось этим постановочным методом? – продолжает свои размышления Л. Кавуновская, критик и старательный биограф Иоффе. Сохранялось существо, вся атмосфера литературного произведения. В одном актере, но в разных образах, им исполняемых, Р. Иоффе искала единое звучание, для того чтобы могли ожить и зазвучать страницы произведения во всем многообразии наполняющих его голосов, связей, в том неповторимом единстве, которое отличает всякое подлинное литературное произведение.
Перевод на язык радиопостановки рассказа, романа, повести -процесс сложный, трудоемкий и специфический. Когда же речь заходит об инсценировках для детей, то специфика еще более усложняется. Законченное выявление сюжетной линии, точный и тщательный отбор действующих лиц и событий, с ними происходящих, отбор необходимых выразительных средств – все это входит в задачу автора инсценировки.
Сама Роза Иоффе размышляла об этом в таких выражениях: «Есть опыт, который говорит о том, что для радио надо уметь из большой книги выбрать самостоятельный сюжет и художественно скомпоновать его. Надо понимать, какой рассказ, какая новелла особенно эмоционально прозвучат по радио, уметь почувствовать радиодраматургические возможности литературного произведения»3.
Попытки адаптации больших повестей и романов Роза Марковна называла «отрывками из обрывков» и предпочитала инсценировать отдельные главы, характеризующие писателя, или выбирать одну сюжетную линию из многих.
Нередко сценарии для своих постановок Р. Иоффе писала сама, например «Три мушкетера» – по роману А. Дюма, «Нюша» – страницы из книги В. Пановой «Ясный берег», «Дашино письмо» – по роману Л. Толстого «Хождение по мукам», по произведению
В. Шкловского – «Повесть о художнике Федотове» (инсценировка осуществлена совместно с Е. Дыховичной), К. Чандра – «Ночь в полнолуние», К. Паустовского– «Повесть о лесах» и другие. Были также написаны сценарии к передаче «Памяти народного поэта Шотландии Роберта Бернса», к радиообозрению «Шутки и остроты Бернарда Шоу» и к другим передачам. Эта метода, наметившаяся в практике Иоффе, стала широко использоваться на радио в работе разных редакций.
Радиопостановка «Хозяйка Медной горы» возникла как синтез четырех сказов П. Бажова: «Медной горы хозяйка», «Приказчико-вы подошвы», «Каменный цветок» и «Горный мастер».
Сам Бажов в письме одному из участников спектакля писал о постановке «Хозяйки Медной горы»: «...Постановка т. Иоффе, как всегда, с большой творческой выдумкой... Словом, мне все понравилось».
Роза Иоффе учила своих слушателей драгоценному ощущению стиля автора.
Живописным, колоритным словом, звуками, тонко найденными и разработанными шумами создавала она картину пронизанного солнечными лучами леса в радиопостановке «День в помещичьей усадьбе» по книге Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» и картину сказочного, таинственного, сумрачного уральского леса бажовских сказов.
В радиопостановке по повести Тургенева «Часы» режиссер нашла интересный прием: своеобразный «дуэт» рассказчика (А. Консовский), взрослого человека, вспоминающего эпизод своего далекого детства, и мальчика Алеши (В. Сперантова), каким он был много лет назад. В этом дуэте, в этом необычном диалогическом переплетении двух голосов лиризм и благородство тургеневской прозы обретали особое напряжение. Впечатление усиливала точно разработанная партитура шумов – таинственных ночных шорохов и звонов.
Роза Иоффе смело сочетает реалистическое и фантастическое начала в радиопостановке по повести Н. Гоголя «Нос», рисует всю смехотворную невероятность страшного происшествия, случившегося с майором Ковалевым. Необычность происходящих событий требовала таких же неожиданных, парадоксальных реакций. Поэтому, наверно, когда Ковалев, которого играл Михаил Жаров, обнаруживал, что у него исчез нос, он сначала хохотал, а уж потом ужасался.
Роза Иоффе создала радиопостановку по «Трем мушкетерам»
А. Дюма, найдя для нее особый стиль – приподнятость, легкость звучаний и ритмов, кипучую стремительность действия.
Рассказывая о приключениях героев, она как бы с иронической улыбкой передает их отвагу и легкомыслие, мужество и беззаботность. Она решает спектакль как своеобразный старинный «романтический детектив», в котором таинственность и патетика соединяются с лукавым, искрящимся юмором.
«Я помню, – вспоминала в одной из передач Валентина Александровна Сперантова, – когда я услышала по радио премьеру нашей постановки „Мальчик с лесного берега“, я была так взволнована, что сразу же написала письмо Розе Марковне: „Пишу тебе, мой дорогой друг. Я слушала передачу и видела во всем тебя. Я помню, как мы работали, как мы писали. Я помню твои движения, твой взгляд зеленых с искоркой глаз. И ты мне представлялась дирижером, знающим на память всю партитуру вещи и глубоко ее чувствующим. Я понимала и легкий наклон твоей кудрявой, с охапкой рыжих волос головы, и энергичный взмах мягкого белого кулачка, и движения губ, как бы помогающих тебе и нам. Я все понимала. Мне было легко. И, смотря иногда на тебя, я свободно шагала по рассказу. Это чудесно. По малейшему движению, неуловимому движению глаз понимать, что нужно делать. Понимать своего учителя“. Я счастлива, что написала это письмо и что Роза Марковна его прочла. Ведь за повседневной суетой и заботами мы часто забываем сказать людям необходимые слова любви и благодарности»4.
В дневнике Розы Марковны привлекает и постоянно звучащий мотив «творческих сомнений », без которого немыслима жизнь настоящего художника: «Меня мучает несовершенство, иногда – робость выполнения, иногда – перебор, фальшь в исполнительстве, иногда – слепота в видении подтекста. Думаю, что никто так, как я сама, не видит огрехи в моих постановках»,– пишет она 9 марта 1966 года.
Л. Кавуновская подчеркивает, что, по методике Иоффе, искусство создания радиопостановки – это прежде всего художественное сочетание всех выразительных средств, благодаря которому радиообразы приобретают для слушателя ту особого рода убедительность, какая бывает только в произведениях настоящего искусства.
«...Средства, которые существуют у режиссеров радио... <...>...их немного, – пишет Роза Марковна в одной из статей. -Прежде всего – это литература, затем актеры, музыка, шумы, звукоподражание и „натуральные звуки" живой жизни... Звуковой (только звуковой) образ по глубине и выразительности воплощения обязан вместить в себя и манеру двигаться, и грим, и костюм, и эпоху, и класс, и даже место действия»5.
Изучение «простых словесных действий», из которых строятся любые, самые тонкие и самые сложные коллизии радиопьесы, – это первый этап работы режиссера и исполнителя. В определении словесных действий персонажей радиопостановки режиссер вместе с актерами исходят не столько из буквального смысла текста каждой роли, сколько из правдивого толкования его подтекста, ищут звучание подтекста. И режиссер Роза Иоффе, по словам 3. Бокаревой, очень любила «обратные подтексты», когда эффект достигался противоположными словесными действиями. Так, любовь у нее – у режиссера P.M. Иоффе – актриса могла выразить фразой: «Я ненавижу!» Ведь смысловая и эмоциональная выразительность слова в радиопьесе может подчеркиваться несловесными средствами звукового ряда, такими, как интонация, пауза, темп, ритм и другими особенностями речи. А уж через микрофон передаются самые, казалось бы, неуловимые оттенки эмоций. Радиослушатель имеет возможность уловить и почувствовать содержание, всю глубину чувств и переживаний исполнителя так, как это прозвучало в его голосе. Иоффе подчеркивала, что голос человека у микрофона опосредует все физические свойства персонажа, которого он представляет, его характер, возраст, все его существо. И все это позволяет именно необычная близость, интимность – специфические свойства микрофона, радио.
И еще одна особенность у этих передач – это насыщенность драматического действия музыкой и звуком. Музыка и рисующие шумы несут в передачах Розы Иоффе большую, специфическую нагрузку: они вводят в атмосферу эпохи, придают вещи национальный колорит, создают настроение. Вот, например, «Маша-растеряша» – она поставила ее как яркую игру... «Звучала музыка. И говорить под музыку надо было в определенном ритме. Получилась великолепная миниатюра! Звонкая такая», – вспоминала В.А. Сперантова об одном из самых популярных радиосозданий P.M. Иоффе.
«Музыка в передачах Розы Иоффе – составной компонент единого действия, выполняет функции света, декораций, грима и костюма...» – отмечал еще в самом начале карьеры P.M. Иоффе в 1935 году журнал «Говорит СССР» – тогда первое и единственное профессиональное издание по вопросам радиовещания.
Обратим внимание на дату публикации – 1935 год, художественное радиовещание «еще в колыбели », еще десяти лет не прошло после появления в эфире первого отечественного радиоспектакля. Для истории вообще и истории искусств в частности – срок микроскопический, а работы молодого радиорежиссера уже рассматриваются как канонические правила новой формы бытования театрального искусства. О ее работе с музыкой писали многие ее коллеги, отмечая, в частности, что в ее спектаклях музыка помогает слушателю представить место действия; это и эмоциональное средство, передающее гнев, тревогу, радость, надежду... это и песня, которая зачастую становится отличительной приметой, звучащей визитной карточкой героя, как песенка трех мушкетеров или очаровательная сказочная колыбельная Оле-Лукойе в исполнении Марии Бабановой. А в песенке Николая Литвинова «Это очень хорошо, даже очень хорошо» мы узнаем любимца детей и взрослых, забавного и озорного деревянного человечка – Буратино!
Шумы, считала Роза Иоффе, следует использовать не только как чисто декоративное средство. Они, по ее мнению, могут служить необходимым и равноправным компонентом в создании звучащих образов, порой характеризующим самую суть драматических событий наряду со словом и музыкой. Это было очень важное открытие, которое продиктовало потом правомерность, а точнее сказать, закономерность многих стилистических новаций в радиотеатре Анатолия Эфроса, в поисках звуковой выразительности в кино и радиоработах Андрея Тарковского, в радиотворчестве Анатолия Васильева и Дмитрия Николаева и еще многих и многих прямых и «заочных» учеников и последователей Розы Марковны Иоффе.
Напряженный и неутомимый поиск превратил даже технику в средство художественной выразительности. Прием изменения голоса при изменении скорости движения пленки (чем быстрее движется пленка, тем тоньше и выше звучит записанный на ней человеческий голос) Роза Иоффе использовала одна из первых на радио. Начальные эксперименты с «буратинистым» голосом были проведены еще до войны. Иоффе вернулась к ним в 1948 году, когда сделала большой спектакль о русском Пиноккио по версии сказки А. Толстого. Но сначала так были записаны «голоса» ящерок в спектакле «Хозяйка Медной горы» по сказу Бажова. В передаче о Гулливере так возникли голоса лилипутов. Премьеры этих радиопостановок прозвучали в эфире 1 января и 7 мая 1948 года соответственно.
Роза Марковна подала заявку на «Буратино» в качестве внеплановой работы, представила ее как экспериментальную. Не зная, что из этого получится, она думала даже, что эта работа не будет оплачиваться, и всех об этом предупреждала, но всем – и актеру, и музыкантам, и дирижеру – было важно само приглашение Иоффе к творческому сотрудничеству. После первого прослушивания Розе Иоффе и Николаю Литвинову показалось, что ничего не вышло, но слушатели – работники редакции – были настолько увлечены и заинтересованы этим экспериментом, что попросили немедленно повторить прослушивание.
Обладая уникальной «композиторской» способностью не просто запоминать голоса и шумы, но и анализировать их, собирать в новой тональности, Роза Марковна в одной из своих статей писала: «Все чаще постановочная часть передачи делается режиссером на магнитофонных аппаратах. Вот почему с каждым днем возрастает роль режиссера на радио. Подобрав в фонотеке необходимые шумы, например крик „ура“, топот лошадей, выстрелы, звуки горна и т. д., режиссер становится композитором, который создает из всего этого звуковую партитуру, создает звуковую картину, да такую, которую в „живом виде“ и сделать невозможно. Разумеется, это требует от режиссера умения видеть и слышать постановку целиком, уметь охватить все ее эпизоды, даже если работа над передачей только начинается. Такое видение режиссера непременно передается радиослушателю, помогает приблизиться к заветной формуле „Слушая – видеть!“»6.
Она утверждала: «Надо уметь обыгрывать не только взаимоотношения, движения, но даже обстановку: ведь на улице говорят иначе, чем в кресле дома, во время морской бури не так, как в лунную летнюю ночь»7.
Рассказать о сложном и тонком искусстве радиорежиссера очень трудно. Сама Роза Иоффе 4 марта 1966 года писала в своем дневнике: «Задачи высшего режиссерского класса невидимы для стороннего глаза!» Но подлинный талант режиссера виден тем больше, чем самоотверженнее он отдан созданию атмосферы произведения.
Радиопостановка «Повесть о художнике Федотове» по книге В. Шкловского имела своеобразное решение. Ведь здесь необходимо было показать, как талантливый художник становится безумным в удушающей атмосфере, которая окружала его. Возможно ли «увидеть безумие » по радио? Режиссер Иоффе нашла удивительный путь к этому – тихое слово. Именно оно давало возможность понять состояние художника. «Заслуга режиссера этой постановки в том, -полагал исполнитель роли Павла Федотова Ю.Н. Пузырев, – что слово здесь минимально, а внутреннее наполнение – максимально».
Тонко чувствуя сочетание слова и музыки, Иоффе в постановке «Жизнь Микеланджело» по Р. Роллану в одной из сцен использовала пластинку с записью «Аве Мария» Баха в исполнении итальянского певца Джильи. В своем дневнике она запишет:
«Мне казалось, что можно и надо пойти на жертвы (пластинка шипит) во имя главного: эмоционального воздействия. Эта запись была использована тогда, когда в постановке шло описание фресок Микеланджело в Сикстинской капелле. Изумительный итальянский певец молитвенную мелодию Баха исполняет с такой неземной силой и страстью, с какой Микеланджело создавал свои гениальные фрески»8.
«Роза Иоффе умела поставить актеру такие увлекательные задачи, так раскрыть и повлечь за собой, что он забывал какие-то свои неловкости, которых он стеснялся, он раскрывался перед ней, как только мог, на все свои четыре створки – и вот это умение заворожить актера и за собой вести и давать ему свободу – это великое мастерство режиссерское, которым она обладала»9.
Она никогда не навязывала своей точки зрения, она строила радиопостановки вместе с актерами, но не делала это вместо них.
– Ты меня не копируй, ты сам лучше сделаешь.
Или просто:
– Это же не то!
И актеры, которым Роза Марковна помогала открывать себя, с удивлением обнаруживали:
– Оказывается, я это могу?!
Почему так происходило? Она выбирала тех актеров, в которых -она это чувствовала – видение материала совпадало с ее видением, с ее проникновением в образ. Она была точна в выборе актера. А ведь выбор – уже решение, уже прочтение вещи, уже нечто не случайное, а глубоко продуманное. Она была очень тактична в том, чтобы не навязывать свою интонацию, свои жесты, даже свой опыт. Она всегда бережно относилась к исполнителю – в конечном счете, исполнителю ее воли. Искусство режиссера, может быть, в том и заключается, что он вокруг актера создает микроклимат уважительного отношения, когда тот не чувствует стеснения, неловкости, необходимости исполнения каких-то однажды заданных интонаций и так далее.
Иоффе была убеждена, что режиссер должен угадать и постараться раскрыть возможности того или иного артиста, а не побуждать его повторять уже сыгранное раньше.
Замечательная актриса В. Гердрих вспоминала на одной из встреч с работниками радио: «Актер может и должен уметь все, утверждала Роза Марковна. И эта вера придавала уверенность артистам. Она считала, что нет ограничений амплуа даже в самом молодом возрасте. Кстати, – продолжала Гердрих, – к хорошему актеру в театре предъявляются все те же требования, какие Иоффе предъявляла к исполнителям на радио: актер должен быть пластичен, уметь двигаться, говорить, читать, петь, а если не петь, то уметь музыкально мыслить».
Слушателю, который следил за премьерами Розы Иоффе, не надо было дожидаться окончания передачи, чтобы узнать имя режиссера. Роза Марковна Иоффе работала в «Детском радиотеатре», но это принадлежность сугубо формальная – большинство ее спектаклей вызывали самую живую реакцию у слушателей всех возрастов. «Записываться у Иоффе» почитали за радость популярнейшие мастера. От своих учителей – прежде всего от О.Н. Абдулова – она унаследовала «чувство микрофона» и умение воспитать его в актере. Она владела изумительной способностью ставить исполнителю неожиданную задачу.
«Слушатель должен увидеть то, что мы ему играем». На ее репетициях и записях актеры самозабвенно обыгрывали воображаемую морскую бурю, скачки на лошадях, греблю, плавание, прыжки с крыши, мизансцены разрабатывались ею так скрупулезно, как будто она репетировала на обычных подмостках.
Не будет преувеличением сказать, что эксперименты Розы Иоффе за несколько десятилетий предугадали рождение и активное развитие принципиально нового направления аудиокультуры, которое в конце века получило название «арсакустика».
Уроки Иоффе оказались важны не только для ее непосредственных учеников, но и для тех, кто знаком был с работами Розы Марковны только как слушатель – в студию радио многие из этих «заочных» учеников режиссера Иоффе пришли тогда, когда ее собственный творческий путь был уже завершен.
Но для этих новых поколений актеров и режиссеров радиотеатра опыт Иоффе оказался величиной непреходящей ценности в современной культуре, в том числе и в радиоискусстве.
Сошлемся только на одно свидетельство.
Актер и режиссер О.Н. Ефремов, много, охотно и плодотворно работавший у микрофона различных редакций отечественного радио, однажды заметил в разговоре с автором этих строк, узнав о том, что я занимаюсь историей звукорежиссуры, и, в частности, творчеством P.M. Иоффе:
– Непреложных истин в нашем ремесле вообще-то очень мало, а может быть, и совсем нет. Профессию каждый открывает для себя заново. Но то, что открыла Роза Иоффе, на радиоспектаклях которой выросли и мы, и наши дети и будут расти, взрослеть и узнавать мир дети наших детей, – это все относится к аксиомам профессии. И еще много лет надо будет учиться творческому процессу у микрофона на основе этих аксиом.
Примечания
1 Иоффе Р. Что же главное? // Вопросы радиодраматургии. М., 1969.
2 Там же. С. 50.
3 Там же. С. 51.
4 Кавуновская Л.Я. «Открытия делают только отважные...» – Радиоискусство. Теория и практика. М., 1981. С. 141.
5 Иоффе Р. Слушая – видеть! // Советское радио и телевидение. 1962, № 7. С. 20.
6 Там же.
7 Там же.
8 Иоффе Р. Что такое «золотой фонд»? // Советское радио и телевидение. 1968, № 3. С. 23.
9 Сперантова В. А. Актер у микрофона. // Советское радио и телевидение. 1968, № 3. С. 18.
Глава 22 Андрей Тарковский – режиссер радио
Сначала два наблюдения мудрых людей.
«Мир звуков так же неисчерпаем, как неисчерпаема человеческая душа,» – так сказал Вагнер.
«Строго огранич. использ.» – Надпись на коробке с пленкой Д-73741 в фонотеке Гостелерадио СССР
Почти год Андрей Тарковский работал в студии Всесоюзного радио. Факт этот не известен не только широкой публике, но и большинству почитателей его таланта, а что самое неправомерное -многим профессиональным исследователям творчества великого кинорежиссера.
В начале 1988 года во Львове проходил симпозиум любителей кино и профессиональных искусствоведов, ставший учредительным съездом Общества Андрея Тарковского. Съехались знатоки и поклонники мастера из разных городов. За два дня прочли много интересных и важных докладов. Слово «радио», кажется, и произнесено не было.
Не лучше и за рубежом. Мне довелось участвовать в международной конференции в Берлине, посвященной проблемам киноязыка вообще и поискам Андрея Тарковского в частности. После сообщения, где упоминался радиоспектакль Тарковского, посыпались недоуменные вопросы:
– Вы оговорились?..
– Студенческая «проба пера»?..
И даже:
– Извините, но у вас есть доказательства? Нет, вы, конечно, меня простите, – слегка покраснела коллега из Будапешта, – но после смерти художника, особенно в эмиграции, бывают попытки всяких фантазий...
Мне ничего не оставалось, как достать кассету с записью спектакля и предложить аудитории послушать его начало. Узнав голос Никиты Михалкова, другой зарубежный коллега воскликнул: «Теперь я понимаю, почему господин Михалков в интервью мне заявил, что работать с актером он начинал учиться, общаясь непосредственно с Андреем Тарковским. Я думал, метафора. Михалков никогда не снимался у Тарковского... Но, кажется, не я один, а никто из присутствующих не знает, что у них есть совместная работа!»
Ранней весной 1965 года Андрей Тарковский завершил монтаж спектакля «Полный поворот кругом», поставленного им по заказу литературно-драматической редакции Всесоюзного радио. Сценарий по одноименному рассказу Уильяма Фолкнера он написал сам, музыку сочинил Вячеслав Овчинников, с которым режиссер работал над «Ивановым детством» и уже договорился о будущем «Рублёве». В главных ролях, кроме Никиты Михалкова, были заняты Александр Лазарев и Лев Дуров – начинающие актеры, ведомые узкому кругу любителей драматической сцены и не обремененные еще почетными званиями, наградами, лауреатскими медалями.
Художественный совет и руководство редакции спектакль приняли, и в соответствии с предварительной договоренностью направили его в фонд Радиокомитета.
Между «сдано в фонд» и «прошло в эфире» обычно располагаются максимум полтора-два месяца. Они нужны, чтобы подобрать наиболее удобное для аудитории время в «программе дня», организовать предварительное прослушивание в кругу рецензентов, подготовить рекламные материалы в газете, расшифровывающей содержание радио– и телевизионных передач.
На этот раз между завершением работы и премьерой прошло более двадцати двух лет.
* * *
В творческой биографии художника такого масштаба, как Андрей Тарковский, не бывает случайностей, обусловленных только бытовыми обстоятельствами или неожиданно возникшими профессиональными ситуациями. За каждым на первый взгляд внезапным «зигзагом» неизбежно встает железная логика художественного поиска, которая исследователю, да, впрочем, и очевидцу, становится отчетливо видна и понятна лишь в ретроспекции – и, увы, как правило, после завершения жизненного пути мастера.
Приход Андрея Тарковского в радиостудию не был случайностью, так же как и выбор материала для дебюта у микрофона. Да, была, конечно, весьма определенная жизненная коллизия: успех «Иванова детства» на фестивале 1962 года в Венеции, с одной стороны, и стоны кинопроката, не верящего в возможность заработать на фильме – с другой, не стимулировали быстрый запуск с новой картиной. Тарковский к этому, кстати, и не стремился. На столе уже лежали варианты сценария «Страсти по Андрею». Будущая лента требовала длительной – минимум несколько лет – подготовки -и организационно-творческой, и психологической. Летом шестьдесят третьего года Тарковский писал: «Не знаю, суждено ли мне осуществить по написанному сценарию фильм, но, если это окажется возможным, будущий фильм ни в коем случае не будет решен в духе исторического или биографического жанра... Актеры должны будут играть понятных им людей, подверженных, по сути дела, тем же чувствам, что и современный человек. Традицию котурн, на которые взбирается обычно исполнитель роли в исторической картине и которые незаметно превращаются в ходули по мере приближения окончания съемок, необходимо решительно отвергнуть»1.
А ведь на памяти у всех оставалась, да и в прокате продолжала идти с успехом бесконечная серия «Пироговых», «Пржевальских», «Белинских» и других картин, выпущенных по сталинскому заказу конца сороковых – начала пятидесятых годов, где соответствие школьно-этнографическому примитиву почиталось за главное достоинство. Грандиозная задача требовала времени, а время означало «простой», т. е. существование без зарплаты или, по крайней мере, без приличного гонорара. Так что быт действительно подталкивал к работе «на стороне».
Мне посчастливилось познакомиться с Андреем Арсеньевичем на съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». Потом мы довольно часто виделись в театре-студии «Современник», где я тогда работал, а Тарковский не только бывал на спектаклях, но частенько захаживал на традиционные «посиделки» – почти ежевечерне после спектакля в фойе или в подвальном «современниковском» кафе собирались режиссеры, актеры, писатели, дискутировали Илья Эренбург и Эрнст Неизвестный, Константин Симонов и Александр Солженицын, читали А. Вознесенский,
В. Аксёнов, В. Некрасов. А потом судьба распорядилась так, что в течение нескольких месяцев мы регулярно виделись с Тарковским в Студии на Телеграфе: Андрей Арсеньевич заканчивал там запись и монтаж своего радиоспектакля, а я приходил на репетиции цикла передач, для которых писал сценарий. Без той информации, которую дали разговоры с Тарковским, и без личных наблюдений над тем, как он работал в студии и в аппаратной, эта статья вряд ли могла быть написана.
Так вот, насколько мне известно, Тарковский выбирал между театром и радио. Он присматривался к возможностям труппы молодого театра-студии «Современник». В ту пору многие входившие в силу кинорежиссеры вели переговоры с О.Н. Ефремовым о возможности своего сценического дебюта. Марлен Хуциев уже репетировал миллеровский «Случай в Виши». Алексей Баталов готовился к постановке пьесы У. Гибсона «Двое на качелях», с именем Тарковского в труппе связывали сразу несколько названий.
Но он ушел на радио. И мне думается, решающим фактором здесь стал исходный литературный материал. В декабре 1963 года в библиотечке «Огонька» вышли два рассказа Фолкнера – «Полный поворот кругом» и «Осень в дельте». Первый из них был опубликован в журнале «Москва» в 1960 году и пользовался чрезвычайным вниманием в среде молодой художественной интеллигенции.
...С лейтенантом английского королевского флота Клодом Хоупом мы знакомимся в тот самый момент, когда он мертвецки пьяный укладывается спать прямо посреди улицы, перекрывая дорогу военным грузовикам. При ближайшем рассмотрении он оказывается сопливым юнцом, похожим на переодетую девушку: «на его бело-бирюзовом лице ярко синели глаза, а рот казался совсем девичьим». При еще более близком знакомстве – оно происходит с помощью американского летчика Богарта – выясняется, что этот мальчишка – камикадзе Первой мировой войны: он служит на торпедном катере, который предназначен для наведения смертоносной плавающей бомбы на цель с помощью собственного движения в сторону этой цели. Богарт, не подозревающий об этом, берет юного англичанина в полет, чтобы «показать ему хоть краешек настоящей войны». Хоуп заходится от восторга по любому поводу -обстрел вражеских зениток, невзорвавшаяся бомба, застрявшая под фюзеляжем, его нисколько не пугают. И только «ответный визит» Богарта на катер смертников и произведенный в его честь «боевой разворот» в нескольких метрах от борта вражеского крейсера позволяют мужественному капитану американских ВВС познать истоки бесшабашной удали юного англичанина, еще год назад собиравшегося путешествовать по Уэльсу с гувернером... Такова сюжетная нить рассказа.
Фолкнера, как и Хемингуэя, и Стейнбека, мы только открывали для себя, и обнаженная чистота этой прозы привлекала многих режиссеров возможностью их новой – собственной! – эстетической интерпретации.
Для радио в этом смысле существовали некоторые цензурные ограничения. Публикация в журнале в соответствии с многолетними традициями еще не давала оснований (не формальных, а реальных, практических) для включения рассказа Фолкнера в вещательные программы. Здесь неукоснительно срабатывало правило: «...то, что может быть допущено к исполнению в других местах, должно быть запрещено к передаче по радио»2.
Но библиотека «Огонек» – это уже другое дело. Напомню, что именно этот журнал был одним из законодателей официальной литературной моды.
В редакции радиотеатра работали тогда два драматурга – Андрей Вейцлер и Александр Мишарин. У них возникла идея включить фолкнеровскую новеллу в перспективный план постановок Всесоюзного радио. О режиссере в тот момент они не думали. Но и не зная об этой возможности, Тарковский уже был увлечен идеей инсценировки «Полного поворота кругом».
Мысль о киноверсии была им отвергнута сразу. Он знал о фильме Хоуарда Хоукса3, в написании сценария которого участвовал Фолкнер, но главное все-таки было в том, что все мысли и планы в кино были связаны с «Рублёвым». Сценическая версия отпадала из-за постановочной сложности. Так радио и Тарковский пошли друг другу навстречу.
Но все это внешняя канва событий. Суть, по моему убеждению, в том, что в радиопостановке «Полный поворот кругом» кинорежиссер Андрей Тарковский увидел возможность закрепить те важные для себя параметры, которые он определил за восемь месяцев работы над своим первым большим фильмом «Иваново детство». В 1964 году в сборнике «Когда фильм окончен» Тарковский начал свою статью таким пассажем: «Залог моего движения вперед я вижу в возможности проанализировать опыт „Иванова детства", в необходимости выработать твердую – пусть недолговременную – позицию во взгляде на эстетику кинематографа и в постановке перед собой задач, которые могут быть разрешены в процессе съемки следующего фильма.
Всю эту работу можно проделать умственно. Но в этом случае существует опасность необязательности окончательных выводов или замены логических звеньев интуитивными „мерцающими" связями»4.
Цитируемая статья ушла в набор как раз тогда, когда Тарковский приступил к работе над радиоспектаклем. Практическое воплощение рассказа Фолкнера как раз и помогало режиссеру избежать «замены логических звеньев „мерцающими связями"».
Для того чтобы эта мысль не показалась абсурдной (правомерно ли поиск кинематографических принципов совмещать с «искусством невидимых образов»?), достаточно обратить внимание на две вещи. Прежде всего – как поразительно совмещаются тематика и персонажи рассказов Богомолова и Фолкнера. И во-вторых – художественные открытия радиопостановки «Полный поворот кругом» нашли развитие в дальнейшем кинотворчестве Андрея Тарковского.
Но по порядку.
«За старательно изложенным военным эпизодом хотелось увидеть тяжкие изменения, которые вносит война в жизнь человека, в данном случае человека очень юного. Увидеть правдиво моменты ожесточения, сопротивления и показать внутреннее противоборство безумию военизированной смерти». Это написано Тарковским о фильме «Иваново детство»5. Но ведь этими же словами правомерно охарактеризовать и задачу радиоспектакля. За обыденными, со скрупулезной точностью описанными атакой торпедного катера и самолетным рейдом в тыл противника возникает не только «правдивая атмосфера войны с ее перенапряженной нервной конденсацией», но и «характер, созданный войной и поглощенный ею»6.
Тарковский писал о герое фильма «Иваново детство»: «Он сразу представился мне, как характер разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси. Бесконечно много, более того, все, что свойственно возрасту Ивана, безвозвратно ушло из его жизни. А за счет всего потерянного – приобретенное, как злой дар войны, сконцентрировалось в нем и напряглось»7.
Без каких-либо изменений эти слова стопроцентно применимы к главному герою радиоспектакля.
Форма выражения, внешние реакции у него, конечно, совсем иные, чем у персонажа фильма. Но ведь это лишь оболочка, обусловленная разницей чисто формальных обстоятельств места и времени действия, а суть одна – «характер, созданный войной и поглощенный ею». Не зря же авторы обоих произведений все время называют главного героя «мальчик», хотя в одном случае повествование посвящено пацану из русской деревни8, а в другом – юному отпрыску английской аристократической фамилии с погонами лейтенанта королевского флота на плечах.
Можно проследить и сюжетные совпадения. Оба героя гибнут прежде всего потому, что они молоды. Характеризуя Клода Хоупа, его литературный отец подчеркнул: «Тот из воинов, кто немного старше – дело даже не в опытности, а в самодисциплине, позволяющей ему взвесить, что он делает, где находится, – имеет шанс выжить там, где человек помоложе, хотя он столь же храбр, теряет жизнь... Зрелый человек лучше представляет себе, как выжить на войне, чем может представить подросток»9.
Фолкнер говорил это в апреле 1962 года в аудитории американской военной академии, где его слушали совсем юные курсанты и их наставники, умудренные опытом Второй мировой войны. И те и другие воспринимали литературный персонаж как своего ровесника, как участника той войны, в которой они сами заработали контузии и шрамы.
В том же шестьдесят втором году Андрей Тарковский писал о герое рассказа Богомолова: «Смерть героя имела свой особый смысл. Там, где у других авторов в подобных литературных ситуациях возникало утешительное продолжение, здесь наступал конец. Продолжения не следовало»10. (Эта формулировка дословно появится в нескольких статьях и интервью Тарковского.)
А выступая по радио в связи с премьерой фильма, режиссер был вынужден продлить ее.
«Почему вы считаете смерть Ивана обязательной?» – спросил у Тарковского беседовавший с ним репортер.
Последовал ответ: «Потому, что молодые расплачиваются за взрослых – таковы условия жизни и смерти на войне»11.
Поведение человека, который только вступает в жизнь, но уже оказывается в экстремальной, смертельно опасной ситуации, интересовало и волновало Тарковского еще и потому, что он готовился к съемке «Колокола» – заключительной новеллы фильма «Андрей Рублёв», где в совершенно других исторических условиях совершенно другому по свойствам личности персонажу, но столь же юному, как герои «Иванова детства» и «Полного поворота кругом», предстояло испытать на себе тяжесть не зависящей от него смертельной опасности, принять на себя бремя ответственности, непосильное даже людям, умудренным большим жизненным опытом.
В этом смысле, мне кажется, Тарковский смотрел на постановку «Полного поворота кругом» как на своеобразный полигон для проверки некоторых своих размышлений.
Но это был еще и полигон эстетических поисков. Выразительность звуковых решений, а точнее – возможности звука как средства психологического воздействия на зрителя кино чрезвычайно интересовали Тарковского.
Общеизвестно, что звуковые партитуры кинофильмов «Солярис», «Зеркало», «Ностальгия» не просто изощренно разработаны постановщиком, но содержат интереснейшие приемы бытовых натуралистических звуков в качестве символов с колоссальным семантическим наполнением. Особенно ярко это проявляется в финале кинофильма «Сталкер»: движимый взглядом ребенка, дребезжит на столе обыкновенный стакан. Мир замкнут до рамок комнаты, где этот стакан упадет на пол и разобьется. Границы комнаты раздвигает шум далекого поезда. Границу времени и самую перспективу бытия разорвет и обозначит бетховенская ода «К радости», звучащая вроде бы из радиорепродуктора как шум, ибо привычный нам в бытовых обстоятельствах фон работающего радио давно превратился в бытовой шум.
Такое сочетание как бы бытовых звуков, выполняющих на самом деле сложнейшую ассоциативно-идеологическую функцию, киноведами всего мира признано одним из замечательных достижений Андрея Тарковского. Но все эти приемы предварительно тщательно отрабатывались и проверялись в работе над радиоверсией рассказа Фолкнера в Студии на Телеграфе.
Построенный в 1928 году в здании Телеграфа на улице Горького радиоцентр и к началу 60-х годов оставался едва ли не лучшим по акустике помещением для звукозаписи в нашей стране. И технику здесь старались держать «на уровне». Но еще важнее, что с начала 30-х годов, когда Студия на Телеграфе была передана в распоряжение художественного вещания, здесь культивировался дух новаторских экспериментов. Звукорежиссеров, шумовиков и монтажниц не надо было уговаривать: «Давайте попробуем что-нибудь неожиданное». Идея любого эксперимента принималась с полуслова. Однажды, когда работа уже шла к концу, диспетчер распорядился выделить Тарковскому аппаратную не в Студии на Телеграфе, а в Радиодоме на улице Качалова, 24, где располагались редакция и ее руководство. Была ли это обычная безалаберность, или в этом распоряжении таился какой-то особый смысл, «мол, пусть будет поближе к глазам и уху начальства», никому не известно. Но и Тарковский, и его помощники – ассистент режиссера О. Фокина и редактор А. Мишарин долго ходили по разным этажам власти, с тем чтобы остаться на прежнем рабочем месте.
Проблема подлинного внутреннего единства изображения и звука интересовала Тарковского отнюдь не как проблема сугубо технологическая, но прежде всего как один из основополагающих принципов поэтического кино. Помнится, он несколько раз приводил пример того, как неточность в соединении пластики изображения и звуковой пластики разрушила превосходно найденную образную экранную интонацию. В фильме С. Бондарчука «Судьба человека» есть эпизод: Соколов, бежавший из плена, попадает на хлебное поле. Камера поднимается вверх над распластавшейся на земле фигурой человека, над волнующейся пшеницей, и уже вот-вот возникнет то самое ощущение воли, к которой вместе с героем стремится и душа зрителя... Но ничего не возникает, потому что на несколько мгновений раньше, чем следует, на фонограмме все заглушает собачий лай преследующих героя овчарок.
– Бондарчука подвел слух. Сюжет выдержан, – говорил Тарковский, – эмоциональное воздействие «на нуле ». А могло быть колоссальным...
Во время записи «Полного поворота кругом» у человека «со стороны» могло возникнуть впечатление, что он присутствует не на репетиции в студии, где каждая минута на счету, а на лабораторных упражнениях, где все участники – и актеры, и звукооператоры, и сам постановщик – с любопытством ожидают неведомого и никак не планируемого ими результата. Такое ощущение появлялось от бесконечного количества повторов и проб, в процессе которых задача и людям и технике практически не повторялась. Импровизационный ход работы над радиоспектаклем был обусловлен тем, что в новую для себя художественную сферу Тарковский с неумолимой последовательностью переносил принципы кинематографической выразительности.
Радио – искусство условное уже потому, что все жизненные реалии оно преподносит своей аудитории лишь через их отражение в звуке. Правомерно ли здесь обращение к художественным методам и приемам, разработанным в искусстве «противоположном», основанном на пластике изображения? Определяя специфику кинематографа как вида творческой деятельности Тарковский писал: «Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит, что кинообраз может воплощаться только в фактических, натуральных формах видимой и слышимой жизни... Чистота кинематографа, его незаменимая сила появляются не в символической остроте образов (пусть самой смелой), а в том, что эти образы выражают конкретность и неповторимость реального факта»12.
Естественно возникает вопрос – с какой мерой конкретности этот реальный факт способен отразиться в звуке? Еще на заре массового вещания и теоретики и практики радио достаточно быстро убедились, что и звуковой образ достигает своей цели лишь тогда, когда он воплощается – повторим вслед за Тарковским – в «фактических натуральных формах видимой и слышимой жизни». Вот только надо сразу заметить, что это воплощение происходит в воображении слушателя, вне зрительной реальности. Процесс этот неизбежен, ибо выражает объективную склонность восприятия окружающего мира. Физиолог И.М. Сеченов и его ученики прекрасно это показали13.
Но движение фантазии человека, когда он слушает радио, отнюдь не спонтанно и не хаотично. Опорными точками для него являются узнаваемые звуковые компоненты, автоматически, подсознательно соотносимые с тем или иным предметом, явлением, событием. Иначе говоря, конкретность жизненных фактов становится пунктирной линией, по которой развивается ассоциация.
На сходство, а не на противоположность природы и механизма рождения зрительных и звуковых образов первым обратил внимание С.М. Эйзенштейн, написавший о «полной природной одинаковости того образного начала, которое мы определили, как равно возникающее от звуковых и зрительных изображений. Они одинаковы даже в этой многообразности и вытекающей отсюда лабильности в установлении именно того образа, который нужно вычитывать»14.
Вольно или невольно, интуитивно или осознанно – теперь нам никогда не узнать, – но Тарковский следовал именно этой мысли Эйзенштейна. И уже не реальное пространство кинематографического кадра, но пространство незримое, возникающее в воображении слушателя он наполнял конкретными и точными фактами, предметами, поступками людей.
«Изображение должно быть натуралистично»15, – писал он накануне работы над «Рублёвым» и следовал этой формуле с необычайной тщательностью, разворачивая события, описанные Фолкнером, на невидимой сцене радиотеатра.
Первоначально инсценировку рассказа для радио собирались писать А. Вейцлер и А. Мишарин. Тарковский категорически этому воспротивился. И тут он следовал своим кинематографическим воззрениям: «Единственный, кто стоит между грудой исписанных страниц сценария, актером, выбранными натурными местами для съемки, пусть самым блистательнейшим диалогом, эскизами художника, – это режиссер и только режиссер, который является последним фильтром творческого процесса.
Поэтому всегда, когда сценарист и режиссер не один человек, мы будем свидетелями ничем не истребимого противоречия. Конечно, если имеются в виду принципиальные художники»16. Андрей Вейцлер от работы отошел, Александр Мишарин взял на себя функции режиссера передачи (его творческое содружество с А. Тарковским уже в качестве сценариста продолжится в кинематографе в работе над фильмом «Зеркало»).
Текст рассказа Фолкнера почти не подвергался изменениям. Авторские отступления практически без сокращений переданы Богарту – повествование теперь идет от его лица. Некоторые описания переведены в диалоги. Принципиально меняется лишь финал. У Фолкнера рассказ заканчивается газетным сообщением о гибели торпедного катера, на котором воевал Хоуп, и описанием «атаки мщения», совершенной Богартом на штаб корпуса противника.
Тарковский пишет сцену в офицерской столовой, где жизнерадостные американцы празднуют награждение Богарта за совершенный им подвиг. Торжественно звучит «приказ командования воздушными силами США о выдающейся доблести капитана Г.С. Богарта и его экипажа», ликующе хлопают пробки от шампанского, восторженные крики веселящихся летчиков сливаются в громогласную здравицу... А сам Богарт безуспешно старается объяснить своим подвыпившим товарищам, что у него не торжество, а поминки. Только демонстративно брошенная им на пол тяжелая кружка заставляет всех замолчать. И в наступившей тишине звучит финальная точка рассказа: «Эх, если бы они все были там в этом замке, – все генералы, адмиралы, президенты и короли – их, наши, все на свете...»
С поразительной тщательностью – непривычной для радиорежиссуры того времени – прописана в сценарии вся звуковая фактура будущего спектакля. Достоверность во всем – рабочий девиз Тарковского, и он добивается его воплощения всеми возможными способами.
Однажды я увидел его в коридоре Студии на Телеграфе с корреспондентским «Репортером». Этот магнитофон предназначался для оперативной журналистской работы и хоть был и неудобным, тяжелым, весил несколько килограммов, но писал прилично. Однако зачем он понадобился режиссеру радиотеатра?
На мой недоуменный взгляд Андрей ответил:
– Ездил за чайками...
Дело в том, что по его замыслу спектакль начинался и заканчивался шумом моря, далеким гудком парохода и криком чайки. Скомбинировать такую звуковую картину из фонотечных звукозаписей для профессионального «шумовика» было, как говорится, раз плюнуть. Но это и не устраивало Тарковского. Перебрав все возможные варианты «голоса чайки», хранившиеся на радио, на Мосфильме, в нескольких московских театрах, и не найдя подходящего, Тарковский взял на один день «Репортер», сел в рижский поезд и целый день пробродил по осеннему взморью, записывая, как кричат встревоженные птицы... Само собой разумеется, это была поездка за собственный счет.
Позволю себе высказать предположение, что и актеров Тарковский подбирал с учетом не только психологического, но возрастного и физического соответствия персонажам Фолкнера. Для радиотеатра это было непривычно и неожиданно. Здесь, напротив, особым шиком считалось приглашение на роль человека, чей внешний облик противоречил авторскому представлению о персонаже. Существовала даже специальная теория – раз актера не видно, то у микрофона он, во-первых, может сыграть роль, которая никогда не достанется ему в театре из-за физического несоответствия, а во-вторых, будет даже убедительнее, так как, преодолевая это несоответствие, активизирует темперамент.
У Тарковского Клоду Хоупу – семнадцать-восемнадцать лет, Никите Михалкову к началу работы только-только исполнилось 18. Капитану Богарту – 25. «Лицо худощавое, продолговатое, глаза умные и чуть-чуть усталые». Александру Лазареву – двадцать пять с хвостиком, и все остальное соответствует. И так далее, вплоть до исполнителя роли юного разносчика из кафе «Двенадцать часов» Андрея Терёхина.
Поначалу роль Богарта предназначалась Владимиру Высоцкому. Режиссера и артиста к тому времени связывали близкие, дружеские отношения. Почему Тарковский отказался от этого варианта? Можно только догадываться, хотя определенный намек есть в отзыве Тарковского о спектакле «Жизнь Галилея», где в заглавной роли выступил Высоцкий: «Он так выразителен с первого своего слова, что других почти не слышишь».
И на радио Тарковский стремился к ансамблевому звучанию. Эффект «голоса Высоцкого», распространившийся в аудитории позднее, с миллионным тиражированием его песен, был предугадан Тарковским на заре творческой славы артиста. Лазарев «вписывался» точнее.
Все это – слагаемые атмосферы, которую создавал у микрофона Андрей Тарковский, восстанавливая в правах традиции и эстетические закономерности жанра «слуховой пьесы».
Понятие о «слуховой пьесе» пришло на радио с драматической сцены, где обозначало попытки выстроить звуковую среду спектакля не имитацией – с помощью всевозможных театральных приспособлений, а «натуральными шумами». Наиболее яркий и известный пример – подлинный пулемет «Максим» в спектакле Вс. Мейерхольда «Последний решительный», стрелявший обычными (холостыми, конечно) патронами в зрительный зал.
Как пересекается творческая мысль больших мастеров! У Мейерхольда в «Последнем решительном» в том самом эпизоде с пулеметом (он называется «Застава № 6» и рассказывает о гибели пограничников) трагизм ситуации подчеркивается льющейся из радиоприемника веселой песенкой известного французского шансонье Мориса Шевалье. В «Полном повороте кругом» есть сцена в кафе «Двенадцать часов»: после «боевого разворота» на торпедном катере капитан Богарт приходит сюда заказать и отправить в канаву, где уже устроился Хоуп, ящик виски. После ужаса, пережитого вместе с Богартом во время морской атаки, слушателя не покидает ощущение близости неизбежной смерти юного лейтенанта королевского флота. В нашем восприятии он уже отъединен от всего нормального и живого, и, чтобы усилить это впечатление, Тарковский вводит тот же воркующий фокстрот Мориса Шевалье, что звучал и у Мейерхольда в «Заставе № 6».
Поиск «натурального» звукового фона на радио был связан все же не с установкой настоящих пулеметов перед микрофоном или постройкой прямо в студии загона для живых овец. (Хотя и такое было!) Но все-таки суть «слуховой пьесы» была в ином: в переносе сюжетообразующей функции и ряда смысловых акцентов с речи персонажей на музыкально-шумовое ее сопровождение. Звуковой фон в этом случае не просто выполнял роль декорации, создавая пластический образ места действия, но воспроизводил его эмоциональную атмосферу, выявлял побудительные мотивы в поведении героев. Наибольшего успеха в этом добился у микрофона Мейерхольд в постановке пушкинского «Каменного гостя».
Тарковский был чрезвычайно заинтересован этим опытом, и не один наш разговор был посвящен этой теме17. В частности, его заинтересовало решение сцены в монастыре, первая встреча Дон Гуана с Доной Анной. О ней вспоминали все без исключения очевидцы работы Мейерхольда и те слушатели, кто сохранил в памяти замечательный радиоспектакль.
Тарковский решил проверить – с достаточной ли полнотой отразилась в этом эпизоде звуковая среда действия. Он отправился, кажется, в Донской монастырь, взял две разные связки ключей и сам произвел все действия, обозначенные Пушкиным. Выяснил, что Мейерхольд не упустил ничего. Но потом все-таки добавил:
– Впрочем, если был ветер, то надо бы добавить шум листвы.
Ему возразили:
– Но у Пушкина о ветре не сказано, а уж он бы не упустил такую деталь. Значит, в тот день в Мадриде ветра не было.
Интересовали Тарковского и зарубежные опыты в жанре «слуховой пьесы», достаточно широко распространенной в конце 20-х – начале 30-х годов, особенно на берлинском радио, – радиопьесы и спектакли Бишофа, Толлера, Кесснера, размышления Кракауэра, частично вошедшие позднее в книгу «Природа фильма»18.
«Мне кажется, что одним из главнейших обстоятельств эстетической достоверности фильма является сейчас режиссерско-операторское чувство фактуры. Успех зависит от умения режиссера задумать и найти конкретную среду, от умения оператора „впитать ее“», – выражал Андрей Тарковский свое кредо19.
Но как раз это самое чувство фактуры на радио было утеряно и режиссерами, и звукооператорами. Открытия Мейерхольда и других мастеров, работавших у микрофона в 30-е годы, тогда же были прочно похоронены. Тому есть много причин, подробный разговор о них выходит за рамки нашей темы, и важно лишь заметить, что в течение почти 30 лет на радио главенствовал стиль звуко-шумового иллюстрирования слова. В лучшем случае шумы и музыка дублировали слова, не имея при этом никакой самостоятельной нагрузки. Это был «шум» – в буквальном смысле этого понятия, часто мешавший человеческой речи. И уже как реакция появилась концепция особой «специфики радио», заключающейся в том, что в этом искусстве аксиоматичен примат слова, а следовательно, существует ли оно в реальной атмосфере события или в стилизованной тишине студии – факт, не имеющий принципиального значения. Нельзя сказать, что на этом пути совсем не было никаких достижений. Но они были скорее исключениями, их добивались выдающиеся мастера, находившие свой собственный словесно-выразительный почерк в оригинальных сочинениях речи и музыки. А в абсолютном большинстве следование обозначенной выше «специфике» приводило к безответственной звуковой стерилизации радиотеатра. Своим радиоспектаклем Андрей Тарковский возвращал радио познание его собственной природы и неисчерпаемых художественных возможностей.
Эксперимент у микрофона был проведен с присущей ему художественной смелостью и тягой к разрушению привычных эстетических параметров. Он создает десятки вариантов конкретных шумов, удивительных по точности воспроизведения жизни. При этом использует восьмикратное «наложение» – одновременное соединение музыки и шумов. Скажем, в сцене торпедной атаки можно уловить стук падающих на палубу гильз от стреляющего пулемета – «третьеплановый» шум, – в этот миг воздух «пропитан» шумом моря, грохотом мотора торпедного катера, воем сирены и т. д. На первый взгляд может показаться, что этот звук – падающих гильз – вообще лишний. Но если его убрать, теряется полифония боя.
В кинематографе Тарковский восхищался деталью, через которую автор способен выразить суть и настроение происходящего. Так, он часто говорил и писал об одном эпизоде в фильме Бюнюэ-ля «Назарин», действие которого происходит в деревне, где свирепствует чума. По пустой улице идет ребенок и волочит за собой белую простыню. Ребенок идет на общем плане, медленно приближается к камере, и на какое-то мгновение эта белая ткань перекрывает полностью экран – «тут вы с удивительной силой ощущаете „дуновение чумы“, схваченное прямо-таки невероятным образом, как медицинский факт»20.
Подобную деталь сам Тарковский находит, исследуя ситуацию воздушного боя, который ведет капитан Богарт, взявший с собой в полет прежде неизвестного ему английского морячка. Самолет прорывается сквозь зенитный огонь, пикирует на цель, и тут навстречу реву его мотора и треску пулеметов начинает подниматься с земли гудок сирены – оповещение о бомбежке. Чем неотвратимее бомбовый удар, тем сильнее и острее уже не гудок, а крик сирены, словно вбирающий в себя ужас людей, на головы которых сейчас с неба полетит смерть. На мгновение этот вой заглушает все остальные звуки, в нем концентрируется неизбежность и бессмысленность убийства, которую несет незнакомым ему людям в общем-то неплохой американский парень, капитан ВВС США Г.С. Богарт. И уже не покажется нам избыточным тот кошмар, в который погружает Богарта автор радиоспектакля в одной из следующих сцен, когда летчик сам становится пассажиром на борту катера смертников.
В этом месте спектакля А. Тарковский добивается поразительного по силе воздействия на аудиторию эффекта, устроив «момент полной тишины». Поначалу Богарт коротко комментирует происходящее, и этого вполне достаточно, чтобы в сочетании с диалогами остальных действующих лиц ясно представить себе атмосферу торпедной атаки. Но постепенно от связной речи Богарта остаются короткие эмоциональные вскрики, разборчивы только команды английских офицеров. Возникает ощущение боя, который никогда не кончится. В тот момент, когда в ожидании страшной развязки Богарт от напряжения теряет сознание, режиссер на секунду выключает запись – только на секунду, чтобы слушатель не успел засечь этот технический прием, а воспринял его выражением своего эмоционального состояния. Вслед за последним, полубессознательным выкриком героя наступает мертвая тишина. Мертвая в буквальном смысле слова – ибо режиссер позволяет себе так называемую «чистую паузу»: пленка на магнитофоне движется, но на нее ничего не пишется. Таким образом Андрей Тарковский фиксирует сознание Богарта, физически выключенное из контакта с окружающей средой. Пауза при проверке секундомером оказывается на полминуты, но при прослушивании воспринимается мгновением, в которое слушатель лишь успевает перевести дыхание. Только после этой паузы вступает шум набегающей на берег волны, шум, чем-то похожий на выдох. Слушатель вместе с героем медленно и постепенно возвращается из небытия обморока в живой мир – плещет волна, кричат чайки...
Однако настойчиво неприятие неожиданного в искусстве. В том виде, как она описана здесь, сцена торпедной атаки существует лишь в «негативе» радиоспектакля (первой, исходной звукозаписи) да на страницах книги Т.А. Марченко «Радиотеатр», которая успела прослушать «Полный поворот кругом» в оригинале. Каждый раз, когда звукооператоры Радиокомитета получали задание снять копию, они «вырезали» паузу, посчитав ее «техническим браком».
После первого прослушивания на Тарковского обрушился такой шквал недоуменных вопросов, что он, кажется, единственный раз сдался: он попросил В. Овчинникова «записать две-три ноты на литаврах» и заменил ими злополучную паузу. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что для этой маленькой капитуляции у Тарковского были основания. Ибо к этому моменту работы ему стал очевиден конфликт, который неизбежно должен был возникнуть между техникой и творчеством. Ювелирная точность его режиссерских решений, многообразие постановочной палитры способны проявиться лишь при прослушивании на радиоприемниках суперкласса, да и то включенных на полную мощность. Большинство транзисторов и трехпрограммных репродукторов многослойную звуковую структуру этого спектакля передать не в состоянии по своим техническим характеристикам. По крайней мере, это касалось той техники, которая была у большинства слушателей к середине 60-х годов. Тарковский и здесь работал на будущее.
Еще одно изменение связано с финалом спектакля. В редакции были очень обеспокоены отсутствием назидательно-дидактического комментария, который, по сложившимся традициям, должен был объяснить даже самому глупому слушателю, что такое – хорошо, а что такое – плохо.
«А поймет ли вас Мария Ивановна?» – этот вопрос безо всякой иронии обращали к любому автору любой радиопередачи – Тарковскому его задавали неоднократно. Впрочем, для него иногда находили более интеллигентную форму: «Вы должны выразить свою гражданскую позицию!..»
Привыкший к подобным советам Тарковский отвечал обычно, что художник свое волнение и свой гражданский пафос выражает опосредованно, «превращая в олимпийское спокойствие формы». И отношение его к описываемой драме должно вытекать из целостности произведения.
Но в редакции настаивали, и тогда Тарковский включил в окончательный вариант фразу, которая вырвалась у исполнителя на одной из репетиций. Лазарев произнес слова о чужих и своих генералах, спрятавшихся в замках, разбросанных по всей Европе, но не остановился, а словно выплюнул в их адрес: «Мерзавцы! Они их ногтя не стоят», представив себе миллионы Клодов, Майклов, Иванов и Гансов, одинаково бессмысленно погибших под разными военными знаменами. Эта фраза стала кульминацией финала, ее продолжил взрыв трагической музыки Вячеслава Овчинникова. А потом над тихо плещущими волнами, над мирными пароходами, над играющими у берега чайками зазвучал перезвон колоколов -тех самых, о которых думал Хемингуэй, начиная свой великий роман словами Джона Донна: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».
А теперь о трагической судьбе этого спектакля, который специалистами во всем мире считается образцом радиотрагедии.
Прослушивание всякой мало-мальски значительной работы не «своего», а приглашенного режиссера устраивалось в кабинете главного редактора, куда созывались не только непосредственные участники, но и ведущие журналисты редакции, а иногда и посторонние – критики, в благонадежном отношении которых руководство не сомневалось. Бутербродов и чая не подавали, но ситро и нарзан на маленьком столике возле студийного магнитофона обозначали важность события. По крайней мере, именно такие привычки сложились в редакции в эпоху «оттепели» конца 50-х -начала 60-х годов.
На прослушивание «Полного поворота кругом» «посторонних» не пускали, исполнителей не звали и ситро в буфете не заказывали. Главным редактором в ту пору служил К.С. Кузаков – седоватый человек с тихим вкрадчивым голосом и всеохватными связями в различных инстанциях. Поговаривали – шепотом, разумеется, -что он «туруханский » сын Сталина. Правда это или выдумка – никто толком не знал, но возможности у этого человека были действительно беспредельные. Потому ли, что носил он фамилию урядника из Туруханского края или просто из-за длительной работы в аппарате ЦК партии, где в послевоенные годы он заведовал кинематографией, но разнообразные начальники «на самом верху» относились к нему с подчеркнутым уважением и доверием, а председатели Радиокомитета и их заместители его слегка побаивались.
Я хорошо помню такой эпизод. К.С. Кузаков снял с эфира уже принятую редакцией передачу, автором которой был доктор филологических наук, писатель З.С. Паперный – на том основании, что фамилия последнего упоминалась в критической статье центральной газеты. Узнав об этом от редактора передачи, Паперный отправил возмущенную телеграмму на имя М.А. Суслова. Телеграмма ушла в десять часов вечера. В десять утра следующего дня Кузаков пригласил к себе редактора, выдвинул ящик своего стола, небрежно вытащил оттуда телеграмму, накануне отправленную в адрес члена Президиума ЦК КПСС, второго секретаря Центрального Комитета партии, протянул ее редактору и снисходительным тоном заговорил, делая большие паузы между предложениями:
– Ну куда он торопится?.. Придет время, может быть, мы и дадим эту передачу, раз уж потратились на нее... А он жалуется... Зачем, не понимаю?.. Объясните товарищу Паперному... Пока вы у нас работаете...
И хотя К.С. Кузаков очень чисто говорил по-русски, подчиненному в его словах весьма отчетливо послышался грузинский акцент.
Этот человек и решал судьбу радиоспектакля Андрея Тарковского.
Я абсолютно уверен – никакие идейно-эстетические проблемы его не интересовали, никакие художественные достоинства или недостатки передачи никоим образом не волновали. Единственное, что имело для него значение, – место режиссера А. Тарковского в официальной «табели о рангах» и готовность художника вписаться в тот социально-идеологический поворот, который осуществляло новое руководство страны после октября 1964 года.
За Тарковского в глазах Кузакова был успех «Иванова детства», «Золотой лев» XXIII Венецианского фестиваля... Против – сам Тарковский, с раскованностью мышления, с подлинными, а не имитированными муками творчества, с желанием нести людям кровь своего сердца, а не клюквенный сок еще Блоком описанных полу-роботов и полуманекенов.
Шла ранняя весна 1965 года. Еще многим из нас казалось, что свобода творчества снизойдет к нам с высоты трибуны, на которой осуждались хрущевский волюнтаризм в экономике и в искусстве. Еще не был снят ни один кадр «Андрея Рублёва», еще далеко было до трагических исповедей «Зеркала» и «Сталкера», но кузаковы и сусловы отлично знали, что Тарковский их враг – не потому, что снимает непонятные им («а значит, и народу!») кинокартины, а потому, что органически не способен «вписываться» ни в какие политические повороты истории, ибо судьбой ему предназначено творить, а не копировать.
Набор претензий был достаточно шаблонным (цитирую по протокольной записи обсуждения):
– Как у вас в конце? «Если бы они все были там, в разбомбленном замке – все генералы, адмиралы, президенты и короли – их, наши, все на свете. Мерзавцы!»? – переспросил главный редактор.
– Пацифизм! – продолжил мысль шефа его заместитель.
– И музыка у вас какая-то абстрактная, непонятная простому слушателю, – поддержал второй заместитель.
– А простому слушателю здесь все будет непонятно, – сказала заведующая отделом прозы и поэзии народов СССР, – ему же не продраться сквозь все эти выстрелы. – И, повернувшись к режиссеру, ласково посоветовала: – Вы весь этот шум уберите, а поставьте что-нибудь благородное, ну хоть Седьмую симфонию Шостаковича, например.
– А я хотел бы обратить внимание, – встал заведующий отделом публицистики, – что у вас актеры все время кричат, так, наверное, нельзя, простой слушатель быстро устанет...
И тут снова вступил Кузаков. Оценив рвение подчиненных, их умение понимать точку зрения начальства с полуслова, он заметил, что хотел бы не согласиться со столь резкими претензиями, что уважаемый Андрей Арсеньевич вложил большой труд, что спектакль, «несмотря на справедливо указанные здесь некоторые недостатки, отличают несомненные достоинства... И что ему лично представляется необходимым совместить разные оценки и горячих поклонников, и критиков спектакля в точном времени и месте для премьеры, которое надо будет поискать в сетке вещания очень внимательно, разумеется, „в рабочем порядке", не утруждая этим вопросом присутствующих...».
(А надо сказать, что обычно делали наоборот – в завершение дискуссии определяли точную дату и время премьеры.)
Хорошо зная смысл подобной фразы, Мишарин выдвинул последний аргумент: редакция не выполнит план, если передача не выйдет в эфир...
– Этот вопрос мы решим, – усмехнулся Кузаков и пожелал «многоуважаемому Андрею Арсеньевичу дальнейших творческих успехов, от лица всех присутствующих выражая надежду, что он будет продолжать дальнейшее творческое содружество с редакцией».
Интеллектуальную пытку, устроенную затем Тарковскому, словами описать трудно. Слова были корректны, даже уважительны. Интонации – издевательскими.
Андрей Арсеньевич пытался что-то объяснить, говорил о всеохватности милитаристского воспитания, о том, что отсутствие отвращения к убийству себе подобных ведет к физическому уничтожению людей на Земле. За ним вскочил Андрей Вейцлер и горячо начал убеждать коллег в том, что они присутствуют при рождении нового шедевра культуры...
Их слушали спокойно, сонно, с некоторым недоумением. (Я цитирую дословно, хотя протокольная запись официального совещания в этом месте становится похожей на сатирическую юмореску):
– А ведь никто не возражает, после того как сам Константин Степанович (Кузаков. – А.Ш.) тоже отметил про достоинства. Но ведь и на Солнце бывают пятна...
– Кажется, мы все здесь доброжелательно стремимся к тому, чтобы наше советское художественное вещание было чистым, как стеклышко...
– Мне кажется правильным закончить дискуссию, ведь деньги свои вы, разумеется, получите полностью... А место в эфире мы найдем удобное и для вас, и для слушателей.
Нашли. В структуре вещания Всесоюзного радио есть так называемые «дубль-программы» – повтор передач для жителей разных регионов с учетом меняющихся часовых поясов. Обычно это полный дубликат первой программы. На сей раз в программе IVB (для жителей Средней Азии и Зауралья) вынули вечерний концерт классической музыки и вместо него 14 апреля 1965 года поставили радиоспектакль «Полный поворот кругом».
Тарковский начал протестовать. Мишарин и Вейцлер добились того, что спектакль был тиражирован Главным управлением местного вещания и разослан по республиканским радиокомитетам. Рулоны с пленкой были пересланы в Ригу, в Киев, в Тбилиси и там прочно встали на самые дальние полки в хранилищах звукозаписей.
Тарковский обращается к председателю Радиокомитета Н.Н. Месяцеву. Тот дает указание «повторить передачу по одной из всесоюзных программ». 29 апреля 1966 года спектакль звучит в программе ультракоротких волн, т. е. практически остается недоступным слушателю. Во-первых, программы УКВ никак не анонсируются заранее, а во-вторых – и это главное, – принимать их может крайне ограниченное число радиоприемников.
После этого «Полный поворот кругом» постарались окончательно забыть. Он не упоминается ни в одном из каталогов «Радиотеатра» – а их множество, по разным поводам выпускаемых Гостелерадио СССР. Карточка с выходными данными спектакля была изъята из фонотеки Всесоюзного радио. Сама звукозапись сохранилась чудом – только потому, что регулярно менявшиеся руководители вещания и фонотеки или ничего не знали об этой передаче, или считали ее давно размагниченной. Спектакль упоминался в двух-трех книгах по истории радиоискусства, и это позволило включить его в учебную программу для будущих журналистов МГУ и театроведов московского ГИТИСа и ленинградского Института театра, музыки и кино. В начале 80-х последовал категорический запрет не только слушать и изучать, но даже и называть эту работу Тарковского публично в студенческой аудитории.
Между тем в узком кругу профессионалов радиорежиссуры «Полный поворот кругом» оставался едва ли не эталоном стиля, вызывающим огромный интерес. На новом витке технического развития радио (в условиях предварительной звукозаписи) А. Тарковский подтверждал законы и методы режиссуры у микрофона, теоретически разработанные С. Эйзенштейном и эмпирически найденные Вс. Мейерхольдом еще в эпоху так называемого «живого» вещания.
Самое главное – умение обозначить ведущую и единую интонацию радиоспектакля. Андрей Тарковский заново создал систему художественных аргументов, подтверждающих генеральную технологическую идею радиоискусства – в театре у микрофона интонация передает смысл в большей степени, чем словесная ткань, ибо в первую очередь она формирует ассоциацию слушателя. «Полный поворот кругом» позволяет теоретикам и практикам аудиокультуры вывести принцип организации эмоциональной среды радиопредставления: в речи, музыке и шумовых компонентах общей звуковой структуры выявляются акценты, точки возможного пересечения, при совмещении которых и возникает единая мелодия. Особое значение при этом получает совпадение или противопоставление ритмических основ литературного текста, голоса исполнителя, музыки и шумов.
Опыт «Полного поворота кругом» – бесценен. Можно не принимать ту или иную конкретную краску с режиссерской палитры Тарковского. Но не учитывать закономерность их композиционных сочетаний в звуковой пластике искусства незримых образов уже нельзя. Не случайно развитие приемов, использованных впервые Тарковским в работе над фолкнеровским рассказом, достаточно отчетливо просматривается в радиопрактике многих мастеров театра и кино – в том числе и очень далеких ему по своим эстетическим пристрастиям. В этом смысле мне кажется примечательным такое наблюдение А.В. Эфроса.
Обсуждали его блистательную постановку «Мартина Идена» с Владимиром Высоцким в главной роли. В этом спектакле режиссер вообще отказался от каких-либо звуковых эффектов, обозначенных в тексте инсценировки. Шум фабрики... Скрип ворот... Звуки оживленной улицы... Гул пароходной турбины... Все заменяет музыка. В разговоре – по контрасту – вспомнили «Полный поворот кругом». И Эфрос сказал:
– Конечно, по стилистике это очень разные вещи, но мне кажется, тут есть общий принцип, с разных сторон мы с Тарковским шли к одной цели – к точности сопоставления слова и всех других выразительных средств радио, к их взаимному сопоставлению...
Когда приехали в гости на родину «Ностальгия» и «Жертвоприношение», очередной главный редактор литературно-художественного вещания Анатолий Высторобец обратился в архив с просьбой – поискать хотя бы отдельные фрагменты радиоспектакля «Полный поворот кругом» и предложил руководству Радиокомитета «заново организовать премьеру». После нескольких месяцев размышлений разрешение было дано, но с условием: на третью программу, никакого шума вокруг этой работы не поднимать и никакой рекламы не устраивать. Газета «Говорит и показывает Москва» не сочла возможным опубликовать хотя бы несколько строк, связанных с выходом «Полного поворота кругом» в относительно широкую аудиторию. (По данным Технического управления Гостелерадио, III программу Всесоюзного радио принимает около 35% населения на 15% территории страны.) Без каких бы то ни было специальных объявлений радиоспектакль Андрея Тарковского «Полный поворот кругом» был передан в 19 часов 30 минут вечера 26 сентября 1987 года и на повтор не заявлен.
Новая – нормальная – судьба радиоспектакля началась в 90-е годы. Но это уже совсем другая история.
Примечания
1 Тарковский А. Когда фильм окончен. М., 1964. С. 169, 171.
2 ЦГА РСФСР, ф. 2306, ст.69, д-571, л. 49 об.
3 В 1933 г. американский режиссер X. Хоукс снял фильм «Сегодня мы живы» по мотивам рассказа У. Фолкнера «Полный поворот кругом».
4 Тарковский А. Когда фильм окончен. С. 137-138.
5 Тарковский А. Между двумя фильмами. // Искусство кино. 1962, № 11. С. 82.
6 Там же.
7 Тарковский А. Когда фильм окончен. С. 141.
8 Правомерно говорить о близости героя рассказа У. Фолкнера не персонажу рассказа В. Богомолова, а герою фильма А. Тарковского. В рассказе В. Богомолова Ивану всего одиннадцать лет. В фильме ему примерно 15-16.
9 Фолкнер У. Статьи. Речи. Интервью. Письма. М., 1985. С. 386, 375.
10 Тарковский А. Когда фильм окончен. С. 140.
11 Новости современного искусства. Обозрение. Всесоюзное радио. 26 сентября 1962 г. Архив Гостелерадио СССР.
12 Тарковский А. Запечатленное время. – В кн.: Вопросы киноискусства. Вып. 10. М., 1967. С. 90-91.
13 И.М. Сеченов указывал, что малейший внешний намек на часть влечет за собой воспроизведение целой ассоциации. Если дана, например, ассоциация зрительно-осязательно-слуховая, то при малейшем внешнем намеке на ее часть, то есть при самом слабом возбуждении зрительного, или слухового, или осязательного нерва формой или звуком, заключающимися в ассоциации, в сознании воспроизводится она целиком. Это явление встречается на каждом шагу в сознательной жизни человека. Следовательно, звук в передаче радио через звуковое восприятие способен вызвать ощущение пластического облика предмета – формы, линии, цвета, его движения в пространстве, воспроизвести облик человека и разнообразные чувства, владеющие этим человеком, – радость, горе, боль, наслаждение и т. д. Реалии подлинной жизни мы воспринимаем через радио не только как слышимое, но и как видимое, ощущаемое и т. д. См. подробно: Подкопаев Н. Радиопередача с точки зрения физиологии // Радиослушатель. 1930, № 18. С. 3.
14 Эйзенштейн С.М. Монтаж тонфильма. – В кн.: Из творческого наследия С. Эйзенштейна. М., 1985. С. 59.
15 Тарковский А. Запечатленное время. – В кн.: Вопросы киноискусства. Вып. 10. М., 1967. С. 90.
16 Тарковский А. Когда фильм окончен. С. 142.
17 В начале 60-х годов автор этих строк занимался сбором и анализом материалов, характеризующих работу Вс. Мейерхольда на Всесоюзном радио.
18 Книга Кракауэра Э. «Природа фильма» вышла на английском языке в 1960 г. Судя по разговорам с А. Тарковским, к началу работы его на радио он хорошо знал этот труд, а разделы «Диалог и звук» и «Музыка» были, как он выразился, «толчком и поводом к поиску, который хотелось реализовать сначала в радиоэфире, а затем в пространстве и времени киноэкрана».
19 Тарковский А. Между двумя фильмами // Искусство кино. 1962, № 11. С. 84.
20 Тарковский А. Запечатленное время. – В кн.: Вопросы киноискусства. Вып. 10. М., 1967. С. 92.
Глава 23 Анатолий Эфрос в радиостудии
Анатолий Эфрос пришел в радиостудию уже опытным театральным мастером. Впрочем, справедливо заметить, что уже самые первые его театральные работы часто получали эфирную версию или хотя бы репортажный «звуковой отчет» о спектакле в программах Всесоюзного радио – правда, реже в передачах «Театра у микрофона», а чаще небольшими фрагментами в детской радиогазете «Пионерская зорька» и других информационно-развлекательных программах детского вещания.
Эфрос уже первыми своими сочинениями на сцене Центрального детского театра заявил себя как интересный, часто неожиданный в своих художественных решениях мастер, и редакторы Всесоюзного радио отслеживали его новые работы – тем более что авторами его первых спектаклей были драматурги, не вызывавшие никаких сомнений у Радиокомитета. В 1954 году С. Михалков и его «Чужая роль», в 1955-м – Н. Погодин («Мы втроем поехали на целину»), в 1957 году – пушкинский «Борис Годунов», а потом – первые пьесы обласканного цензурой Виктора Розова и еще целый ряд драматургических произведений, вполне соответствующих «новым веяниям в культуре и жизни». И тут мы должны отметить, что Эфрос с необычайной для тогдашней театральной режиссуры серьезностью и тщательностью отнесся к поиску приемов и методов переноса театрального спектакля со сценических подмостков в эфир.
С самых первых своих опытов он не декларировал, но на практике утверждал незыблемое правило театра у микрофона – процесс перевода сценического представления со сцены в эфир не рационален, а если не играть словами, просто не имеет смысла и перспектив без личного участия режиссера-постановщика в этом процессе радиоадаптации театрального представления. Поэтому Эфрос категорически отвергал метод, привычный для многих работников радио: бригада со звукозаписывающей аппаратурой приезжает на одно из представлений нового спектакля, записывает его на пленку, потом быстро монтирует запись, доводя ее до предоставленных сеткой вещания размеров, «дописывает» короткий и, как правило, максимально нейтральный пояснительный текст, и этот материал, который справедливо назвать в лучшем случае не художественным произведением, а звуковым отчетом о той или иной постановке, «выдает в эфир».
Олег Николаевич Ефремов в то время, о котором мы говорим, был одним из ведущих актеров Центрального детского театра, участвовал во многих постановках режиссера А. Эфроса и соответственно в создании их радиоверсий, позднее вспоминал об особенностях режиссерской работы Эфроса в радиостудии:
– Весь спектакль, а ключевые сцены в отдельности, мы часто заново репетировали перед микрофоном, при этом проверялось не только и не столько звучание той или иной отдельной реплики или монолога, если он был в тексте, проверялась реализация весьма определенной художественной задачи. А именно – удалось ли в диалоге актеров, в их репликах, в их общении воссоздать ту общую интонационную атмосферу спектакля, ту чувственную атмосферу, которая соответствовала этому диалогу, когда он звучал на сцене. Иначе говоря – удалось ли у микрофона воссоздать не просто звуковую мизансцену, определенную мизансценой театральной и обусловленную предварительным разбором психологии персонажей и мотивацией их поступков еще в «застольный период репетиции», или нет. И если, по мнению Эфроса, эта задача оказывалась не реализованной, он настаивал на повторной записи этой сцены. Поэтому радиозаписи многих его спектаклей – особенно начального периода творчества (пьес Розова и других авторов, поставленных в ЦДТ), – это, по сути, «оригинальные» произведения, справедливо входящие в фонд лучших работ Всесоюзного радио, в фонд, который по его реальной значимости и ценности именуется «золотым».
Это не значит, – продолжал О.Н. Ефремов, – что Эфрос добивался точного «до буквы» соответствия звучания актера у микрофона, звучанию голоса его персонажа на сцене. Напротив, Анатолий Васильевич был открыт всякой импровизации исполнителя, радовался и приветствовал такие импровизации, – разумеется, если они не нарушали заранее выверенный им на театральных подмостках общий эмоциональный градус и тон спектакля. Он чрезвычайно уважительно и с большим доверием относился к актерской импровизации – но в четких рамках эмоциональной палитры звучания не только отдельной сцены, но и всего радиопредставления, которое хоть и основывалось на «звучании театрального спектакля», но должно было возникать у микрофона заново – оригинально, свежо и убедительно.
Конечно, такой метод работы предъявлял к исполнителям радиоверсии очень высокие требования и заставлял их концентрировать все свои способности и навыки с максимальной полнотой.
Не случайно именно в разговоре о работе у микрофона в одном из публичных диалогов Эфроса и Ефремова возникла формула, которую позднее продекларировал О.Н. Ефремов – разумеется, со ссылкой на Эфроса – в интервью корреспонденту журнала «Советское радио и телевидение» в 1969 году:
«Всякий, кто может на радио, – может и в театре, но не всякий актер, способный хорошо играть в театре, может так же успешно заниматься творчеством на радио»[15].
О тщательности, с которой режиссер Анатолий Эфрос относился к подбору звуковых компонентов и в «Театре у микрофона», и в радиотеатре, мы еще будем говорить, анализируя художественную практику Эфроса в радиостудии. Здесь же заметим только, что уже при «радиоадаптации» своих спектаклей в Центральном детском театре Анатолий Васильевич, как правило, брал на себя чтение пояснительного текста, без которого театральное представление могло превратиться для слушателей в ребус. Эфрос очень внимательно относился к этому, как его называли, «пояснительному тексту», часто сам редактировал его, чтобы стиль «пояснений» не входил в контраст со звучанием спектакля. На наш взгляд, именно здесь надо искать корни его блистательного исполнения роли «от автора» в радиоспектакле «Мартин Иден», чтения блоковских ремарок к пьесе «Незнакомка» и удивительного по сочетанию простоты и величия, юмора и трагичности прочтения булгаковского текста книги о жизни Мольера.
Общепринято и, наверное, справедливо суждение о том, что театральное представление умирает в тот момент, когда актеры идут разгримировываться со сцены, а публика отправляется домой.
Не возражая, в принципе, против этой театральной аксиомы, Эфрос тем не менее был убежден в том, что спектакль, запечатленный в звуке, на кино– или видеопленке, способен продлить жизнь театрального представления – и не только напоминанием о нем тем зрителям, которые посмотрели его непосредственно в зале.
«Все дело в том, – замечал А.В. Эфрос в одной из бесед со своими студентами в ГИТИСе, – какую задачу ставит перед собой ретранслятор – телевизионный или театральный режиссер. Хочет ли он, превратившись в репортера, рассказать о спектакле новой аудитории как бы со стороны, или вместе с создателями театрального зрелища стремится новыми средствами – художественными средствами радио или домашнего экрана – передать обаяние театрального спектакля, своеобразия его психологической атмосферы, психологические нюансы, наконец, ту самую сверхзадачу, которая составляет смысл творческого процесса режиссера и верных ему исполнителей».
Не фотографию театрального зрелища – в звуке или на пленке, но его живую жизнь в новых обстоятельствах искал Эфрос каждый раз, когда приступал к созданию радио– или экранной версии своего театрального спектакля.
Именно поэтому едва ли не как главное условие радио или телеадаптации театрального представления Анатолий Васильевич видел в том, что первую скрипку в создании эфирной версии сценического действия должен играть режиссер-постановщик, а уж если он по каким-либо причинам не может принять участие в этой работе, то человек, его заменяющий, обязан все свои собственные планы и художественные амбиции растворить в атмосфере театрального зрелища и все свои силы направить на поиск соответствия эфирного или экранного варианта пластике и атмосфере сценического действия первоисточника.
Эту свою идею Анатолий Васильевич блестяще реализовал и тогда, когда ему довелось – один-единственный раз в жизни! – заниматься переводом на телеэкран спектакля, поставленного на сцене другим режиссером. Речь идет о телеверсии мхатовского представления «Милый лжец», постановку которого на сцене осуществил И.М. Раевский, а экранную версию для телевидения сделал А.В. Эфрос.
Это исключение лишь подтверждает правило, которому был верен Эфрос, – радио-, телевизионная или киноверсия театрального спектакля получает право на существование лишь тогда, когда в работе над ней самое активное участие принимает театральный постановщик.
Приступая к работе над экранной или звуковой версией того или иного своего театрального творения, Эфрос прежде всего стремился не копировать в телепавильоне или радиостудии в буквальном смысле слова сценографию театрального действия, но искал такие присущие для радио или для телевидения выразительные художественные средства, которые позволили бы радиослушателю и телезрителю ощутить атмосферу спектакля, «движение души персонажей», проявленные актерами в новых производственных обстоятельствах. Но это не было стремлением создать иную художественную реальность, – вторичную по отношению к первоисточнику. Эфрос искал в новых художественных возможностях прежде всего соответствия стилю и атмосфере спектакля, который рождался на театральных подмостках.
Он был всегда очень внимателен к тем художественным средствам и возможностям, которые давала актерам и режиссеру студия телевидения или радиотеатра.
Происходило это еще и потому, что он сам много работал над оригинальными постановками на радио и телевидении и блестяще владел эстетическими возможностями техники телевидения или радио. Достаточно вспомнить историю создания пушкинского «Каменного гостя» у микрофона.
Анатолий Васильевич очень долго размышлял о радиоверсиях «Маленьких трагедий» Пушкина, делал свои режиссерские наброски, искал возможных исполнителей, но действительная история этого спектакля сродни фантастическому казусу.
Эфрос выбрал на роль Дон Гуана в «Каменном госте» Владимира Высоцкого, с которым он до этого блистательно осуществил ради оинсценировку романа Джека Лондона «Мартин Иден» и постановку блоковской «Незнакомки».
Они провели несколько коротких репетиций, но самые различные обстоятельства – о которых сейчас не ко времени и не к месту подробно говорить – месяц за месяцем заставляли переносить работу.
Наконец однажды они встретились с Высоцким в Доме звукозаписи, используя несколько часов свободного времени, порепетировать у микрофона. Нашлась небольшая студия, они сели перед томиком Пушкина и, как говорят, «на вскидку», прочитали перед микрофоном пушкинский текст. При этом Высоцкий читал за Дон Гуана, а Эфрос – за всех остальных действующих лиц. Это была вроде бы черновая репетиция, не более, но звукооператор, увлеченный неожиданностью происходящего, включил аппаратуру, хотя и не предупреждал об этом ни режиссера, ни артиста.
А те, увлекшись, прошли пушкинский текст от первой авторской ремарки до финала.
Расстались довольные друг другом и договорились уже о «работе всерьез» через некоторое время. Но вскоре Высоцкий умер, и история с «Каменным гостем» на этом, казалось, должна была закончиться.
Прошло несколько месяцев после смерти Высоцкого, и кто-то из редакторов литературно-драматического вещания, случайно наткнувшись на «черновую запись» репетиции, позвонил Анатолию
Васильевичу с вопросом – можно ли пленку размагнитить, или использовать запись по какой-либо другой надобности.
Эфрос приехал в Дом звукозаписи на улицу тогда еще Качалова, несколько раз прослушал пленку и... принял решение завершить работу над спектаклем – с участием Высоцкого.
Записал актеров на все остальные роли, подобрал музыку и смонтировал спектакль так, что даже самые опытные радиоасы при прослушивании не смогли определить, что действие «Каменного гостя» в постановке А.В. Эфроса «сложилось» из отдельных реплик, почти случайно записанных внимательным к своей профессии звукооператором. А в одном месте недостающую реплику Дон Гуана произнес не Высоцкий, а другой актер, и этого тоже никто не заметил.
«Каменный гость» вместе с «Незнакомкой», «Мартином Иденом», пушкинским «Выстрелом» и другими произведениями поэта вошел теперь в «золотой фонд» радио, рядом с «Моцартом и Сальери» и «Пиром во время чумы».
В «Мартине Идене» Анатолий Васильевич продемонстрировал дар великого актера.
«Работая, я бываю убежден, что предан автору и не добавляю к нему от себя ни ползвука», – так заявил однажды Анатолий Эфрос, и к его радиоверсии романа Джека Лондона эти слова можно применить буквально.
Но как практически воплотил режиссер эту верность автору на незримой сцене?
Режиссерское мышление Эфроса, его почерк вообще близки специфическим требованиям радиотеатра.
«Как заставить людей волноваться мыслями и характерами, а не только внезапно изменяющимися ситуациями?
Держать внимание на внутреннем, часто глубоко скрытом содержании, а не на внешнем движении – вот задача.
Добиться эмоционального магнетизма всех внутренних пружин -вот цель». Таково его режиссерское кредо в драматическом театре. Но как совпадает оно с требованиями звукового представления!
Самопознание художника – главный стержень радиоспектакля.
Кто ты такой, Мартин Иден? – вопрос в беспощадной, безжалостной интонации звучит в спектакле несколько раз. В нем и отчаяние, бескомпромиссное желание понять самого себя и свое место в жизни, и боль сомнений, и самоуничижение, и горечь утраты – горечь, суть которой – бесконечное одиночество...
Джек Лондон подробно описывает историю успеха и разочарования Мартина Идена.
Автор инсценировки Вениамин Балясный и режиссер Анатолий Эфрос из всех психологических и сюжетных разветвлений романа выбирают лишь одну – тему нравственного прозрения героя.
Спектакль освобожден от временных и бытовых подробностей. Только движение характера. Все сосредоточено на истории чувств.
Из кинематографа в художественную критику пришел термин «взорвать прозу», то есть проявить в ней скрытые эмоции. Радиоинсценировка прозы Лондона – образец такого взрыва.
Сюжетная канва книги – многолетняя борьба Идена за место в литературе. Она разработана с массой убедительных подробностей.
Сюжетная канва спектакля – две странички книги, завершающие историю Мартина Идена, всего две странички, на которых Джек Лондон описал самоубийство своего героя.
Утонул великий писатель...
Никаких загадок, никакого детектива – развязка понятна уже с первой сцены, и сделано это сознательно. Страсть, душевные откровения предлагают Эфрос и В. Высоцкий (в роли Мартина Идена) своим слушателям. Сам Анатолий Эфрос – исполняет роль «От автора». И тут начинаются сложности с поиском подходящего глагола.
Играет? Но ведь он ни разу не вмешивается в действие, не перебивает речь персонажей, и вообще текст, им произносимый, не имеет прямой связи с происходящими событиями. Он отделен от них знанием будущего, за ним уже мудрость исхода.
Этот художественный прием Эфрос, актер и режиссер, использует затем и в «Незнакомке» Блока, и в поразительном по силе воздействия чтении булгаковской прозы под названием «Жизнь господина де Мольера». Когда слушаешь эти работы, то искренне веришь, что великому художнику действительно ведомы и судьба его персонажей, и наше общее будущее.
Мне остается только добавить, что собранные вместе выступления А.В. Эфроса у микрофона перед самыми разными аудиториями составляют бесценное приложение к книгам, написанным рукой самого Анатолия Васильевича. В принципе – это еще один том сочинений замечательного театрального мастера, который выступает в этих текстах и как глубочайший театральный мыслитель. Книга эта еще ждет своего издания.
Глава 24 Аудиограммы Анатолия Васильева, или кое-что о поисках гармонии в эфире
Анатолий Васильев пришел на радио тогда, когда в художественном вещании прочно утвердились два направления радиорежиссуры. Каждое из них опиралось на традиции, эксперименты выдающихся мастеров-основоположников, многолетний опыт их учеников, наконец, на привычки творческих и технических служб -на навыки и знания музыкальных редакторов, звукооформителей, операторов-монтажеров, а еще больше на штампы редакторского мышления, которые в силу множества причин и объективных обстоятельств в практике государственного радио были закономерно консервативными. И потому любой новичок, будь он семи пядей во лбу, неизбежно оказывался в плену самых добрых намерений и пожеланий, которые совершенно искренне, но неумолимо приводили его к одной из этих двух эстетических позиций.
Первая брала начало в открытиях Н.О. Волконского, О.Н. Абдулова, Э.П. Гарина и других театральных мастеров, которые на рубеже двадцатых-тридцатых годов познавали закономерности и создавали творческие основы аудиоискусства. Самыми значительными были, конечно, открытия Всеволода Мейерхольда в середине тридцатых годов, осуществившего в легендарной Студии на Телеграфе два спектакля по пушкинским «Маленьким трагедиям» вслед за радиоверсиями нескольких своих театральных постановок. Ему следовали многие режиссеры театра и кино, нашедшие у микрофона радио и за режиссерским пультом студии новое интересное для себя место художественного самовыражения.
Суть их метода отражения действительности или ситуаций литературного первоисточника в радиопередаче заключалась в воссоздании максимального жизнеподобия, то есть в создании достоверной звуковой среды, в которой атмосфера реальной жизни возникала бы с максимальной полнотой.
Пожалуй, самым старательным продолжателем мейерхольдовой радиоманеры стал Андрей Тарковский, в середине шестидесятых годов поставивший радиоспектакль «Полный поворот кругом» по рассказу У. Фолкнера, подробно об этом мы писали раньше.
Достоверность звуковой атмосферы в спектакле у Тарковского достигалась иногда девятикратным «наложением» – совмещением разных по характеру звуков.
Надо заметить, что следование именно такому подходу к воссозданию атмосферы действия в радиопередаче – особенно если оно было сделано с тщательным профессионализмом, почти гарантировало успех у слушателей, ибо свидетельствовало о достоверности происходящего.
Доходило до казусов. Как мы уже упоминали выше, один очень опытный режиссер сочинил партитуру звуков, сопутствующих полету космического корабля, и использовал ее в художественной передаче для детей. Это было за несколько лет до полета Гагарина, даже до запуска первого спутника. Но звуковая картинка в эфире оказалась настолько выразительной и, как показалось даже специалистам, такой точной, что сразу несколько крупнейших телеграфных агентств мира, прервав все дела, передали экстренное сообщение о том, что СССР запустил человека в космос.
Можно сослаться и на радиоопыт Орсона Уэллса, который в ноябре 1938 года до смерти напугал миллионы американцев, выпустив в эфир «Войну миров» по Герберту Уэллсу, декорированную под репортаж о нападении марсиан на Филадельфию.
Словом, умелое воссоздание реальной звуковой действительности воспринималось почти как гарантия профессионального мастерства.
Второе направление – прямо противоположное, исходило из опыта мастеров Художественного театра, и прежде всего из радиопрактики Л. Леонидова, О. Пыжовой, Б. Бибикова, В.И. Качалова, навыков, разработанных А.Д. Диким, позднее замечательно реализованных А. Эфросом в его радиоспектаклях «Мартин Иден», блоковской «Незнакомке» и «Каменном госте». Уже на стадии подготовки к монтажу будущего радиопроизведения эти режиссеры вычеркивали из сценариев и партитур упоминания о любых «рисующих звуках». Шум моря, например, скрип ворот, стук вагонов поезда или пение птиц за окном – все вычеркивалось с неумолимой решительностью. Персонажи радиоспектаклей существовали в некоем условном, как бы безвоздушном пространстве, где ничто не мешало голосам актеров; подбиралась музыка, которая заменяла декорации, обозначая – причем весьма определенно и конкретно – время, место действия и атмосферу сюжетной ситуации.
Эта творческая метода тоже была своеобразной гарантией успеха, особенно когда у режиссера был опыт работы с хорошими актерами, а может быть, правильнее сказать, опыт доверия актерам у микрофона. Когда Анатолий Александрович впервые переступил порог литературно-драматической редакции на тогдашней улице Качалова, 24, то не было, пожалуй, комнаты, где ему не рассказывали бы о том, как «совсем недавно Эфрос смонтировал „Каменного гостя“ с Высоцким из записи, которую сделал оператор, случайно включивший микрофон в крошечной речевой студии, безо всяких „шумов“ и прочих звуковых аксессуаров».
Ну, опыт работы с хорошими актерами и навыки доверия им у Васильева были. В активе Анатолия Александровича уже значились и «Соло для часов с боем» со «стариками» Художественного театра, и «Взрослая дочь молодого человека» – с совершенно другим поколением мастеров драматической сцены.
Был успех, который в глазах коллег на радио давал новичку определенный шанс. Конечно, если он послушается советов «старших товарищей» и более или менее точно войдет в одно из двух упомянутых нами течений режиссерской практики художественного вещания.
Васильев выбрал третье. Не зря же Мария Осиповна Кнебель в своей книге «Поэзия педагогики», характеризуя студента Анатолия В., пишет: «Ко многому Толя прислушивался, но воля к самостоятельности решений выражалась у него весьма отчетливо».
Так характеризует первую самостоятельную работу Васильева еще на студенческой скамье его учитель.
Придя на радио, Васильев оставался верен себе, чем сразу же вызвал недоумение – это очень мягко говоря, – если не сказать возбужденное раздражение, новых коллег по цеху.
Главным редактором литературно-драматического вещания Всесоюзного радио тогда был писатель Сергей Есин, человек наблюдательный, ироничный, обладающий и остротой зрения, и остротой пера. Впоследствии, когда «Портрет Дориана Грея» был официально причислен к классике отечественной аудиокультуры и вышел на пластинках фирмы «Мелодия» в виде альбома, Сергей Николаевич написал специально для этого издания небольшое эссе о том, как реагировали работники радио, закореневшие в «охране художественных традиций советского радиоискусства».
Васильев только начал работу, а в кабинет главного редактора выстроилась очередь из более или менее титулованных стукачей. Лестница претензий вырастала от неудовольствия по поводу «занятия Васильевым дефицитных аппаратных и монтажных», в которых прежде трудились только «штатные классики», до идеологических обвинений: «Не того Уайльда играет!..»
А на самом деле все было просто. Васильева испугались. Ибо, никоим образом не отвергая превосходный опыт своих замечательных предшественников, он ставил перед собой иные художественные цели, не только непонятные большинству товарищей по цеху, но даже неведомые им, так как интуитивно аккумулировал в своей работе творческие задачи и методику нескольких поколений радиорежиссуры, но при этом реализовывал их как бы на новом витке развития аудиоискусства.
То, о чем мечтали Мейерхольд, Абдулов, Рубен Симонов, мечтали, но не могли воплотить из-за технических условий, организационно-административных ситуаций и отсутствия соответствующего исходного литературного материала, Анатолию Васильеву удалось воплотить в своеобразных элегантных и психологически абсолютно достоверных аудиограммах спектакля «Потрет Дориана Грея».
Поначалу удивление вызывало уже распределение ролей. Почему от автора – Бабанова, то есть почему Оскар Уайльд говорит женским голосом, и потом, он (она) – рассказчик, повествователь, или действующее лицо?
Напомню, что спектакль начинается с реплики Бабановой, обращенной к Дориану Грею, а потом звучат и название спектакля, и эпиграф к нему, и даже перечисление действующих лиц. Эта естественная для театра и для радио условность воспринималась то ли как эпатажный кунштюк режиссера, демонстрирующего свою независимость от правила – «Марье Иванне на коммунальной кухне все должно быть понятно сразу и до конца», – то ли как художественный прием, который должен был раскрепостить фантазию аудитории.
Как мне кажется, неверными были ни первая, ни вторая посылки. Васильев искал ту единую интонацию, ту художественную мелодию, которая повлекла бы чувства слушателей за собой в первую очередь. Избранный сценаристом драматургический прием в этом смысле был самым подходящим.
Вот тут он следовал открытиям, которые каждый раз для себя заново делали и Всеволод Мейерхольд, и Николай Волконский, и Алексей Дикий, и Анатолий Эфрос, и Георгий Товстонов, и Олег Ефремов, и еще многие и многие замечательные мастера театра, делившие свои художественные пристрастия между подмостками и микрофоном.
Исследуя их опыт через призму «Портрета Дориана Грея», неизбежно приходишь к осознанию принципа организации эмоциональной среды радиопредставления. Особая роль тут достается совпадению или противопоставлению ритмических основ литературного текста, речи исполнителей и музыки. Примат слова, человеческой речи здесь не обязателен – обязательна их способность к контакту с музыкой определенного, заданного настроения. Отсюда и ритм, с которым движется в эфире единая мелодия спектакля. В данном случае у Васильева он загадочно замедленный, как бы противоречащий и характерам персонажей, и их речевой индивидуальности, и уж тем более не совпадающий с ужасными событиями, о которых повествует спектакль.
И только по зрелому размышлению вдруг тебя осеняет, что ритм этого самого повествования обозначен ритмом изменений на том самом портрете главного героя, на котором время и Высший Судия отмеряют его судьбу...
Васильев, наконец, нашел то место, где происходит действие радиоспектакля.
В театре оно обозначено рамками портала, зеркала сцены и соотношением подмостков и зрительного зала. То есть все зримо, все четко материализовано. Можно построить «дорогу цветов », продолжение сцены в зале(А.Ш.), и тогда актер может донести до зрителей свое дыхание – в буквальном, а не переносном смысле этого слова.
В кино и у экрана телевизора картинка имеет ту же четкую и определенную материализованность.
А где происходит радиодействие? Где находится то «пустое пространство» художественного действия, которое нельзя увидеть, нельзя потрогать и которое вообще не ориентировано на привычные рецепторы человеческих ощущений...
В воображении слушателя.
Гениальное определение радиодействия, принадлежащее Розе Марковне Иоффе, автору «Буратино», «Маленького принца», «Хозяйки Медной горы» – радиоспектаклей, на которых выросло несколько поколений наших соотечественников, – звучит лаконично и емко: «Слушая – видеть».
Но это как бы азбука радиорежиссуры, ее таблица умножения. Васильев же занялся высшей математикой этого ремесла. Он ориентировал слушателей не столько на воспроизведение «картинки действия», сколько на непрерывность ощущения слушателем того, о чем говорят персонажи, стимулировал не просто сопереживание словам и поступкам героев, но заставлял слушателя разделять их чувства как свои собственные.
Режиссер «Портрета Дориана Грея» очень точно отобрал для этого и материал, и актеров. Фантастическая и одновременно детективная история, рассказанная Оскаром Уайльдом, завораживала мышление. Но ведь точно также завораживали чувства и фантазии слушателей голоса Бабановой и Смоктуновского, обладавших магическим, полумистическим воздействием на аудиторию.
Красота звучания их речи, помноженная на элегантность литературного стиля Оскара Уайльда, бережно сохраненного автором радиопьесы, Виктором Славкиным, точность опять-таки завораживающего музыкального решения, для которого режиссер взял не только привычную арфу, но и загадочный старинный японский инструмент сямисэн, – все вместе создавало гармонию, которой могла сопротивляться только натура, напрочь лишенная чувственного восприятия мира и искусства.
Такие были. Но – к удивлению корифеев отечественного вещания, абсолютное большинство радиослушателей магию радиоспектакля Васильева восприняли как свою собственную радость от общения с Моной Лизой или Сикстинской Мадонной, или с «Болеро» Равеля или с Сороковой симфонией Моцарта...
Список этот любой заинтересованный читатель этих заметок может продолжить сам.
О театральных спектаклях Анатолия Васильева тогда много спорили. О «Портрете Дориана Грея» спорили не меньше, хотя большинство обещанных рецензий осталось в чернильницах. Я хорошо помню, с каким трудом материал об этой премьере шел даже в единственном профессиональном журнале, который назывался «Телевидение и радиовещание». Интервью с режиссером-постановщиком вынули из рубрики «Беседы с мастерами». Главный редактор журнала Николай Семенович Бирюков поинтересовался, сколько спектаклей уже сделал на радио Анатолий Васильев, и, узнав о том, что «Портрет Дориана Грея» – это дебют в радиостудии, недовольно развел руками:
– Ну вот видите, первая работа, а вы его уже в мастера.
Коротенькие рецензии маститой Наталии Крымовой и начинающего критика Григория Симановича он все-таки разрешил к публикации:
– Только не выпячивайте на полосах.
Но, увидев уже в гранках большую статью автора этих строк, Н.С. Бирюков пришел в несвойственную обычно ему ярость. Больше всего его удивило, да нет, не удивило, а возмутило, название. Мои тогдашние размышления о спектакле «Портрет Дориана Грея» назывались «Погружение». И в кабинете главного редактора состоялся следующий диалог.
– Что это значит, что это за погружение?
– Это значит, что режиссер и актеры погружают нас в те чувства, в те страсти, в те ощущения, которые владеют персонажами. Отсюда и термин «погружение», который мне кажется наиболее точным для определения способа общения художника и слушателя. Мы все вместе погружаемся в атмосферу событий, и в этот момент возникает наша собственная реакция на происходящее. Сначала в душе у нас, а потом только в нашем разуме.
Главный редактор был человек ученый, со степенью доктора наук.
– Это, выходит, медитация...
– Ну, если хотите, нечто подобное.
– Не морочьте мне голову. Я в консерватории регулярно бываю. У меня у самого сын консерваторский аспирант.
– Ну вот, – обрадовался я, – вы, когда слушаете Бетховена, или Малера, или Фантастическую симфонию Берлиоза, вы же погружаетесь в эту стихию, вот так и здесь...
– Ваш Васильев еще не Берлиоз, – прорычал главный редактор, и статья, хотя была уже набрана и сверстана, отправилась в корзину.
Сохранились, правда, старые блокноты с записями, которые были сделаны мною, корреспондентом журнала «Телевидение и радиовещание», во время работы над «Портретом Дориана Грея» и сразу после премьеры.
Актеры, с которым начал работать Васильев, как мне кажется, очень быстро поверили в него.
Листаю старые блокноты, в которых записаны разговоры с Марией Ивановной Бабановой и Иннокентием Михайловичем Смоктуновским.
Бабанова:
– Мне кажется, что он обладает свойством, которое делает его близким к композитору, сочиняющему какое-то очень сложное полифоническое музыкальное произведение для большого оркестра. У него в руках пока только клавир, только один или два инструмента – мой голос, или голос Смоктуновского, или Бочкарева, или Ткачева, ну в лучшем случае наши дуэты, но он хорошо представляет, как в конце концов будет звучать весь оркестр. И это может получиться завораживающе.
Вот тогда, много лет назад, в коридоре Дома звукозаписи, я из уст гениальной актрисы услышал в первый раз это слово «завораживающе» применительно к работе режиссера Анатолия Васильева, слово, как мне кажется, наиболее емкое и справедливое и по отношению к творческому процессу, и по отношению к результату труда. И я сознательно постоянно возвращаюсь именно к этому определению.
Смоктуновский:
– Две вещи доставляют мне удовольствие в работе с Васильевым. Первое – это то, как Анатолий Александрович добивается значимости, интонационной выпуклости, выделения смысла каждого произнесенного слова, каждой произнесенной фразы. Он не говорит ни о сверхзадаче, ни о смысле того или иного куска текста. То есть если и говорит, то говорит больше о чувствах, которые скрывает или раскрывает этот фрагмент. Но он добивается абсолютной искренности каждого слова.
И еще, вы знаете, Ефремов (это был период максимального сближения Олега Николаевича и Иннокентия Михайловича) иногда говорит, что все учение Станиславского в конце концов можно свести к одной фразе Константина Сергеевича: «Вера в правду произносимого».
Так вот, мне кажется, – продолжал Смоктуновский, – что Васильев добивается от каждого из нас именно такого результата -искренности интонаций, идущей от подлинности наших чувств, от нашей правдивости.
– Вам трудно работать с Васильевым?
Последовал ответ без задержки:
– Нет, не трудно, но когда я ошибался или был в чем-то эмоционально приблизителен или нерешителен в определении нужной эмоции, в конце концов нужного мне актерского приспособления, то я ловил себя на мысли, что услышу грозное: «Не верю!»
Я понимаю, что это невозможно, что это сегодня прозвучит и пародийно и кощунственно, но иногда мне мерещится, что в ответ на мою несобранность я услышу именно такое замечание. Еще один разговор со Смоктуновским, уже после премьеры «Портрета Дориана Грея».
– Я очень ценю атмосферу в студии. Мне кажется, что в нарушение всех законов физики и техники та атмосфера, которая существует в студии во время репетиции и записи, непременно проходит в эфир, как бы пленку потом ни монтировали. Я помню, мы записывали фрагмент «Царя Федора» в студии. Наработали настроение, подготовились, тихая музыка из спектакля, утро на Москве-реке, состояние души нежное...
И вдруг резкий окрик режиссера из-за стекла аппаратной. Окрик не грубый, а просто нечуткий. И все театральное волшебство вдруг пропало. И мы увидели, какая грязь в студии, сломанные стулья в углу, на пюпитре рваное сукно... Ушло настроение, после двух-трех попыток мы просто прервали запись, кажется нагрубив режиссеру в ответ на какое-то совсем невинное замечание.
У Васильева так быть не может по определению. Он создает в студии обволакивающую атмосферу благоприятства. Я даже ловил себя на мысли, что иногда в перерыве записи разговариваю с ним как с партнером по роли, а не как с человеком со стороны. Это его замечательное режиссерское качество, и оно мне лично очень помогает. Думаю, что и всей нашей команде, хотя без споров, конечно, не обходится. Ну, скажем так, без творческих дискуссий.
Оба этих интервью остались в блокнотах. Руководство журнала, как, впрочем, и руководство радио, было категорически против их публикации «уже потому, что это излишне элитарное произведение вряд ли понятно широкой аудитории, а радио должно работать для слушателей, которых у нас миллионы, и быть всем и для всех понятным» (цитирую дословно реплику одного из руководителей Гостелерадио, курировавшего журнал).
Давно нет ни журнала, ни его главного редактора, нет уже и самого Всесоюзного радио, а «Портрет Дориана Грея», инсценированный Виктором Славкиным и поставленный в радиостудии Анатолием Васильевым с участием Марии Бабановой, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Шакурова, Ольги Дзисько и еще нескольких замечательных актеров, вошел в список самых знаменитых произведений аудиоискусства XX века. Он упоминается во всех более или менее серьезных книгах по истории отечественного и мирового радиовещания, в университетских учебниках и каталогах различных фондов радиосочинений. В 1995 году он был лидером, причем лидером бесспорным, среди почти ста программ фестиваля «Рампа у микрофона», посвященного семидесятилетию отечественного радиоискусства, и о нем снова писали, пытаясь проникнуть в тайну режиссерского искусства Анатолия Васильева. Писали и маститые критики, и суетливые театральные репортеры, и студенты факультета журналистики...
Выпущенный на двух пластинках, этот спектакль давно стал дорогим раритетом в личных фонотеках у людей, которым по-прежнему близки парадоксы Оскара Уайльда, превращенные в элегантные и впечатляющие аудиограммы Анатолия Васильева.
Глава 25 Михаил Левитин
Характеризуя методы и принципы работы со звуком в различных видах и направлениях искусства, и, в частности, в различных направлениях и видах аудиокультуры, Михаил Левитин как-то заявил с трибуны одной из режиссерских конференций, что материализация звука в сознании театрального зрителя, любителя кино и уж тем более в сознании радиослушателя происходит чаще всего в двух случаях – или на пике трагического осознания человеческой истории – истории общества и судьбы отдельного человека, – или, напротив, в момент радостного и свободного дуракаваляния, не стесненного никакими рамками правил, традиций и общепринятых нормативных установлений. Говоря так об этой самой, по его определению, материализации звука в воображении зрителя и слушателя, Левитин подтвердил свою точку зрения практической работой в театре и на радио.
В театре столь эффектного результата он добился, когда поставил веселое представление под названием «Бесконечное Ким-танго» на сцене Московского театра «Эрмитаж», который был им создан и который он пестовал и растил более десяти лет. Этот спектакль и родился, в буквальном смысле слова, на пике того самого «дуракаваляния », которое на деле оказалось чрезвычайно серьезным художественным поиском, требующим и мастерства, и вдохновения, и высочайшего профессионального тренинга от всех участников мероприятия: автора, режиссера и, конечно, более всего от исполнителей.
Легенда или быль – недосказано, но передали ее из уст в уста весьма уважаемые очевидцы.
...Ужинали впятером: Мария Павловна, Ольга Леонардовна, Бунин, Куприн и хозяин дома. Дело было теплым ялтинским вечером, говорили о Горьком – той весной он часто бывал у Чеховых. И заспорили – как это человек, столь много познавший в своих скитаниях, сохраняет явную сентиментальность и своеобразную романтическую наивность.
А может, это чистое дуракаваляние?
И тут Антон Павлович будто бы сказал:
– Об Алексее Максимовиче пишут в газетах, что все новое столетие пройдет под его знаком... Может быть, особенно если он всерьез займется театром... А вообще я думаю, что в этом веке многие постараются валять дурака, правда, вещь эта – особенно в театре -очень сложная, как раз к концу столетия, может, и научимся.
Классик был прав. И Горький все сто лет влиял на людей и уж тем более на развитие культуры, и дурака валяли много – чаще неумело, фальшиво и глупо. А вспомнил я эту историю – как раз насчет конца века, – когда сел писать заметки по поводу премьеры спектакля Юлия Кима и Михаила Левитина в «Эрмитаже». Зрелище называется «Безразмерное Ким-танго» и представляет собой, по моему личному впечатлению, не просто обаятельное, веселое, заразительное представление, но и убедительный аргумент в доказательство чеховской мысли о сложности дуракаваляния на современных и ему, и нам подмостках.
Писать про очередную «Корриду бреда» – эстетику данного своего опуса, как определил сам М. Левитин, – очень трудно. Особенно поначалу.
Только устроишься перед листом бумаги, как услужливая память подбрасывает тебе рефрен.
Прямое, можно сказать, предупреждение.
В самом деле, как передать на бумаге иронию пластики, элегантность шутливых интонаций, красоту поз, рождающихся совершенно неожиданной и, кажется, незапланированной импровизацией, словом, то неуловимое обаяние в общении артистов и зрителей, которое и определяет зрелище, выполненное очень твердой режиссерской рукой.
И вот этот парадокс – сочетание математически рассчитанного замысла, жесткого постановочного ритма и абсолютной свободы актерского самовыражения – очень гармоничной во всех ее проявлениях, вплоть до откровенного сценического хулиганства, – этот парадокс и стимулирует попытку разобраться всерьез в истоках безусловного успеха «Безразмерного Ким-танго» в «Эрмитаже».
Помилуйте, резонно возразит мне проницательный коллега, то, что вы перечисляете, – азы режиссуры, непременные, так сказать, требования профессии.
Соглашусь: это дважды два – четыре.
Весь вопрос в том, а много ли на нынешней сцене примеров столь же четко и точно реализованных художественных замыслов подобной сложности.
Я хорошо знаю, что по отношению к «Эрмитажу» и творчеству Михаила Левитина «театральная общественность» разделилась на два почти непримиримых лагеря. У одних само имя вызывает желание если не нахамить, то сделать вид, что этого режиссера и этот театр они в палитре современного искусства вообще не числят.
Другие, напротив, готовы выдать индульгенцию любому левитинскому эксперименту.
Самое замечательное, что посредине тут истину не найти. В «этом театре», как редко в каком другом, настроение зрителя и его реакции формируются готовностью принять условия игры, способностью зала доверить свои глаза, уши, свои биополя, наконец, магическому воздействию идей и умений создателей спектакля.
А такого зрителя – особенно среди профессиональных критиков – осталось мало, телевизионное бытие как-никак определяет общественное сознание и уж тем более восприятие. Доверчивость в наши дни – такая редкость! Взаимная доверчивость встречается еще реже. Поэтому истина, которую так старательно ищут некоторые мои коллеги, изощряясь в восхищенных или ругательных эпитетах и метафорах, как раз и разместилась на полюсах зрительских желаний и возможностей воспринимать грусть и веселье режиссера и актеров как свои собственные.
Ну хотя бы на то время, пока длится представление. Иначе «вольнодумная глубина» театра – какое блистательное определение дал тот же Юлий Ким – так и останется тайной, сокрытой в сумраке душевного дискомфорта и психологических амбиций, которые переполняют нас в обыденной жизни.
Театр – это праздник, который всегда с тобой, если ты сам достоин его. Такова театральная философия «Эрмитажа», и Левитин с актерами стараются следовать ей из спектакля в спектакль. Он верен шекспировскому совету зрителям: «Вам представленье нужно посмотреть, настроившись на радость и веселье».
«Ким-танго» имеет несколько предшественников в репертуаре «Эрмитажа». Вообще, эксцентризм и музыкальность режиссерского почерка Левитина заявлены по-разному за девять лет существования его театра. Но непосредственным «старшим родственником» новой премьеры я бы назвал прелестный «Мотивчик», другое название этого зрелища – «Воспоминание о Легарекальманештрау-се». (Попробуйте одним духом прочесть последнее слово, демонстративно нарушающее все нормы правописания. Правильного написания! Но это – не для Левитина.) Вот так же режиссер соединяет в неразрывную, единую по своей структуре художественную ткань музыку и излюбленные сюжетные коллизии трех великих мастеров оперетты. При этом сам он воплощает на сцене иной жанр, который в своеобразной классификации нынешних театральных форм может разместиться где-то между мюзиклом и ревю.
В «Мотивчике» есть уже многие черты и свойства будущего «Ким-танго»: открытое сценическое пространство, организованное по принципу арены, коллажный способ объединения драматургических элементов, необыкновенно привлекательный, захлебывающийся от собственного темперамента, слегка бесноватый Ведущий спектакля – органическая часть и эмоциональный стержень всего представления. Когда-то Мейерхольд мечтал о подобном персонаже, который он называл «Вожатый спектакля», но у него не сложилось с исполнителями. А Левитину Бог послал специально для этого Андрея Семенова – пианиста, композитора, актера, обладающего редкостной пластической выразительностью.
И все-таки «Мотивчик» оказался лишь наброском – по крайней мере, сегодня это стало очевидным. В нем как бы отрабатывались отдельные приемы технологии левитинской режиссуры. В «Ким-танго» реализованы сами творческие принципы, исповедуемые худруком «Эрмитажа».
Он поставил перед собой невероятно трудную задачу – найти оригинальное драматургическое, пластическое и композиционное решение для каждой из сорока с лишним кимовских частушек. (Никакого другого текста в спектакле нет, добавлены лишь несколько песен того же Юлия Кима.) И при этом постановщик не позволил себе ни одного прямого повтора. Даже трехминутное танго, ради которого на сцену выходят Любовь Полищук и Борис Романов, хотя и повторяется дважды по ходу действия, каждый раз выглядит и звучит, как новый танец. Уже в первом появлении превосходные актеры передают в остром хореографическом экзерсисе судьбу и историю взаимоотношений едва ли не целой жизни своих героев; потом они выходят под ту же мелодию и в тех же костюмах, их движения похожи, а история, судьбы, характеры совсем другие.
И еще. У Кима же не сразу разберешь, где он слегка грустит, где разыгрывает нас, а где всерьез сердится. Вот эта многослойность иронии с эффектом воплощается в левитинской режиссуре. На сцене рождается прелюбопытная цепочка весьма реальных, а порой даже бытово достоверных ситуаций. Сначала на подмостках материализуются люди, упомянутые Кимом, потом обстоятельства их жизни – трагические или комические, кому как повезло. Тут и граждане Толстые – Лев Николаевич и Алексей Николаевич, и Грибоедов, и Твардовский, и известный всем творец кинолент Александр Довженко, и поэтический наш резидент Евгений Евтушенко, и еще многие-многие славные деятели русской культуры, и даже... сам Александр Сергеевич, направляющийся к Николаю Васильевичу, очевидно, для передачи сюжета «Мертвых душ»... А потом – на сцене материализуются уже не слова, не люди, а ассоциации, возникающие у нас, зрителей, при воспоминании об этих людях. И тут режиссер и актеры дают волю своей страсти к пародиям – и на оперную «вампуку», на сей раз не повезло «Кармен», и на традиционные малороссийские гулянья, и на салонное варьете...
А потом выскакивает на подмостки-манеж сам Михаил Захарович Левитин, чтобы со всей свойственной ему энергетикой доконать сомневающихся в зале:
Так надо! Я уверяю вас – так надо! К чему сомненья? Сомненья ни к чему! Бравада! Шизофрения! Буффонада!Но вся эта мешанина, весь этот, казалось бы, литературный и жанровый винегрет на деле оказывается блюдом, в котором противоположные ингредиенты не только не противоречат друг другу, но, напротив, подчеркивают изысканность вкуса и своего собственного, и других используемых продуктов. Превосходные повара.
«Безразмерное Ким-танго» сыграно было впервые в день десятилетия «Эрмитажа» в качестве юбилейного торжества. На сцену выходили люди с бесспорной художественной репутацией вроде Петра Наумовича Фоменко или Марка Анатольевича Захарова и искренне благодарили за удовольствие. Все-таки Левитин обошел многих.
Трагическую доминанту «материализации звука» в сознании слушателей Михаил Левитин нашел, работая над материалом отечественной прозы – накануне очередного международного – и достаточно популярного, особенно в кругу профессионалов, Московского фестиваля радиоспектаклей «Приз Останкино» 1995 года.
Он получил предложение реализовать свой давний замысел -поставить у микрофона радио инсценированную версию повести Андрея Платонова «Епифанские шлюзы». Написанная еще в 1927 году, она, как и многие другие произведения великого прозаика, многие годы была не в чести у издателей и, хотя не относилась к числу «запретных», а скромно причислялась к разряду «непопулярных у начальства», в школах не изучалась, светом рампы и кинопроектора обласкана не была. Но подошли 90-е годы двадцатого века, «официальной цензуры», насаждавшей драконовские нормы общения художественных произведений с читателями и зрителями уже не было. А традиция выходить на различные художественные фестивали и смотры с гарантированной заранее премией в кармане в России еще осталась. И к очередному международному смотру аудиокультуры руководство отечественного радио искало материал, который гарантировал бы если не «Гран-при», то хотя бы одну из высших фестивальных наград. Такую радиоработу руководство массового вещания искало очень старательно. Был, конечно, шанс, связанный с новыми поисками в области арсакустики (к этому направлению радиоискусства мы еще обратимся на страницах нашего исследования). Но все, что связано с новациями принципиально нового пути художественной культуры, к которому относились радиоопыты Дмитрия Николаева, Александра Пономарева и их зарубежных коллег в области арсакустики, опытных редакторов и организаторов массового вещания все-таки пугало своей непредсказуемостью.
Левитин же предлагал добротную и весьма традиционную литературу, которая если и не гарантировала успех на уровне «Гран-при» (как и произошло – «Епифанские шлюзы» были удостоены премии по разряду «Лучшая радиоинсценировка прозы»), то обещала высокий художественный уровень, интересные режиссерские поиски. И наверняка участие превосходных актеров.
Так и вышло. Радиоспектакль «Епифанские шлюзы» по повести А. Платонова в постановке режиссера М. Левитина и с участием выдающегося театрального мастера Виктора Гвоздицкого, представленный на фестивале «Приз Останкино-1995», был удостоен одной из высших наград, получил превосходные отзывы прессы как у себя на родине, так и в газетах и журналах ряда европейских стран, у художественных критиков в США и довольно быстро отнесен к разряду выдающихся произведений отечественного радиоискусства.
Левитин начинает спектакль музыкой молитвы. Оркестровая мелодия смешивается с одиноким женским голосом, и этот звуковой пролог сразу же придает спектаклю характер взволнованной притчи о житейских тяготах, душевных метаниях и нравственных поисках человека, который стремился сделать для людей нечто доброе и полезное, но оказывается бессильным, а в конце концов и отверженным.
История о том, как британский инженер Бертран Перри приехал по личному приглашению российского самодержца, чтобы помочь русским мужикам построить канал между двумя большими реками – канал, символизирующий мощь обновляющегося российского государства, – изложена в радиоспектакле «Епифанские шлюзы» с тончайшими художественными подробностями, воспроизводящими и ужас жизни европейского человека в вечно сумрачной, малограмотной и изъеденной многообразными социальными язвами России, и наивные попытки этого человека облагородить если не мрачную государственную систему, то хотя бы быт и нравственное существование людей, с которыми он непосредственно сталкивается (какая, право, наивность!). Ну пусть не облагородить – в общечеловеческом значении этого слова, то хотя бы цивилизовать, пусть немножко, но продвинуть жителей его нового отечества к тем надеждам и устремлениям, которые питают людей европейского общества. Эта история «раскручивается» автором, режиссером и превосходным драматическим актером в надежде прежде всего на понимание, если не на сочувствие слушателя. Здесь столкновение двух несовместимых ни нравственно, ни житейски принципов жизни: заинтересованности в своем деле, в своей работе, наконец, в поиске справедливости с абсолютным безразличием к нравственным ценностям, к духовному поиску, вне которого человек опускается до уровня тягловой скотины, теряя какие бы то ни было признаки индивидуальности.
Показательны в этом смысле эпизоды радиоспектакля, где авторы воспроизводят впечатления главного героя от общения с высокими чинами российской бюрократии.
Голос Гвоздицкого, до этого момента полный тончайших нюансов, становится тусклым, невыразительным, как, видимо, тусклы и невыразительны были лица высоких чиновников, призванных олицетворять стремительное движение великой страны к прогрессу, к европейской цивилизации.
К какому прогрессу! О какой цивилизации можно говорить и рассуждать с людьми, у которых нет ничего, кроме лени, вранья и неистребимого желания воровать – воровать все и всюду, где можно хоть что-нибудь «хапнуть», даже ценой жизни тех самых людей, о благополучии которых этим самым чиновникам и надлежит заботиться.
Поразительный по своему пластическому богатству голос Виктора Гвоздицкого, кажется, не имеет никаких ограничений в своем внутреннем эмоциональном наполнении. Именно внутреннем, ибо внешний рисунок его речи лишен и эффектных на первый взгляд интонационных всплесков, и сложных по своей художественной конструкции фиоритур. Почти весь спектакль он звучит спокойно и наполнен, кажется, даже не удивлением, а ровной и потому всепобеждающей усталостью от тех разочарований, которые постепенно заменяют в душе инженера Бертрана какие бы то ни было надежды. И хотя говорит он все время о планах на будущее, о том, как надеется послужить России, а потом «вернуться с победой» в Англию, нет уже ни у него самого, а потому не возникает и у слушателя «Епифанских шлюзов» ни веры, ни надежды, что эти планы -столь победоносно заявленные в начале спектакля – когда-нибудь станут для инженера Бертрана реальностью.
По сюжету повести Платонова английский инженер Бертран, которому судьба так и не дала довести до конца строительство канала, гибнет под рукой российского палача – по указу того самого повелителя России, который позвал Бертрана покорять неведомую ему прежде землю.
Левитин находит тут поразительное по точности эмоциональное решение, как говорят, «от противного». Напрашивалась сама собой богатейшая по своему звуковому решению сцена казни «иноземного специалиста», вознамерившегося переделать если не все российское государство, то хотя бы малую его часть.
Вместо этого короткая – протокольная фраза о гибели Бертрана. Она звучит глухо и равнодушно, как строчка из милицейского протокола о смерти какого-нибудь бродяги без роду и без племени, бродяги, которого и пожалеть некому. Поразительная способность Виктора Гвоздицкого концентрировать в одном-двух словах максимальный всплеск человеческих эмоций – свойство и умение блистательно продемонстрировано им в различных его сценических творениях: и в финале роли Тузенбаха в мхатовских «Трех сестрах», и в сценической версии рассказа Бабеля «Ди Грассо» на сцене театра «Эрмитаж» в постановке того же Левитина, и в целом ряде других работ этого мастера. В одном-единственном «чувственном» слове (наподобие той концентрации, которую Михаил Чехов искал в так называемом «психологическом жесте») она была продемонстрирована в «Епифанских шлюзах» с колоссальной, правомерно сказать, взрывной убедительностью и завораживающим изяществом.
Исполнение роли Бертрана в значительной мере обусловило успех этого спектакля, поставив его в разряд наиболее выдающихся и художественно убедительных работ российского радиотеатра – рядом со спектаклями Бабановой, Марецкой, Яншина, Кторова, Гарина, Качалова и других великих мастеров.
Атмосферу реальных событий Левитин воссоздает «крупными звуковыми мазками». Так, путешествие по России обозначено звоном колокольчика, который ямщики вешают на лошадей, и истошными криками самих ямщиков; путешествие по морю обозначено скрипом корабельной мачты и звуком постоянно хлопающей двери в каюте путешествующего инженера Бертрана Перри; письмо его любимой, нашедшей себе нового суженого, вовсе возникает как бы из тишины собственного мышления инженера.
Левитин крайне скуп в отборе звуковых деталей для характеристики событий – и делает он это специально, чтобы ничем не помешать голосу главного персонажа, от имени которого ведется повествование. Оттого и внимание слушателя сконцентрировано на голосе актера, в котором отражается чрезвычайно широкая палитра чувств главного персонажа.
Поэтому короткие включения «авторского голоса» для объявления о начале или конце очередной части повествования – не просто коротки по объему, но и подчеркнуто нейтральны. Здесь Левитин идет «нога в ногу» вслед той манере, которую использовал в радиотеатре Анатолий Эфрос в своем радиоспектакле «Мартин Иден» по Джеку Лондону. Текст ведущего даже демонстративно лишен возможных интонаций эмоционально-оценочного свойства.
Но именно этот прием позволяет максимально обострить тот богатейший психологический комплекс чувств, который заложен в каждой реплике, в каждом слове главного героя. И в сочетании с редкими, но точно выбранными «бытовыми » реалиями, подчеркивающими иногда время, иногда место, а иногда обстоятельства действия, он помогает фантазии слушателя «по-своему» вообразить ход и обстоятельства событий, увидеть «внутренним взором» и людей, и природу, и движение сюжета.
Поразительна в этом смысле сцена, в которой инженер Бертран наблюдает на верфях за спуском нового корабля российского императорского флота, на борту которого выстроены корабелы с нахлобученными им на головы «смертными» колпаками висельников. Эти мешки на живых людях – предупреждение царя Петра о том, что будет с корабелами, если спуск на воду нового судна пройдет неудачно.
Левитин выбрасывает из текста какие бы то ни было словесные комментарии, но находит очень выразительный прием, характеризующий и атмосферу действия, и психологическое состояние многих людей: звучит команда «На спуск», но никаких приличествующих случаю восторженных криков или удивленных восклицаний не слышно. Напротив – все начинают разговаривать полушепотом, приглушенно, как будто сами не смотрят со стороны, а находятся на палубе, среди обреченных на страшное испытание людей.
Чудовищная напряженность ожидания трагедии заполняет эфир, захватывая слушателя и максимально концентрируя его внимание не только на происходящем событии, но и на «подтексте», заложенном Платоновым и его радиоинтерпретатором – режиссером Михаилом Левитиным. Именно из таких эпизодов складывается лестница эмоций, предощущение трагедии, которая заканчивается уже ничем и никого не удивляющим известием о казни самого инженера Бертрана Перри.
Тот же художественный принцип Левитин разрабатывает и в других сценах – например, в сцене венчания Бертрана на «туземной» российской невесте. Сцена в церкви и все приличествующие звуковые аксессуары «соблюдены» – церковные колокола, шепот гостей и т. п., и даже атмосфера праздника вроде бы не приглушается ничем. Но вот разговор среди гостей заходит о том, одобрит или нет государь этот брак «басурмана » и православной, и все участники события переходят на шепот. Простой прием, почти примитивное режиссерское решение.
Но какое выразительное! Как явственно вырисовывается атмосфера всеобщего страха и всеобщего раболепного унижения. Так скупыми, но очень выразительными режиссерскими приемами Левитин достигает эффекта присутствия слушателя на событии, разворачивающемся в эфире, выстраивая динамичную звуковую партитуру спектакля.
Поразительного эмоционального эффекта добивается Левитин в последней сцене спектакля – в сцене зверской казни Бертрана Перри по приказу царя Петра.
Шлюзы не удались – то ли ошибка в расчетах, то ли принципиальная ошибка в выборе русла канала, но рабочему достаточно было случайно пробить дно строящегося сооружения железным наконечником бурильной установки, и вся вода ушла в поддонные пески. Об этом, естественно, не без злорадства (отчетливо проявившегося в речи исполнителей ролей генералов-инспекторов) доложили Петру, и тот повелел Бертрана разжаловать из генералов и отдать в руки палача. Но до этого – в полном соответствии с текстом Платонова – английского инженера, полузакованого в кандалы, прогнали пешком из Епифани в Москву.
Эпизод этот, занимающий в радиоспектакле едва ли не целую часть (немногим менее 30 минут), один из самых выразительных. Бертран идет по страшной дороге к смерти и вспоминает, с какими надеждами ехал в Россию – нести пользу, а может быть, и радость людям. Возникают звуки прощания с отцом и невестой, шум моря, которое приближало английского инженера к неведомой ему России, грохот якоря, брошенного в воду у берегов неведомой страны, голоса отца и невесты – словом, все, что, по легендам, возникает в воображении и памяти человека перед прощанием с жизнью. Все сосредоточено только на этом, незримом и неслышном пути к самому себе, молодой человек, очевидно, проходит и последние минуты жизни.
Левитин еще раз взрывает неспешное «приглушенное» звучание своего спектакля.
Возникает голос свитского чиновника, объявляющего английскому инженеру о его участи, и вслед за этим встык, без каких-ли-бо комментариев, сцена казни. Голос палача, который с презрительной усмешкой отвечает на вопрос узника по поводу орудия казни – веревки или топора. Голос жестокий, интонация леденящая:
– Я с тобой и без топора управлюсь. Зачем мне топор?
И в этом голосе столько ненависти и презрения, столько нежелания проявить хоть какие-то человеческие чувства, такое удовлетворение от предстоящего смертоубийства иностранца, посягнувшего на устоявшийся уклад российской жизни, всеобщей лени, воровства и ненависти к иноземцам, что короткая, почти бытовая реплика палача поднимается до символа, а его фигура становится как бы воплощением, если не сказать сосредоточением, всей исконно российской ненависти к европейской цивилизации, к иноземцам, инородцам и вообще к чужим людям, которые – не дай Бог! – повернут российский быт в какое-нибудь неведомое, но новое, цивилизованное русло.
А зачем русскому палачу топор или веревка, когда он голыми руками, как малолетнему ребенку или как куренку, забредшему в чужой двор, может свернуть шею? Что он и делает со спокойствием и удовлетворением, приводя в ужас даже царских судейских чиновников.
Возникающие в это последнее мгновение в сознании Бертрана Перри голоса отца, невесты, разных людей, с которыми он сталкивался на своем обреченном на гибель пути строительства Епифанских шлюзов, подчеркивают не только его собственную обреченность, но гибельность самой идеи реформировать мутную трясину российской жизни.
«Нельзя в России никого будить!» – уже после Платонова напишет в своих стихах другой выдающийся русский литератор.
Именно об этом говорит в своих «Епифанских шлюзах» замечательный театральный мастер Михаил Левитин на исходе XX века.
Глава 26 Марк Розовский
Один из ведущих мастеров отечественной сцены Марк Григорьевич Розовский – ныне заслуженный деятель искусств России, лауреат многих отечественных и международных фестивалей, руководит Московским театром «У Никитских ворот», выросшим из полупрофессионального актерского кружка, который дебютировал двадцать с лишним лет назад в зале Центрального дома медицинского работника. К этому дню Розовский был уже хорошо известен и театральной Москве, и всей стране.
В 1957 году вместе с инженером Ильей Рутбергом и врачом Альбертом Аксельродом он организовал в Клубе гуманитарных факультетов Московского университета студенческий сатирический театр «Наш дом».
Название театра родилось вместе с названием первого студенческого спектакля «Мы строим наш дом».
От капустников и юмористических обозрений на тему экзаменов и других событий разнообразной студенческой жизни театр начал переходить к серьезной драматургии. Магистральное направление нового коллектива постепенно стали обозначать не только юмористические сценки самих создателей театра, но и произведения классиков русской и советской сатиры, инсценировки новеллистики мастеров мировой литературы.
Но конечно, больше всего сердца создателей «Нашего дома», и Марка Розовского в частности, грели произведения остросатирические.
Розовского притягивал к себе синтетический театр. Не случайно после того, как разгневанные художественной практикой «Нашего дома» партийные инстанции закрыли студенческий театр, Розовский с успехом работал на разных сценах – от Московского Художественного театра им. А.П. Чехова до Московского мюзик-холла, художественным руководителем которого он был в течение нескольких лет. Он много ставил в разных городах, прежде чем организовал уже упомянутый нами кружок при Центральном доме медработника в Москве, а позднее Государственный театр, который получил название «Театр у Никитских ворот под руководством М. Розовского». Судьба театра сложилась удачно – театр с успехом гастролировал в разных странах мира – от США до Израиля и от Вены до Стокгольма.
Розовского по праву называют одним из родителей русского мюзикла – спектакли «Бедная Лиза» по Карамзину, «Гамбринус» по А. Куприну имели огромный успех в разных странах. Но конечно, самое его знаменитое сочинение в этом жанре – спектакль «История лошади», поставленный в его собственном театре, в Санкт-Пе-тербурге, в БДТ с Е. Лебедевым в заглавной роли Холстомера и еще во многих городах и странах. Гастроли «Театра у Никитских ворот» на разных континентах проходили с неизбежным успехом.
Автор этих строк может засвидетельствовать, как во время гастролей в Бельгии один из официальных руководителей театральной жизни этой страны, приветствуя приезд театра, сказал с высокой и очень ответственной трибуны, что режиссер Марк Розовский аккумулировал в своем творчестве заветы и эстетические традиции Станиславского и Мейерхольда.
На афише ЭСТа (Эстрадный студенческий театр) в 1968 году появился спектакль, сочиненный Розовским вместе с композитором Максимом Дунаевским по сатирической поэме Семена Кирсанова «Сказание о царе Максе-Емельяне». Дело прошлое, и теперь, уже в XXI веке, можно без утайки, хотя и со стыдом за тогдашние художественные и директивные инстанции, сказать, что именно этот спектакль послужил одной из причин закрытия популярнейшего не только в Москве художественного коллектива.
Время было такое, что власть имущие искали в любом проявлении сатирического искусства намек на самих себя и всеми доступными им способами искореняли эти, как им казалось, «намеки».
ЭСТ был закрыт. Основная причина, которую объявляли власть имущие инстанции, формулировалась так: «Эстрадный театр уже не обладает художественными силами, перспективными для советского искусства».
В неперспективные попали драматурги Розовский, В. Славкин и Л. Петрушевская, композиторы М. Дунаевский и Н. Песков, актеры Г. Хазанов, С. Фарада, А. Карпов, А. Филипенко, М. Филиппов и так далее... Список можно продолжать довольно долго, и этот список будет представлять выдающихся мастеров русской культуры середины и второй половины XX века.
Получивший всемирную известность (напомню лишь, что «История лошади» до сих пор идет в нескольких десятках крупнейших стран мира, и с каждым сезоном число премьер увеличивается) режиссер Марк Розовский работает теперь в театре, носящем его имя, стал одним из ведущих в России и Европе постановщиков чеховской драматургии, написал полтора десятка книг, в которых по собственному разумению пытается не только описать, но и разгадать тайны творческой манеры Чехова и бездонные загадки его пьес, с блеском поставил множество современных пьес и уже давно мог бы «почить на привычных ему лаврах» театрального мастера. Уже о нем пишут статьи историки и исследователи современного театра, организуют научные конференции, посвященные его творческим исканиям.
Поэтому некоторой неожиданностью прозвучало сообщение в прессе, что Марк Розовский возвращается вместе с одним из самых знаменитых своих учеников к тому самому театральному спектаклю, с которого начались Большие Неприятности и у него самого, и у университетского театра.
Розовский решил восстановить на радио «Сказ про царя Макса-Емельяна». Играть «от автора» решил сам и весь спектакль распределил между двумя персонажами.
Вторым стал ныне народный артист России, один из популярнейших мастеров российской эстрады Геннадий Хазанов.
Перед записью спектакля в студии «Радио России» Розовский попросил несколько минут для вступительного слова. Он говорил о том, как карала власть за любую фразу, в которой эта самая власть видела намек на себя самое. А потом зазвучала гармошка -так, как ей полагается перед началом традиционного балаганного действа на ярмарочной российской площади.
Эмоциональная структура радиопредставления держится на сочиненной Максимом Дунаевским в буквальном смысле этого слова «балаганной», «петрушечной» музыке, в которую вписываются разнообразные интонации реплик автора (сам Розовский) и ведущего рассказ актера – Геннадия Хазанова.
Так в эфире возникает атмосфера традиционного для русской культуры комедийного балагана, отправляющего слушателя в мир сказки и постепенно, но очень верно погружающего слушателя в стихию неразрывного сочетания ярмарочного представления и эстрадного действия с прямым обращением к сиюминутному настроению слушателя-зрителя.
Я намеренно пишу слово «зрителя», ибо здесь Розовский в полной мере реализует генеральное направление отечественного радиоискусства – слушатель внутренним своим воображением воссоздает зрительные образы участников спектакля и атмосферу всего действия. Конечно, для этого нужно актерское дарование
Геннадия Хазанова и самого Розовского. И тут уже срабатывает не только их значительный сценический опыт, но и безукоризненное владение жанром, избранным режиссером.
Это – радиокомедия, радиобалаган, ведущий свои ростки от рожденного на отечественном вещании еще в начале 1920-х годов радиоцирка, в котором принимали участие самые крупные драматические актеры России – от Э. Гарина, С. Мартинсона, М. Климова и О. Абдулова до мастеров цирка, соединявших искусство манежа и острохарактерное звучание комиков на драматических подмостках.
Спектакль Розовского стал новым словом на отечественном радио именно потому, что он с необыкновенной пластической достоверностью соединил звуковые краски остросатирического театра, современной эстрады и манеру «классического» художественного чтения разножанровой поэзии, в данном случае блистательно стилизованной пером Семена Кирсанова.
«Царь Макс-Емельян» с музыкой Максима Дунаевского в свое время стал открытием театральных подмостков, создав студенческому эстрадному театру «Наш дом» репутацию уникального художественного коллектива, способного решать чрезвычайно сложные эстетические задачи. Будучи перенесен в радиоэфир, он сохранил своеобразие и обаяние театрального комического действа, переведя его звуковую палитру в зрелище, побуждавшее миллионы слушателей с огромной энергетикой пробуждать и направлять свою фантазию в том направлении, куда ее ведут творческая воля режиссера и обаяние и художественная достоверность интонаций актерской речи у микрофона.
В этом смысле едва ли не самая выразительная и уморительная до хохота сцена радиоспектакля – эпизод представления возможных невест царю – титулованные красотки из разных стран проходят будто не перед глазами старца, возжелавшего любви и возмечтавшего о наследнике (ради чего он, собственно говоря, и затеял всю эту историю вообще и глупые смотрины в частности), а перед глазами слушателей, так безукоризненно точны в своих иронических комментариях Хазанов и Розовский. «Тут красотки и из Абиссинии, и из Парижа, и со всего света».
Иронический посыл спектакля становится острее, когда в исконно русскую плясовую мелодию, под которую шествуют красавицы, ибо именно под эту музыку полагалось проводить великосветские, и тем более царские, смотрины, вмешивается волей режиссера и композитора исполненная не на фортепиано, не на скрипках, а на балалайке любому слушателю превосходно знакомая – но только в ироническом варианте – мелодия Дунаевского-папы «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...».
Этот прием Розовский и Дунаевский используют несколько раз, но только в музыку, приличествующую празднику во дворце царя Макса-Емельяна в сложный, можно сказать философский момент рассуждений венценосного жениха о том, что и сил, и способностей у него осталось уже не так много, как требуется для благородного дела рождения и воспитания венценосного наследника, врывается не менее знакомая и любимая мелодия из репертуара «Машины времени» (конечно, тоже в балалаечной версии) «Вот, новый поворот...».
Мне кажется, что Розовский вообще в этом спектакле еще раз реализовал один из победительных эстетических принципов отечественного радиоискусства и вообще всей аудиокультуры XX века – возможность неразрывного слияния иронии и лирики, юмора и пафоса.
Разумеется, успешно такое сочетание возникает лишь тогда, когда безукоризненно – не только с точки зрения автора и режиссера радиодействия, но и с позиции психологической «установки » слушателя, это сочетание понятно и логично. В этом случае, и только в этом случае, режиссер радиоспектакля с абсолютной свободой управляет воображением аудитории, оправдывая любые переключения внимания и смену настроений, которые диктует логика художественного мышления звукового представления.
Это правило едино и для театра, и для кино, но, конечно, наиболее эффективно и эффектно срабатывает в радиоспектакле.
Глава 27 Дмитрий Николаев – первые шаги арсакустики
Профессиональное восхождение режиссера Дмитрия Николаева в радиоискусстве было стремительным, убедительным, чтобы не сказать триумфальным. После окончания режиссерского факультета Российской академии театрального искусства, в ту пору, когда это учебное заведение еще носило название ГИТИС, и где Дмитрий Николаев учился на курсе Марии Осиповны Кнебель, он ставил спектакли на сцене различных провинциальных театров, ездил по стране и «присматривался» к возможностям незримой сцены радиотеатра.
Как раз в это время Всесоюзное радио стало историей, сотрудники литературно-драматического и детского радио разбрелись по разным вещательным и околовещательным организациям, а Николаев появился на «Радио России» – единственном практически сохранившемся государственном вещании – с целым рядом, мало сказать, неожиданных, но откровенно дерзких – по отношению к традиционной радиопрактике – режиссерских фантазий.
Он придумал радиоспектакль, в котором не должно было быть ни одного слова – острый, конфликтный сюжет двигался лишь звучанием музыки, выразительными междометиями и вскриками двух главных персонажей – немолодого мужчины, проживающего свой день рождения, и его гостя.
Итак, обычный день рождения. С максимальной звуковой достоверностью Николаев восстанавливает в эфире этот день с мельчайшими подробностями.
Утренний туалет героя со всеми привычными и обычно не демонстрирующимися подробностями, звонок в дверь, извещающий о приходе гостя, радостные объятия, звук откупоренной бутылки вина, застолье, восхищение подарком – музыкальной шкатулкой, которая исполняет традиционную мелодию песенки-поздравления «Нарру Birthday to you», шум импровизированного мужского застолья.
И вдруг... Это «вдруг» поначалу кажется слушателю комическим отступлением от темы: хозяин и гость расходятся в представлении о том, как должен звучать финал поздравительной песенки – нота «вверх по тональности» или нота «вниз».
Они пробуют спеть вместе – раз, другой, третий... ничего не получается. Один тянет «наверх», другой «вниз». Причем каждый стремится доказать, что прав он, а не его собутыльник. В поисках аргумента своей правоты хозяин то садится за фортепиано, то включает радиоприемник, по которому, конечно же, звучит эта самая песенка, как будто специально транслируемая в эфир в день его рождения.
И тут начинается фантасмагория: исчерпав, как им кажется, все цивилизованные аргументы и все надежды убедить партнера в собственной правоте, собутыльники начинают элементарную драку. В ход идут различные предметы домашнего обихода, посуда, мебель. Мы уже не понимаем, кто именно, но один из спорщиков пытается сесть за рояль, а другой обрушивает ему на руки тяжелую крышку инструмента.
И вот уже в руках одного из приятелей оказывается ружье. Гремит выстрел.
Таинственным для нас образом драка переносится из квартиры на улицу, где каждый из спорящих очень быстро находит сторонников. Конфликт разрастается, в нем уже участвуют десятки, если не сотни людей. Песенка превращается в военный марш, под который по асфальту и брусчатке маршируют уже десятки, сотни, тысячи человек.
Воют моторы тяжелых грузовиков. Раздается скрежет танков двух армий, воюющих каждая под своим «музыкальным знаменем».
Между прочим, Николаев монтировал «Песенку» в 1993 году в октябре месяце, когда за окнами монтажной в Доме звукозаписи грохотали настоящие танки и слышны были танковые орудия, стрелявшие по «мятежному Белому дому» в Москве, где прятались путчисты. Сумасшествие, полумистический бред художественного произведения царил не где-то вдалеке, а рядом, за окном Дома звукозаписи.
Конфликт все расширяется, с земли он переносится на небо, и отзвук песенки слышится теперь в грохоте ракет и вое тяжелых бомбардировщиков.
Постепенно война, начавшаяся со спора о том, какая нота должна завершать незатейливое поздравление с днем рождения, переносится в космос, и как логическое его завершение «песенка» звучит как эхо ядерного взрыва, уничтожившего на Земле все живое, в том числе, разумеется, и самих спорщиков.
Николаев завершает историю этой трагикомической войны звуками духового оркестра, который играет все ту же песенку, но звучащую уже как похоронный марш.
Наконец, мы слышим странный звук, которым обычно имитируют полет души, покинувшей человеческое тело. И грустный похоронный звон сопровождает скорбное, теперь уже трагическое звучание все той же мелодии.
На международном радиоконгрессе в городе Арле, где Д. Николаев получил свою очередную первую премию, названную устроителями гран-при «Красноречие звука», один из профессиональных художественных критиков подчеркнул, что в тринадцати минутах своего спектакля, не сказав ни единого слова, молодой московский режиссер Николаев выразил «самые главные трагические глупости, которые накопило народонаселение планеты за многие годы и даже века так называемой цивилизации». А влиятельная английская газета после премьеры в Лондоне подчеркнула, что русскому режиссеру Николаеву в короткой и элегантной радиоминиатюре удалось сконцентрировать глупость и амбиции миллионов людей, готовых из упрямства и себялюбия разрушить даже свою планету, предварительно уничтожив на ней все живое.
Следующей значительной работой Д. Николаева был радиоспектакль «Граммофонная история войны», представленный Россией на конкурс Второго Московского Международного радиофестиваля «Приз Останкино» в 1996 году и получивший там высшую награду.
Это была работа, почти ничем не напоминавшая «Песенку». Николаев собрал вместе наиболее интересные документальные записи, сохранившиеся в архивах радио разных стран, но прежде всего России, Германии и европейских государств-участниц антигитлеровской коалиции, эпохи Второй мировой войны.
Короткими звуковыми мазками Николаев восстанавливает то беззаботное, хотя и слегка тревожное, настроение, которое владело разными народами и государствами в канун вселенской трагедии.
Весь спектакль решен методом звукового коллажа, который, как известно, не только разрешает, но стимулирует соединение «разнофактурных» по содержанию и форме звуковых компонентов. Причем, используя эффект совмещения этих звукозаписей (на профессиональном языке это называется наложением), разделив их звуками шипящей патефонной иглы по пластинке, Николаев выстраивает в едином смысловом и эмоциональном ряду речи Гитлера и Сталина, песенки французских шансонье, американский джаз и «ура-патриотические» русские хоровые песни, записи воспоминаний людей, пользующихся всемирной известностью, и никому не ведомых простых солдат. Зафиксированные на пленке сирены воздушных тревог Лондонского радио и фронтовой концерт мастеров советской эстрады Утесова, Руслановой, Шульженко; гвардейскую клятву защитников Москвы, истошный, по сути, предсмертный крик Геббельса у микрофона в Берлине, на пороге которого уже стояли танки Жукова, Конева и Рокоссовского; речи советских маршалов и голос рядового русского солдата с оторванными миной руками, который диктует письмо матери о том, как трудно и стыдно ему бывает, когда надо идти в туалет, а он не может сам расстегнуть брюки.
Приговором не войне, а времени и людям, спровоцировавшим эту войну, звучит чудом сохранившаяся на пленке страшная по своей сути, потрясающая современного слушателя инструкция Верховного командования Красной Армии о том, как должен сражаться с вражеским танком боец, не получивший ни стрелкового оружия, ни гранат, в распоряжении которого есть только саперная лопатка.
Как писал Твардовский: «Тут не прибавить не убавить —/Так это было на земле».
Замечательное свойство «Граммофонной истории войны» – и об этом писали многие рецензенты – как раз в том и заключается, что колоссальный эмоциональный заряд этого спектакля возникает из привычных звуковых реалий – знакомых многим людям по различным передачам радио о войне с фашизмом.
Один-единственный раз Николаев прерывает этот звуковой коллаж коротким комментарием.
Но каким комментарием!
Звуки боя, истерические крики Гитлера и Геббельса, «нарочито бесстрастный» голос Сталина, трагическое звучание музыки Вагнера и Шостаковича на короткое время, буквально на полминуты, прерывают строки из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» – «Сон Раскольникова», где говорится о том, как в людей вселился дух всеобщего разрушения и разум заменило стремление к убийству себе подобных.
«Граммофонная история войны» закрепила за Николаевым репутацию мастера, способного максимально простыми средствами аудиокультуры поднимать глобальные проблемы общественного бытия, рассматривая через призму звуковых документов события всемирного масштаба и исторической значимости.
Вскоре после Московского фестиваля 1996 года русский режиссер Дмитрий Николаев был избран в Совет Международной организации радиовещания – экспертом Европейской группы «Арсакустика», занимающейся рассмотрением путей развития современной аудиокультуры, ее наиболее перспективных и эффективных – с точки зрения воздействия на аудиторию – художественных направлений.
Но это уже новая тема для нового исследования.
Вместо послесловия
На рубеже XXI столетия в трудах об аудиокультуре, ее достижениях и перспективах развития появился термин «арсакустика».
Эстетические и философские корни надо искать в том же русле мировой культуры, что и корни сюрреализма в живописи, ориентировавшегося на максимальное раскрепощение человеческой фантазии, раскрепощение подсознательных процессов человеческой психики.
Не случайно первые сюрреалистические пробы в аудиокультуре относятся к 30-м годам – как раз когда в изобразительном искусстве сюрреализм набирает силу. Устраивались многочисленные выставки, в орбиту сюрреализма втягивались новые мастера, экспериментировавшие именно в сюрреалистической манере отражения действительности и ориентировавшиеся именно на человеческую фантазию, на способность человека с помощью своего воображения восстанавливать через частную деталь общую картину объекта, события, целостную картину мира.
Надо заметить, что огромное влияние на эксперименты мастеров аудиокультуры оказала художественная практика Бретона, Дюшана, Сальвадора Дали и их последователей. Одно интересное совпадение. Сюрреалистические тенденции в аудиокультуре, и, в частности, в сфере радиовещания, в его поисках наиболее эффектных приемов «звукописи» стали активно появляться в Соединенных Штатах в 30-е годы – хотя звукорежиссеры радио в этот период пользовались не результатами звукозаписи на пленку, а имитацией шумов природы, городской жизни и т. п. – имитацией чисто «театрального» свойства – изображением грома, шума дождя, звуков идущего поезда при помощи всевозможных приспособлений или конструкций наподобие аппарата русского инженера Рюмина, о котором мы уже упоминали.
Это была имитация звуков, но, как всякая имитация, она далеко не всякого слушателя убеждала. Ситуация принципиально изменилась, когда в руках у режиссеров оказалась современная техника звукозаписи и звуковоспроизведения, позволявшая фиксировать на пленке любые звуки реальной жизни, любые шумы природы, самые разнообразные оттенки звучания одного или многих голосов, реальные звуки работающей техники и т. п.
«Звукопись» оказалась чрезвычайно плодотворным методом воспроизведения различных жизненных реалий. И многие мастера аудиокультуры очень быстро пришли к мысли, что опыт, накопленный художниками, работавшими в манере звукового сюрреализма, может быть чрезвычайно плодотворен в их поиске наиболее выразительных средств отражения действительности.
Не случайно в Музее телевидения в Нью-Йорке, где значительный раздел экспозиции отведен практике радиовещания, специальный раздел экспозиции (разумеется, опирающийся на фонды этого музея) включает в себя и материалы, характеризующие эксперименты американского радио, связанные с опытами и практикой «звукописи» как самостоятельного художественного метода.
В нашей стране эксперименты такого рода начались много позже.
Напомним, что лишь к 1946 году радиожурналисты и звукорежиссеры театра и кинематографа получили необходимую для этого технику.
Возможность техническую, но ограниченную социальными обстоятельствами.
Дело в том, что различные поиски новых путей любого искусства, и звуковой культуры в том числе, были если не запрещены официально, то поддержкой «культурного начальства» не пользовались. «Социалистический реализм», признанный не просто главным, но единственным методом художественного творчества, никак не согласовывался с любыми художественными поисками вне его многократно декретированных рамок. Результаты были плачевны, а наказание неумолимо. Это относилось и к аудиокультуре. Джазовые импровизации, поиски «электронной музыки» (родившейся, между прочим, в России еще в 1920 году, когда появился первый электронный музыкальный инструмент «Терменвокс»), звукоподражание – не как эстрадный трюк, а как серьезный эстетический метод – все это соотносилось в лучшем случае с формализмом и антиэстетическими изысками, а в худшем – получало ярлык «идеологической диверсии».
Поэтому выход на международную художественную арену, на различного рода фестивали, смотры и конкурсы работ, в которых звук, а не слово были основной краской эстетической палитры автора того или иного художественного произведения, воспринимались за рубежом с удивлением и некоторым недоверием. Понадобилось несколько лет, парижские, лондонские, римские, берлинские премьеры радиоспектаклей Андрея Тарковского, Саввы Кулиша, Александра Пономарева, Дмитрия Николаева и их российских коллег – разных поколений! – чтобы художественные эксперименты мастеров аудиокультуры стали привычными для художественной практики европейского, а затем и заокеанского радиосообщества.
Как любое плодотворное художественное направление, арсакустика практически не знает тематических и жанровых границ.
Это может быть репортаж, в основе которого «шумы», преследующие человека в течение двадцати минут едущего по загородному шоссе из одного населенного пункта в другой, оставляя на обочине небольшие деревеньки, железнодорожные станции, развилки скоростных магистралей, которые он пересекает, не останавливаясь. В орбиту его внимания – каждый раз всего на несколько мгновений – попадают звуки какого-то праздника, отмечаемого в придорожном ресторанчике, свисток полицейского инспектора, останавливающего нерадивого пешехода, звуки рок-ансамбля из обгоняющего его автомобиля, и так далее и тому подобное.
Двадцать минут занимает эта дорога, ровно двадцать минут звучит этот репортаж, дающий слушателю ощущение стремительного движения не только самого автомобиля, но и быстротекущей, весьма разнообразной в своих проявлениях жизни.
Мы рассказываем о работе, которая была продемонстрирована на фестивале арсакустики во французском городе Арле в середине 90-х годов, где автор – радиожурналист и радиорежиссер из Германии – получил одну из главных премий.
О возможностях арсакустики в сфере традиционной и нетрадиционной радиодраматургии мы говорили, разбирая структурные и эстетические особенности «Песенки» Дмитрия Николаева.
Чрезвычайно интересно эти возможности выявили радиорежиссеры из Великобритании и Нидерландов, предложив на том же фестивале вниманию взыскательной «профессиональной» публики (и получив соответствующие аплодисменты аудитории, сопровождавшиеся вручением весьма престижных призов). Они представили на суд слушателей работу в жанре модного в наше время ток-шоу -жанра, предназначенного для выражения мнений большой массы людей по тому или иному вопросу. Режиссеры проделали такой интереснейший эксперимент. Они попросили несколько десятков человек просто произнести у микрофона два слова «да» и «нет». Потом смонтировали все ответы вместе – сначала все «да», потом все «нет», «перемешали » их и предложили аудитории прослушать в течение двадцати с лишним минут.
По всем законам восприятия, и прежде всего согласно «Парадоксу повтора», который утверждает, что повтор однотипной интонационно и ритмически информации ведет к отторжению этой информации, если она не получает непрерывного развития, этот опус был обречен на провал. Но его слушали с огромным вниманием, очевидно, потому, что интонация, с которой произносились эти простые слова, была каждый раз иной, как неповторимо индивидуальны были оттенки признания или отрицания какого-то факта, на который реагировали участники эксперимента и который нам -слушателям оставался неизвестным.
И разумеется, приемы и методы арсакустики оказываются очень плодотворны и убедительны в произведениях, структуру которых определяют традиционные, правомерно сказать, «повествовательные» способы звукового рассказа. Они способны и цементировать структуру такого произведения, и, напротив, выделять смыслово и эмоционально контрапунктные акценты.
Еще один пример из практики «арльских» прослушиваний.
Заметим, что предусмотрительные организаторы устроили прослушивание работы, о которой идет речь, в помещении бывшего собора с его фантастической акустикой.
Вообще, заметим как бы в скобках, что произведения арсакустики, требуя сосредоточенного внимания от аудитории, порой требуют «специальных условий» для прослушивания. Не говоря уже, разумеется, об отличной радиотехнике. Поэтому устроители фестиваля в Арле задействовали бывшие храмовые и вообще старинные здания, сохраняющиеся едва ли не столетия, обладающие превосходной акустикой. У подъездов этих домов гостей Арля встречали двухметровые белые гипсовые уши – эмблема фестиваля, извещавшая, что в этом помещении идет прослушивание.
Так вот – о контрапунктах, которые можно создать методом арсакустики. В соборе идет радиопрограмма, центром которой является пасторская проповедь о добре и зле.
Проповедь довольно банальная и на первый взгляд весьма традиционная.
Голос пастора звучит ровно, беспристрастно, чтобы не сказать порядком занудно. Внезапно к нему примешивается детский плач. Резкий голос, едва ли не заглушающий голос священника, пытается уговаривать ребенка замолчать. Ребенок не унимается.
Технически все это сделано столь безукоризненно, что кое-кто из гостей арльского фестиваля начинает оглядываться, не задремали ли они во время проповеди и не происходит ли все это наяву.
Некоторое время противоборство голоса священника и плача ребенка продолжается. Потом неожиданно слышен резкий гортанный женский голос – вероятно, голос женщины, которая принесла этого ребенка. Голос ребенка становится чуть громче. Пастор делает паузу.
И вдруг в тишине звучит женский вскрик, похожий на ругательство, и отчетливая пощечина.
Ребенок заходится в крике – но только на мгновение – и смолкает.
А пастор после укоризненной паузы продолжает свою проповедь, изменив тему и разглагольствуя теперь о терпении, которого так не хватает людям.
Вряд ли нужно подробно объяснять, почему именно эта работа получила премию экуменического жюри.
Всего несколько примеров, характеризующих то направление аудиокультуры XX века, которое называется «арсакустика» и которое получило свое активное развитие в последней трети этого, уже ушедшего столетия, продемонстрировав, как многообразны еще пути, по которым может развиваться аудиокультура теперь уже XXI века. Как любой другой вид творческой деятельности, она не имеет границ, как нет границ проявлениям человеческой личности.
Иллюстрации
Репродуктор на трамвайной остановке, 1928 г.
В.В. Маяковский на радиостанции им. Коминтерна.
М. Горький в студии радио.
М. Шолохов читает главы «Тихого Дона» по радио.
Академик Е. Тарле читает радиолекцию по истории европейской политики.
М. Бабанова читает сказки Андерсена.
Д. Шостакович. Выступление перед премьерой 5 симфонии.
Д.Н. Орлов читает рассказы советских писателей.
И. Эренбург читает свои произведения у микрофона.
Валерий Чкалов о дальних перелетах советских летчиков.
Н.И. Вавилов. Лекции о работе АН СССР.
К. Циолковский у микрофона радио рассказывает о будущих космических полетах.
Президент АН СССР А.П. Карпинский выступает у микрофона «Последних известий».
Академик О.Ю. Шмидт выступает в арктическом выпуске «Последних известий».
Диктор Ю. Левитан у микрофона 22 июня 1941 г.
22 июня 1941 г. Улица 25 октября. Москвичи слушают сообщение по радио о начале войны.
Диктор Ю. Левитан читает Приказ о Параде Победы 1945 г.
Диктор Всесоюзного радио Владимир Герцик читает выпуск «Последних известий».
В радиостудии. Спектакль идет «живьем», 1938 г.
Поэтесса Вера Инбер читает свои новые стихи.
А. Баталов монтирует радиоспектакль «Герой нашего времени».
О.Н. Ефремов и О.П. Табаков в радиостудии.
Е.П. Корчагина-Александровская, 1934 г.
Алексей Грибов в радиопостановке «Село Степанчиково и его обитатели» по Достоевскому.
Радиоспектакль «Моя мечта» записывают В. Марецкая, М. Козаков, Т. Пельцер.
В. Марецкая в радиостудии. Запись передачи по роману М. Горького «Мать».
М. Неелова и О. Ефремов в радиопостановке «Жди меня».
Начало 1930-х годов. Так велись «трансляции из жизни».
Звукооператор Алексей Спасский.
Радиозапись концерта в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Учитель и ученик: В.И. Качалов и Ю.Б. Левитан.
Легендарный спортивный комментатор Вадим Синявский.
Рина Зеленая в передаче «Звездочка». Начало 1950)х годов.
Сценка у микрофона: Л. Целиковская и Р. Плятт в радиопостановке «Мой генерал»
А. Райкин дебютирует на радио в радиоспектакле Л. Веледницкой «Золушка».
Артисты московских театров на записи радиоспектакля «Клуб знаменитых капитанов».
Л. Кассиль открывает новую детскую передачу.
Я.В. Хенкин читает рассказы Зощенко в передаче «Жалобная книга», 1932 г.
К. Чуковский в программе А. Шереля «Радиоальманах поэзии», 1965 г.
Н. Черкасов рассказывает о своих киноролях. 1950-е годы.
М. Ульянов и режиссер Б. Дубинин репетируют 64 серию «Тихого Дона» по М. Шолохову.
С.Ю. Юрский в радиостудии.
В. Марецкая.
М. Прудкин и Ю. Яковлев перед микрофоном.
Ия Савина на репетиции в радиостудии.
Э. Гарин «Путешествие по Японии», 1930.
В сцене из спектакля МХАТа заняты М.М. Тарханов, В.И. Качалов, О.Л. Книппер(Чехова.
О.Л. Книппер-Чехова.
М.А. Булгаков и артисты МХАТа на репетиции радиоверсии спектакля «Пиквикский клуб» по Диккенсу.
И.М. Москвин.
Б. Ливанов и О. Андровская. Звучит чеховский «Медведь».
Репетирует Алла Константиновна Тарасова.
В.И. Качалов. Радиоконцерт 30 мая 1937 года в честь героев-полярников.
В.И. Качалов и Н.Н. Литовцева.
В.Э. Мейерхольд работает над постановкой «Каменного гостя», 1935 г.
З.Н. Райх.
И.В. Ильинский.
У микрофона Алиса Коонен.
О.Н. Абдулов.
В.А. Сперантова.
Режиссер Роза Иоффе на репетиции «Оле-Лукойе» с актерами В. Сперантовой, С. Лукьяновым, М. Бабановой, 1946 г.
А.А. Консовский.
С. Маршак в студии Центрального телеграфа. Рядом – Р. Иоффе, 1936 г.
Кинорежиссер Андрей Тарковский. На репетиции «Полный поворот кругом» У. Фолкнера.
А. Эфрос перед записью радиоспектакля «Мартин Иден».
В. Высоцкий перед микрофоном Всесоюзного радио.
Режиссер А. Васильев.
Режиссер М. Левитин.
Режиссер Марк Розовский.
Геннадий Хазанов.
Радиорежиссер Д. Николаев.
Примечания
1
Для сравнения отметим, что начало регулярного вещания в США отмечено 1919 годом, а Германии – 1923 годом, во Франции – началом 1920-х гг. (хотя экспериментальные программы получили распространение уже в 1908 году), в Великобритании – 1922 годом, в Японии – 1925 годом.
Таким образом, процесс становления массового радиовещания как самой развитой ветви аудиокультуры XX века был интенсивным в большинстве крупнейших стран мира.
(обратно)2
Под термином радиосообщение мы подразумеваем любое произведение, передаваемое аудитории по эфирному или проводному каналу; обоснование такого терминологического определения дано рядом ученых в 30-е годы и подтверждено в 60-70-х гг.
(обратно)3
Работа выполнена в рамках проекта «Человек в информационном пространстве: электронные СМК как объект культурной политики», осуществляемого по гранту РФФИ в 2000-2001 гг.
(обратно)4
Тонфильм представлял собой запись на кинопленке или на проволоке.
(обратно)5
Пьеса А.А. Безыменского, премьера которой состоялась на сцене ГОСТИМа 19 декабря 1929 года.
(обратно)6
К сожалению, мы не обладаем документами, подтверждающими консультативное участие В.Э. Мейерхольда в подготовке ряда информационных и общественно-политических передач. В частности, пока не найдены в архивах документальные подтверждения рассказов о том, как Мейерхольд консультировал радиожурналистов и редакторов по поводу праздничных трансляций с Красной площади, передачи, посвященной возвращению в Москву героев-челюскинцев, и ряда других. Хотя можно предположить, что такие консультации имели место и были крайне полезны. Предпосылки для этого есть. Известно, например, письмо Мейерхольда о программировании передач, где излагается интересная концепция построения радиожурналов и обозрений. Оно опубликовано в газете «Новости радио» в 1927 году. В свою последнюю (осуществленную уже другим постановщиком) режиссерскую разработку – сценарий физкультурного парада 1939 года -Мейерхольд включил и сценарный план радиорепортажа.
(обратно)7
Мейерхольд разделил спектакль на пятнадцать эпизодов, каждый из которых представлял собой часть «музыкально-сценического действия, постепенно развивающегося от комедии к трагедии, являя в целом слитное построение трагикомической театральной симфонии» (А.А. Гвоздев).
(обратно)8
Обратим внимание: этот доклад предшествовал концертному исполнению радиоспектакля «Каменный гость».
(обратно)9
По причинам, не зависящим от авторов и редакции Всесоюзного радио, передача звучала в эфире 14 февраля 1964 года полчаса.
(обратно)10
Премьеры их состоялись соответственно 25 января и 17 апреля 1935 года.
(обратно)11
И. Шлепянов эту задачу решил, но фабрика Мосдревотдела, куда обратился театр, выполнить заказ не смогла (см. подробно: Беседа с Вс. Мейерхольдом. -«Веч. Москва», 1926, 8 апр.).
(обратно)12
В БСЭ в статье «Радиоискусство» (изд. 3-е, т. 21, с. 365) ошибочно указана дата премьеры «Каменного гостя» – 1934 год.
(обратно)13
Перед последним появлением Мельника – «Я здешний ворон...».
(обратно)14
Обсуждение радиоспектакля «Стекло» проводили сотрудники только что созданного Научно-исследовательского института радиотелевизии – активисты РТФ (Ассоциация работников революционного радиофронта), отстаивавшие на радио идейные позиции и художественную политику РАПП. АРРРФ прекратила свое существование одновременно с РАПП и РАМП в 1932 году.
(обратно)15
Ефремов О. Актер у микрофона. «Советское радио и телевидение» – 1969, № 2. С. 47.
(обратно)


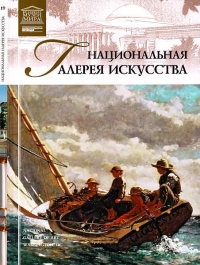
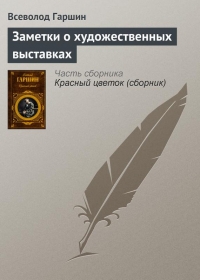
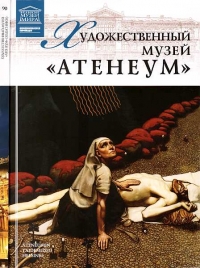


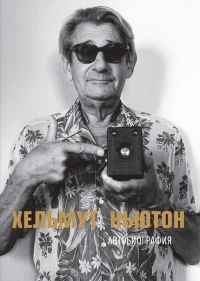




Комментарии к книге «Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию. Очерки», Александр Шерель
Всего 0 комментариев