Юрий Лазаревич Алянский Рассказы о русском музее
а также о старом Михайловском дворце и его строителе Росси, о превращении дворца в музей, о судьбах полотен и статуй и другие истории из биографии знаменитой коллекции
Если вы впервые входите в залы Русского музея — вам можно позавидовать, как завидуешь человеку, первый раз читающему «Онегина» или «Войну и мир», первый раз слушающему Чайковского, первый раз увидевшему «Броненосец „Потемкин“»… На вершины искусства радостно подниматься снова и снова. А первый «подъем» способен потрясти.
Ваше радостное изумление, впервые рожденное поэмой Лермонтова, балетом Прокофьева, пейзажем Левитана, с годами превращается в постоянную потребность все новых встреч с прекрасным. И если на разных этапах жизни снова и снова перечитываешь любимую книгу, из года в год слушаешь взволновавшую тебя симфонию, то возвращаешься и в Русский музей, где полотна и статуи, рисунки и гравюры сближают человека с красотой.
«Рассказы о Русском музее» — не путеводитель по музейным залам и не научное исследование. Автор не ставил перед собой задачи познакомить читателей со всеми собранными в музее произведениями. Да это было бы и невозможно: коллекции музея охватывают десять веков нашей культуры и насчитывают около трехсот тысяч экспонатов; а Экспозиция музея, включающая, разумеется, меньшую часть собранных сокровищ, занимает около ста пятидесяти залов… Рассказы посвящены лишь некоторым, произвольно выбранным произведениям, которые показались автору особенно интересными своими художественными особенностями и судьбами, порой — удивительными. Эта книга рассказов или, точнее, литературных этюдов навеяна таинственными и не таинственными историями из биографии всемирно знаменитой коллекции музея.
Истории эти выходят порой за пределы музейных залов. Русский музей делил со страной дни радости и потрясения великих бедствий. Экспонаты, как правдивые зеркала времени, отражали события эпохи, общественные сдвиги, ратные подвиги, борьбу идей. Самые благородные человеческие устремления и порывы, свершения и мечты навсегда остались жить в этих залах, запечатленные кистью живописца, резцом скульптора.
«Рассказы о Русском музее» вместили в себя творческие искания и далекие путешествия, кропотливые поиски и работы по спасению сокровищ. Искусство не замыкается в четырех стенах музея. Подобно всей человеческой культуре, оно становится мостом между прошлым, настоящим и будущим, между ушедшими и грядущими поколениями, между сердцем художника и сердцем зрителя. «Произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах картинных галерей и музеев, — писал народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков. — Как ценен молчаливый разговор и наедине с самим собой, когда полотна и статуи оживают в сердце».
И если «Рассказы о Русском музее» хоть немного помогут оживить и продлить ваши чувства, рожденные встречей с искусством, — автор сможет считать свою цель достигнутой.
Белоколонный зал
Судьба старого дворца
Белоколонный зал Русского музея наполнен светом, проникающим из старого Михайловского сада.
В этом зале с портрета смотрит на нескончаемую вереницу людей светлоглазый человек. Он сидит у стола. Стоячий воротник обрамляет снизу живое лицо. Взгляните на его руки они отдыхают, крепкие, сильные руки, не избалованные бездельем. В одной из них — карандаш. Будто заслышав чьи-то шаги, повернулся светлоглазый человек, чтобы взглянуть в лица своих далеких потомков.
Более ста лет смотрит с портрета французского художника Ш. Митуара Карл Иванович Росси, создатель Михайловского дворца, ставшего Русским музеем.
А старые клены Михайловского сада, заглядывая сквозь высокие окна зала, медленно кивают вершинами. Они помнят этого человека, чей гений заставил здесь груды камня подняться в прекрасный поэтический полет.
* * *
Росси впервые пришел в этот сад мартовским утром 1819 года — осмотреть полуразрушенные оранжереи. Архитектор что-то негромко говорил помощнику, тот делал пометки на листке бумаги.
В ту пору Росси был уже немолод — он перешагнул за сорок. В Россию Карло приехал восьмилетним беззаботным мальчиком с матерью, итальянской танцовщицей, мечтавшей стать звездой петербургского балета. Неаполь остался позади, и неведомая страна встретила мальчика дремучими сосновыми лесами, низким пасмурным небом, так непохожим на итальянское и превращающим морскую воду из лазурной в свинцовую.
Шли годы. Прима-балерине Гертруде Росси удалось покорить холодный Петербург. Увлеченная вихрем сценических успехов, она позабыла о сыне, препоручив его заботам других.
Живя близ Петербурга, в Павловске, Карло остался один. Он не знал своего отца. Теперь он терял мать. Придворные одержимого императора Павла, встречавшие юношу на четко разлинованных аллеях павловского парка, сторонились его: Павел недолюбливал иностранцев. И все-таки Карло захотел остаться в России навсегда. Новая родина приняла его. Люди, с которыми он будет работать, вологодские каменщики и охтинские столяры, станут называть его Карлом Ивановичем.
Ш. Митуар. Портрет К. И. Росси
Великий зодчий ощутит теплоту этого имени, отеческое признание страны.
Его учителем стал архитектор Бренна. Росси проникал в законы искусства, все отчетливее понимал его логику. Юноша почувствовал, что архитектура — замечательное поприще человеческого гения, где искусство сливается с математикой, а строительное дело — с поэзией и мечтой.
Постепенно Росси все ближе подходил к убеждению, что здания должны быть связаны между собой общим решением, единой мыслью, так, как сделал это архитектор Тома де Томон, создатель Стрелки Васильевского острова. Росси восхищался Биржей и ростральными колоннами, у подножия которых шумел тогда петербургский порт. Когда Росси поручили капитальную реставрацию Аничкова дворца в Петербурге, здание это будто расправило крылья, украсившись двумя павильонами и оградой. Когда Росси предложили перестроить дворец на Елагином острове — родилась архитектурная композиция, включившая, помимо дворца, павильоны, оранжереи, пристань. Ученик превращался в мастера. Строитель — в художника.
Главные создания Росси, тесно сдвинувшись во времени в зените жизни архитектора, потребовали необычайного напряжения сил. Еще не был закончен Елагин дворец, уже начались грандиозные работы по преобразованию Дворцовой площади, когда Росси приступил к возведению Михайловского дворца.
Средства для этой постройки копились казной давно — со дня рождения четвертого, младшего сына Павла I — Михаила. По воле императора дворец предназначался в подарок юному великому князю. Павла давно задушили в его спальне, многие события потрясли страну, а золотые рубли для подарка все складывались в миллионы.
Михайловский дворец решено было строить на месте, где сад, заложенный за сто лет до того Петром I, переходил в пустырь. Место это располагалось в центре Петербурга, по соседству с Невским проспектом, но было безлюдным и заброшенным. Внимательно осмотрев сад, Росси составил опись оранжерей — их предстояло снести.
17 апреля 1819 года Карлу Ивановичу Росси пришлось приехать на пустырь не в рабочей, а в парадной одежде. Здесь уже собралась большая толпа. В этот день состоялась закладка будущего Здания. Буквы, выбитые на большой серебряной доске, сверкали под лучами солнца. Доску положили в основание фундамента. Император Александр I подцепил серебряной лопаткой известку и неумело обмазал ею нарядные яшмовые кирпичи. По окончании молебна один из сановников установил на месте закладки вырезанный из камня ковчег — нечто вроде небольшого сундука — и бросил в него пригоршню серебряных монет различного достоинства чеканки 1819 года.
Строителей торопили. Еще не были видны контуры здания, еще до отделки было далеко, а в кронштадтский порт уже входила «Доротея» — корабль, доставивший в Петербург ящики с серебряными и бронзовыми вещами, предназначенными для украшения дворцовых залов.
Росси вникал в каждую мелочь, соизмеряя архитектурную форму — с фасоном мебели, лепное убранство — с рисунком паркета. Художественное решение столь грандиозного замысла лежало на плечах одного человека. Однако, обладая упорством, гигантским трудолюбием, умением вдохновлять своими замыслами других, Росси привлек к себе лучших художников, мастеров и специалистов своего времени. С ним постоянно работали известные скульпторы Пименов и Демут-Малиновский, живописцы Скотти, Виги, Медичи, мраморщик Яков Ценников, крепостной помещика Энгельгардта, резчики братья Тарасовы, их отец паркетчик Степан Тарасов, мебельный мастер Бобков.
Василий Демут-Малиновский состоял профессором Академии художеств. Василий Бобков не знал грамоты. Но все эти люди вкладывали в свой труд замечательное мастерство. Михайловский дворец украшался в гармоническом сочетании различных искусств.
Строительство здания и его отделка закончились в 1825 году.
Росси придал Михайловскому дворцу образ торжественной приподнятости. В облике здания есть парадная праздничность, победная пышность, гордая строгость линий.
Всего семь лет отделяли закладку дворца от незабываемых для России событий Отечественной войны 1812 года. Свежи были в памяти великие битвы и славные победы русского оружия. И у архитектора явилась мысль придать зданию черты, способные всегда напоминать о славе народа, завоеванной в борьбе с иноземными захватчиками.
Так возникла решетка, состоящая из копий с позолоченными остриями, — одна из красивейших оград города. Копья перемежаются чугунными столбами с трофеями. Окна первого этажа главного фасада украшены символами воинской славы — шлемом древнерусского витязя, мечами и щитами. Могучие львы охраняют подъезд.
Садовый фасад — лиричнее, интимнее. Исполненный удивительной, спокойной красоты, он будто вторит тихой задумчивости сада. Нежно-желтые, как и сам дворец, листья опускаются осенними ночами на его пологие ступени.
Внутренняя отделка дворца не дошла до нашего времени. В конце прошлого века здание внутри значительно перестраивалось. Роскошные дворцовые помещения, отделанные в свое время по рисункам Росси, превратились в музейные залы, служащие теперь лишь фоном для творений кисти и резца. В неприкосновенном виде сохранились только главный вестибюль и Белоколонный зал.
Вестибюль производит грандиозное впечатление. Высота его равна всей высоте здания. Стоя в вестибюле, чувствуешь, что архитектура и впрямь сродни музыке. Здесь вас охватывают ритмы россиевских линий, будто звучат в тишине органные аккорды колонн, величавой увертюрой предваряя ваше вступление в музейные залы. Чугунные решетки лестничных перил четким аккомпанементом сопровождают мелодию камня.
Белоколонный зал во втором этаже дворца пленителен своей оригинальной архитектурой, изяществом, нарядностью. Колонны разделяют его на три неравные части — большую центральную и две боковые. Зал торжествен и строг. Четыре панно на стенах воссоздают эпизоды Троянской войны, воспетой в гомеровской «Илиаде». Идея подвига, воспоминание о героях, воплощенные во внешнем облике здания, получили разрешение и в центральном зале дворца.
Белоколонный зал так восхитил современников Росси, общество, двор, что царское семейство решило заказать деревянную модель зала и отправить ее в подарок английскому королю.
Для сопровождения модели в Англию и для ее уборки назначили столяра и резчика Ивана Тарасова, «охтенина», как в те времена, в отличие от петербуржцев, называли жителей пригородной слободы Охты.
Иван Тарасов приехал в Лондон, потом — в Виндзор, явился во дворец и вручил королю подарок. Лорды пришли в восторг от затейливо сделанной модели. Целую зиму, до весенней навигации, прожил русский мастер в Англии, поражая англичан своим искусством. Он резал дерево, превращая его в кружево, — оно рождалось тут же, в одном из дворцовых помещений, под острым лезвием его долота. Он настилал наборные паркеты из кусочков редкостных тропических деревьев — и полы расцветали под ногами причудливыми цветами или ложились строгими геометрическими композициями, каким учил Ивана архитектор Росси. «Командировка» Тарасова почти на пятьдесят лет опередила путешествие его литературного собрата Левши.
Король Георг IV наградил русского резчика золотой медалью на голубой ленте, которую Тарасов надел, только испросив разрешения у себя на родине. А модель Белоколонного зала осталась на Британских островах напоминанием о красоте и величии русской столицы.
Михайловский дворец стал по замыслу Росси центром грандиозного архитектурного ансамбля. Перед главным фасадом здания архитектор разбил партерный сквер. Перпендикулярно фасаду Росси проложил улицу, названную Михайловской (сейчас она носит имя художника И. Бродского). Новая улица открыла великолепный вид на дворец с Невского проспекта.
Росси проделал грандиозный труд, создав проекты фасадов всех выходивших на площадь перед дворцом «обывательских» домов. Все они должны были, по замыслу архитектора, своим единообразием гармонировать с обликом дворца. Даже фасад оперного театра, возводимого Александром Брюлловым, был в этих же целях оформлен как жилой дом.
А с другой стороны ансамбля, в конце Михайловского сада, архитектор воздвиг изящный светлый павильон. Его ступени ведут к воде — здесь протекает река Мойка. Придворные дамы, любуясь отсюда простором Марсова поля, пили кофе, катались на лодках, кормили лебедей или неторопливо прогуливались под сенью старых петровских кленов.
Воплощение всех замыслов Росси, связанных с ансамблем Михайловского дворца, заняло около двадцати лет.
Жизнь Карла Ивановича Росси завершалась печально и бесславно. Он утомил двор творческой непримиримостью и получил унизительную отставку. Овдовев, старый архитектор поселился с детьми на окраине Петербурга, в Коломне, в доме N 185 по набережной реки Фонтанки, по совпадению, в том самом доме, где жил, впервые приехав в Петербург, восемнадцатилетний Пушкин. Под одной крышей сошлись, правда, в разное время, два великих современника.
Коломна тех лет не скрасила ни юности поэта, ни заката зодчего. «Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка…» — писал Гоголь в повести «Портрет» о Коломне. Весной 1849 года Карл Иванович Росси скончался. Событие это прошло в Петербурге незамеченным. Даже Брокгауз и Ефрон, издавая спустя полвека свой знаменитый многотомный энциклопедический словарь, забыли упомянуть в нем имя архитектора.
Горькой безымянной эпитафией замечательному, при жизни не оцененному архитектору, как и многим другим русским художникам прошлого века, звучат строки «Петербургской летописи» Достоевского, написанной незадолго до смерти Росси: «Петербуржец так рассеян… у него столько удовольствий, дела, службы, преферанса, сплетен и разных других развлечений, и, кроме того, столько грязи, что вряд ли есть когда ему время осмотреться кругом, вглядеться в Петербург внимательнее, изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах…»
* * *
История Петербурга и всей тогдашней эпохи действительно была связана и с Михайловским дворцом. Его хозяйка великая княгиня Елена Павловна часто устраивала вечера, на которые приглашались художники, музыканты, артисты. «С 1852 года великая княгиня пригласила меня состоять у нее аккомпаниатором тех певиц, которых несколько всегда у нее жило во дворце, — пишет в своих воспоминаниях Антон Григорьевич Рубинштейн, выдающийся музыкант и музыкальный деятель, — вообще я был постоянным „подогревателем“, „истопником“ музыки при дворе великой княгини Елены Павловны». Аккомпаниатор-«подогреватель», музыкант-«истопник» — какие горькие определения!
Но «истопники» разжигали духовный огонь. Все чаще устраивались концерты серьезной музыки, в них принимали участие виднейшие музыканты столицы. Здесь, в Михайловском дворце, возникли музыкальные классы — нечто вроде музыкальной школы, под директорством А. Г. Рубинштейна.
В 1862 году эти классы превратились в первую русскую консерваторию.
Елена Павловна кокетливо принимала на себя роли муз. Сначала она явилась одновременно Евтерпой и Терпсихорой — покровительницей танцев, музыки и поэзии. Потом ей приглянулась слава Урании — музы астрономии: узнав об успехах академика Василия Яковлевича Струве и его открытиях в изучении звездного неба, она пригласила его во дворец. А хирург Николай Иванович Пирогов читал на вечерах свои трактаты о назначении человека, о морали, о роли женщины, о воспитании детей.
Пирогов остался во дворце: портрет ученого работы Репина экспонируется в одном из залов Русского музея. Есть здесь и портрет Отто Васильевича Струве, сына В. Я. Струве, тоже астронома; принадлежит он кисти Крамского.
В конце века дворец пришел в упадок. Газеты с сокрушением писали о нем как о жалкой развалине с провалившимися полами, сгнившими стропилами и отбитым орнаментом.
13 апреля 1895 года судьба его изменилась: царский курьер доставил в сенат пакет, в котором содержался высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце «Русского музея императора Александра III».
А. Лосенко. Владимир и Рогнеда
1898, 7 Марта, весна…
К ночи северо-западный ветер усилился. Он нес с собой колючие снежные вихри, каких Петербург не видел давно. Перед рассветом ветер достиг семи баллов. Город замело снегом. На шпилях взвились штормовые сигналы…
В полдень к подъезду Михайловского дворца стали подъезжать нарядные кареты с густо залепленными снегом окнами. Лакеи, отряхиваясь на ходу, кидались опускать подножки, открывать дверцы. Гости входили в вестибюль дворца.
В этот субботний день 7(19) марта 1898 года Русский музей впервые открывал свои двери.
В течение всей прошедшей зимы здесь развешивали картины, устанавливали скульптуру. Произведения русских мастеров перевозились из Эрмитажа и многих столичных и пригородных дворцов. И вот торжественно заняла свое место доставленная из Академии художеств картина-эпопея Карла Брюллова «Последний день Помпеи» — музейный зал озарило кровавое зарево разгневанного Везувия. Взметнулся «Девятый вал» Айвазовского. Жеманная невеста отвернулась от жениха-майора на картине Федотова. Захохотали репинские «Запорожцы» над письмом турецкому султану. Грузно шагнул Ермак Антокольского. Надменно подняла лоснящееся лицо многопудовая Анна Иоанновна — бронзовая статуя Растрелли.
Гости все прибывали. Их встречали устроители вернисажа и хранители музея — Михаил Петрович Боткин, академик живописи, брат знаменитого врача и физиолога; художник Павел Александрович Брюллов, сын архитектора, строившего по соседству с дворцом Михайловский театр; Альберт Николаевич Бенуа, академик живописи. Они приглашали гостей в Белоколонный зал.
Зал этот, выстроенный Росси, слышавший Рубинштейна, видевший Пирогова, предназначенный теперь для торжественной церемонии открытия музея, оформили предметами, посвященными памяти… царя Александра III. На стенах, обитых плюшем цвета морской воды, заняли места блюда — на них подобострастные подданные когда-то преподносили императору хлеб-соль. Тарелки и подносы вторглись в убранство зала, так тонко продуманное его создателем. В центре стоял временный аналой с возлежащими на нем крестом и Евангелием. Декорацию завершали хоругви.
Толпа гудела. Туалеты дам, черные фраки художников, блестящие мундиры офицеров и высокопоставленных чиновников мерцали в тусклом свете пасмурного мартовского дня. Сбоку, за колоннами, разместились придворные певчие в парадных малиновых кафтанах и мундирах с золотыми галунами.
Когда на пороге зала появился августейший управляющий музеем великий князь Георгий Михайлович, а за ним вошли Николай II с матерью, вдовствующей императрицей, началось молебствие. Затихли разговоры. Гулко зазвучали голоса певчих. Придворный протопресвитер провозгласил вечную память Александру III и первым встал на колени. Все последовали его примеру. Церемония шла по заведенному порядку.
Наконец, процессия с царем и министрами во главе двинулась в обход 37 залов первой экспозиции Русского музея.
Остановились у картины «Последний день Помпеи». Потом подошли к первой русской «светской» картине, изображающей битву, воинов на вздыбленных конях.
— История этой картины весьма занимательна, — сказал, обращаясь к гостям, Боткин. — Однажды, находясь проездом в Новгороде, император Петр Великий присутствовал в соборе при литургии. Вдруг император заметил маленького мальчика, который что-то рисовал, приткнувшись в уголке. Царь подошел ближе и увидел, что юный художник трудился над его портретом. И хоть большого сходства четырнадцатилетний портретист добиться не мог, Петр был тронут увиденным и решил послать мальчика учиться за границу. Так Андрей Матвеев стал художником. Находясь за границей, он и написал эту картину, названную «Мамаево побоище».
Собравшиеся слушали с интересом. Журналисты лихорадочно записывали. Однако история, рассказанная Боткиным и обошедшая наутро добрую половину петербургских газет, содержала неточность. Ученые установили сейчас, что полотно это не принадлежит Матвееву. Написано оно, как предполагают сегодня, другим живописцем петровской эпохи — Иваном Никитиным. Называется картина «Куликовская битва». Исследования «биографии» этой картины продолжаются.
Что же касается рассказанной Боткиным истории — она правдоподобна. Петр охотно поощрял ремесла и таланты российские. И Матвеев и Никитин пользовались его покровительством.
А неподалеку перед сановными гостями предстала Рогнеда. Дочь полоцкого князя, она отвергла домогательства молодого новгородского князя Владимира. Тот решил принудить красавицу к браку. Рогнеда еще пытается оттолкнуть ненавистного жениха, но за ним стоят воины с пиками в руках.
События эти произошли в одиннадцатом веке, когда Полоцкое и Новгородское княжества враждовали между собой. Рогнеда возникла перед потомками на полотне «Владимир и Рогнеда» (1770) — крупнейшего живописца восемнадцатого века Антона Лосенко.
Художник этот был в числе самых первых выпускников российской Академии художеств, а его полотно «Владимир и Рогнеда» явилось в русском искусстве одной из первых исторических картин.
Вначале экспозиция Русского музея была невелика и выглядела скромно — по сравнению с нынешними ее богатствами. Искусству было в залах дворца еще просторно. Среди выдающихся полотен попадались d немалом количестве и произведения, не представлявшие ценности: картины и скульптура размещались в экспозиции по принципу декоративности, внешней «красивости».
Процессия гостей двигалась мимо полотен. Пышно разряженные дамы, вельможи и генералы поглядывали на пышно разряженных дам, вельмож и генералов, изображенных на портретах.
Обер-прокурор синода Победоносцев хмурился: не одобрял он этой затеи с музеем русского искусства, он считал ее слишком демократичной. Николай II остановился возле мраморного бюста Павла I, будто стараясь разгадать тайну задушенного прапрадеда. Как посмел Федот Шубин, холмогорский рыбак, ставший скульптором, так дерзко изобразить его величество императора?.. Павел, вздернув короткий нос, глядел куда-то в пространство настороженно, подозрительно…
Николаю представляли богатых дарительниц, пожертвовавших новому музею свои коллекции, художников, чьи полотна вошли в экспозицию. Живописцы, стоя у картин, объясняли их содержание и покорно выслушивали замечания «судей».
Шишкин шел по залам медленно, чуть прихрамывая, — разболелась нога, давал себя знать старый тромбоз. Художник весело разговаривал с журналистами, не подозревая, что клонился к вечеру последний день его жизни: наутро, в мастерской на 5-й линии Васильевского острова, оборвется жизнь выдающегося мастера; рука художника опустится навсегда; рядом упадет кисть с темно-зеленой краской, не успевшей лечь на полотно…
У балконной двери стоял старик с удивительной двойной бородой, росшей прямо из бакенбардов, — Иван Константинович Айвазовский. Он задумчиво смотрел на снег, наметавший за стеклом сверкающие сугробы. Море, так любимое художником и такое сейчас далекое, ворвалось в залы нового музея могучими зелеными валами, солеными, замершими на лету брызгами…
Ф. Шубин. Павел I
Но многих больших художников не было на вернисаже. Репин не любил парадной обстановки и остался в Пенатах. Левитан лежал в своей московской мастерской в тифу. Не приехал и Верещагин.
Музей запросил Верещагина, какие свои работы хотел бы он предложить для экспозиции. «Я назначил большую картину „Отступление Наполеона I“ и еще две небольшие картины, — писал художник одному из своих друзей. — Что ж бы, Вы думаете, ответили? — Одной маленькой достаточно! Так как это не из-за места и не из-за цены, то очевидно, что они считают самую картину неприличною для русского музея, картину, признанную везде за шедевр… Вот вам и судьи! Вопрос не обо мне, а об русском искусстве…»
Судьба отечественного искусства в связи с открытием нового музея волновала многих художников.
Архип Иванович Куинджи подал в 1902 году заявление общему собранию Академии художеств о несоблюдении Академией, а также августейшим управляющим музеем великим князем Георгием Михайловичем Положения о музее. Куинджи был одним из авторов этого Положения. Художник так закончил свое письмо: «Если судьба Русского музея, будущей славы и гордости русского национального искусства, — обратиться в частную галерею великого князя Георгия Михайловича — на то воля божия!» Горькая ирония звучала в этих словах.
И. Шишкин. Корабельная роща
Великий князь, да и иные из «хранителей» действительно распоряжались в музее, как у себя дома, уничтожив грань между музейными и личными коллекциями.
Но судьба «будущей славы и гордости русского национального искусства» была иной. Она, пока еще за стенами музея, находилась в руках ученика Куинджи, недавно окончившего Академию Аркадия Рылова; сына крепостного крестьянина Рязанской губернии Абрама Архипова, только что вместе с Михаилом Нестеровым получившего звание академика живописи (оба в возрасте тридцати пяти лет); студентов Академии, учеников Репина Анны Остроумовой и Бориса Кустодиева; выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества Константина Юона; совсем еще юного, поступающего в Одесское училище живописи Исаака Бродского… Новому поколению предстояло пересечь исторический рубеж 1917 года и войти в музей полноправными хозяевами, зрелыми художниками. Это поколение заложит фундамент советского искусства.
Сегодня эстафета поколений продолжается. Нестеров и Кустодиев, Остроумова-Лебедева и Бродский, Рылов и Юон заняли почетное место в экспозиции советского искусства. А рядом появляются полотна их учеников…
* * *
Первый день жизни Русского музея завершился. Кареты разъехались. Залы опустели. Ранние сумерки окутали город.
И. Айвазовский. Девятый вал
Наборщики в типографиях склонились над своими кассами. Метранпажи верстали воскресные номера столичных газет. Большое событие этого дня мало отразилось в макетах газетных и журнальных полос.
Как обычно, главные места отводились правительственным указам и статьям о театрах, где в угоду царствующей фамилии, члены которой переженились на немецких принцессах, ставились немецкие оперы и комедийки. Крупно печатал рекламу своего кваса некто Наседкин, широковещательно сообщалось о выходе на линию Москва-Томск комфортабельного поезда «с винным буфетом и гостиной для флирта», жирным шрифтом давались рекомендации, как избавиться от дорогих врачей и аптек. И петитом публиковалось краткое сообщение о выступлениях Золя на проходившем в Париже и шумевшем на весь мир процессе Дрейфуса.
Хроникеры диктовали свои небольшие однообразные информации об открытии Русского музея. Не умея охватить воображением всего увиденного и понять произошедшего, они называли Левицкого и Тропинина «русскими Грёзами», Ф. Алексеева — «русским Каналетто», Кипренского — «русским Ван-Диком»; у них не хватило духу отказаться от заученных лакейских сравнений и увидеть в русском искусстве — русское.
А старый Михайловский дворец выглядел в новой почетной роли музея молодо и нарядно. Даже седые снежные завалы у подъезда и на крыше не старили его. Дворец подставил широкие плечи холодному невскому ветру. С залива шел ураган. Но в нем угадывалась весна…
Икона «Ангел с золотыми волосами». Фрагмент
Из тьмы былого
Музей имеет нечто общее с театром: в музейном зале, как и на сцене, сжимается, конденсируется время, «сгущаются» чувства людей, история, жизнь народа. В начальных залах современной экспозиции Русского музея вы без труда возвратитесь на шесть столетий назад.
Речь идет об иконе.
Первые иконы русских мастеров появились в музее в дни его создания. Они перекочевали сюда из коллекции историка М. П. Погодина, из дворцовых церквей. В 1913 году собрание икон пополнилось коллекцией известного историка и искусствоведа Н. П. Лихачева, насчитывавшей до полутора тысяч экспонатов. Они-то и составили золотой фонд Отдела древнерусского искусства музея. Иконы из коллекции Лихачева пришли в музей со своими тайнами: и по сей день молчат ангелы и апостолы о своем происхождении, о своих создателях…
Иконы стекались в музей из Суздаля, Новгорода, многих древних русских городов. После революции их стало поступать еще больше: из Архангельской области, Пскова, Ярославля, Вологды, Кашина, десятков сел и погостов. За несколько лет до войны в глухой деревушке Манихино, недалеко от берегов Свири (на землях древнего Новгорода, входящих сейчас в Ленинградскую область), была обнаружена замечательная икона «Георгий на коне», созданная в конце XIV — начале XV века. Ее можно видеть в экспозиции музея. Это одна из нескольких экспонированных икон, на которых мастера древнего Новгорода воспели подвиги «небесного воина» Георгия, чудесно защищающего всех, кто обращается к нему за помощью. «Георгий на коне» — наивный, но прекрасный образ торжествующей справедливости; именно так воспринимали икону современники.
Не только иконы явились в музее пришельцами из тьмы былого. Деревянная скульптура, резьба по кости и камню, металлическое литье и чеканка, ювелирные изделия столетиями хранят обаяние подлинного искусства, образы ушедшей эпохи. И все-таки именно иконы — шедевры русского национального искусства — предшествовали «светской» живописи.
Люди поклонялись иконам, веря в их чудодейственную силу. Святые не оправдывали ожиданий, а люди продолжали с мольбой вглядываться в их лица: реальная жизнь не давала утешения.
Но многие прозревали. И тогда они видели в помутневших иконных ликах нечто иное — не высокую святость, а высокое искусство — подлинную силу, возвышающую человека. Иконы порой выводили человека из тесных церковных нефов, из душного мирка религиозных представлений — в просторы прекрасного, где иным иконам принадлежат действительно почетные места.
Так случилось, что икона, задуманная церковниками как источник небесного утешения, иной раз восполняла нравственные пробелы человеческой жизни на земле.
В те далекие времена над созданием икон трудились выдающиеся мастера, такие, как великий Андрей Рублев (шестисотлетие с года его рождения отмечал недавно по решению ЮНЕСКО весь мир). В Русском музее есть четыре иконы, к которым прикасалась его рука.
Рушатся преграды времени и истории, когда смотришь на иконы Рублева, вглядываешься в лица его апостолов Петра и Павла (они выполнены совместно с Даниилом Черным для Успенского собора во Владимире в 1408 году). Перед нами возникают не столько святые, сколько мыслители, мудрые и добрые люди. Рублевские Петр и Павел — не чудодеи, а поэты. Впрочем, поэты бывают чудодеями…
В 1919 году, приехав в Россию, посмотреть иконы Русского музея пожелал Бернард Шоу. Гениальный английский драматург привез с собой только что опубликованную пьесу «Дом, где разбиваются сердца» — «фантазию в русском стиле на английские темы». В предисловии к ней Шоу одним из своих учителей назвал Чехова. Великий англичанин живо интересовался русской культурой, уважал и любил ее.
Он ходил в сопровождении А. В. Луначарского по залам музея, всматривался в старинные иконы, сам очень похожий на рублевских апостолов, высказывал наркому свое восхищение. Когда-то, лет тридцать пять назад, Шоу работал в газете художественным критиком. Потом он стал большим художником и тонким, благодарным зрителем. «Я никогда не любил ходового искусства, — писал Шоу, — не уважал ходовой морали, не верил в ходовую религию». В русских иконах писатель увидел не ходовую религиозную форму, не ханжескую христианскую добродетель, а человеческую сущность национального искусства, живой народный гений.
Зал древнерусского искусства
Не только Бернард Шоу — талантом русских иконописцев восхищались и восхищаются многие выдающиеся люди Запада.
Русская икона не случайно завоевала международный авторитет, всеобщее восхищение. Она остается одной из вершин мирового изобразительного искусства, потому что никто не превзошел ее изяществом и лаконизмом рисунка, яркостью и чистотой цвета. Здесь торжествуют великая простота изображения и девственная чистота цвета, оригинальный взгляд на события библейской и человеческой истории.
Время древнерусского искусства ограничено датами: XI–XVII века. Его шедевры все полнее представали в собрании Отдела древнерусского искусства. В 1950-х годах начались экспедиции в различные районы страны для поисков и выявления новых произведений древности. Это были увлекательные поиски: на каждом шагу, в любой деревне, в заброшенной часовне могли оказаться подлинные клады, несметные сокровища. Их нелегко было найти, еще труднее — распознать. По цель оправдывала средства. И сотрудники музея путешествовали в непогоду, по бездорожью, забираясь в самые глухие уголки страны.
Икона «Ангел с золотыми волосами»
Иной раз искателей ждали горькие разочарования. Не везде берегли народное достояние, иные памятники искусства безвозвратно погибли при самых непростительных обстоятельствах. К счастью, в большинстве старинных городов и сел хранят память о прошлом. Экспедиции приносят бесценные находки. Ученым, художникам, научным работникам удается привозить в музей все новые сокровища.
Лучшие образцы иконописи заняли почетные места на стенах и стендах музея. Они говорят внимательному зрителю о многом. Время подчас стирало имена людей, создавших эти чудесные картины на дереве. Но время покорилось искусству, которое легко шагает через века.
* * *
Из двенадцатого века, из глухой кельи монаха-живописца явился «Ангел с золотыми волосами». Безымянный инок оказался большим художником, а его «ангел» — образом человечности, нетленной, нестареющей красоты, чистоты и юности. В огромных мечтательных глазах светится вечный огонь сочувствия человеку, его горю и радости. На языке церковников содержание этой иконы назвали бы, наверное, «милосердием». Дело, однако, не в названии: не веря в церковные мифы, мы свято верим в лучшие, благородные качества человеческого сердца. «Ангел с золотыми волосами» воплотил эту народную веру восемь столетий назад с необычайной выразительностью и силой.
Икона «Осада Новгорода суздальцами»
Икона становилась порой чудесным сплавом искусства и истории. Такова «Осада Новгорода суздальцами» — икона XV века, подлинный шедевр древнерусской живописи.
События, выбранные автором, показаны в трехъярусной композиции. Это великолепный живописный «микрофильм», повествующий о схватке между новгородцами и суздальцами, «микрофильм», где в сложном сочетании переплелись события древней истории, чувства патриотизма, владевшие жителями Новгорода, горячее стремление к справедливости.
В 1169 году суздальцы во главе с князем Андреем Боголюбский напали на древний Новгород, чтобы подчинить его своей власти. О том, как развернулась эта схватка, и рассказывает художник. В верхнем ряду изображен вынос новгородцами иконы богоматери из собора на городскую стену. В среднем ряду суздальцы обстреливают из луков новгородскую святыню и раненная стрелами врагов икона, по преданию, отворачивается от суздальцев, обращаясь лицом к городу. На нижнем рисунке — победа новгородцев: когда икона отвратилась от врагов, они ослепли и были перебиты.
Все это изображено тонким, четким рисунком, в ярких, чистых тонах.
* * *
Путь иконы из недр старой церкви в экспозицию или фонды музея — сложен. Иконы попадают в руки музейных работников почерневшими от времени или более поздних наслоений живописи. Они требуют огромного, кропотливого и терпеливого труда ученых, хранителей, реставраторов. Поэтому поиски, осуществляемые сотрудниками Отдела древнерусского искусства, проводятся обычно совместив с работниками реставрационных мастерских музея. Без виртуозного мастерства реставраторов, без их сложных спасательных работ многие иконы не увидели бы света…
Весной 1961 года очередная научная экспедиция Русского музея отправилась в Новгородскую область — в эту великую «империю» древнерусского искусства, на земли бывшего Новгородского княжества. Здесь в те далекие годы жили и трудились замечательные мастера иконописи.
Многие села и деревни остались позади, а ничего особенно примечательного не попадалось. Сотрудники музея завершали путешествие по Боровичскому району. Пора было возвращаться домой. По пути решили заехать в деревню Любони (что в пятнадцати километрах от села Кончанского, где жил в изгнании Суворов). Местные работники заверили ленинградских специалистов, что церковь в Любони бездействует, давно превращена в колхозный склад и искать таи поэтому предметы древней культуры бессмысленно. Однако энтузиастам своего дела никогда не хочется верить пессимистическим прогнозах.
И вот перед членами экспедиции небольшая церквушка сравнительно позднего происхождения. Окна наглухо забиты потемневшими от времени досками. На дверях ржавый амбарный замок. Кладовщик отворял церковь неохотно, уверяя, что ничего в ней, кроме зерна, нет.
Старая церковь, будто тоже нехотя, раскрыла свои двери со скрипом. После яркого солнечного света глаза не сразу привыкали к темноте и с трудом различали окружающие предметы. Почти до самых окон доходило навалом засыпанное зерно. Его слабо освещали тонкие лучи света — они пробивались между закрывавшими окна досками.
Но что это за доски?.. Один из реставраторов поднялся повыше и увидел, что окно заколочено… иконой. Лицевая ее сторона почернела, изображение почти не проглядывало сквозь налет копоти и грязи.
Кладовщик с удивлением наблюдал, как бережно снимали приезжие из Ленинграда старые «никчемные доски» и выносили их на свет. Здесь, на солнце, тоже невозможно было что-нибудь толком разглядеть. Но опытный художник-реставратор, кроме определенных признаков, по которым можно распознать икону, обладает интуицией, художественным чутьем, которое нередко может сослужить незаменимую службу. Оно необходимо реставратору, потому что первые этапы его работы зачастую проходят вслепую, потому что никакая самая сложная аппаратура не способна заменить профессионального ощущения искусства, цвета, манеры живописца, тонких, едва заметных и лишь одному этому мастеру свойственных приемов…
Несколько икон из деревни Любони доставлены в Русский музей. Вместе с ними пришла их далекая история, их многовековая судьба. Чьи прикосновения хранят эти едва видимые лики, чьи глаза обращались к ним с надеждой и мольбой?
«Доски» молчат. Но здесь, в музее, начнется их новая биография — биография экспонатов. Она начнется со сложных исследований, с установления истории иконы, ее происхождения и особенностей, времени ее создания и, по возможности, автора. Последнее удается далеко не всегда. Здесь, на стене музея, завершатся века религиозного поклонения, и икона снова, как и в день своего рождения, станет прекрасным произведением искусства. Ее первоначальные краски снова увидят свет.
Новые иконы подверглись просвечиванию рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами. Почти на всех находках оказалось несколько слоев живописи. Это значило, что по первоначальному, наиболее интересному и ценному для нас изображению, как это случалось нередко, бродячие богомазы поновляли икону — наносили новое изображение, порой ничем не похожее на основное. Один святой заслонял другого, нимбы, множась, превращались в радугу, в подлинно туманное облако (которое и составляет прямое значение латинского слова nimbus).
Впрочем, такой вид поновления, а по сути — порчи не губил икону. Гораздо хуже, когда последующие живописцы соскребали или смывали работу предшественников. К счастью, подобная горькая участь во многих случаях миновала древние памятники.
Итак, рентгеновские лучи проникли сквозь поздние слои живописи, когда применялись цинковые белила, и уперлись в слой более плотных металлических красок — свинцовых белил, какими пользовались древние мастера. А ультрафиолетовые лучи выявили малейшие иновременные прикосновения к основному изображению. Исследователи сделали несколько снимков каждой иконы в различных лучах, чтобы затем, опираясь на эти фотографии, приступить к самому процессу восстановления памятника.
Первые же пробные расчистки подтвердили догадки реставраторов. Под четырьмя слоями живописи одной из привезенных икон сохранился древнейший памятник Руси. Таких старых икон в нашей стране имеется немногим более двух десятков. Находка из Любони становилась событием культурной жизни страны!
Началась планомерная расчистка памятника — она продолжалась около года. К каждому красочному слою подбирали специальные реактивы-растворители, накладывали химические «компрессы». Потом тончайший слой краски снимался тампоном и скальпелем. Непрошенные двойники главного персонажа таяли, оставляя на тампонах мутный след. Наконец, древнее произведение безымянного мастера предстало в своем первоначальном виде. Оно оказалось иконой «Никола в житии», созданной в XIII — начале XIV века.
Характер изображения, его композиция, манера живописи, ее чистый колорит говорят о самобытном таланте мастера. Он рассказал о жизни своего героя простодушно, как если бы речь шла о реальном человеке. И вот уже снова, на этот раз не в храме, а в зале музея, продолжается житие святого Николы — рождение, учение грамоте, восхождение по «служебной лестнице», борьба с морским бесом… Эти и многие другие эпизоды запечатлены художником в двенадцати клеймах, расположенных по краям иконы, вокруг «портрета» самого Николы, сделанного лаконично, но выразительно на ярко-красном, киноварном фоне. Одно из клейм — справа внизу — показывает избавление Николой невинно осужденных от казни. Интересно напомнить, что этот же сюжет использован и Репиным в его картине «Николай Мерликийский избавляет от смерти невинно осужденных», находящейся также в Русском музее.
Когда древняя икона снова увидела свет, оказалось, что краски ее за семь столетий несколько потеряли свою первоначальную яркость. Это выявили ультрафиолетовые лучи, давшие на фотографии большую сочность изображения, чем та, что воспринимается человеческим глазом. Новая задача встала перед реставраторами — она находится в процессе разрешения.
…Три липовые доски, сколоченные неведомой рукой, немного покоробились, согнулись от времени. Давно нет старой липы, столетия назад выветрился ее аромат, нет художника, запечатлевшего на досках выразительный образ святого, похожего на человека, нет и тех, кто, глядя в лицо нарисованного Николы, ждал от него облегчения своей тяжелой доли, нет даже церкви, где икона эта торжественно висела среди иных реликвий. А памятник высокого искусства, проникнутый настоящей человечностью, его чистые краски — живы. Они долго еще будут рассказывать людям о вдохновении древнего мастера, о гении и трудолюбии русского человека, о его вере — нет, не в богов и не в святых, а в добро и справедливость.
Есть на берегах холодных северных рек церкви и часовенки, стоящие на холмах, у перекрестков проезжих дорог. Колокольня видна издалека. Стоит солнцу ненадолго выглянуть из-за пелены серых облаков — и сквозь темно-зеленую листву садов блеснет белое строение, давно всеми заброшенное и забытое. Время пронеслось мимо. Жизнь ушла далеко вперед. А церковь осталась белым островком былого, будто запертого за ее тяжелыми дверьми.
Если войти — увидишь, привыкнув к полумраку, лики святых на стенах, потемневшие иконы, мерцание старой позолоты. Лики эти, затуманенные следами веков, столетия взирали на людские слезы, столетия слышали мольбы. Святые остались равнодушными к людям. Но иконы сослужили вам иную службу: донесли через длинные и шаткие мосты времен большое, нестареющее, бессмертное искусство.
Д. Левицкий. Портрет Молчановой. Фрагмент
Ласточки смольного монастыря
Сотни лиц — молодых и старых, красивых и бесцветных, полных жизни и давно угасших — смотрят на вас с полотен замечательных мастеров восемнадцатого века. Лица эти умны или надменны, насмешливы или пусты, мрачны или веселы. В одних нельзя прочесть ни единой мысли, ни капли чувства. Слой белил и румян, переданный живописцем, будто укрепляет преграду непроницаемости. В других лицах читаешь историю целой жизни. Но и те и другие, как совмещенные зеркала, отражают век Екатерины и Державина, Фонвизина и Новикова, Михайлы Ломоносова и Федота Шубина, Ивана Кулибина и Александра Радищева.
Богатая галерея собранных музеем полотен, в основном портретов, многогранно иллюстрирует историю, литературу, общественную мысль восемнадцатого века. Портреты увековечили людей, остановили саму безостановочную жизнь.
* * *
Встреча автора или героя портрета со зрителем происходит зачастую на краях пропасти. Это — пропасть времени, раздвигаемая каждым новым днем. Но искусство может с легкостью перешагнуть ее.
Одна из таких встреч произошла в 1905 году. Перед портретами смолянок — воспитанниц Смольного института, написанными в начале семидесятых годов восемнадцатого века Дмитрием Григорьевичем Левицким, остановился Валентин Александрович Серов. Встречи художника со зрителем бывают повседневно. На этот раз к полотнам мастера подошел мастер.
Серов долго стоял перед смолянками, пораженный и взволнованный. «Ни перед одним произведением не испытывал я такого потрясения, — сказал он. — Это лучшие русские портреты, для нас, художников откровение…»
Шесть картин-портретов смолянок хороводом окружили вместительный зал музея, отведенный произведениям Левицкого. Некоторые из девушек действительно танцуют. Другие играют на музыкальных инструментах, обращаются к зрителям или просто улыбаются, радуясь своей весне. Они будто приглашают вас познакомиться поближе.
Вот замерли в кокетливом движении две девушки — Хованская и Хрущева. Хованская стоит напряженно, натянуто улыбаясь, неловко опустив руки; Хрущева, напротив, чувствует себя свободно и легко.
Перед нами — сцена из спектакля, данного выпускницами Смольного института именитым гостям во главе с Екатериной. Девушки разыграли популярную в те времена комическую оперу Киампи «Капризы любви, или Нинета при дворе». Хованская играет Нинету, Хрущева — ее поклонника Кола. В сценических костюмах предстали смолянки и перед мольбертом художника. Левицкий, восхищенный своей натурой, с увлечением и огромным непревзойденным мастерством воссоздал на холсте привлекательные лица девушек. Он виртуозно передал ткань и шитье платьев, передничек Хованской, воздушный и прозрачный…
Искусство способно быть всемогущим волшебником. Ни Хованскую, ни Хрущеву не назовешь красавицами; однако картина-портрет Левицкого стала воплощением юношеской прелести.
На сцене институтского зала была представлена и другая комическая опера — «Служанка-госпожа» Перголезе. Центральную роль служанки Сербины исполнила выпускница Нелидова. Она стала героиней другого портрета Левицкого. Можно предположить, что девушка, так грациозно танцующая, так уверенно играющая свою роль, как показал это художник, обладала незаурядными способностями. Так оно, видимо, и было: современники посвящали Нелидовой восторженные газетные заметки и стихи.
Сценический костюм Нелидовой передан Левицким также с удивительным искусством. Художник владеет богатейшей гаммой зеленого цвета с множеством его оттенков: изумрудного, серо-зеленоватого, зелено-палевого. Портретисту дороги в его картине каждая черточка лица, каждый поворот фигуры, любая мелочь, свет и тени, переливы блестящей ткани, различимые на заднем фоне наивные театральные декорации. Все это слагается на полотне в единую изобразительную оду красоте, юности, свежести, прекрасной человеческой весне.
Глафира Алымова уверенно играет на арфе. Она улыбается. Она, наверное, не думает о том, что улыбка ее перешагнет века и встретится с нашими взглядами. Кажется, будто звучит старинная музыка Рамо, потрескивают свечи в серебряных подсвечниках и дамы в пышных кринолинах вступают в медленное течение танца. Алымова улыбается. И руки ее, едва прикасаясь к струнам, замерли в своем неторопливом взлете.
Д. Левицкий. Портрет Хованской и Хрущевой
И только Давыдова и Ржевская — не в театральных, не в концертных, а в простых институтских платьях из грубого камлота. Девушки — тоже на сцене. Но они не разыгрывают пасторали и не поют. Одна из них вышла вперед, и, обращаясь к вам, начинает рассказ…
* * *
4 августа 1764 года сто один артиллерийский залп оповестил жителей Петербурга, что в Смольном монастыре открылось учебно-воспитательное заведение для девушек.
Сначала в Смольный институт благородных девиц — так стали называть новое учебное заведение — решили принимать лишь дочерей богатых дворянских фамилий. Но вскоре положение изменилось. Жесткие условия, придуманные Екатериной для воспитания девушек — строгая изоляция, обязательность двенадцатилетней непрерывной разлуки детей с родными, — расхолаживали богатых родителей. Зато неимущих семей, мечтавших отдать девочек в новое училище, оказалось много. Для них благотворительный характер заведения выглядел особенно заманчивым. Вскоре пятьдесят девочек в возрасте от четырех до шести лет были зачислены в Смольный институт. Малыши распрощались с родными: Екатерина готовила себе просвещенных фрейлин, которые, прежде чем научиться чему-нибудь, должны были позабыть все — родителей, отчий дом, прошлую жизнь.
Д. Левицкий. Портрет Алымовой
А учиться предстояло многому. Девочки изучали в Смольном «правила воспитания, благонравия, обхождения и чистоты, российский и четыре иностранных языка, рисование, арифметику, танцевание, а также надлежащие особливо женскому полу упражнения и рукоделия». Затем прибавились история, география, физика, архитектура, токарное ремесло и «приучение к домостроительству». Девушки, оканчивавшие курс этих наук и ремесел, становились, несомненно, самыми образованными людьми среди современниц.
В Смольном нередко происходили «собрания» с именитыми гостями, желавшими взглянуть, как воспитываются в России будущие первые дамы страны. Собрания эти устраивались для «большей привычки к честному обхождению, то есть чтобы придать девицам надлежащую и приличную смелость в поведениях». Во время «собраний» давались концерты и спектакли. Они особенно шумели в Петербурге зимой 1772/73 года. Любительские спектакли смолянок привлекали всю столицу.
Среди приглашенных оказался и Левицкий, недавно удостоенный звания академика за портрет Александра Филипповича Кокоринова, видного русского архитектора, одного из первых деятелей петербургской Академии художеств. (Портрет Кокоринова вместе со смолянками находится в зале Русского музея, посвященном творчеству Левицкого.)
Д. Левицкий. Портрет Молчановой
Художник видел смолянок и прежде — в Эрмитаже, куда девушки приезжали по Неве на шлюпках; смолянки судили о картинах с несомненным пониманием искусства. Художник встречал их и в Летнем саду, во время прогулки, когда девушки, охотно отвечая на вопросы гуляющих дам и господ, толковали об установленной в саду скульптуре, о мифологии. Теперь, на спектаклях и концертах, Левицкий увидел сценические таланты своих будущих героинь и, несомненно, восхитился ими.
И вот смолянки замерли на полотне. Левицкий мог, как поступали иные из его предшественников, ограничиться внешним сходством, передачей лиц и костюмов. Он достиг большего: показал девушек в движении и действии, глубоко им свойственных, в обстановке, для них характерной. С картин-портретов Левицкого говорит эпоха.
…В самом деле. Девушек обучали «танцеванию», занимавшему нешуточное место в придворном быте, — и незатейливые па этих танцев пережили вместе с картинами Левицкого уже два столетия. Девушек приучали к «надлежащей и приличной смелости в поведениях», и художник наделяет этими качествами свою Хрущеву, стоящую рядом с лишенной «приличной смелости» Хованской…
Мы не забудем и про физику. Перед нами — Екатерина Молчанова. Левицкий написал девушку в кресле с книгой в руках, а перед ней — физические приборы, изображенные художником в тени. Молчанова чувствует себя среди приборов уверенно и спокойно. Она читает их сигналы, робкие сигналы еще не раскрытой науки будущего. Горделивое ощущение знаний сквозит в ее улыбке.
Современница Кулибина, читательница Ломоносова, рта девушка могла бы — кто знает? — еще двести лет назад явиться предшественницей Софьи Ковалевской. Она могла бы направить пытливое воображение к планетам и звездам, в глубины материи или выси космоса. По Молчанова не стала ученым: ее готовили во фрейлины. Физические приборы остаются на портрете в тени. Художник запечатлел одну из ласточек Смольного монастыря, которая еще не знает, как невысок будет ее жизненный полет.
* * *
Глядя на полотна Левицкого, мы читаем куда больше того, что вмещает их сюжет. Вглядываясь в лица, мы узнаем, по выражению поэта, «души изменчивой приметы». Мы видим живых людей, шагнувших навстречу потомкам, и наши взгляды скрещиваются через время и небытие. В этом — сила и поэзия искусства, секрет его волшебства.
Кипренский. Портрет Е. В. Давыдова. Фрагмент
Тайна знаменитого портрета
D одном из залов музея вы встретите молодого офицера в гусарском мундире. Кажется, только на несколько минут встал офицер в эту свободную и вместе с тем чуть картинную позу, уступая просьбам друга-художника. В его живом взгляде еще отражаются тревоги ратных и житейских страстей. Это — мимолетное мгновение задумчивости: мысли гусара далеко, там, где за его спиной несутся по небу грозовые тучи. Там — буйные гусарские дороги и биваки, смертные бои и походные песни, враги и закадычные друзья. Все это — куда милее гусару, чем минутный обманчивый покой.
Перед нами — портрет Давыдова работы Ореста Кипренского. Молодому гусару довелось участвовать во многих кровопролитных сражениях и снискать себе неувядаемую славу. Но в рассказе моем речь пойдет не о боевых схватках старых времен, а о боях, разыгравшихся… вокруг самого портрета.
* * *
Орест Кипренский — замечательный художник начала прошлого века. Романтическими тайнами скрыты многие обстоятельства его жизни, иные его создания. Неизвестны родители художника. А портрет его приемного отца Адама Швальбе, написанный Кипренским и привезенный им с собой в Италию, вызвал там необычное волнение: опытнейшие итальянские знатоки живописи утверждали, что портрет принадлежит кисти Рубенса, Рембрандта или Ван Дейка, а никак не молодого русского художника. Не сразу удалось Кипренскому рассеять столь лестное для него заблуждение… До сих пор порождают споры и догадки и некоторые другие работы художника. Таинственным оказалось и знаменитое полотно Кипренского, ставшее гордостью Русского музея, украшением его коллекций, — портрет Давыдова.
О. Кипренский, Портрет А. Швальбе
В 1809 году, приехав в Москву, Кипренский попал в предгрозовую атмосферу кануна событий 1812 года. Скульптор Иван Петрович Мартос, к которому Академия художеств направила молодого Кипренского в качестве помощника, работал над монументом Минина и Пожарского. Новый памятник должен был прославить вождей народного ополчения 1612 года — приближалось двухсотлетие освобождения ими Москвы от иноземных захватчиков. Скульптор и его помощник еще не могли предположить, что дата этого исторического юбилея принесет России повторение великого нашествия и великого подвига.
В преддверии Отечественной войны патриотические чувства овладели умами. И знаменательно, что среди работ, выполненных тогда в Москве Орестом Кипренским, оказался портрет русского гусара. Прошли годы. Портрет стал широко известей. Современники и потомки узнавали в изображенном человеке прославленного героя Отечественной войны, поэта-партизана Дениса Давыдова. Этим человеком восхищались те, кто знал его близко, и те, кто слышал о нем легенды. Ему отдавали дань гении.
«Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск… Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны».
Это написал Лев Толстой.
«В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший: как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным».
Это пишет один из собеседников Пушкина.
Давыдов по праву стал национальным романтическим героем. Двадцать поэтов-современников посвятили ему стихи, а Пушкин — целых три. «Ты мой отец и командир», — писал он в полушутливом обращении, посылая Давыдову своего «Пугачева». Дружил с семьей Давыдовых и Кипренский. Удивительно ли, что в изображенном на полотне художника гусаре многие увидели прославленного партизана! Так было до недавнего времени. Перечисляя героев Кипренского в своей повести о нем, написанной в 1936 году, К. Г. Паустовский называет «легендарного кавалериста Дениса Давыдова».
Сомнения стали появляться пятнадцать лет назад.
Один из биографов Кипренского — 3. Н. Ацаркина сообщила, что в известном «Реестре картин», составленном самим художником, портрет Дениса Давыдова не указан, зато упомянут «портрет Ев. В. Давыдова, в лейб-гусарском мундире, почти в целый рост картина. Писана в 1809 году в Москве». «Реестр» приложен к письму, адресованному Николаю I, в котором Кипренский предлагал царю приобрести ряд своих картин.
Ацаркина предположила, что художником написан младший брат Дениса Давыдова — Евдоким, тоже военный. Так возникла новая атрибуция знаменитого портрета (этим словом обозначается в музейной терминологии определение автора, сюжета и других основных данных произведения).
О. Кипренский. Портрет Е. В. Давыдова
С возражениями против новой атрибуции выступили военные историки В. Вавра, Г. Габаев и В. Якубов. Они просмотрели списки личного состава полков того времени и установили, что Евдоким Давыдов состоял не в гусарском, а в кавалергардском полку и поэтому носил белый колет, лосины и ботфорты при каске и палаше. Между тем на портрете изображен именно гусар в алом ментике, белых чакчирах и ботиках при сабле и кивере. К тому же офицер, изображенный Кипренским, не бреет усов, а устав кавалергардского полка запрещал ношение усов вплоть до 1832 года.
Зато в списках офицерского состава лейб-гвардии гусарского полка числился… Евграф Владимирович Давыдов! Это был двоюродный брат Дениса и Евдокима Васильевичей по отцовской линии. Евграф Давыдов также стал героем Отечественной войны. С 1807 года командовал лейб-гвардии гусарским полком, в 1809 году (дата написания портрета) имел чин полковника, в битве под Лейпцигом тяжело ранен… Он-то, вероятно, и изображен Кипренским на знаменитом портрете, — предположили историки. Инициалы «Ев. В.» получали новое содержание.
По следам этой увлекательной и так поздно обнаружившейся тайны решил пройти еще один исследователь — В. М. Зименко. Он проделал тщательный анализ всех имеющихся печатных и архивных материалов и установил некоторые новые данные и факты.
Ученый приводит письмо родного сына Дениса Давыдова, Николая; оно адресовано конференц-секретарю Академии художеств П. Ф. Исаеву: «Милостивый государь Петр Федорович! Позвольте мне Вас просить разрешить мне снять фотографию с портрета моего отца Дениса Давыдова, рисованного Кипренским…»
Можно ли предположить, чтобы сын принял за портрет отца изображение кого-либо другого? Вероятно, трудно. Но тогда, если возвращаться к первоначальной атрибуции портрета, как объяснить инициалы в «Реестре картин»?
Зименко обратился к исследованию офицерской формы, изображенной на портрете, и обнаружил здесь немало любопытного, до него — незамеченного.
Оказалось, что форма, написанная Кипренским, не соответствует в точности ни одной форме какого-либо определенного войскового подразделения тогдашней армии. Противоречия возникают здесь на каждом шагу. Вот для примера несколько из них. В 1809 году выпушка на лейб-гусарском офицерском ментике была не из черного бобра (как на портрете), а из серых смушек. К моменту создания портрета были отменены белые суконные чакчиры (изображенные Кипренским) и введены синие чакчиры с галунной выкладкой. На портрете изображен кивер с трехцветным султаном, тогда как офицеры-гусары носили кивер с белым султаном. На герое Кипренского — ментик с одиннадцатью рядами шнуров, в действительности же их полагалось пятнадцать…
Случайны ли все эти несоответствия?
Работая над портретами современников, Кипренский обычно стремился к точной передаче костюма. И только в данном случае он изменил своему правилу. Даже эполет со знаками отличия на левом плече гусара помещен художником в тень.
И тогда возник вопрос: как объяснить такие разноречивые обстоятельства, как странные инициалы в «Реестре картин», нарочитую путаницу в офицерской форме, неясность офицерского чина гусара, почти явное стремление художника убрать всякие конкретные указания на личность изображаемого человека?
Такое объяснение нашлось.
Особенности портрета Давыдова приближают нас к мысли о мистификации, задуманной художником. Об этом говорят хотя бы те же злополучные инициалы «Ев. В.». Ведь они вполне соответствуют именам и отчествам двоих из братьев Давыдовых, которых Кипренский хорошо знал! Зачем могло понадобиться «маскировать» офицера, позировавшего для портрета?
Ни Евдоким, ни Евграф не вызывают подобной необходимости. Зато с Денисом Давыдовым дело обстоит не так просто.
Широко известны дерзкие стихи Дениса Давыдова, навлекшие на поэта немилость сначала Александра I, а потом и Николая I. Вспомните басню «Голова и ноги», где «ноги» грозят «голове»:
… Коль ты имеешь право управлять, То мы имеем право спотыкаться И можем иногда, споткнувшись — как же быть, — Твое Величество об камень расшибить.Автор этих и многих подобных строк стал полуопальным поэтом. Мог ли Кипренский, отлично осведомленный об этом, предложить царю купить портрет такого человека? Не слишком ли пустое попеченье! И не естественно ли было прибегнуть к маленькой хитрости, чтобы не раздражать царя и сохранить его в качестве покупателя?! Кипренский мог изменить в «Реестре» имя своего опального героя на инициалы его братьев, один из которых служил в кавалергардском полку, наиболее привилегированном и особенно преданном трону. Авось покупатель не разберется!
… В 1960 году появилось еще одно свидетельство в пользу классической атрибуции портрета, в подтверждение того, что на нем изображен легендарный поэт-партизан. Ленинградский искусствовед Б. Д. Сурис обнаружил, что первое упоминание о произведении Кипренского как о портрете «партизана Давыдова» (а партизаном был только Денис) имело место в 1839 году (год смерти Дениса Давыдова) и сделано тогдашним конференц-секретарем Академии художеств В. И. Григоровичем в «Алфавитном списке художников». Григорович близко знал Кипренского и вряд ли мог допустить грубую ошибку в атрибуции одного из лучших портретов художника.
Так, исследователи все более возвращались к мысли, что на знаменитом портрете изображен Денис Давыдов, прославленный поэт, герой Отечественной войны 1812 года.
В конце 1962 года с интересным докладом «Еще о портрете Давыдова работы О. А. Кипренского» выступил старший научный сотрудник Русского музея Г. В. Смирнов.
Смирнов взял под сомнение выводы и утверждения Зименко. Прежде всего, заметил он, не существует документов, подтверждающих дружбу и близость между Кипренским и Денисом Давыдовым, на которую опирается Зименко. Смирнов отверг идею «маскировки» портрета его автором: Кипренский не пошел бы на обман и подлог. Сотрудник музея утверждает, что на портрете изображен Евграф Владимирович Давыдов.
Как же тогда отнестись к письму сына Дениса Давыдова?
Смирнов выдвинул возражения и против этого документа: «Следует ли удивляться тому, что сыновья Дениса Давыдова принимали эту работу Кипренского за портрет своего отца и в 1874 году обратились в Академию с просьбой выслать фотографию портрета? Если в течение более чем тридцати лет считалось, что Академии принадлежит написанный Кипренским портрет поэта и партизана Дениса Васильевича Давыдова, если об этом было только что напечатано в солидном каталоге академического музея, составленном А. И. Сомовым, могло ли прийти в голову сыновьям героя, что тут кроется ошибка?»
Доклад Г. В. Смирнова публикуется в очередном номере «Сообщений Государственного Русского музея». А портрет будет в экспозиции и в каталоге именоваться портретом Евграфа Давыдова.
Пройдет время, и, кто знает, может быть, откроются новые факты, новые документы, проливающие еще более яркий свет на таинственную историю замечательного портрета. Во всяком случае, биография шедевра Ореста Кипренского показывает, какого кропотливого и всестороннего изучения требуют от музейных работников и искусствоведов произведения искусства, какие загадки и тайны способно хранить полотно художника.
Исследователи творчества Кипренского, анализируя и сравнивая известные живописные изображения Дениса Давыдова и его братьев, не упоминают об одном портрете поэта-партизана, оставленном нам величайшим художником слова. Образ Дениса Васильевича Давыдова воссоздал в «Войне и мире» Толстой, назвав своего героя Василием Денисовым. Этот обаятельный и смелый человек носит в романе многие конкретные черты реального партизана Давыдова. Он тоже мал ростом, усат, сверкает «агатовыми» глазами; он благороден и вспыльчив, умен и самоотвержен, с блеском танцует мазурку и сочиняет романсы. Он тоже показан мужественным бойцом и патриотом. И все-таки в романе — обобщенный образ поэта-гусара, героя народно-освободительной войны.
Не предстает ли перед нами на полотне Ореста Кипренского романтический герой эпохи Отечественной войны, в котором обобщена не только военная форма, но и личность человека? Установить с бесспорной точностью, с кого же писан портрет — задача историков искусства. Но не превратил ли и художник легендарного поэта-воина в романтический образ, в героя своего времени?..
К. Брюллов. Последний день Помпеи. Фрагмент
Глазами Пушкина
Миллионы людей прошли по залам Русского музея. Одних только школьников здесь бывает до полутора тысяч в день. Зрителю отведены просторные залы музеев, картинных галерей, выставок. Он становится центральной фигурой в жизни искусства. И это закономерно: без зрителей, без их оценки, впечатлений, волнений, критики искусство теряет все.
Не каждый зритель способен оставить заметный след в биографии шедевра. Но есть люди, чья радость или печаль, вызванные искусством, как бы обогащают произведение, придают ему новый смысл, иное освещение. Слушая «Аппассионату», трудно не вспомнить, как любил ее Ленин. Лев Толстой, разрыдавшись во время исполнения первого квартета Чайковского, еще более углубил драматизм этой музыки. Репин первый назвал статую Александра III, выполненную скульптором П. Трубецким и находящуюся сейчас в Русском музее, гениальным произведением русской скульптуры, отразившим в себе целую эпоху, Максим Горький способствовал второму рождению ростановекого «Сирано де Бержерака». Стендаль добавил новое звено в славе Рафаэля. Блок поэтически истолковал Врубеля…
Общий вид брюлловскою зала
Подобных примеров можно привести множество. Мне хочется рассказать вам о тех картинах и статуях Русского музея, что хранят печать радостных впечатлений гениального зрителя — Пушкина.
И, может быть, вам, так же как и мне, захочется войти в музей вместе с Пушкиным, встретиться с искусством пушкинской поры, еще раз взглянуть на полотна и статуи, отмеченные восхищением удивительного человека!..
Пушкин никогда не был, да и не мог быть в Русском музее: поэт погиб за шестьдесят лет до его открытия. Проходя по широкой площади перед Михайловским дворцом, невысокий человек с курчавой шевелюрой и бакенбардами не подозревал, что во дворце учредят национальный музей, а в центре этой площади, на гранитном пьедестале, встанет Пушкин — великий поэт России.
Картины и статуи, ценимые поэтом, сошлись здесь позднее, принеся в музейные залы частицу пушкинского гения.
* * *
«Последний день Помпеи» — картина Карла Брюллова была доставлена в Петербург, в Академию художеств, из Парижа, где она произвела фурор. Теперь она вызывала горячие толки в русской столице.
Толпы народа осаждали зал, где картину выставили в обрамлении живых цветов. Художники, писатели, музыканты, студенческая молодежь спешили взглянуть на нее. Молодой литератор Николай Гоголь написал восторженную статью и назвал картину «одним из ярких явлений XIX века». Профессора и студенты Академии художеств устраивали художнику торжественные приемы, посвящали ему спичи и стихи. Скульптор М. О. Микешин, работая позднее над памятником «Тысячелетие России» (установленном в Новгороде в 1862 году), поместит скульптурный портрет Карла Брюллова на цоколе памятника среди портретов самых выдающихся людей России. А Репин, стоя перед «Помпеей» в 1916 году, заплачет от восхищения…
Брюллов провел долгие месяцы в Италии. Он бродил среди развалин Помпеи, стараясь воссоздать в воображении трагическую картину извержения Везувия, делал десятки этюдов, по многу часов изучал экспонаты местного музея, срисовывал подлинные, сохранившиеся после гибели города вещи.
Художник создал большую картину, стараясь передать события такими, какими они были в действительности.
Но, кроме зарева огнедышащего вулкана и блеска грозовой молнии, картина гибнущей Помпеи освещена брюлловским талантом, его могучим чувством прекрасного. После холодных академических композиций с непременным участием богов и мифологических героев раздался гимн человеку. В картине Брюллова зрители увидели человека в минуту наивысшего напряжения всех его духовных и физических сил.
К. Брюллов, Последний день Помпеи
… Пушкин вышел из Летнего сада, где любил тогда работать по утрам, и, свернув по набережной Невы налево, быстро зашагал в сторону Васильевского острова, в Академию художеств. Вот уже несколько дней собирался он посмотреть картину Брюллова.
Пушкин был потрясен. Снова и снова отходил он от картины и приближался к ней. В душе его рождался отзвук грозных событий, воплощенных на полотне, и великого мастерства, которое не могло оставить равнодушным человека «с душою и талантом» — этими словами Пушкин расшифровывал понятие «поэт». Пушкин не мог тут же высказать своих чувств Брюллову — тот находился еще в пути из Италии в Москву — и излил свое впечатление в неоконченном стихотворении:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя Широко разлилось, как боевое знамя. Земля волнуется — с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, Под каменным дождем, под воспаленным прахом Толпами, стар и млад, бежит из града вон.Стихотворение осталось незаконченным, но картина не шла у Пушкина из ума. Она снова овладела его воображением, когда через несколько месяцев Пушкин задумал познакомить читателей с поэтом Чарским и итальянцем-импровизатором: рождались «Египетские ночи».
Помните сцену публичной импровизации в «Египетских ночах»? Итальянец попросил письменно назначить ему темы и стал разворачивать записки одну за другой. На второй стояло: «L'ultimo giorno di Pompeia» («Последний день Помпеи»).
Осенью 1836 года Пушкин часто посещал мастерские художников и скульпторов, выставки, устраиваемые в Академии художеств.
…Поэт шел по залам, радостно оглядывая работы молодых. Вдруг ему навстречу шагнул полуобнаженный юноша. Играя в бабки, парень целился костью; в скульптуре оживала старинная русская игра.
Пушкин остановился.
— Слава богу, — воскликнул он, — наконец и скульптура в России явилась народная!
А. Н. Оленин, президент Академии и давнишний друг Пушкина, представил ему автора — молодого скульптора Николая Пименова (сына Степана Пименова, соратника Росси).
Пушкин долго всматривался в статую, заходя с разных сторон. Юный игрок все целился бабкой, — удар, верно, будет меток. Поэт достал записную книжку и стал быстро писать в ней карандашом, потом вырвал листок с написанным, отдал его смутившемуся скульптору и обеими руками пожал ему руку. Пименов, волнуясь, прочел:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь расступись, не мешай русской удалой игре.Четверть века спустя пожилой профессор Академии художеств Николай Степанович Пименов, волнуясь до слез, рассказывал студентам о горячем рукопожатии Пушкина.
Другое четверостишие поэт посвятил скульптуре Александра Логановского «Мальчик, играющий в свайку». Теперь, в Русском музее, обе статуи неразлучны, как братья-близнецы: их игру воспел Пушкин.
И. Пименов, Парень, играющий в бабки
Гипс, камень, бронза оживали в воображении поэта и волновали его пластикой движения, стремительностью линий. Мрамор становился для него живым материалом — как строки поэмы, как строфы песни. «Всякий талант неизъясним, — писал Пушкин. — Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными, однообразными стопами?..» Эти слова приоткрывают завесу над размышлениями поэта, посещавшими его, когда он встречался с искусством.
Б. Орловский. Ян Усмарь
Трудно не заметить, что стихи Пушкина, посвященные иным произведениям его современников, написаны гекзаметром. Размышляя о скульптуре, поэт называет Юпитера. Случайно ли это? Пушкин тонко уловил природу искусства своей поры: национальная, даже народная тема нередко еще сочеталась в нем с формой, заимствованной от античности. Поэтому Пушкин и прибег к стиху Гомера.
Той же осенью Пушкин приехал в мастерскую скульптора Бориса Ивановича Орловского. Он увидел здесь модели статуй Кутузова и Барклая-де-Толли: статуи предназначались для установки перед Казанским собором.
Увидел он и другой будущий экспонат музея — Яна Усмаря: молодой богатырь смело укрощал разъяренного быка; взгляд героя исполнен отваги и уверенности; правая рука сильно пригнула голову дикого животного к земле.
Усмарь — старинное русское слово, означает оно — «выделывающий кожи». В летописях десятого века упоминается имя Яна Усмаря, посланного князем Владимиром против печенегов. Могучую силу русского богатыря передал скульптор в своей группе.
Пушкин увлеченно шагал по обширной мастерской Орловского, и уже начинали слагаться строчки:
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец, Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир! Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль… Весело мне…Радость, рожденная встречей с искусством, сменяется у Пушкина в этом стихотворении печалью, мыслями о смерти. Может быть, великие художники одарены силой предвидения?
* * *
В Русском музее хранится большое количество рисунков Брюллова, иные из них — перлы среди богатств Отдела графики. Рисунков — не менее тысячи. Но среди них недостает одного — как раз того, который связан с именем Пушкина, связан едва ли не трагически.
Брюллов и Пушкин встретились в Петербурге. Поэт мечтал о том, чтобы автор «Последнего дня Помпеи» написал портрет Наталии Николаевны.
— У меня, брат, такая красавица жена, что будешь стоять на коленях и просить снять с него портрет, — твердил Пушкин.
Поэт ошибся. Наталия Николаевна не произвела на художника ни малейшего впечатления, она не шла, как он полагал, ни в какое сравнение с графиней Самойловой, его возлюбленной, чьи портреты Брюллов писал так охотно и часто. Наталию Николаевну он рисовать не стал и даже высказал поэту изумление в связи с его женитьбой. И на коленях стоять пришлось не Брюллову, а Пушкину перед Брюлловым. Но совсем по другому поводу…
Ясным зимним утром у здания Академии художеств остановились легкие санки. Из них вышли Пушкин и Жуковский, приехавшие к Брюллову, в его мастерскую. Хозяин стал показывать гостям альбомы и рисунки, гости восторгались акварелями, выполненными с замечательным мастерством.
Один акварельный рисунок особенно восхитил Пушкина. На листе бумаги был изображен полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре. Назывался этот сюжет «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне» и принадлежал к серии, выполненной художником в Турции.
Глядя на рисунок, Пушкин заливался радостным, счастливым смехом. Он завладел акварелью и стал ходить с ней по просторной мастерской. Поэту ни за что не хотелось возвращать Брюллову маленький шедевр.
— Ну, сделай милость, Карл Павлович, подари мне это сокровище, — просил Пушкин, утирая слезы и продолжая смеяться.
— Не могу, Александр Сергеевич, что поделаешь: вещь рта куплена княгиней Салтыковой, куда теперь денешься.
— Отдай, голубчик! — молил Пушкин и встал перед художником на колени. — Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот!
— Право же, не могу. Я лучше напишу с тебя портрет, хочешь? Что у нас сегодня, двадцать пятое?.. Приезжай двадцать восьмого, в четверг, после завтрака, сразу и начнем, даю слово. Ты же хотел этого?
Пушкин положил рисунок и подошел к широкому окну мастерской. Почти все оно покрылось морозным узором. Лишь в небольшом просвете виднелась набережная, чистый снежок заметал мостовую, санки проносились мимо…
— Приедешь?
— Пожалуй, — задумчиво ответил Пушкин, отошел от окна и, листая альбом, опять принялся восхищаться сатирическими рисунками Брюллова. Грусть его прошла.
А в четверг, 28 января, Пушкин к Брюллову не приехал. Поэт лежал в своем кабинете на диване смертельно раненный, просил моченой морошки и сдерживал стоны, чтобы не испугать жену.
Художник, любимый Пушкиным, так и не написал ни одного из портретов, о которых поэт мечтал, — Наталии Николаевны и его самого. А рисунок, восхитивший Пушкина — «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», — исчез бесследно.
* * *
Мы побывали в музее вместе с Пушкиным. В брюлловском зале его обостренное зрительское ощущение искусства передается нам особенно сильно.
Вот «Последний день Помпеи». Волнуется земля. Падают кумиры. Люди, обнимая близких, гибнут в огне…
Вот брюлловский портрет Салтыковой. Это она стала обладательницей исчезнувшего сатирического рисунка художника, который был бы нам теперь так дорог. Где он? Княгиня на портрете хранит молчание…
Федотов. Сватовство майора. Фрагмент
«Как люди на свете живут»
Группа экскурсантов медленно проходила анфиладой залов Русского музея. Экскурсовод остановился у небольшой картины и сказал:
— Федотов, «Сватовство майора»..
Впрочем, начнем этот рассказ иначе.
… Адъютант прошел анфиладой залов Михайловского дворца и, остановившись на пороге кабинета великого князя Михаила, доложил:
— Прапорщик Федотов!
— Пусть войдет, — рассеянно ответил великий князь. Он пребывал в задумчивости, время от времени трогая свои холеные усы.
Кроме великокняжеского титула, Михаил имел чин генерал-фельдцейхмейстера — главного начальника артиллерии и всего к ней принадлежащего. Этот чин он получил еще в пеленках в подарок от родителя, императора Павла I. Генеральство на всю сознательную жизнь ограничило помыслы Михаила. Муштра и казарма стали единственным его увлечением.
… В дверях кабинета стоял навытяжку прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка Павел Федотов.
— Ну, показывай свои художества! — приказал, деловито прищурясь, Михаил.
Федотов развернул принесенную с собой незаконченную акварель. В различных позах изображены были на ней солдаты и офицеры.
— Хорошо, — сказал великий князь, отвлекаясь от своих усов. — Только не все тут по уставу. А ведь тебе, офицеру, устав знать полагается как следует?
— Ваше императорское высочество, я и не думал сделать вещь с художественными достоинствами, — усмехнувшись про себя, ответил Федотов, — я делал все это, только желая показом степени своих дарований просить способов для их развития.
— Уж не желаешь ли ты для этого заявить в отставку? — насупившись, спросил Михаил. — Знавал я одного офицера; этот гусь наделал вздору, променял мундир и шпагу на палитру! Тогда-то и понял, что художники не нужны, а нужны офицеры; да поздно было. Может, и ты то же задумал? Если так, я с тобой и знаться не желаю.
Так закончился разговор великого художника и великого князя. Федотов вышел из Михайловского дворца. Смел ли прапорщик мечтать, что его творением дворец этот, превратившись в музей, станет гордиться!
Судьбу Федотова решил Николай I. Заинтересовавшись работами офицера, он предложил ему уйти в отставку, но назначил мизерное содержание, грозившее нищетой.
«Художники не нужны, а нужны офицеры» — эти слова начинали сбываться самым жестоким образом.
* * *
Два человека возлагали на Федотова надежды.
Царь Николай I рассчитывал, что из офицера выйдет живописец-баталист, способный воспеть генеральские «победы».
А баснописец Иван Андреевич Крылов написал Федотову письмо и настоятельно советовал оставить «несвойственные его способностям занятия батальным жанром и отдаться своему настоящему призванию — изображению народного быта». Под строевой выправкой и форменной одеждой героев федотовских рисунков Крылов разглядел живых людей, умных, благородных, страдающих. Совет баснописца открыл перед художником вместо узких дверей казармы — бескрайние просторы народной жизни.
Лишения преследовали начинающего художника. Жизнь оборачивалась жестокой школой, где наставниками явились голод, холод, постоянная тревога о завтрашнем дне. Но Павел Федотов был человеком высокого душевного благородства и кристальной цельности: подвижнический огонь творца, дающий человеку силы для больших созданий, для полного отречения от себя, не угасал в нем до последних дней его жизни.
Поначалу, экономя бумагу, Федотов рисовал мелом на черной грифельной доске. На ней возникали портреты его товарищей-офицеров, сатирические изображения шефа полка Михаила, сцены тяжелой казарменной жизни, силуэты лошадей. Мокрая тряпка стирала эти рисунки навсегда, чтобы дать место новым. «До нас изредка доходили слухи о том, что он приступил к масляным краскам, — писал в своих воспоминаниях писатель Дружинин, — работает утром, вечером и ночью, при лампах или при солнечном свете, в Академии или дома, работает так, что даже смотреть страшно, не давая себе ни пощады, ни снисхождения, ни отдыха».
Федотов учился рисовать человека. Рука художника набирала силы и навыки, рисуя, как люди ходят, как стоят, как садятся. Эти рисунки — не только азбука искусства, но энциклопедия жизни, в комнатушке художника на окраине Васильевского острова рождались зарисовки нравов всех слоев петербургского общества, раскрывался новый мир сюжетов, новая, высокая степень жизненной правды. «Можно ли уловить душу человека, пришедшего именно с той целью, чтобы с него писали портрет?! Что такое выражение лица его во время сеанса? Чем он занят, чем развлечен? — сидит, не смея шевельнуться… — говорил Федотов. — Я полагаю, что портрет должен быть исторической картиной, в которой изображаемое лицо было бы действователем: тогда только в нем будет смысл, жизнь и виден характер того, с кого пишут».
Именно таким явился написанный Федотовым портрет Н. П. Жданович за фортепьяно, украшающий экспозицию Русского музея. Это — один из лучших, самых лиричных женских портретов прошлого века.
Нет, излюбленные герои Федотова не приходили к нему в каморку, не позировали с постными или торжественными лицами. «Моего труда в мастерской немного: только десятая доля, — рассказывает художник. — Главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизнью, я тружусь, глядя в оба глаза».
«Учусь жизнью, тружусь…» — эти слова меньше всего имели для Федотова значение общих фраз. «Учусь жизнью» — это означало для него долгие дни блужданий по окраинам столицы в поисках прототипа, часто, — без обеда, до шума в висках. «Тружусь» — это ночи напролет у холста, стирание и смывание почти законченных фигур, будто месяцами создаваемое изображение было всего лишь минутной зарисовкой мелом на доске…
Цельность художнической натуры Федотова обнаруживалась во всех проявлениях его таланта. Федотов писал стихи, басни, целые поэмы. Самым крупным его литературным сочинением явилась поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», написанная в 1846 году и составившая около тысячи стихотворных строк. (По сатирической направленности и поэтическим особенностям «Поправка обстоятельств…» напоминает ершовского «Конька-горбунка», появившегося на двенадцать лет раньше.) В поэме рассказывается, как некий незадачливый майор, придя в окончательный упадок, решает поправить дела выгодной женитьбой. Он посылает денщика за свахой Панкратьевной, давая ему подробнейшие наставления, как пустить пыль в глаза, чтобы обделать дельце повыгоднее.
Продолжением поэмы, ее сатирическим апофеозом и явилась картина «Сватовство майора», принесшая Федотову непреходящую славу. Крылов советовал Федотову отойти от военных нравов и отдаться теме народного быта. В этой картине художник сплавил обе темы воедино, создав бессмертную сатиру на свое время.
П. Федотов. Портрет В. П. Жданович
Готовясь к работе над картиной, Федотов снова пустился в многоверстные путешествия по столице, по ее переулкам и дворам. Неудержимо влекло художника мелькнувшее в толпе выразительное лицо. Приключения ждали путешественника в купеческих домах, куда он под разными предлогами стучался, — надо было высмотреть комнату, которую сегодня знает весь мир. Одни встречали художника приветливо, другие подозрительно косились на его залатанный сюртук и сношенные сапоги. Федотов беседовал с хозяином, а сам быстро окидывал взглядом стены, потолки, окна, мебель, запоминая то, что могло пригодиться в работе.
Однажды Федотов шел по Гостиному двору и вдруг заметил в окне захудалого трактира люстру с закопченными стеклышками. Художник припал к витрине. Прохожие шли мимо, не обращая внимания на, видимо, проголодавшегося бедняка. А Федотов ликовал: грязноватая люстра «так и лезла сама» в его картину. Он вошел в трактир.
Пузатые гостинодворские купцы дули по пятому стакану чая, расправляя черные и рыжие бороды, споря о ценах на сахар и овес. Шмыгал взад и вперед мальчишка-половой. А вошедший плохо одетый коренастый человек с высоким лбом и огромными добрыми глазами жадно оглядывал «стены, вымазанные желто-бурою краскою, картины самой наивной отделки, потолок, изукрашенный расписными „пукетами“, пожелтевшие двери, — все это совершенно согласовалось с идеалом», который уже давно зрел, вырисовывался в воображении Федотова.
П. Федотов. Молодой человек с бутербродом
Так возникала «декорация», фон, на котором развернется сватовство майора.
Теперь следовало отыскать людей, которые станут действовать на этом фоне, — их лица мелькали к исчезали в городской толпе. Пора было остановить их, вглядеться в их глаза, лукавые или пустые, угодливо бегающие или холодно сощуренные. Нужны были натурщики. Но где взять денег на их оплату?
Федотов бродил по городу и искал. И встреча произошла.
«…Однажды, у Аничкова моста, я встретил осуществление моего идеала, — рассказывал художник одному из своих друзей, — и ни один счастливец, которому было назначено на Невском проспекте рандеву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху. Я проводил мою находку до дому, нашел случай с ним познакомиться, волочился за ним целый год, изучал его характер, получил позволение списать с моего почтенного тятеньки портрет (хотя он считал это грехом и дурным предзнаменованием) и тогда только внес его в свою картину. Целый год изучал я одно лицо; а чего мне стоили другие!..»
В этом же разговоре с другом Федотов сказал: «Я долго не мог найти того, что мне хотелось». Ценнейшее признание! Художник бродил по городу в поисках не случайных лиц, какие могли бы показаться ему подходящими; он искал воплощенный в натуре «идеал», имея определенный замысел, точное представление о том, какими должны быть персонажи его картины. Федотов вторгался в людные улицы и тихие комнатушки с собственным, проницательным видением жизни.
* * *
«Сватовство майора» впервые предстало перед зрителями на академической выставке 1849 года и сразу же стало событием дня.
Столичный Петербург, поражаясь, восторгаясь и бранясь, теснился перед этой комнатой купеческого дома с закоптелой люстрой, портретом митрополита на стене, массивной квадратной печью, пузатым самоваром.
Здесь царит суматоха. Купец и сваха обмениваются знаками, слуги шушукаются. Мать пытается удержать за подол жеманящуюся невесту — та пытается убежать. А в дверях виден майор. Молодцевато подбоченившись, он крутит свой ус. Лысеющий жених предвкушает удачу. Перед майором, на переднем плане, у косяка двери стоит стул: изгиб его ножек повторяет линию Майоровых ног. Впереди, у самого края картины, кошка намывает гостей — в полном соответствии со старинной народной приметой.
В комнате, воссозданной Федотовым, душно, затхлый воздух почти осязаемо густ. Это ощущение возникает не оттого, что в помещении нет окон. Здесь нет чистого воздуха, потому что все дышит фальшью, притворством, пошлостью. Здесь — удушливая атмосфера попрания человеческих чувств. Здесь — торгуют. Здесь оскверняют всё.
Столичный Петербург гудел. К небольшому полотну нельзя было пробиться — толпа обновлялась, но не расходилась. Лица зрителей расплывались в радостной улыбке или хмурились, искажались брезгливой гримасой или злорадно скалились. Равнодушных не было.
Через несколько дней профессора Академии художеств единогласно высказались за присуждение Федотову звания академика.
* * *
Федотов бывал на выставке ежедневно. С жадностью ловил он суждения публики, иногда давал объяснения. Как-то незнакомая дама, стоявшая в толпе, заметила дочери: «Эта картина не нуждается в разъяснениях, каждый ее персонаж говорит». Федотов тут же подошел, представился и признался, что большей похвалы не получал. Попадались в толпе зрителей и оскорбленные. «Что за сюжеты, — брюзжали они, — ничего благородного, во всем видна только насмешка…»
П. Федотов. Сватовство майора
Однажды Федотов, приблизившись к своей картине, обратился к публике:
— Честные господа, Пожалуйте сюда! Милости просим, Денег не спросим: Даром смотри, Только хорошенько очки протри…Художник говорил напевным речитативом, чуть заметно улыбаясь своими огромными глазами:
— Начинается, начинается, О том, как люди на свете живут, Как иные на чужой счет жуют. Сами работать ленятся, Так на богатых женятся…«Сватовство майора» действительно пояснений не требовало. Но Федотов, искренне мечтая исправлять нравы, воспитывать своим искусством, не хотел удовлетвориться даже исчерпывающей полнотой и ясностью своей лучшей картины. В добавление к поэме, широко распространившейся в списках не только в Петербурге и Москве, но и в провинции, дополняя теперь гениальную картину, Федотов сочинил рацею (это старинное слово означает назидательную речь, наставление) и часто исполнял ее вслух в зале Академии художеств. Ему хотелось не только рассказать о том, «как люди на свете живут», но и научить жить лучше, чище, честнее.
Февральским вечером 1850 года персонажи картины «Сватовство майора» встретились с героями комедии Островского «Банкрот» или «Свои люди — сочтемся»: в доме одного из петербургских литераторов художник показывал свою картину и читал сочиненные к ней стихи, а драматург читал свою комедию. Когда Островский произнес знаменитые теперь — слова Липочки, начинающие комедию: «То ли дело отличаться с военными…», присутствующие невольно взглянули на полотно Федотова: жеманная невеста отвернулась на нем от бравого майора отнюдь не из отвращения к расчетливости жениха!.. А через несколько лет после этой встречи Тарас Шевченко снова объединит комедию и картину: «Мне кажется, — запишет он в своем дневнике, — что для нашего времени… необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как „Жених“ Федотова или „Свои люди — сочтемся“ Островского».
Когда-то, в полку, прапорщик Федотов мечтал учиться у Брюллова. Учиться по-настоящему ему не пришлось ни у кого. К тому же Брюллов не проявил к рисующему офицеру ни малейшего интереса. Теперь, всего через три года, автор «Последнего дня Помпеи», увидев «Майора», воскликнул:
— Поздравляю вас, я от вас ждал, всегда ждал, но вы меня обогнали… Вы смотрите на натуру своими глазами!
Глаза Павла Андреевича Федотова впервые увидели в «натуре» правдивую и простую картину того, «как люди на свете живут».
* * *
Жизнь самого Федотова оставалась в тени грязных окраинных улочек, тяжкой нищеты, полного отречения от себя. Если бы не его верный денщик Коршунов — живой пушкинский Савельич из «Капитанской дочки», — Федотов, может быть, не прожил бы я тех немногих тридцати семи лет, которыми отмерена его удивительная, полная горения и страданий жизнь.
Постоянная нужда, лишения, непосильный труд — все это подтачивало силы художника. В довершение ко всему пришла страшная, неизлечимая душевная болезнь.
Художник явился к своим добрым знакомым и неожиданно объяснился дочери семейства в любви. Это повторилось и в доме других его друзей. Федотов ходил по городу, одержимый, несчастный, со счастливой улыбкой на лице, и говорил о любви, которую он принес в жертву искусству. В своей лучшей картине он рассказал о безлюбовном торге, о сделке за спиной подлинного чувства. Теперь, утратив рассудок, он без умолку говорил о настоящей любви — и это становилось признаком безумия!.. Вскоре в безнадежном состоянии он оказался в лечебнице для умалишенных на руках верного Коршунова.
Перед смертью, придя ненадолго в себя, художник попросил позвать ближайших друзей, чтобы проститься. По злой иронии судьбы, посланный, завернув по дороге в трактир, неторопливо пропивал данные ему вперед за труды деньги. Друзья, приехав в больницу, нашли Федотова мертвым.
* * *
Павел Андреевич Федотов вернулся в Михайловский дворец, в Русский музей. Прощелыга-майор по-прежнему крутит ус, напоминая о временах, которые ушли бы бесследно, если 6 не великие художники и их большие, все видящие глаза, если бы не их гений, способный обобщить увиденное и превратить его в примету эпохи.
Репин. Бурлаки на Волге. Фрагмент
Бурлаки во дворце
Как рождается картина?
В Русском музее — сотни полотен. Но они предстают перед нами в законченном виде, когда высохли краски, когда процесс творчества давно завершился.
Как же рождается картина? Что предшествует тому радостному мгновению, когда художник, натянув на подрамник новый холст и взяв в руки кисти, остается наедине со своими замыслами?
Вдохновение — Синяя птица искусства — не живет в клетках самых просторных и роскошных мастерских. Брюллов ловил ее среди остывших развалин Помпеи, на голой, умерщвленной пеплом земле, Федотов — в петербургских переулках, в гостинодворских трактирах, в пестрой городской толпе. Вдохновение не рождается в клетках мастерских. Оно появляется, когда художник обращается к жизни.
Пройдем же по следам этой Синей птицы, по следам одного замысла. Взвесим признания самого художника. Взглянем на них со стороны. Это путешествие вдоль верстовых столбов творчества приведет нас ко всемирно известной картине, одной из жемчужин Русского музея.
* * *
— А, Репин, я тебя давно ловлю! — воскликнул молодой вольнослушатель Академии художеств Константин Савицкий. — Поедем завтра на этюды по Неве, до Усть-Ижоры!
Репин отнекивался, но Савицкий уговорил его.
Наутро веселая молодая компания погрузилась на пароход. Гнилое дыхание сырых дворов сменилось запахами водорослей, рыбы, смоленых канатов. Летний полдень будто брызнул из ведерка чистых и ярких красок на блеклую панораму невских берегов. Когда пароход причалил к берегу, среди деревьев замелькали пестрые платья девушек, цветные зонтики, мундиры офицеров.
Вдруг Репин заметил вдали, на берегу, какое-то темное пятно. Оно приближалось и странно наползало на яркую радугу безмятежной картины. Репин обратился с вопросом к Савицкому.
— А, это бурлаки бечевой тянут барку. Какие типы! Сейчас подойдут поближе — увидишь.
Обросшие волосами бородатые мужики тяжело ступали босыми ногами и налегали на лямки. У некоторых из них грудь была в кровоподтеках. Руки устало раскачивались в медленном ритме шагов. Потные, загорелые лица блестели на солнце. Одежда бурлаков давно истлела и превратилась в жалкие, грязные лохмотья, свисавшие на плечах и бедрах. Трудно было узнать в этом тряпье одежду, ее цвет, ее первоначальный вид. Бурлаки двигались молча. Глаза смотрели тяжело, хмуро, будто вовсе не примечая легкой прелести летнего дня.
Вьючная ватага приблизилась к лестнице, по которой спускалась к реке беззаботная стайка нарядно одетых девушек. Бурлак, шедший первым, неторопливо оглядел их с ног до головы, потом своей сильной черной ручищей приподнял бечеву, чтобы барышни могли пробежать вниз, и, провожая их взглядом, улыбнулся.
— Вот невероятная картина, никто не поверит! — возбужденно заговорил Репин, обращаясь к Савицкому. — Какой, однако, это ужас, люди вместо скота впряжены! Неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки, например, буксирными пароходами?!
— Буксиры дороги, — объяснил Савицкий, — а главное, бурлаки и нагрузят баржу и разгрузят се на месте. Поди-ка там, поищи рабочих-крючников, чего бы это стоило!.. А ты посмотрел бы, как на верховьях Волги в лямке бечевой тянут!..
Увиденное на Неве глубоко взволновало Репина. Бурлаки не шли из головы. И вскоре, в сопровождении нескольких друзей, Репин уже стоял на палубе волжского парохода компании «Самолет», который медленно полз от Твери к Сызрани.
Если 6 можно было сжать неподатливое время, сдвинуть годы и взглянуть вместе с художником на картину, развернувшуюся перед ним тогда, в 1870 году! Смешной тихоходный колесный пароходик, сбегающие к воде убогие деревушки, глубокие следы бурлаков, вдавленные в сыром, прибрежном песке…
Репин подолгу простаивал на палубе. «Отдай чалку!»-кричал капитан на глухих ночных стоянках, и пароходик понятливо принимался шлепать колесами по воде. Над высокими обрывами то и дело силуэтами обрисовывались группы бурлаков. «Это похоже на запев „Камаринской“ Глинки», — думал Репин. В то время он любил музыку даже больше, чем живопись.
* * *
Среди друзей Репина особенное место занимал Федор Александрович Васильев. Он рано умер — чахотка сожгла его на двадцать третьем году жизни, — но оставил глубокий след в истории русского пейзажа, явившись в нем поэтом и романтиком.
Ф. Васильев. Вид на Волге. Баржи
Репин называл друга «феноменальным юношей» и сравнивал его живую, кипучую натуру с пушкинской. Крамской и Шишкин, чьими советами пользовался Васильев, не могли нахвалиться, нарадоваться им. Бросив должность почтальона в шестнадцать лет и окончив Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге, Федор Васильев за каких-нибудь три с небольшим года создал замечательные пейзажи, — вы увидите их в Русском музее.
«Вид на Волге. Баржи» был написан в ту самую поездку, когда вместе с Репиным молодые художники кочевали по берегам великой русской реки. Пейзажи Васильева стали своего рода живописными поэмами, посвященными скромной и прекрасной природе.
Васильев выразил слияние человека с природой. Репин разглядел разобщенность среди людей, страдания народа, перед которыми меркнет вся красота мира…
* * *
Днем молодые художники подолгу рисовали. Но, удивительная вещь! волжские пространства и дали никак не укладывались в рамку альбомного листа. Академические навыки тут не помогали, и молодые люди учились у самой природы, смотрели жадными глазами на неведомую им жизнь.
Они поселились в Ширяеве, принадлежавшем Сызранскому уезду Симбирской губернии. А располагалось Ширяево неподалеку от Самары — верстах в пятнадцати. С утра, после чая, четверо товарищей расходились — кто куда. Репин мчался на берег, к своим бурлакам. Вот и они — бредут, увязая в прибрежном песке. Художник старается пристроиться к ним в ногу и с восторгом смотрит на них, особенно — на одного, высокого, сильного, с умным лбом, с красивой курчавой головой, повязанной тряпицей; бурлак этот шел в рубахе без пояса и в портах, которые внизу превратились в лохмотья.
Это — Канин, богатырь, человек, сразу и навсегда покоривший Репина. Очарование личности этого человека так сильно действовало на художника, что он стал просить разрешения списать с Канина портрет.
— Чего с меня писать? — спокойно, но несколько обиженно возразил Канин, — я, брат, в волостном правлении прописан, я не беспаспортный какой!
Наконец, сговорились: использовать для работы обеденное время, короткое время бурлацкого отдыха.
Репин влюбился в нового натурщика, каких в Академии никогда и не видывали. Он бредил им на этюдах и в избе, где художники жили все это лето. Новые впечатления жизни, новые люди, их тяжкий, нечеловеческий труд потрясли Репина, и теперь он ни о чем не мог думать, как только о бурлаках. А работа над этюдом с Канина стала вершиной всей этой летней «волжской эпопеи».
Вот он стоит перед художником, его «возлюбленный предмет». Прицепив лямку к барке, Канин натянул ее грудью и свободно опустил руки. Репин ликовал, что его герой не догадался для такого торжественного случая сходить в баню или подстричься «под горшок», как это случалось иногда с «моделями». Канин позировал серьезно, с большим чувством собственного достоинства и терпеливо выжидал перерыва для отдыха и курения.
Лето пролетело быстро. Репин вернулся в Петербург с большим багажом рисунков, эскизов, набросков. Он с увлечением принялся за большую картину, где предстояло отразиться всем его новым живым впечатлениям и помыслам. В пасмурном Петербурге, в мастерской на Васильевском острове, возникали просторы Волги, барки, пароходы и, конечно, бурлаки, тянущие свою бечеву, — с ними художник уже не расставался. Среди бурлаков — Канин, широкоплечий могучий человек с уверенным взглядом спокойных глаз.
Долгим путям вдоль волжских берегов предстояло навсегда продлиться в зале Русского музея. Канин и его товарищи будут «прописаны» не в волостном правлении, а во дворце национального искусства.
Они пришли сюда после Октябрьской революции.
* * *
Итак, труд художника завершился, и картина вступила в самостоятельную жизнь.
И. Репин, Бурлаки на Волге
Хотел ли художник, создавая «Бурлаков», написать обличительную картину, выразить свой гражданский протест? Трудно говорить о подобном замысле. Репин признается, например, что даже стихи Некрасова «Размышления у парадного подъезда» — критики сразу же связали их с «Бурлаками» в качестве литературного первоисточника — он впервые прочел лишь два года спустя после окончания картины.
И все-таки Репин оказался обличителем, воспринимая проблемы жизни и проблемы искусства неразделенными. Поэтому правы были критики, связавшие картину с некрасовскими стихами, напоенными страстным гражданским протестом:
Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется — То бурлаки идут бечевой!.. Волга! Волга! Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля.На картине Репина мы видим землю, переполненную скорбью народа, слышим песню, похожую на стоя.
Перед нами — десять бурлаков, идущих чередой по раскаленному песку. Просторы Волги, берег с торчащими из песка сухими корягами, баржа, будто дремлющая на неподвижной воде, дальний берег реки — все это подернуто летним маревом жаркого полдня, все это, по воле художника, решительно отодвигается на задний план. А вперед выступают десять героев картины, бурлаки, чей труд по тяжести не знал себе равного. Картина превращается в коллективный портрет, где каждый человек показан в движении, в действии, в состоянии острого эмоционального напряжения.
Десять характеров, десять судеб вплетены в бурлацкую бечеву. Могучий Канин — и дряхлый старик, что пытается свернуть на ходу цигарку; изнеможенный до отупения бурлак, который в невероятном физическом напряжении начинает утрачивать человеческий облик, — и последний, замыкающий шествие, несчастный, без сил повисший в натянутой лямке… Один отирает пот с лица, у другого руки висят, как плети; руки эти, со вздутыми жилами, темно-бурые, одеревеневшие от работы, особенно выразительны. Они сильны, эти руки, но сила их утекает — бесследно, бессмысленно…
В центре бурлацкой группы — юноша, почти мальчик. Художник выделяет его светлыми тонами — лохмотья окружающих бурлаков темны. Мальчик полон сил, его движение порывисто, голова высоко вскинута вверх. Но бредет юный бурлак в самой гуще поникших бурлацких фигур, в самой гуще людей, уже надломленных жизнью, не имеющих надежды и сил воспрянуть. То же будет и с юношей, как бы говорит художник. Лямка согнет его, песок и сухая осока задубят его ноги, руки почернеют от пота и зноя, голова опустится вниз. И станет он таким же, каковы его товарищи, — рабом, полускотиной, впряженной в ярмо…
Под ногами бурлаков томится на солнцепеке желтый песок, летний полдень раскален, желтое марево густо висит над головами людей. Жарко. Душно. Безысходно…
* * *
Вокруг картины Репина сразу же разгорелись споры. Одни зрители — восторгались, другие — неистовствовали. Министр государственных имуществ Зеленой начальнически выговаривал Репину:
— Какая нелегкая дернула вас писать эту нелепую картину! Как не стыдно! Ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю, скоро о нем не будет и помину! А вы пишете картину, да еще везете ее на всемирную выставку в Вену! Надо быть патриотичнее и не выставлять потрепанные онучи напоказ всей Европе.
К счастью для искусства, в России, кроме Зеленых, всегда находились Стасовы. По поводу «Бурлаков» Стасов писал: «Репин — реалист, как Гоголь, и столько же, как он, глубоко национален. Со смелостью у нас беспримерною он… окунулся с головой во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности… Репин — значительный, могучий художник и мыслитель…»
И. Репин. Портрет В. Стасова
Илья Ефимович Репин оправдал эти слова, подарив русскому искусству свои шедевры — «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Заседание Государственного совета». Эти картины также находятся в Русском музее. Богато представлены в экспозиции музея репинские портреты; иные из них стали классическими образцами портретного жанра.
Живой отклик вызвала картина Репина у Достоевского. Он писал в год завершения «Бурлаков»: «Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу… Ведь эта бурлацкая „партия“ будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится!.. Как бы я желал, чтобы это был очень еще молодой и только еще начинающий художник».
Так оно и было. Репину предстояла большая, долгая, полная титанического труда жизнь.
С бурлаками в этой долгой жизни Репин расстаться не мог. Это отметил Корней Иванович Чуковский в своих воспоминаниях о великом художнике. Чуковский приводит строки репинского письма из Италии: «Четыре человека несут громадную бочку вина, перетянув ее какими-то отрёпками, жара, на гору, пот в три ручья; нам страшно глядеть…» В Италии Репин увидел тех же бурлаков.
Он побывал в Австрии. Оттуда он писал Крамскому: «… тщедушный человек везет на тачке пудов тридцать багажа, везет через весь город. (Знаете венские концы?) Он уже снял сюртук, хотя довольно холодно, руки его дрожат, и вся рубашка мокра, волосы мокры, он и шапку снял… лошади дороги…»
Так остался художник верен своим героям; они отблагодарили его, приведя, сами того не ведая, к творческому подвигу.
* * *
Как рождается картина?
В Русском музее — сотни полотен. Они предстают перед нами в законченном виде, когда высохли краски, когда процесс творчества давно завершился. Мы не можем увидеть первых мазков краски: они покрыты уже множеством других. Следы кисти на еще не завершенном холсте исчезают так же быстро, как отпечатки бурлацких ног на влажном песке.
И все-таки немало разнородных свидетельств складывается порой в творческую биографию картины. Такая биография бывает поучительна…
В. Верещагин. Скобелев под Шипкой-Шейново. Фрагмент
Донесение с Шипки
Над Порт-Артуром стояла холодная весенняя ночь.
Немолодой, но еще очень крепкий человек писал жене письмо, которому предстояло покрыть десять с лишним тысяч верст:
«Сейчас еду на адмиральский корабль „Петропавловск“… Вчера выходил в море, но неприятеля не видел. Я подбиваю Макарова пойти подальше…»
Письмо было подписано инициалами «ВВВ».
… Желтое море мирно плескалось у пирсов, у крутых бортов русских кораблей. В те памятные дни 1904 года, когда русская и японская эскадры сошлись в роковой схватке, море плескалось равнодушно, как и всегда.
Флагманский броненосец «Петропавловск» возвращался к Порт-Артуру после очередного выхода в норе. В боевой рубке стояли два бородатых человека. Один всматривался в далекий еще берег, другой быстро делал зарисовки в походном альбоме. Адмирал Степан Осипович Макаров и художник Василий Васильевич Верещагин почти не расставались в эти дни.
Они стояли рядом, когда раздался взрыв: броненосец подорвался на мине. Затем последовал второй взрыв — пятьдесят торпед, находившихся в минном погребе, разломили броненосец надвое. Через несколько минут, вместе с останками могучего корабля, море поглотило двух замечательных сынов России.
* * *
Верещагин прожил удивительную жизнь. Художник провел ее в путешествиях и скитаниях, сражениях и походах. Его не могли остановить ни горные вершины — в Индии, вместе с женой, он взобрался на Джонгли, на высоту в пятнадцать тысяч футов! — ни смертельно опасные атаки — он исколесил многие фронты.
Когда разразилась русско-турецкая война 1877–1878 годов, Верещагин сразу же заявил о своем отъезде в действующую армию. Художник хотел видеть людей в минуты высшего напряжения их физических и духовных сил, когда особенно остро я полно проявляются человеческие характеры и сердца.
Вскоре после отъезда Верещагина в армию критик Владимир Васильевич Стасов опубликовал в одной из газет такое письмо:
«… Покорно прошу вас напечатать следующую выдержку из письма В. В. Верещагина, которое я только что получил из Дунайской армии: „Я иду с передовым отрядом в дивизионе казаков генерала Скобелева и надеюсь, что раньше меня никто не встретится с башибузуками“.
Этот факт, мне кажется, будет интересен многим у нас. Верещагин — первый пример русского художника, покидающего покойную и безопасную мастерскую для того, чтобы пойти под сабли и пули, и там, на месте, в самых передовых отрядах вглядываться в черты великой современной эпопеи — освобождения пародов из-под векового азиатского ига. Зато у одних только подобных художников, у тех, для кого художество нераздельно с жизнью, у них только и бывают те создания, что захватывают и наполняют душу…»
Русские войска устремились на Балканы в тяжелые бои, чтобы защитить братьев-болгар и освободить их от турецкого ига. И Верещагин шел с передовым отрядом. Здесь он подружился с генералом Скобелевым.
Однажды Верещагина ранило в бедро. Стасов высказал другу упрек — зачем надо было лезть под пули? Верещагин ответил сердито:
«Слушайте: я оставил Париж и работы мои не для того только, чтобы высмотреть и воспроизвести тот или другой эпизод войны, а для того, чтобы быть ближе к дикому и безобразному делу избиения; не для того, чтобы рисовать, а для того, чтобы смотреть, чувствовать, изучать людей…» Художник ненавидел войну — и шел в атаку.
Балканская кампания потрясла Верещагина. Художник увидел войну в ее подлинном обличье — с тупостью царской ставки, с бессмысленными жертвами, с телами погибших под турецкими пулями или замерзших в холодных окопах солдат. Война не пощадила даже этюдов и набросков художника: десятки из них пропали без вести. А Верещагин брал новые альбомы и упорно вел художественную летопись кровавых сражений и тоскливых затиший балканской войны.
Потом он принялся работать над серией картин, посвященных русско-турецкой войне. Пропажа многих набросков оставила невосполнимые пробелы. И художнику пришлось снова поехать в Болгарию. Он побывал на полях сражений. Он увидел несметные кресты на солдатских могилах. Он взобрался на «Закусочную» гору, где царь Александр II, празднуя свои именины, погнал солдат в бессмысленную атаку. Царь попивал в это время шампанское.
Верещагин писал из Плевны Третьякову: «Не могу выразить тяжести впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии, в особенности холмов, окружающих Плевну. Давят воспоминания — это сплошные массы крестов без конца. Везде валяются груды осколков гранат, кости солдат, забытые при погребении. Только на одной горе нет ни костей человеческих, ни кусков чугуна, зато таи до сих пор валяются пробки и осколки бутылок из-под шампанского. Вот факт, который должен обратить на себя внимание художника, если он не мебельщик модный, а мало-мальски философ…»
Дорогой сражений и страданий шел Верещагин к созданию своей «Болгарской серии». В Русском музее она представлена картиной «Скобелев под Шипкой-Шейново». Строки из нескольких приведенных писем определяют вехи нелегкого пути художника — к своей картине, к своему зрителю.
* * *
«Скобелев под Шипкой-Шейново» — художественное донесение с поля боя, которое не мог бы подшить к делу чиновник военного штаба. Донесение это дорого нам правдой, страстностью очевидца, осуждающего войну.
Наступающий новый, 1878 год застал русскую армию в самом сердце Балкан. Солдаты совершали сложнейший в зимних условиях переход через горы. Русских поддерживали сербы. А девятого января генерал Михаил Дмитриевич Скобелев двинул свои войска против турок в районе Шипки-Шейново. Артиллерийская атака, а затем — неотразимые русские штыки заставили турок во главе с Вессель-пашой выбросить белый флаг. В Константинополь, султану, полетела телеграмма: «После многих кровопролитных усилий спасти армию я и четыре пали сдались с армией в плен. Вессель».
И вот Скобелев скачет перед строем победителей. Художник изобразил его вне всяких батально-парадных традиций, следуя которым полководцы гарцуют на переднем плане в окружении блестящей свиты: Скобелев виден вдали. А впереди, как бы у наших ног, лежат неубранные еще трупы. Тела убитых прежде всего притягивают внимание зрителя, мы будто стоим над ними; так поставил нас художник, чтобы виднее было лицо войны.
А войска приветствуют своего полководца. Солдаты кричат «ура!». В воздух летят шапки. Над головой всадников развевается изрешеченное пулями знамя. Живые приветствуют победу, доставшуюся ценой жизни. Потому что на войне — как на войне. Потому что победа — это начало мира. И Верещагин, заставив зрителя подумать над телами поверженных солдат, ведет его к завершающему впечатлению своей картины — к строю победителей, перед которым скачет на коне мужественный генерал…
В. Верещагин. Скобелев под Шипкой-Шейново
Так запечатлел победу под Шипкой-Шейново Василий Васильевич Верещагин.
Первые же встречи картины со зрителями ясно показали, что кисть Верещагина — острый, а в глазах иных — опасный инструмент. На верещагинскую выставку, устроенную в начале восьмидесятых годов в Берлине, прибыл фельдмаршал Мольтке. Стоя перед картинами русского художника о войне, прусский генерал похрустывал пальцами. С неодобрением взглянул он на победно скачущего Скобелева. На другой же день всем военным посещение выставки было запрещено. Раздражение воинственного фельдмаршала косвенно объяснил один из венских журналов: «Эти русско-турецкие картины говорят гораздо больше, чем все на свете до сих пор написанные брошюры и статьи, осуждающие войну и ее зачинщиков».
Вскоре выставка произведений Верещагина открылась в Нью-Йорке. Здесь повторилось то же, что в Берлине: вход на выставку солдатам и молодежи вообще был строго запрещен. Между героями художника — русскими солдатами, победно изгонявшими иноземных захватчиков, — и реальными, живыми солдатами западного полушария буржуазные правительства воздвигали стену.
Так торжествовало искусство. «Художественные донесения» Верещагина самой своей правдой «работали» против войны. Правда о войне, высказанная языком живописи, вела людей к мыслям о мире. Поэтому даже изображенные художником тела воинов, павших в бою, страшили западных генералов. Мертвые становились сильнее живых.
Художник мог гордиться таким успехом.
* * *
В экспозиции Русского музея представлены различные работы Верещагина. Здесь — его художественные впечатления, вынесенные из Индии и Туркестана, из глухих русских деревень и японских храмов. Но война с ее ужасом, кровью, смертью стала главным впечатлением творческой жизни художника, горькой, неизбывной темой Верещагина. Поэтому картина «Скобелев под Шипкой-Шейново» — центральное звено «верещагинских» залов музея. Кисть художника — сильнее штыка. «Художественные донесения» Верещагина написаны не только красками, но и кровью сердца.
Суриков. Покорение Сибири Ермаком. Фрагмент
На диком бреге Иртыша
Экспозиция музея — не только зеркало нашего национального искусства; она отражает также труд художника — огромный, многообразный, повседневный. «Бурлаки» пришли в музей вместе с повестью о странствиях их автора, его исканиях на берегах Волги, о его стремлении сродниться со своими героями. Верещагин вдыхал дым и смрад войны, изображенной им на полотне.
Как же быть в таком случае историческому живописцу? Как сблизиться со своими героями ему?
Неожиданные пути открываются здесь художнику. И если, работая над картиной «Взятие снежного городка», отнюдь не исторической, Суриков принимал участие в этой веселой народной забаве, то, готовясь написать «Переход Суворова через Альпы», художник принял необычайное и смелое решение… повторить беспримерный переход суворовской армии. Он поехал в Швейцарию, отправился в горы, а затем, по его собственному рассказу, «сам по снегу скатывался с гор, проверял. Сперва тихо едешь, под ногами снег кучами сгребается. Потом — прямо летишь, дух перехватывает». Этюды Альп делал Суриков прямо на склонах, замерзая, с трудом растирая краски. «Какой ужас! — рассказывал он, — не верится как-то, чтобы даже Суворов мог перейти в этих местах Альпы».
Казалось бы, исторический живописец может не покидать пределов мастерской. Василий Суриков многими своими вещами показал, как тесно бывают сплетены действительность и домысел, прошлое и настоящее.
* * *
По безлюдной сибирской дороге неторопливо двигался всадник. Он держался в седле уверенно и, опустив повод, задумчиво смотрел вокруг, вглядываясь в черты сурового пейзажа. Над берегом Иртыша всадник остановился. Лошадь, чутко насторожив уши, косила глазом вниз, где глухо шумела вода, сражаясь с камнями.
И вдруг тишина хмурого дня разорвалась топотом и свистом, ружейные залпы слились в грозную симфонию боя, пороховой дым стал застилать горизонт. Лодки замелькали на воде, и люди в казачьей одежде, выскакивая в воду, рвались к берегу, где держались еще воины хана…
В, Суриков. Взятие снежного городка
Когда легендарный казачий атаман Ермак в 1581 году начал свой поход в Западную Сибирь, против сибирского хана Кучума, среди казаков шел к Иртышу и Суриков. У него не было кистей — он нес тяжелое фитильное ружье. Он не собирался запечатлевать на холсте картину смертельного боя — он ринулся s его огонь. Суриков сам вступил в кровавый брод Иртыша, услышал свист татарских стрел и, не спуская глаз с прицела, ощутил порыв и волю атамана Ермака Тимофеевича…
Это был далекий предок художника. Встреча Суриковых, разделенных венами, состоялась.
Всадник провел рукой по глазам — и картина боя растаяла в мареве над рекой. Но он знал эту картину в совершенстве, он видел ее по всему тысячеверстному пути, проделанному им в седле. Ради нее странствовал он в этих диких краях. Чтобы снова и снова увидеть ее — подвергался опасностям и лишениям необычного путешествия. Его воображение и память овладевали этой картиной, чтобы она могла быть навсегда увековечена его талантом.
Казак Василий Суриков ехал по следам своих предков. Художник Василий Суриков ехал по местам исторических сражений, где развернется действие его картины «Покорение Сибири Ермаком».
… В подвале суриковского дома в Красноярске хранилось старинное казачье оружие, одежда, боевое снаряжение. Маленький Василий Суриков вдыхал здесь запахи кожаной амуниции, прислушивался к лязгу поржавевшего железа, представлял себе былые походы и сражения.
Мать снисходительно относилась к его отлучкам в страну воображения. Неграмотная женщина, она поражала людей тонким вкусом в художественной работе. Может быть, ее картины, вышитые бисером или гарусом, стали одним из мостов, приведших сына к «Взятию снежного городка», «Покорению Сибири Ермаком», «Переходу Суворова через Альпы», без которых теперь нельзя себе представить экспозиции Русского музея?!
В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком
Огромное воздействие оказала на будущего художника природа его родного края. «Сибирь под Енисеем, — говорил Суриков, — страна, полная большой и своеобразной красоты. На сотни верст — девственный бор тайги с ее диким зверьем. Таинственные тропинки вьются тайгою десятками верст и вдруг приводят куда-нибудь в болотную трясину или же уходят в дебри скалистых гор. Изредка попадается несущийся с гор бурный поток, а ближе к Енисею, то по одному берегу, а то и по обоим, — убегающие в синюю даль богатые поемные луга с пасущимися табунами. И все это прорезывал широкий исторический сибирский тракт с его богатыми селами и бурливой то торговой, то разбойничьей жизнью».
С юности, вместе с творческим сознанием художника, крепла тема будущей любимой картины — «Покорение Сибири Ермаком». Встреча с далекими предками продолжалась. Этой картине Суриков отдал пять лет жизни. Он пишет этюды в Красноярске, в Тобольске, в Минусинске, на Дону, на Оби. Теперь уже щиты, шапки, шлемы, кольчуги, ружья, лошадиная сбруя извлекались из подвала и превращались в модели. Казаки позировали Сурикову, чтобы стать казаками былых времен на будущей картине. История оживала, осмыслялась, поэтизировалась. Она становилась художественным образом. Она воплощалась в линии и краски.
Иные из современников упрекнут Василия Сурикова в исторической неточности: «не так» расположены наступающие казачьи войска, «не те» применялись ружья, «не такими» показаны приемы боя. Суриков отмалчивался. Что можно было ответить на это? Искусство — не научный трактат, не учебное пособие. Если картина взволновала, тронула тебя — можно простить художнику и неточность в каких-то деталях; если оставила равнодушным — никакие разъяснения не помогут!
«А я ведь летописи и не читал, — признавался художник. — Она сама (картина „Покорение Сибири“) мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я потом уж (по окончании картины) кунгурскую летопись начал читать, вижу, совсем как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня — скачущие. И теперь ведь, как на пароходе едешь, — вдруг всадник на обрыв выскочит: дым, значит, увидал. Любопытство. В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтоб возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины — угадывание. Если только самый дух времени соблюден — в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку — противно даже».
Искусствоведы не раз еще станут изучать проблему «искусство и история». Историков всегда будет интересовать хмурый осенний день 23 октября 1581 года, когда немногочисленное войско Ермака, перейдя Иртыш, изгнало Кучума из его столицы Искера. Филологи никогда не перестанут интересоваться народными былинами и песнями об этом подвиге. Нас, зрителей суриковской картины, прежде всего волнует произведение художника, его взгляд на события того далекого дня, его грандиозный замысел.
Могучая, монолитная лавина казаков Ермака — и пестрая, разнородная орда Кучума… Решимость — против ненависти и страха. Непреклонность — против отчаяния. Таково первое впечатление от картины.
Под знаменем стоит Ермак. Он в шлеме, левая рука его властно протянута вперед, в сторону врага. Он похож на былинного богатыря. Таким видел его Суриков.
Кучума разглядеть трудно — он в толпе всадников на высоком берегу, среди мечущихся коней, подальше от опасностей страшного боя. Сейчас он отступит. И за ним побегут его разноплеменные бойцы.
На картине Сурикова изображены десятки фигур. Кажется же, что их — сотни. Так умело владеет художник композицией, с таким темпераментом пишет он своих героев. Темперамент Сурикова, умение увидеть и показать главное в происходящем, стремление захватить нас горячим дыханием смертельного сражения — все это делает произведение Сурикова значительным явлением русского искусства. Не по этой картине станут судить будущие историки о ходе сражения. Не по ней будут изучать боевую тактику тех далеких времен. Но картина «Покорение Сибири Ермаком» останется эпопеей, способной волновать патриотическим подъемом, страстностью живописца, для которого история сохранила все свои неувядающие краски.
И. Левитан. Озеро. Фрагмент
«Последняя туча рассеянной бури…»
Чехов сказал о Левитане: «Это лучший русский пейзажист». А в одном из писем конца 1901 года, после смерти художника, в ответ на просьбу дать свои воспоминания о Левитане, писатель высказал свою любовь к художнику так: «Вы хотите, чтобы я сказал несколько слов о Левитане, но мне хочется сказать не несколько слов, а много. Я не тороплюсь, потому что про Левитана написать никогда не поздно. Теперь же я нездоров…»
Чехов ошибся: написать о большом своем друге и большом художнике «много» он не успел: его сломил туберкулез. Остались только рассказ «Попрыгунья», в одном из героев которого Левитан с огорчением узнал себя; трагический мотив бессмысленно подстреленной чайки — это произошло с Левитаном — стал в пьесе «Чайка» образом безответного чувства; да скупые строки писем…
Именно Чехов мог написать о Левитане глубоко, поэтично, душевно — они были людьми близкими я тонко понимали друг друга. Чехов не успел этого сделать. А потом о великом художнике писали другие: Мария и Михаил Чеховы — сестра и брат писателя, Щепкина-Куперник, ученики художника, многие современные авторы. Лучше, поэтичнее других написал о Левитане Паустовский. Он перевел на язык слов то чувство волнения и счастья, какое испытывает человек от общения с природой, с ее отражением на полотнах Левитана, «желание бросить все — города, заботы, привычный круг людей, и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах…»
Неизвестное озеро… Оно предстает перед нами на незаконченном полотне Левитана и составляет центр экспозиции левитановского зала Русского музея. Картина так и называется — «Озеро». А экспонируемые вокруг нее шестнадцать других пейзажей художника — «Золотая осень. Слободка», «Овраг», «Тишина», «Хмурый день» и другие — кажется, расположены на пути к этому озеру.
Где это озеро? В верховьях ли Волги, на плёсах которой проводил художник тихие часы рассветов и закатов? В Максимовне или Бабкине, что возле Нового Иерусалима, где Левитан прожил несколько лет в веселой компании Чеховых? Может быть, это — озеро Удомля под Вышним Волочком, где написана картина «Над вечным покоем»?
Не ищите левитановское озеро на карте России. Его нет. И оно есть. Оно затерялось между лугами и негустыми рощами средней полосы России, воспетой Левитаном с такой необыкновенной силой. Оно вышло из многих озер и прудов и отразило множество виденных художником заводей, тростниковых зарослей, поросших осокой берегов. Оно есть, как есть Россия, как есть ее неповторимая природа, как есть поэзия, без которой картин Левитана не понять.
* * *
К одному из домов в Трехсвятительском переулке Москвы подходили два человека. Один был высок ростом, в шубе и меховой шапке. Шел он неторопливо и дышал неровно — сердце не справлялось.
Стояла ранняя весна. Дворник скалывал лед.
— Гони, гони зиму, — сказал высокий человек в меховой шапке, остановившись передохнуть, — что ж солнышко не позвал на помощь?
— Звал, Исаак Ильич, не слушается, — усмехнулся дворник.
— Может быть, меня послушает, позвать?.. — и, обернувшись к ученику, Левитан заметил: — Мой товарищ по охоте, бывший солдат, а к тому же мой критик, и, знаете, есть чутье!
Во дворе мокли голые кусты сирени. Левитан любил ее, она росла здесь густо, под самыми окнами его мастерской. Учитель и ученик прошли через жилые комнаты и стали подниматься по деревянной лестнице в мастерскую. Левитан преодолевал ступени с трудом, будто страшная тяжесть тянула его назад, вниз. Он дышал прерывисто и громко.
— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Левитан, когда они разделись. Он повернул к окнам большой эскиз, несколько раз придирчиво проверил освещенность. Озеро распахнуло на холсте свои просторы, и дальний берег золотился в лучах солнца.
— Не узнаете? — спросил Левитан ученика. — Да ведь это же на тему, что я задавал вам в начале года в классе: «Последняя туча рассеянной бури…» Я давно работаю над этой темой, хотел назвать эту вещь «Русью». Только для такого названия еще много работать надо!
Ученик не заметил в эскизе новых особенностей письма учителя, новых черт, каких прежде не было на полотнах Левитана. Их увидел, уже на самой картине, Чехов.
И. Левитан. Озеро
— Вещь эта не закончена, я очень многое хочу вложить в нее, чтобы этот пейзаж стал образом России, — говорил художник другу.
— По-твоему, не закончена, а по-моему, хоть сейчас на выставку, — сказал Чехов и подошел ближе. Мазки Левитана, воссоздающие землю, деревья, домики далекой деревушки, стали здесь гуще, сочнее, чем прежде. Поверхность воды и неба написана легче, прозрачнее. Кисть художника стала поистине виртуозной. Детали опущены — для усиления общего впечатления.
— Как бы ты ни назвал картину, это — Россия, — задумчиво проговорил Антон Павлович.
Вскоре в мастерской Левитана побывал Климент Аркадьевич Тимирязев. Он с интересом осмотрел стоявшие здесь многочисленные полотна и остановился перед «Озером». Исаак Ильич держал в руках подаренный Тимирязевым оттиск статьи «Фотография и чувство природы». Автор, выдающийся русский ученый, говорил в своей статье, что фотография, этот молодой еще вид искусства, обогащает эстетические впечатления человека; Тимирязев предсказывал фотографии огромную будущность.
Левитан соглашался с автором статьи. Но как художник он всем своим существом чувствовал, что фотография, каких бы технических высот она ни достигла, не сможет сравниться с искусством живописи. Потому что фотопейзаж — это лишь умерщвленное мгновение жизни природы, один ее остановленный вздох. Пейзаж, созданный кистью живописца, — это симфония человеческих страданий, настроений, это чувство, разложенное на краски и способное восстанавливаться в нашем воображении в новое чувство, такое же острое и сокровенное.
«Протокольная правда никому не нужна, — сказал однажды Левитан Шаляпину. — Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку…»
Тимирязев пристально всматривался в полотно, в далекий берег, освещенный солнцем, в заросли колышимого ветром тростника, и как зритель, и как естествоиспытатель покорялся силе воображения, силе поэтического восприятия природы, когда она перестает быть грандиозной суммой элементов, атомов, веществ и превращается в песню, в стихотворение, в давнее, щемящее душу воспоминание…
Работа над картиной продвигалась медленно, все медленнее. Сердце не стучало, а «дуло», как выразился пользовавший Левитана Чехов. Весной 1900 года, простудившись в Химках во время работы с учениками над этюдами, Левитан слег.
— Дайте мне только выздороветь, — говорил он ученикам, Чехову, художнику и близкому другу Нестерову, — я совсем по-новому буду писать, вот увидите, лучше! И закончу «Русь»!..
А когда в конце лета того же года Нестеров вошел в русский отдел Всемирной выставки в Париже, картины Левитана, и среди них «Озеро», были увиты черным крепом. Левитан скончался от разрыва сердца, не дожив и до сорока лет.
* * *
Неяркий солнечный день сухой осени где-то в России. Вода на поверхности озера чуть морщится от легких прикосновений ветра. Справа что-то шепчет желто-зеленый тростник. На дальнем берегу — две деревушки, каждая — с порыжевшими садами, со свечами тополей и осин, с белыми церковками, с полосами рыхлой земли, отдыхающей после жатвы. А над всем этим, отражаясь в воде, неспешно плывут мирные облака, вечные странники воздушного океана.
В центре этой широкой панорамы — темное пятно: тень от тучи, может быть, — последней тучи рассеянной бури, прошумевшей над благодатной землей. Тень еще бежит по земле. Она похожа на голову бешено мчащейся лошади. Она пронесется мимо, но, кто знает, не останется ли после нее, после отгремевшей бури, незаметный равнодушному глазу след — навсегда прибитая трава, стебель с опавшими листьями, шрам на влажной земле, по которому побежит тонкий ручеек прозрачных слез?..
Таково «Озеро». Есть в нем что-то эпически величавое, могучее. Его можно поставить рядом с гениальной картиной Левитана «Над вечным покоем», где нет покоя, где дуют холодные ветры тревоги (картина хранится в Третьяковской галерее). «Над вечным покоем» — не пейзаж даже, а скорее симфония человеческого страдания и душевного смятения. В «Озере» эти чувства утоляются. Силы земли, солнечный свет, ветер прозрачной и свежей осени утверждают жизнь, ее продолжение, ее стремление вперед. Эта душевная бодрость, эта живущая в красках надежда созвучны светлой вере пушкинской строки, положенной в основу избранной Левитаном темы.
Знаменательно, что «Озеро» — последняя картина умиравшего художника…
В. Серов. Солдатушки, бравы ребятушки… Фрагмент
Любовь и ненависть
Картины, собранные в музее, сохраняют краски подлинной жизни. Но иной раз полотна, скульптура, рисунки могут «звучать». И если 6 можно было «озвучить» шедевры русских художников, вернув им, в прибавление к краскам, звучание запечатленной жизни, то в тихих музейных залах раздались бы плеск морских волн, величавый шум леса, рыдания погибающих жителей Помпеи, веселый смех сибирячек под стенами снежного городка, стоны матерей, провожающих новобранцев, могучее «ура!» скобелевских полков, шепот федотовской свахи, конский топот, звуки клавесина…
Мне хочется рассказать вам о небольшом рисунке, вглядываясь в который, вспоминаешь песню…
По снежной петербургской мостовой шла, тяжело печатая шаг, казацкая сотня в серых шинелях. Впереди шагал сотник, сбоку — хорунжий. Солдаты пели — не вдумываясь в слова песни, а только ощущая ее ритм, ее маршевый пульс:
Солдатушки, бравы ребятушки, А кто ваши отцы?..Что было думать о словах песни, привычных, как этот вечерний марш по улицам, когда мысли летели вдаль, на Восток, где умирали товарищи, где завершалась почти уже проигранная русско-японская война. Да и вообще думать солдату не положено. За него думают отцы-командиры. А солдатское дело — исполнять приказ.
Наши отцы — славны полководцы, Вот кто наши отцы.Солдаты шагали по набережной Невы, а у причалов, накрепко вмерзнув в лед, стыли занесенные снегом суда. Накрененные мачты будто отдавали последние почести погибшему собрату — «Варягу».
… В мастерской сидели два человека. Один, за мольбертом, — писал, другой — позировал. Один — знаменитый художник, академик, прославленный портретист, позировать которому хотели все, начиная с царского семейства. Второй — литератор, чья известность только расправляла крылья. Зато это были могучие крылья Буревестника.
— Валентин Александрович, кто же лучше позирует: Николай Второй или я? — спросил улыбаясь литератор.
— Вы хоть при этом не учите меня писать, — усмехаясь, ответил художник.
Серов действительно в свое время делал парадный портрет царя. Теперь он писал Горького. Каждый, знавший художника, понимал, что означала эта перемена: Серов шел навстречу новым людям, новым идеям — навстречу будущему.
«Пишет меня Серов, — вот приятный и крупный Человек!» — рассказывал Горький в одном из писем.
… Серов и Горький снова погрузились в молчание. А за окном слышалась тяжкая поступь солдатских сапог. Шли казаки.
… Кто же ваши жены? Наши жены — ружья заряжены, Вот кто наши жены.— Я сейчас собрал много интересных фактов из истории демонстрации на Невском, — рассказывал Горький. — Чудацкая была демонстрация, одни студенты, рабочих войска в город не допустили.
— Говорят, Алексей Максимович, избивали народ зверски!
— Били. Особенно старались шпионы и полиция, а вот дворники, несмотря на то, что были напоены водкой, — держались в стороне. Некоторые из них прятали избиваемых, другие били «для виду», бьют, а шепотом советуют: «Да кричите же, барышня! Кричите, господин! А то полиция увидит, что мы нарочно».
… Наши матки — белые палатки…Песня за окном слабела, мерный шаг колонны затихал.
* * *
Как-то январским воскресным днем Валентин Александрович Серов ехал к художнику Матэ, жившему в здании Академии художеств, на Васильевском острове. Серов с трудом пробрался к Академии — в городе было неспокойно, назревала демонстрация, казаки разъезжали на сытых конях, бесцеремонно тесня прохожих.
А через несколько часов у окна квартиры Матэ в ужасе замерли трое: хозяин дома, Василий Васильевич Матэ, скульптор Илья Яковлевич Гинцбург и Серов. Только что мимо окон прошла манифестация со знаменами и хоругвями. Люди шли к Зимнему дворцу, к царю. Но вдруг послышались выстрелы. Манифестация оказалась смятой налетевшими казаками. Людские волны отступали, оставляя на снегу черные тела убитых и раненых.
— Уже восьмой, — шептал Матэ, прильнув к окну, — что делать?
Серов молча торопливо наносил нервные штрихи в свой альбом. Он мог сделать только это. Резким движением переворачивал он листы, и снова карандаш носился по бумаге.
Солдатушки, бравы ребятушки, А кто ваши сестры?..На листах альбома возникали неясные еще очертания людской толпы, искривленные силуэты всадников с нагайками и саблями, тела на снегу.
Наши сестры — пики, сабли остры…Серов молчал. Рисовал. Быстро наступили ранние зимние сумерки. Серов попросил не зажигать огня. Он сидел, обхватив голову руками, и молчал. Синий сумрак на улице стирал бело-красные следы кровавого воскресенья.
«С тех пор даже его милый характер круто изменился», — писал Репин в своих воспоминаниях.
Серов тяжело переживал не только кровавые события девятого января 1905 года, свидетелем которых он стал, но и зловещую связь этих событий с судьбами русского искусства. Дело в том, что великий князь Владимир Александрович, дядя царя, был одновременно командующим войсками Петербургского округа и президентом Академии художеств. Он отдавал приказы о расстрелах безоружных людей — и поучал молодых живописцев. Серов стал в Петербурге и в Москве обсуждать с художниками создавшееся положение и склонять их к мысли выступить с протестом.
Многие соглашались с Серовым, но от подписывания каких-либо обращений отказывались. Только художник Василий Дмитриевич Поленов безоговорочно разделил непримиримую позицию Серова. И тогда в адрес вице-президента Академии художеств пошло письмо. Авторы просили огласить его в Собрании Академии:
«Мрачно отразились в сердцах наших события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса.
Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над Этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой — вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов.
В. Поленов, В. Серов».
Ответа на письмо не было. Через три недели, 10 марта 1905 года, Серов снова пишет вице-президенту Академии графу И. И. Толстому:
«Ваше сиятельство граф Иван Иванович!
Вследствие того, что заявление, посланное в собрание Академии за подписью В. Д. Поленова и моей не было или не могло быть оглашено в собрании Академии — считаю себя обязанным выйти из состава Академии, о чем я довожу до сведения вашего сиятельства, как вице-президента.
Валентин Серов».
Обо всем этом пришлось доложить царю — Серов был слишком крупной фигурой в Академии. И Николай «удовлетворил ходатайство» художника Серова. А дядю своего оставил по-прежнему командовать казаками и искусством.
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваша слава?И снова встретились Серов и Горький, два больших и честных художника. Горький, потрясенный событиями 1905 года, уже думал о новой повести. Этой книге, которую он назовет «Мать», предстояло начать целую эпоху в русской литературе. Серов, сделавший несколько рисунков под впечатлением тех же событий, решил один и? них подарить Горькому.
— Примите от меня, Алексей Максимович, — на память о наших встречах.
Серов достал лист и протянул Горькому.
Запрудив всю улицу поперек, в ужасе отступает толпа людей. Они поднимают хоругви, протягивают руки, но ничем не остановить неотвратимый вихрь казацких коней. Впереди, на лошади, чем-то напоминающей скачущего зайца, летит офицер. Он приказывает солдатам стрелять. И они уже подняли ружья…
… бравы ребятушки, Кто же ваши детки? Наши детки — пули наши метки…Рисунок динамичен. Линии остры. Лиц разобрать нельзя. Только темная, безоружная, отступающая толпа — и озверелые всадники, показанные со спины, — всадники без лиц, без мыслей, страшная, послушная команде стихия… Еще мгновение — и надежды людей в толпе, их поднятые для защиты руки, их открытые снегу головы, всю их судьбу кровавыми полосами перечеркнет железо…
— Хочу назвать рисунок словами песни: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?..» Как вы думаете, Алексей Максимович?
В глазах Горького стояли слезы. Он крепко пожал руку художника и молча кивнул.
В. Серое. Солдатушки, бравы ребятушки.
Вскоре этот рисунок занял целую полосу в первом номере русского журнала художественной сатиры «Жупел», вышедшего в том же 1905 году (после выхода третьего номера, в январе 1906 года, издание журнала было запрещено).
А позднее, через годы, когда уже не было Серова, Горький подарил рисунок Русскому музею. Так начался путь этого маленького шедевра ко многим грядущим поколениям.
Валерий Брюсов сказал как-то, что почти любое произведение Серова — суд над его современниками. Это особенно относится к «Солдатушкам». Революционный рисунок напоминает о «крупном Человеке», честном художнике, который в одиночку отважился судить свое время.
* * *
Если можно, фантазируя, связать рисунок Серова с иронически звучащей в данном случае солдатской песней, то одно из полотен художника «звучит» для нас мерными ударами волн, тихими, далекими криками чаек. Эти звуки переносят нас в страну лирики…
Василий Васильевич Матэ как-то уговорил Серова приобрести в Финляндии, недалеко от Териок, клочок земли и относящийся к нему дом, перестроенный из рыбачьей хижины. Усадьба эта располагалась близ деревни Ино.
Серов приехал сюда со всей семьей. Здесь, на берегу Финского залива, художник получил то, чего лишен был в Москве: светлую мастерскую, возможность постоянного общения с природой, море, спокойный отдых. Серов любил животных, и вскоре во дворе дома появилась лошадь — будущая «героиня» знаменитой картины «Купанье лошади».
Неяркая северная природа уравновешивала настроение, помогала неторопливо размышлять. Страсти, разгоравшиеся в Москве и Петербурге вокруг новых художественных течений в искусстве, здесь теряли свою остроту и значительность. Садясь за мольберт, Серов думал о том, как передать на холсте море, воздух, солнечные блики, величавый покой земли. Художник возвращался к забытым впечатлениям юности. Золотистые тона его заказных портретов превращались в глухую, сероватую желтизну остывающего по вечерам прибрежного песка.
Здесь, на балконе, моделью Серову стали его сыновья. Мальчики покорно отрывались от игр, от моря, от возни в лодке, чтобы позировать отцу для портрета. К тому же отец выбирал для работы несолнечные, тусклые северные дни или ранние вечера, когда не так уж радостно было на пляже, когда даже мальчиками овладевали задумчивость и грусть.
«Дети» — так называется эта находящаяся в Русском музее работа Серова — не просто портрет. Слияние героев картины с природой так велико и глубоко, на полотне так сильно ощущается воздух, небо, море, что картина становится элегией, раздумьем художника о месте человека на земле.
В центре композиции — мальчики. Они очень похожи, одинаково одеты, одинаково непослушно рассыпаются на ветру их темные волосы. Дощатый настил балкона — будто короткий трамплин, что обрывается у берега, перед морем и небом. Стихии замерли в ожидании. В ожидании — и сами герои портрета. Что ждет их? Каков будет их жизненный взлет?
Один из мальчиков, тот, что постарше, мечтательно смотрит вдаль, где море и небо соединяет горизонт. Может быть, смутные предчувствия иных, жизненных бурь вдруг морским миражем предстали перед ним?
Другой, младший, повернул голову к зрителю. Он еще слишком мал, чтобы испытать высокое чувство единения с природой, — пережив это чувство, человек взрослеет. Но и он далек в эту минуту от привычных детских развлечений. Какая-то неосознанная до конца мысль легкой тенью пробегает по его лицу.
Сизое небо над их головами посветлеет. Растают за горизонтом сиренево-серые тучи. Нагретый песок снова сверкнет на солнце. Но, повзрослев, мальчики не раз еще вспомнят эти задумчивые минуты, эту пасмурную даль, ощущение ожидания чего-то, еще неясного, но несомненно значительного. В этом — философская лиричность портрета Серова…
Постойте перед этой картиной — и вы услышите тихие удары волн. В музее, перед полотнами, можно не только смотреть, но и слушать…
* * *
А оба эти произведения художника — гневный публицистический рисунок и лирическая картина-портрет — выразили собой то, что Серов ненавидел, и то, что любил.
Врубель. Летящий Демон. Фрагмент
МЕЧТА ВРУБЕЛЯ, ДЕМОН
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей…
Кто не знает этих лермонтовских строк, кто не восхищался стихами поэмы, кого не будоражили в юности странные мечты и порывы мрачного изгнанника, его смятение и тоска?
Разные по душевной зрелости читатели находили в поэме Лермонтова, как и в любом глубоком произведении, иные отзвуки своим мыслям, различные истоки своим чувствам. Одним из тех, кто видел всю сложность, всю глубину лермонтовского образа, был Михаил Александрович Врубель. Демон стал главной темой художника, в которой поэтические мечты Лермонтова переплелись с исканиями другой эпохи, с устремлениями другого гения России. Полвека разделили обоих певцов Демона. «Печальный дух изгнанья» обогатился у Врубеля новыми чертами.
Врубель много раз обращался к изображению Демона. Художник иссушал свой мозг, отыскивая зримый облик одинокого изгнанника, без конца меняя его. Демоны скорбят, тоскуют и умирают на листах и холстах гениального художника.
Два врубелевских Демона живут в Русском музее. Каждый из них — неповторим и прекрасен. Один, гипсовый, с бледным, чуть раскрашенным лицом смотрит на людей невыразимо скорбными, полными ужаса глазами, и на воспаленных губах его, кажется, запекся крик. Эти неправдоподобно огромные глаза видели, наверное, такие бездны, такую безысходность, какие вряд ли становились уделом человека. Только великий художник мог оживить подобный взгляд… Другой Демон — на полотне, летит над пустынной землей. Полотно это не окончено. Но и в незавершенном виде оно хранит мечту Врубеля, мечту всей его жизни.
Зал, где экспонируются Демоны Врубеля, открывает в музее экспозицию русского искусства начала двадцатого века.
* * *
1910 год принес русской культуре невосполнимые потери. Лев Толстой. Комиссаржевская. Врубель. Но смерть оказалась бессильной перед гением.
М. Врубель. Голова Демона. Фрагмент
Толстой остался Толстым, как Волга остается Волгой, как Эльбрусом остается Эльбрус. Комиссаржевская воплотилась в легенды. А Врубель еще только вступал в бессмертие. В дни, когда Россия оплакивала его кончину, Александр Блок говорил и писал: «Он уходит все дальше, а мы, отстающие, теряем из виду его, теряем и нить его жизни с тем, чтобы следующие поколения, взошедшие выше нас, обрели ее, заалевшую над самой их юной, кудрявой головой». Титаническое искусство Врубеля, пожалуй, только начинало свою жизнь среди людей. Еще не раз всколыхнет оно эстетическую память человечества.
Врубель жил и писал в холодной атмосфере непонимания, враждебности, насмешек, тупого, потребительского насилия. «Это была эпоха, когда эстетствующее мещанство издевалось над „непонятными“ произведениями Врубеля, — вспоминал А. Я. Головин. — Многим его искусство казалось в ту пору каким-то растрепанным, сумбурным, дерзким…» Мало кто понимал, что из этого «сумбура» родится Демон; что дерзость стала крыльями художника, его защитой от приземляющих мещанских вкусов.
Мещане, филистеры, ханжи находили Врубеля повсюду. Ханжеская мораль теснила его порывы. Врубелю предстояло единоборство, на которое художник выйдет вместе со своим Демоном.
Получив заказ на работы в киевском Владимирском соборе, Врубель создавал гениальные эскизы. Библейские темы не сковывали его фантазии. В его святых оказалось мало святости, в их лицах узнавались глубокие человеческие страсти и страдания. Это восхищало друзей художника и бесило мещан. Специальная комиссия отвела эскизы Врубеля, сделанные для Владимирского собора. Может быть, уже тогда ангелы и апостолы художника, «изгнанные из рая», начали свое превращение в Демонов?
Так обстояло дело с эскизами для собора, с произведениями на библейские темы. Но то же повторилось, когда Врубель обратился к театральным декорациям. Для частной оперы Мамонтова ему заказали написать занавес и плафон. На занавесе художник воссоздал пейзаж, навеянный итальянскими впечатлениями. Плафон украсился композицией «Песнь Леля»: на сцене этого театра шла «Снегурочка» Римского-Корсакова, которого Врубель глубоко чтил и любил.
Обе эти работы подверглись обструкции. Оперные певцы привыкли к малиновым бархатным драпировкам и преданно любили их. Итальянский пейзаж на занавесе коробил рутинеров. Возмутила их и «Песнь Леля» на плафоне: они предпочли бы символическую Славу с венком и трубой. В соборе вместо святых Врубель поместил человека, в театре вместо богинь — пастуха. А когда на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде появились два панно Врубеля — «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович», — устроители выставки не разрешили экспонировать эти произведения в художественном отделе, среди других картин. Для врубелевских панно пришлось построить специальный павильон.
Врубель оставался в одиночестве, «сиротой», как назвал его Константин Коровин. Врубель перечитывал Лермонтова, читал любимую поэму вслух, уже понимал, что Демон сможет стать его союзником в единоборстве против филистерских вкусов.
Может быть, первый шаг к «Летящему Демону» был сделан, когда Врубель пристально вглядывался в рисунки к лермонтовской поэме художника Зичи и готовился сделать свои. Рисунки Зичи поражали своей беспомощностью, а Демон представал на них хилым, немощным видением. Нет, рисовальщик не понял Лермонтова, не вчитался в его поэму и перепутал Демона не то с чертом, не то с дьяволом. Если обратиться к первозданному смыслу этих слов, говорил Врубель, то окажется, что черт — это просто «рогатый», дьявол — «клеветник». А Демон — это душа, образ борьбы человеческого духа. Духа — разума и воли, а не духа-видения.
В творческом сознании Врубеля рождался и пускался в титанический полет свой прекрасный и страдающий Демон. Поэтому так задевали художника встречи с демонами-дьяволами мещанских сказок, с демонами-злодеями. Когда на оперной сцене поставили «Демона» Рубинштейна, Врубель отправился в театр. Дело заключалось не только в том, что жена художника, певица Н. И. Забела, исполняла в этом спектакле партию Тамары. С особенным волнением ожидал Врубель появления главного героя постановки. Когда исполнитель партии Демона вышел на сцену, на рутинную сцену старого оперного театра, — художник закрыл лицо руками и проговорил: «Не то, не то!» Этот провинциальный Демон-искуситель невинных дев воплотил в себе уровень представлений провинциальных обывателей. Он сладко пел, и каждый звук его музыкальных речей нестерпимо ранил Врубеля.
М. Врубель. Автопортрет
Путь к своему Демону начался, и с него уже невозможно было свернуть. В 1891 году художник сделал тринадцать иллюстраций для издания сочинений Лермонтова. Рисунки Врубеля (они находятся большей частью в Третьяковской галерее, в Русском музее хранится один, изображающий караван) полны экспрессии, огня, страсти, чутко услышанной художником в поэме. Голова Демона с огромной копной черных волос, свившихся в могучие кольца, широко раскрытые глаза и запекшиеся губы — все это очень напоминает скульптуру из «врубелевского» зала музея. Поразителен рисунок «Скачущий всадник»: кажется, всеми нервами, каждым мускулом ощущаешь яростный полет одичавшего коня, слышишь его храп, его топот.
Несется конь быстрее лани, Храпит и рвется будто к брани…Создав рисунки к поэме, Врубель не исчерпал тему, а только углубился в нее. Художник работал над ней тем упорнее, чем злобнее третировали филистеры «непонятное» им искусство. Врубель уже видел могучий полет Демона, широкий размах его фантастических крыльев. Художник создал множество эскизов — углем, пером, акварелью, рисуя Демона во всевозможных положениях отыскивая решение излюбленного образа.
Девятнадцатый век отходил. Двадцатый поднимался, опираясь на ровесников-младенцев, — двигатель Дизеля и рентгеновские лучи, радио и кинематограф. Он поднимал свое искусство и на крыльях врубелевского Демона. Собственно, последним большим произведением русского искусства, датированным девятнадцатым столетием, стал «Летящий Демон» Русского музея.
Он занимает почти все пространство картины, этот гигант со втянутой в плечи головой и удлиненным, узким лицом. Он летит над снежными горами и дикими скалами. Кажется, под ним простерлась чуждая, мертвая планета, где ни единый звук, ни единый проблеск света не согреет вечного странника. Холодной тоской бесконечного одиночества веет от картины. Оно — страшнее смерти, потому что вечно. Такое вечное одиночество ужаснее самой страшной казни, потому что всякая казнь имеет конец. Этот ужас запечатлен в глазах Летящего Демона…
Цветовое решение картины своеобразно и необычно. Оно строится на блеклых, тусклых, будто погашенных коричневых и синевато-лиловых тонах. Такова живописная трансформация лермонтовских строк:
Он был похож на вечер ясный: Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет…Образ вечера стал в творчестве Врубеля одним из мостов к его Демону. Художник воплотил на холсте поразительные сине-лиловые тона, каких русское искусство не знало ни до, ни после него. Тона эти бесконечно варьируются, углубляясь, загораясь или потухая, сгущаясь или бледнея. Тусклый отблеск вечера окутал и Летящего Демона. Вокруг — ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет…
Но перед нами — не иллюстрация к Лермонтову. Картина Врубеля неизмеримо шире понятия иллюстрации. Может быть, вся противоречивость творчества художника, все его трагические искания, все его одиночество отразились в этом полотне. Перед нами — одинокий бунтарь, восставший против обыденного и плоского. Но злая тоска наложила печать на его лицо. Глаза Летящего Демона страшны: они видят нечто, что недоступно человеческому взгляду, и то, что они видят, наполняет Демона страданием. Может быть, он видит свое падение? Оно скоро наступит, и Врубель изобразит его на своем полотне «Демон поверженный» (Третьяковская галерея). И тогда отчаяние и злоба еще более захлестнут Демона. Но и здесь, на полотне Русского музея, Демон уже близок к своему концу…
Врубель не интересовался политикой, не принимал участия в реальной общественной борьбе. И Демон его остался символом тоски и одиночества, образом отверженного всеми беглеца. Но образ этот исполнен удивительной силы, разрывающей паутину обыденной серости. Общности пошлых мещан Демон противопоставляет горькое, но гордое одиночество.
И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви…Таков Демон Врубеля, выросший из Демона Лермонтова.
* * *
Священник Новодевичьего монастыря, стоя над могилой Врубеля, сказал:
— Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что бог простит тебе все грехи.
Врубеля уже не было, а филистеры и ханжи все подсчитывали его «прегрешения». Они забыли только, что богами для художника давно стали люди, их страсти и мечты…
А поэт Александр Блок писал позднее по поводу своей «Незнакомки»: «Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона».
Подзор «Сказка о семи Семионах». Фрагмент
Путешествие семи Семионов
Жила-была женщина. Работала мастером на фабрике в Ленинграде.
Однажды, перебирая вещи в шкафу, женщина нашла старый-престарый подзор — кружевную кайму для простыни: в большом городе теперь редко такое увидишь. На этом подзоре, давно превратившемся в рваную тряпку, наивным узором вышиты были терема, кораблики, люди и птицы. Кто-то из знакомых надоумил женщину: снести подзор специалистам, может, он кому и понравится.
Хоть и неловко, казалось, предлагать такую старую и ветхую вещь, женщина отправилась со своей вышитой тряпицей в Русский музей. Ей посоветовали обратиться в Отдел народного искусства. Смущенно шла женщина со своим свертком мимо застекленных стеллажей, где рядами стояли старинные русские деревянные ковши, медные ларцы, головные уборы, игрушки.
Когда работники отдела развернули упакованный в газету сверток, перед ними на стол легла порванная во многих местах вышивка, распознать которую сразу было нелегко. Подзор следовало реставрировать. Лишь тогда удастся составить о нем окончательное представление.
— Откуда досталась вам эта вещь? — поинтересовались научные сотрудники отдела.
Откуда?
Не так-то легко было это припомнить. Много лет лежала она в дальнем углу шкафа — подзоры-то теперь не в моде. Вместе с хозяйкой «пережила» вышитая тряпица блокаду и войну. Была бы она деревянной — может, и сгорела бы в печке на пользу людям. А вышивка — на что могла она сгодиться в те страшные дни? Даже окна не занавесишь. О ней никто и не вспоминал.
А еще раньше, задолго до войны, прислала ее в подарок бабка. Жила бабка в Олонце, и внучка почти не виделась с ней: не ближний край! «Олонец — свету белому конец», — говорили тогда в Карелии.
Дальше история подзора и вовсе терялась.
Отдел народного искусства возник в 1937 году. За четверть века собирательской и научной работы здесь накоплено, систематизировано, изучено около 30 000 экспонатов, примерно десятая доля всех сокровищ музея.
Резьба и роспись по дереву, керамика, изделия из металла, ткани, резьба по кости сошлись сюда из четырех веков и десятков губерний.
Люди издавна стремились украсить свою жизнь и быт. Каждый предмет, что служил им повседневно, пусть бы и самого скромного назначения, должен был выглядеть красиво, радовать глаз. На оконных наличниках появилась резьба. Медные ларцы украсились чеканкой. На полотенцах огнем загорелись красные вышитые петухи. Историки утверждают, что однажды Петру I испекли пряник весом в пуд: какова же была та пряничная доска и как богат был ее резной узор!
Десятки пряничных досок хранятся в Отделе народного искусства. На них — декоративные узоры, иногда — тексты, даты, имена. Тут же, по соседству с орудиями кулинарного искусства, — ковши и солоницы, прялки и светильники, вятские игрушки и народные костюмы, деревянные коньки с крыш и целые фронтоны изб, сани и дуги, шкатулки из Палеха и хохломская роспись из города Семенова Горьковской области, кость из Холмогор и кружева из Вологды…
Теперь ко всем этим сокровищам прибавился подзор из Олонца — над ним склонился один из реставраторов Русского музея.
Техника вышивки не столько сложна, сколько кропотлива. На куске обыкновенного холста равномерно выдергивают нити — вдоль и поперек куска. Оставшиеся нити перевиваются. Сверху, на их основе, простыми белыми нитками вышивается узор.
Однако подзор, попавший в музей (его длина — 170 сантиметров, ширина — 48,5) заинтересовал специалистов несомненными художественными достоинствами. На нем вышит сложный сюжетный рисунок, выполненный с подлинным мастерством и выдумкой.
Теперь, когда подзор вычистили и отреставрировали, следовало установить его возраст и происхождение.
На помощь ученым пришел сравнительный сюжетно-стилевой анализ. В хранилище отдела имелись и другие подзоры. Они-то и помогли восстановить, разумеется, в самых общих чертах, «биографию» приобретенной вышитой тряпицы.
Сюжет вышивки был несомненно сказочным: где, как не в сказке, водятся птицы с женскими головами и морские чудовища с наполовину человеческим туловищем?! «Сказочные» вышивки делались обычно на Севере.
Подзор «Сказка о семи Семистах». Фрагмент
Пришлось обратиться к фольклору. Вскоре стало очевидно, что безвестная мастерица вышивала на подзоре сюжет по мотивам сказки о семи Семионах, родных братьях; ее можно найти в любом сборнике северных, да и вообще русских сказок.
Но самое удивительное заключалось в том, что возраст подзора оказался равным… двум векам! Олонецкая вышивальщица работала над этим куском холста во времена Ломоносова и Шубина! Впрочем, как говорят сотрудники Отдела народного искусства, приобретенный Русским музеем подзор равен какому-нибудь шубинскому портрету — в скульптуре или полотну Антропова — в живописи не только возрастом, не и красотой.
Длинное же путешествие совершили семь братьев Семионов, пока не обосновались навсегда в Русском музее!
Помните?
Жил-был старик со старухой, и было у них семь сынов, семь близнецов. Всех их назвали Семионами.
Каждый из Семионов владел какой-нибудь премудростью. Один был великий кузнец, другой — стрелок, каких не бывало, третий видел так далеко, что и вообразить невозможно, четвертый умел мастерить корабли, пятый — ловить на лету дичь, шестой — опускать корабль в подводное царство и возвращать его оттуда назад. А седьмой Семион был вором.
«Искусство» этого последнего Семиона особенно приглянулось царю Адору. Много лет пытался царь Адор высватать себе в жены царевну Елену Прекрасную, да никак не мог. Вот и поручил Семиону-вору похитить невесту и доставить к нему во дворец.
Братья смастерили корабль и отправились по морю в путь. Каждый из братьев показал на деле свое умение. Так была добыта Елена Прекрасная.
Язык сказки не переводится «дословно» на язык художественной вышивки. И все-таки на подзоре нетрудно узнать приключения Семионов. Вот старинные терема, где, стоя на стенах, стрелки целятся из луков: это отец Елены Прекрасной преследует похитителей своей дочери. Вот и корабль с телячьей головой, на палубе — Елена Прекрасная с одним из стерегущих ее братьев. А вот и подводное царство, куда другой Семион временно опустил корабль, чтобы избежать погони: здесь плавают чудища с трезубцами и рыбьими хвостами. В «небе» — волшебные птицы; может быть, это лебеди, в одного из которых обернулась Елена Прекрасная, чтобы вернуться домой? Ей это не помогло: Семион-стрелок и Семион-ловец дичи стоят на страже…
Вся композиция полна динамики, действие развивается напряженно и драматично. Олонецкая вышивальщица, трудясь над подзором, сама превратилась в народную сказительницу. И из рук ее вышло произведение, отмеченное свежестью, чистотой, мастерством.
* * *
И другое путешествие завершилось в стенах Русского музея.
Осенью 1963 года сюда прибыл автофургон. «Станция» назначения — Отдел народного искусства. Станция отправления — Балахна, старинный поволжский город. Из фургона выгрузили аккуратно уложенные доски.
Еще незадолго перед тем эти доски составляли фронтон, наличники, пилястры жилого дома. Теперь его облицовка переехала с берегов Волги в музей.
Чтобы отыскать этот дом и полюбоваться им, следовало совершить путешествие на Волгу. До Балахны можно доехать поездом. Волжские просторы, старинные церкви настраивают здесь путешественника на особый, задумчивый лад. Тут же, рядом — крупнейший в стране бумажный комбинат. История и современность порой причудливо переплетаются, не мешая, а обогащая одна другую.
На противоположном, левом берегу Волги — широкая пойма, за ней высокий берег. Туда можно перебраться на катере или пароме. В полутора километрах от берега и расположено село Николо-Погост (сейчас оно входит в Городецкий район Горьковской области). Здесь — тоже старинная церквушка, ей минуло более двух веков. На одной из улиц села и стоял этот красивый, весь испещренный резьбой дом, — дом Мохова.
Дмитрий Мохов был одним из многих волжских баржевкков — владел несколькими баржами и гонял их в поволжские города с различными товарами. В 1866 году — почти сто лет назад — построил Мохов избу, поручив местным мастерам-резчикам разукрасить ее побогаче. Это дело Мохов полностью доверил мастерам, положившись на их вкус и опыт.
Тогда-то и возникло в Николо-Погосте замечательное комплексное произведение народного искусства.
Фрагмент резьбы «дома Мохова»
Архитектурная резьба по дереву — одно из «генеральных» направлений русского народного искусства. В Русском музее ей отведено почетное место. Север и Волга хранят иного ее выдающихся образцов. В Горьковской области художественная резьба украшает избы, фасады домов, ворота надворных построек. Сельские художники-резчики, порой до сих пор безвестные, с помощью набора долот и стамесок создавали богатые барельефные изображения. Чаще всего причудливые, фантастические растения «обвивали» снизу доверху фронтоны изб. Мастерство деревенских архитекторов и художников-резчиков совершенствовалось десятилетиями, веками. Художественные традиции, приемы, понятия о прекрасном расцвели здесь на животворной почве народного творчества. Дом Мохова оказался одним из самых интересных среди изб, украшенных резьбой. Его обнаружил М. П. Званцев, горьковчанин, специалист по местному народному искусству. А вскоре знаменитому дому довелось «позировать» и перед объективом киноаппарата: московский искусствовед И. В. Маковецкий снял фильм о народном искусстве Заволжья.
В резьбе дома Мохова почти нет сюжетных повторений. Рисунки на карнизах и наличниках — разные. К тому же, кроме обычных «растительных» сюжетов, мы видим здесь фигуры людей, львов, птиц и рыб. Почти все «герои» изображения — мужчины и женщины — держат в вытянутой вверх руке стебли орнаментальной ветви. Человеческие фигуры вырезаны с удивительным мастерством, они виртуозно вписаны в пространство доски, где, казалось бы, не очень-то развернешься.
Своими пропорциями, гармоничностью узора резьба дома Мохова может соперничать с россиевскими орнаментами, хотя перед нами не дворец, а простая изба!
Дом Мохова оказался целым художественным комплексом. Обычно резьба украшает только карниз избы или наличники окон, дверь или крыльцо. Здесь же резьба красуется со всех сторон, на всех досках, покрывающих сруб. Потому-то и возникло решение приобрести дом Мохова для Русского музея. В зале продолжится радостное шествие его резных героев. Здесь отметит дом Мохова и свой столетний юбилей.
Еще много лет будет эта изба, вновь восстановленная на дворцовом паркете, радовать глаз драгоценной резьбой, производя чарующее впечатление изумительных деревянных кружев, сплетенных могучей, волшебной рукой…
* * *
Если составить карту географических районов, откуда стекались в Русский музей его экспонаты, — она захватила бы Европу и Азию. Иконы явились пришельцами из Новгорода, близкого от Ленинграда, если мерить километрами, и такого далекого, если измерять годами: речь ведь идет о древнем Новгороде! Гусар Давыдов на полотне Кипренского — «москвич». «Последний день Помпеи» был написан Брюлловым в Италии. Портрет сыновей Серова — в финской деревушке Ино. Марины Айвазовского родились в Феодосии, на берегу Черного моря. На Севере родились многие произведения русского народного искусства; места их рождений — Олонец, Архангельск, Вологда. С берегов Волги прибыл дом Мохова.
А одна очень веселая компания пестрых и смешных экспонатов приехала в музей из слободы Дымково. Впрочем, Дымково из вятской слободы давно уже превратилось в пригород современного города Кирова.
Их привезла из Кирова в Ленинград, в музей, Екатерина Иосифовна Косс-Деньшина, художница, отдавшая своим любимцам много творческого труда, выдумки, фантазии, сердечного тепла. Да и как могло обойтись тут без сердца, если речь идет об игрушке?
Вятские глиняные игрушки знакомы всем, их любят не только в нашей стране, но, пожалуй, во всех частях света. Яркие посланцы вятичей горделиво красуются на многих международных выставках, смело представляя русскую народную культуру, вкус, юмор. Сделанные из простой глины, вятские игрушки способны угодить самому взыскательному ценителю.
Родились эти пестрые фигурки в глухое время и в глухом краю, более ста лет назад, в курной избе, в быту которой недоставало веселья. Эти маленькие персонажи изображали деревенскую бабу или городского гуляющего кавалера, провинциальную красотку или усатого офицера. Кстати, вятские игрушки — ровесники федотовского «майора». Продувные, бесшабашные офицерики повторялись дымковскими игрушечных дел мастерами.
Игрушка сродни сказке. И к компании вятских глиняных фигурок присоединились животные, прежде всего — помощник крестьянина — конь. Потом пошли звери поудивительнее. И так же, как причудливо смешивались моды в нарядах потешных модников и щеголих, так смешивались порой внешние признаки реальной фауны. Но это лишь усиливало выразительность глиняного зверинца.
Игрушки дымковских мастеров
Технология производства вятских игрушек — незатейлива; фигурка вручную лепится из глины, белится в молочном растворе мела, высушивается и раскрашивается. Краски берутся самые яркие: малиновые, зеленые, желтые, синие, сусальное золото, Тут уж не бывает полутонов, тонких красочных переходов, глухого колорита.
После революции дымковским промыслом увлекся вятский художник А. Деньшин. Он возглавил работу неграмотных народных мастеров, С приходом Деньшина вятская игрушка стала наряднее, богаче, сложнее. Все эти годы жена художника, Косс-Деньшина, продолжала совершенствовать игрушку. Веселые яркие экспонаты, появившиеся в витрине Русского музея, — плод вдумчивых усилий современных мастеров.
В Отделе народного искусства хранится такое количество игрушек, что их хватило бы на добрую половину ленинградских детских садов, к тому же игрушки тут на все вкусы: глиняные, деревянные, сделанные из папье-маше, из шишек и соломы, бирюльки из кости. Но те, что приехали в музей из Кирова, наверное, — самые яркие и нарядные.
Они сделаны умелыми руками дымковских мастериц: самой Е. И. Косс-Деньшиной, А. А. Мезривой и О. И. Пенкиной. Здесь — лихие всадники на конях и козлах, баба с ведрами и дама с собачкой, няня с двумя мальчишками и вожак с медведем; тянут свою упрямую репку «классические» дедка, бабка, внучка и Жучка; балалаечник беззаботно выплывает верхом на рыбе; мишка, не боясь уколоться, лезет на елку; лошадь с жеребенком грациозно замерла, повернув голову; олень стукнул оземь всеми четырьмя копытами…
Есть в витрине музея, отведенной вятичам, и нечто новое. Это — «прилепы», изразцы, которые сейчас составили параллельное скульптурным игрушкам направление творчества дымковцев. Вятская игрушка начинает завоевывать бастионы архитектуры: изразцы с изображениями тех же излюбленных персонажей дымковских мастеров могут использоваться в украшении любого интерьера дома, сельского клуба, кинотеатра, чайной.
Вятская игрушка — обитательница миллионов домов, она продается в любом магазине подарков, в киосках изделий народных ремесел, на ярмарках и сельских базарах. Она украшает и витрины Русского музея. Потому что она — искусство, любимое народом.
* * *
Перед вами развернулись в своей неповторимой красе некоторые экспонаты народного искусства, которыми музей гордится. Они помогают знакомству с богатыми коллекциями отдела, с работой его научных сотрудников. Труд их нелегок: предметы народного искусства не всегда попадают в музей в газетном свертке, как это случилось с подзором. Их приходится искать и находить в далеких уголках страны. Сотрудники отдела изучают и собирают произведения не десятков, не сотен, а сотен тысяч авторов.
Искусство народа рождается повсеместно и ежечасно. И сейчас, когда пишутся эти строки или когда вы читаете их, руки мастеров-виртуозов режут дерево, ткут нарядные ткани, точат кость, мнут глину, куют металл…
В 1896 году, за два года до открытия Русского музея, в Нижнем Новгороде состоялась очередная Всероссийская промышленная и художественная выставка. На ней, как уже известно читателю, мещане злобно освистали Врубеля и изгнали из художественного отдела два его декоративных панно. Не нашлось на выставке места и народному искусству, и это — в «столице» Поволжья, которое по праву могло считаться его заповедным краем!
Максим Горький писал на страницах газеты «Одесские новости», корреспондентом которой состоял: «Специального отдела кустарных производств России на выставке нет, да, кажется, и ни на одной из пятнадцати предшествовавших не было. А между тем наши кустари, право же, заслужили своего особого уголка. Как бы это было хорошо посмотреть на труд наших кустарей, сконцентрированных в одном здании, построенном теми же кустарями. Здание в стиле великорусской избы, с резными украшениями… — и в нем кустари всей страны — себеплеты-олонцы, кружевницы балахнинские, слесаря из Горбатова, игрушечники из Семенова, гармонщики-вятичи и все другие самобытники мастера, имя же им легион».
Мечта Горького обрела зримые черты в залах Русского музея. Здесь восстановлена резная изба из родных его нижегородских мест. А вокруг — разнообразные изделия не только кустарного промысла, но всех вообще видов народного искусства.
Украшая свою жизнь, создавая шедевры, мастера из народа обычно не думают о музее.
Зато в музее думают и мечтают о них, сберегают и показывают бессмертные создания народного гения.
В. Пророков. Рисунок из серии «Это не должно повториться», фрагмент
ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
Музей — и пульс времени?
Музей — и острое ощущение современной жизни со всем ее многообразием, сложностью, движением вперед?
Да, именно так.
Русский музей живет напряженно — в научных экспедициях его сотрудников, в изучении старых картин, в сбережении их для потомков. Но, пожалуй, самым «подвижным», изменчивым, чутким к движению жизни является Отдел советского изобразительного искусства. Он расположен, как и Отдел народного искусства, в так называемом «флигеле Бенуа», подъезд которого выходит на канал Грибоедова.
Первые произведения советских живописцев и скульпторов появились в музее после 1927 года, когда страна отметила десятилетие Октября, когда молодое искусство молодой республики предъявило народу свои первые победы.
С тех пор экспозиция отдела менялась неоднократно. И это закономерно: искусство современных художников рождалось в борьбе, в гуще горячих событий, в дни народной радости и горя. Искусству наших дней некогда «отстаиваться»: оно должно, не старея, не ржавея, не теряя своей злободневной остроты, работать, вдохновлять, восхищать, вызывать у людей чувства любви и ненависти. И это прекрасно, что, молодое, не всегда еще проверенное временем, оно уже входило в залы величайшей сокровищницы национального гения. С острыми линиями и горячими красками нового искусства в залы музея входила Революция.
Современная экспозиция отдела открылась весной 1962 года. Несколько позднее в ней прибавились залы графики. Сейчас советскому искусству отведено почти столько же залов, сколько в 1898 году, в день вернисажа, — всем коллекциям музея. Около пятисот полотен, статуй, рисунков, гравюр представляют современность. Здесь бьется пульс времени, врезаются в память его приметы. Не все в экспозиции отдела равноценно. Но почти каждое произведение может рассказать людям будущего о наших горячих днях…
Создатели новой экспозиции стремились к тому, чтобы современное искусство стало здесь художественной летописью времени, живой художественной энциклопедией.
Картины, скульптура, графика расположены по монографическому принципу, так, чтобы показать, пусть немногими вещами, творчество каждого из представленных мастеров.
Даты создания произведений начинаются с года 1917-го. Этой датой, например, датирована картина И. Владимирова «Арест царских генералов»: молодые красногвардейцы весело улыбаются, подсаживая тучных генералов в свой грузовик… 1918 год представлен «Ледоходом» Г. Горелова (на этом небольшом полотне ледоход впервые в нашем искусстве стал образом больших общественных сдвигов) и революционно-романтическим «Степаном Разиным» Б. Кустодиева.
Будто страницы огромного альбома раскрываются перед посетителем в экспозиции советского отдела. В «альбом» вместились тревожная ночь гражданской войны — и портреты больших советских ученых, ненависть к фашистам — и любовь к человеку, залитая солнцем Армения и строгие, прекрасные контуры Ленинграда.
Пульс времени, поступь истории…
* * *
Однажды в Отделе советского искусства двое посетителей остановились перед работами Козьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Молодая женщина переходила от одного полотна к другому. Мужчина, ее спутник, выполнял роль экскурсовода с несомненным знанием предмета. Люди эти, судя по всему, приехали в Ленинград издалека и пришли в Русский музей специально для того, чтобы посмотреть произведения советских мастеров.
Долго стояли они перед портретом девушки в лесу.
— Посмотри, у девушки немного утомленное лицо, — говорила молодая женщина своему спутнику. — Это, наверное, потому, что лес утомляет человека, опьяняет, если долго в нем находиться…
— А вот его знаменитая «Селедка», — показывал ее провожатый. — В свое время она произвела фурор смелостью и точностью видения вещей, какие вообще свойственны Петрову-Водкину. Помнишь его натюрморт «Черемуха в стакане»? Он тоже находится здесь, в музее.
Наконец, они подошли к картине «1919 год. Тревога».
— Это одна из лучших картин художника, — снова заговорил приезжий. — Посмотри, как цвет может выразить и определить тему вещи: красные, коричневатые, теплые тона простой комнаты рабочей семьи — и холодная, густая синева улицы, вечера за окном, огромного, еще не упорядоченного тревожного мира. Сама контрастность цветовых сочетаний создает у Петрова-Водкина тревожное настроение.
Я. Петров-Водкин. «1919 год. Тревога»
Это верно. Вечерняя тревога — она прозвучала в неурочном заводском гудке, или в дробном цокоте лошадиных копыт, или в выстрелах под окнами дома — передается каждому, кто остановится перед картиной. Тревога — не только в сумрачной синеве за окнами; она и в повороте головы женщины, жены рабочего, раздевающей дочку перед сном, и в выразительной спине ее мужа, который стоит у окна и старается разглядеть, что происходит на улице, и в скомканной «Красной газете» на табуретке, и в напряженной позе испуганной девочки-подростка…
Люди отходят от этой картины, благодарные художнику за его лаконичный рассказ, за его озабоченность судьбами людей, горячие симпатии к своим героям.
Петров-Водкин, человек, одаренный весьма разносторонне, кроме яркого и разнообразного художественного наследия оставил две написанные им книги. Обе — автобиографичны. Первая, «Хлыновск», повествует о детстве и юности художника, о его предках и родных, об окружавших мальчика людях. Книга написана сочным и острым языком, и с ее страниц выпукло встает глухая пора русской провинции, обычаи, нравы, характеры. Вторая книга художника — «Пространство Эвклида» — повесть о зрелости, о впечатлениях и встречах, о мастерстве живописца и предмете искусства. Обе книги уже давно стали библиографической редкостью. Но они многое объясняют тому, кто отойдет от картин Петрова-Водкина заинтересованным, увлеченным…
* * *
Когда в 1929 году к Михаилу Васильевичу Нестерову обратились с предложением написать портрет академика И. П. Павлова, выдающийся русский советский художник, мастер портрета, ответил, что он — «не портретист» и не считает себя вправе браться «не за свое дело».
В действительности же отказ Нестерова имел глубокие причины. Художник не был тогда лично знаком с Павловым, а по фотографиям и портретам, сделанным другими, не увидел в лице ученого тех «признаков чрезвычайных, манящих, волнующих», без которых для него не существовало искусства, лишь они могли воспламенить вдохновение Нестерова. Ремесленническая же, «заказная» работа художнику претила. Нестеров вспоминал лица Льва Толстого и Менделеева, воплощенные им на полотне, и невольно делал невыгодные для Павлова сравнения.
Но вот их познакомили. О том, как это произошло и к чему привело, великолепно рассказал в своих воспоминаниях сам Михаил Васильевич Нестеров:
«Не успел я осмотреться, сказать несколько слов, ответить на приветствие супруги Ивана Петровича, как совершенно неожиданно, с какой-то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и громко говоря, появился откуда-то из-за угла, из-за рояля сам „легендарный человек“. Всего, чего угодно, а такого „выхода“ я не ожидал. Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком. Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те „официальные“ снимки, что я видел, и писание портрета тут же мысленно было решено. Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик 81 года был „сам по себе“, и это было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика».
Вот почему в павловских портретах Нестерова, в частности в его портрете Ивана Петровича, написанном в 1930 году и хранящемся в Русском музее, столько внутреннего, эмоционального, духовного начала. Вот почему, глядя на портрет, узнаешь об огромной симпатии, какую художник испытывал к своей «модели». Вот почему внешнее сходство — не конец, а лишь начало, отправная точка творчества Нестерова-портретиста. И вот почему Павлов на его портрете так по-человечески обаятелен.
М. Нестеров. Портрет И. П. Павлова
Он сидит на веранде своего домика в Колтушах за книгой. Может быть, это любимые им Пушкин или Шекспир. Может быть, ученый труд зарубежного физиолога, «коллеги», «опровергающего» павловское учение, — таких было тогда немало. Глаза Павлова будто источают активную целеустремленность, накал мысли.
Перед нами — мыслитель-боец.
Репин, работал в свое время над портретом Павлова, ассоциировал ученого с Сократом. На портрете Нестерова — не философ-идеалист, а человек, в чертах которого откровенно видна напряженность сегодняшней, сиюминутной борьбы, увлеченность, азарт, павловский неугомонный нрав. Портрет работы Нестерова — не отвлеченное изображение ученого, а показ его интеллектуального, творческого горения.
Подписью к портрету могли бы послужить мудрые слова самого Павлова: «Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека».
Заслуга художника Михаила Васильевича Нестерова и заключается в том, что это напряжение, эта страсть ясно видны на портрете.
* * *
Через несколько лет после создания нестеровского портрета Павлова другой старейший советский художник задумал воплотить образ другого русского гения, правда, давно ушедшего. К работе над портретом Достоевского приступил скульптор Сергей Тимофеевич Коненков, ныне Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
Известна фотография 1858 года, сделанная семипалатинским фотографом. На ней запечатлен рядовой Сибирского 7-го линейного батальона Достоевский.
Писателю Федору Михайловичу Достоевскому было тогда тридцать семь лет — возраст расцвета, пора наивысших творческих возможностей. Но в неловкой позе перед фотоаппаратом сидит солдат. Он выглядит старше своих лет. На лысеющей голове приглажены негустые волосы, усталый взгляд устремлен куда-то в сторону.
Руки Достоевского сложены крест-накрест на коленях, большие натруженные руки солдата, знающие тяжесть лопаты и ружья. Эти руки узнали холод и унизительный плен кандалов, когда Достоевского, приговоренного царским судом к смертной казни, вели на расстрел, чтобы за несколько секунд до залпа объявить о царской «милости» — замене казни сибирской ссылкой…
В одном из залов Отдела советского искусства вы найдете портрет Достоевского, сделанный скульптором Коненковым.
Писатель изображен на склоне лет. В лице — трагические следы пережитых тревог. Высокий лоб хранит печать душевных бурь. Это — психологический портрет, в котором прежде всего выявлено настроение, внутреннее состояние человека.
Особенно выразительны руки. Они лежат в знакомом по фотографии жесте, вытянутые вперед, одна на другой, усталые, крупные руки мыслителя, землекопа, солдата, писателя.
Эти руки освобождены от кандалов, оставили лопату и ружье. Но им достался груз ничуть не легче — перо и бумага, которым предстояло донести до нас страдания обездоленных, смятенных, страстно ищущих выхода людей, героев Достоевского. Тяжко было этим рукам, когда они тянулись к униженным и оскорбленным, чтобы коснуться головы рыдающей Нелли, или швыряли в огонь камина сто тысяч, проклятые деньги, погубившие своей страшной властью Настасью Филипповну.
Достоевский погружен в свои думы. Он сосредоточен. Он странствует в тревожном мире своих униженных жизнью героев.
А руки отдыхают. Надолго ли их покой? И какие новые мудрые или горькие слова выведет перо, когда они снова разомкнутся?
* * *
Историю страны, жизнь людей, цветение земли пересекла война. Великая Отечественная война.
Не было такого художника, кто не поставил бы свой карандаш, кисть, резец на службу обороне.
С. Коненков. Портрет Ф. М. Достоевского
«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» — эти слова Маяковского приобретали новый смысл.
В рядах армии искусств страстно сражались с полчищами фашистов трое художников, неразлучно творящих вместе вот уже сорок лет: Кукрыниксы. За этим коллективным псевдонимом стоят народные художники СССР Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий Никитич Крылов и Николай Александрович Соколов.
Миллионы зрителей знают Кукрыниксов прежде всего как мастеров политической сатиры, карикатуристов. Однако творческое наследие художников огромно по широте и разнообразию жанров: станковая живопись, иллюстрации к произведениям русских классиков и современных писателей, портреты героев страны, пейзажи, дружеские шаржи. В живописи Кукрыниксов большое место заняла тема борьбы с фашизмом. Широко известна их картина «Конец» (Третьяковская галерея), изображающая последние минуты гитлеровской ставки. Полотно Кукрыниксов «Великий Новгород» (другое название картины — «Бегство фашистов из Новгорода») экспонируется в зале Русского музея.
Видели вы, как вздымают руки поверженные на землю бронзовые статуи?
Видели, как снова гибнут поэты и герои, уже нашедшие бессмертие на пьедестале?
Взгляните на картину «Великий Новгород»…
Кукрыниксы. Бегство фашистов из Новгорода
Памятники старины, гордость, любовь, память народа, превращены в руины. Дома разрушены. Население угнано. У подножия древнего Софийского собора мечутся фашисты. Они очень смахивают на волков: воровато, пригнувшись, трусят по черному снегу, один — с канистрой, наполненной бензином для поджога, другой — с факелом. Это — бешеные волки. Они не боятся огня, они сеют его сами. Они нападают не от голода, а от тупого, скотского желания уничтожать. И все-таки они бегут, бегут, пригнувшись в страхе и спешке. Бегут, потому что горячее факелов горит под их ногами земли.
На переднем плане картины — искореженные куски бронзы, разрушенный памятник «Тысячелетне России». Опрокинутая навзничь, статуя воздела к небу бронзовую руку. Статуя будто кричит о возмездии. Она напоминает о тысячелетии русской истории, когда враги не раз врывались на нашу землю и — ложились в могилы.
Картина Кукрыниксов, написанная в 1944–1946 годах, напоминает людям, что такое фашизм. Напоминает языком искусства, которое сражается против мрака, за жизнь.
* * *
Севастопольская оборона… Эти слова воскрешают в памяти две величайшие битвы, разделенные без малого столетием: первая стала центральным звеном Крымской войны 1853–1856 годов, вторая — одной из самых героических глав Великой Отечественной войны. Оба эти события связаны между собой не только историческим подобием и географическим тождеством: Слава и Поэзия слили их в народной памяти воедино.
В самом начале первой севастопольской обороны было решено затопить часть судов Черноморского флота у входа в Большую бухту, чтобы остовы их и мачты преградили путь вражеским кораблям. Матросы сошли на берег, чтобы отдать жизнь за родной Севастополь.
И тогда родилась удивительная легенда. Люди говорили, что не мачты затопленных судов задержали врага. Мертвые русские матросы, встают по ночам с земли, уходили в море и становились под водой у своих кораблей. Мертвые матросы крепко держались за руки и стояли неколебимо. Через такую стену ни один вражеский корабль прорваться не мог.
Эта легенда ожила в конце 1941 года, когда Севастополь опять принял на себя вражеский удар. Началась вторая оборона Севастополя. Она стала темой большой картины Александра Александровича Дейнеки, недавно удостоенного Ленинской премии.
Художник Дейнека, живописец, график, скульптор, академик живописи, не впервые обращает свои творческие помыслы к Севастополю. В 1934 году появилась акварельная серия рисунков Дейнеки, посвященная героическому городу и его людям. Художник рисовал планеристов, пловцов, пионеров, мечтающих стать моряками, гидроплан над севастопольской бухтой. Город жил мирной жизнью, и на бумагу ложились ее приметы. Рисунки эти, своеобразные по колориту, пронизаны жарким черноморским солнцем, утренним светом, бросающим резкие тени, синевой моря. Героем акварелей стал гармонично развитый человек, духовно и физически прекрасный. Спортсмены — главные «обитатели» многих произведений Дейнеки. Его карандаши и кисти не раз воспроизводили любимые художником тона сине-зеленого моря и бронзово-коричневого южного загара.
Чистые эти тона подернулись дымным, пепельно-серым налетом, когда Дейнека обратился к рассказу о горестных днях любимого города — к картине «Оборона Севастополя».
В город пришла война. Перестали летать спортивные гидропланы — их заменили тяжелые бомбардировщики. Небо, светившееся первозданной чистотой, заволоклось смрадными тучами дыма. Именно тогда, в 1942 году, к возникла картина «Оборона Севастополя» (кстати сказать, ее название указывает на прямую патриотическую связь с другой известной картиной художника — «Оборона Петрограда», хранящемся в Государственной Третьяковской галерее).
Дейнека запечатлел самый острый момент сражения, битву не на жизнь, а на смерть. Только камни Севастополя остались теми же. В остальном город неузнаваем, он — в огне. Полуразрушенные здания выглядят обнаженными скелетами. Небо над городом — багрово-черное, в нем смешались дымы взрывов и пожаров. А на переднем плане картины сошлись в смертном бою с фашистскими захватчиками советские моряки-черноморцы.
А. Дейнека. Оборона Севастополя
Стоя перед полотном, испытываешь ощущение, будто не только видишь, но и слышишь войну, ее тяжкий грохот, скрежет металла, крики людей. Когда-то, устраивая выставки, Верещагин приглашал музыкантов, чтобы музыка дополнила его картины, сделала впечатление от них еще более острым, — таков был темперамент художника. Живопись не нуждается в непременном «усилении» музыкой. Но уж если сопоставлять эти жанры искусства, то «Оборону Севастополя» Дейнеки можно связать с Седьмой симфонией Шостаковича, так трагична и монументальна эта картина.
Фигуры моряков будто отлиты из бронзы. Могучие, мускулистые тела напряжены, руки крепко сжимают винтовку или связку гранат. Перед нами — те же излюбленные герои Дейнеки, сильные и прекрасные люди, но сейчас они не радуются жизни, а умирают за нее, умирают за каждый севастопольский камень.
Полный решимости порыв моряков несет захватчикам смерть. Ярость черноморцев так раскалена и безудержна, что понимаешь: эти люди не сдадутся, как и их предки, умиравшие на этом же клочке земли, мертвые встанут они в море, взявшись за руки, и стеной преградят дорогу вражеским кораблям… Так оживают легенды.
Грозен на картине вечный бой. Один из фашистов уткнулся лицом вниз и обагрил своей темной кровью плиты Севастополя. Этот уже не поднимется, как и тысячи других, пришедших к нам, чтобы убивать и жечь. Такова великая справедливость возмездия.
* * *
По пустынным улицам блокированного Ленинграда мимо засыпанных песком памятников и закамуфлированных зенитных батарей бродила старая женщина. Она могла уехать отсюда. Но она осталась. Она не желала расставаться со своим городом в минуту опасности. Это была Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Жизнь Анны Петровны была связана с Русским музеем еще с апрельского дня 1916 года, когда художница получила письмо с просьбой прислать сдоя работы для учреждаемого в музее Отдела графики. Сегодня работы Остроумовой-Лебедевой составляют в музейных коллекциях графика одно из главных звеньев.
В молодости ученица Репина, Анна Остроумова мечтала стать живописцем, и для этого имелись все основания. Но случилось непредвиденное: от скипидара, на котором растворяют масляные краски, у нее начиналась астма, текли слезы. Приходилось все чаще оставлять кисти ради штихеля, холст — ради доски. Рука училась вырезать рисунок на твердом дереве, мягком металле, линолеуме. Так Остроумова-Лебедева стала графиком.
Когда началась война, Анне Петровне перевалило за семьдесят. Она оставалась в своей квартире на Выборгской стороне. Иссякали продукты питания. Водопровод и канализация не действовали. Весной к супу из столярного клея Анна Петровна прибавляла салат из листьев одуванчиков. Но старая художница, так часто воспевавшая Ленинград в своих рисунках, гравюрах, акварелях, снова и снова выходила к Неве, всматривалась в панораму любимого города, подернутого теперь дымами пожаров, в строгие, графически четкие контуры его башен и шпилей, соборов и мостов. А возвращаясь домой, садилась за стол и при неверном свете коптилки, сделанной из аптечного пузырька, склонялась над своими досками.
Перед ней лежали, матово отражая язычок пламени, гладкие дощечки из самшита или пальмы. Им минуло пятьсот, шестьсот лет. Их везли из Африки и Азии, чтобы рука художника вырезала на их поверхности прекрасные очертания лиц и городов. Рука эта коченела теперь от лютой блокадной стужи. Но разве можно было сжечь материал, без которого остановилось бы творчество?!
А. Остроумова-Лебедева. Горный институт
Однажды Анна Петровна гуляла по набережной Невы. Ее настиг очередной налет фашистских бомбардировщиков. За Литейным мостом бомбы падали в воду и фонтаны брызг взлетали кверху.
Вдруг Анна Петровна увидела за парапетом набережной, у самой воды, группу мальчиков. Они удили. Два мальчугана лет восьми возились с пойманной рыбой, остальные замерли над поплавками. А бомбы все падали, не вызывая у мальчиков ни малейшего интереса.
— Что вы тут делаете! — не выдержала Анна Петровна. — Слышите, налет! Надо уходить!
— Слы-ышим, — ответил один из мальчиков и разъяснил: — Это не в нашем квадрате!
«Не в нашем квадрате» — так называется гравюра, ставшая наиболее значительным произведением художницы в годы войны.
В музее — множество гравюр, рисунков, акварелей Остроумовой-Лебедевой. Вместе с ними в музейные залы и хранилища пришли Нева с ее широкими берегами, Смольный, спуски невских набережных, силуэты города, верфи судостроительных заводов, парки островов, и опять — Нева, Нева, поэтическая река Пушкина и Блока, частица русской истории и поэзии, акватория вечной стоянки «Авроры», источник воды и жизни осажденного города.
* * *
Образ человека, прошедшего большую жизнь, овладевшего нелегкой мудростью знания, предстает перед нами на полотне Павла Корина «Портрет академика Н. Д. Зелинского».
… 10 марта 1932 года, живя в Сорренто, Алексей Максимович Горький послал Ромену Роллану дорогой подарок — коробочку, сделанную художниками-палешанами. В прилагаемом письме он, между прочим, сообщал: «Сейчас у меня живут братья Корины, художники, тоже палеховцы, во уже окончившие школу, ученики Нестерова. Один из них пишет мой портрет и, когда кончит, я пришлю Вам снимок. Общее мнение — портрет хорош. Художник действительно очень серьезный и талантлив».
А. Остроумова-Лебедева. «Не в нашем квадрате»
«Один из них» — это и был Павел Дмитриевич Корин, ныне — народный художник СССР, академик, удостоенный Ленинской премии. Особенно хороши его портреты Горького, Алексея Толстого, Сарьяна, Коненкова, Нестерова, Гамалея, Кукрыниксов, наконец, Зелинского…
Поначалу замечаешь лишь, что перед тобой — очень старый, может быть, даже дряхлый человек, задумчивые, усталые глаза… Но вглядитесь внимательнее. Взгляд старика цепок и остр, мысль его ясна. Ученый, химик, он размышляет не о химии белка, которому отдано немало сил, скорее — о человеческих, нравственных основах жизни. Книги, лежащие за его спиной на бюро, — не декорация, не бутафория. В них — несметные богатства большого ученого и большого человека, его опыт, знания, открытия, заветы молодым, мысли о будущем — все то, что делает человека бессмертным.
Нет, в портрете Зелинского, написанном Кориным, — не образ старости, как кажется на первый взгляд, а образ мудреца, будто повторяющего про себя прекрасные слова Герберта Уэллса: «Научная истина — самая далекая из возлюбленных, она скрывается в самых неожиданных местах, к ней пробираешься запутанными и трудными путями, но она всегда существует! Завоюй ее, и она уже не изменит тебе, отныне и навсегда она принадлежит тебе и человечеству… Служа ей, ты создаешь и творишь, и творения твои вечны, как ничто другое в человеческой жизни…»
Перед нами — не закат жизни, а ее накал.
Жизнь продолжается.
П. Корин. Портрет Н. Д. Зелинского
Этот апрельский день 1912 года будто навсегда повис над берегами холодной Лены неподвижным облаком горестных воспоминаний.
Рабочие ленских золотых приисков организовали забастовку, требуя нормальных условий жизни и труда, добиваясь освобождения арестованных товарищей.
Жандармы ответили огнем — и сотни убитых остались на снегу.
… Люди стоят над гробами. Над простыми, грубо сколоченными некрашеными гробами, на крышках которых — кутья, да свечи, да последние апрельские снежинки.
Молодая женщина села прямо в снег. Другая упала на гроб. Иные окаменели. Горюют женщины этой суровой земли.
А один из рабочих — высокий бородатый человек в темно-красной косоворотке — смотрит поверх гробов, поверх холодной заснеженной земли. Кулаки его сжаты. Он видит что-то такое, чего не видит Здесь почти никто. Он верит, что над снежными могилами товарищей настанет день…
В 1957 году незабываемые ленские события ожили на полотне ленинградского художника Юрия Тулина, родившегося после революции, для которого ленский расстрел — не пережитое горе, а исторический факт.
Молодой живописец давно мечтал написать картину, где бы ленская трагедия встала во весь свой рост. Он перечитывал «Угрюм-реку» В. Шишкова, познакомился с документами, уехал на Лену.
Поезд до Иркутска. Самолет до Бодайбо. Узкоколейка до легендарных приисков. Наконец, перед художником открылся и прииск Апрельский, где разыгралась трагедия.
Ю. Тулин. «Лена. 1912»
Подготовка к большой картине — это не только эскизы, наброски, этюды. Тулин написал здесь, на Лене, несколько пейзажей, виды золотых приисков. Он писал стариков — участников забастовки и очевидцев расстрела: Аркадия Николаевича Острянина и Ивана Васильевича Овсова. Жизнь на Лене питала художника живой атмосферой незабытого прошлого.
Около полутора лет работал Тулин над картиной о ленском расстреле. Впрочем, картина получалась совсем о другом — о гневе народа, о его твердости. В печали, охватившей людей на картине, нет безнадежности — есть ожесточение, дающее новые силы. Особенно ясно говорит об этом фигура женщины в черном, матери одного из убитых — она стоит справа от толпы, напротив священника.
Ожесточенность матери, ее высоко поднятая голова, жесткий взгляд и крепко сжатые руки поражают внутренней силой, победившей само материнское горе. Эта женщина живо напоминает героиню прославленной горьковской повести «Мать». Героиня картины Тулина могла бы произнести скорбную и гневную речь Ниловны:
«— За что судили сына моего и всех, кто с ним, — вы знаете? Я вам окажу… за то судили, что они несут вам всем правду! Бедность, голод в болезни — вот что дает людям их работа. Все против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи… Ночь — наша жизнь темная ночь!»
Женщина на картине молчит. Но мы знаем, о чем она думает. В мастерской художника Юрия Тулина заговорила память. Она поставила нас перед умолкнувшей толпой, где молчание каждого — крик.
В одной из журнальных статей о художнике Тулине приводится интересный случай, связанный с успехом картины «Лена. 1912» на Всемирной Брюссельской выставке.
«Гид советского павильона Брюссельской выставки рассказывал, как однажды к нему подошла пожилая француженка и попросила показать ей картину, посвященную „маки“ — так называют во Франции участников движения Сопротивления.
— Маки?
Француженка сбивчиво описала „Лену“, выставленную в павильоне. Гид подошел с ней к полотну Тулина. Женщина внимательно выслушала его объяснения до конца, потом глаза ее блеснули, и с большой убежденностью француженка сказала:
— А все же это движение Сопротивления!»
На Брюссельской выставке картина получила высшую награду — Гран-при. А вскоре Юрию Тулину было присвоено почетное звание заслуженного художника республики.
* * *
Кончился рабочий день. 5 часов пополудни. В тихом, уединенном месте на берегу моря — двое. Немолодой мужчина и женщина. Мужчина сидит на камнях и, плотно сжав губы, смотрит вдаль, женщина полулежит, опершись на его плечо. Лица ее почти не видно. Но и она погружена в задумчивость, и она молчит вместе с ним. Впрочем, разве это молчание? Скорее — большой немой разговор. Они и без слов понимают друг друга.
… Картина заслуженного художника республики Гелия Михайловича Коржева «Влюбленные» появилась в музее сравнительно недавно. Художник выступил в ней полемистом. Он отклонил наше обычное представление о влюбленных: молодые люди, счастливые, нарядные… На картине Коржева все противоречит такой «традиции». Мужчина уже сед. Он небрит, и надета на нем полинялая гимнастерка, немало повидавшая копоти и пыли. Грубые ботинки его знают дальние, утомительные дороги. Женщина тоже одета по-рабочему, в поблекшей от частых стирок юбке и грубых белых босоножках. Сильный загар — не курортный, а тот, что обветривает на лесах строек или в поле, — покрывает ее лицо и руки. У обоих — натруженные руки, способные к любой тяжелой работе. Эти Ромео и Джульетта — немолодые рабочие люди, которым хлеб достается нелегко. У них слишком много забот, чтобы без затруднений вырвать у жизни час такой встречи у моря…
Г, Коржев. Влюбленные
Что же, полемика с привычной нам формой? Желание художника отойти от внешнего стандарта, чтобы, к примеру, избежать слащавости? Но кто же эти люди и почему они молчат? Они одни, никто не мешает им, они вместе…
Нет, они, вероятно, не одни. Их взгляды устремлены вдаль, где мы не разглядели бы ничего, а им, может быть, виден кто-то третий, о ком они думают. Он, этот третий, остался далеко, в городе или поселке, откуда они приехали сюда на мотоцикле. Но разве можно убежать от мыслей?
Им что-то мешает. Может быть, герой картины отрывает часы от опостылевшей ему женщины, от безысходности быта? Может быть, этим влюбленным негде больше видеться, как только на холодных камнях пустынного пляжа в пять пополудни, когда отгудят заводские гудки? Или большое и чистое чувство кем-то опошлено, оскорблено грубым вмешательством и теперь им надо побыть вдвоем?
Люди останавливаются перед картиной «Влюбленные». Возможно, они вспоминают другие полотна Коржева — «В дни войны» или «Уличный художник». Или гадают, что привело на свидание этих влюбленных: какая забота, какая неразрешимая жизненная трудность? Во всяком случае, люди думают. Им кажется, что перед ними, на полотне художника, — два хороших человека, заслуживших свою любовь. Пусть же она не умрет на этих холодных камнях…
* * *
М. Сарьян, Ереван
Дом Мартироса Сергеевича Сарьяна в Ереване скрыт густой зеленью сада. Зато легко нашло сюда дорогу солнце. Оно вливается в сад ранним утром, когда художник выходит на высокое каменное крыльцо. Солнце проливает лучи к ступеням его мастерской, чтобы старый мастер мог вымыть свои кисти и развести краски. А когда Сарьян уезжает в горы — восемьдесят четыре года не могут остановить человека, влюбленного в свою страну, — солнце поднимается за ним и скользит по зеленым полянам и синим ущельям.
Сарьян — народный художник СССР, действительный член двух академий, лауреат Ленинской и Государственной премий, лауреат Всемирной выставки в Париже — снова и снова отправляется в горы, надолго бросая мастерскую. И когда Сарьян прикасается кистью к холсту, кажется, будто горное солнце ложится на его пейзажи. Это оно дает художнику контрастность света и тени, какая бывает в природе его родной Армении. Золотистые, оранжевые, солнечно-апельсиновые тона составляют гамму света на его полотнах. А тени ложатся глубокие, резко очерченные, синие, фиолетовые, прохладные теми южных гор, найденные Сарьяном на склонах Арагаца, на берегах Севана, у развалин Звартноца. Так рождаются его пейзажи — как розовые снега вершин, как ледяные ручьи, бегущие к виноградникам. Пейзажи, картины, даже портреты Сарьяна напоены воздухом Армении, оттенены ее сине-белыми горами, раскалены жаром благодатной земли. Краски художника молоды и не стареют: они замешаны на солнце.
Д. Моор. Плакат. 1920
Бывает, войдешь в залы Русского музея серым, промозглым ленинградским днем. Сумрак окутывает полотна. У переходов из зала в зал висят на стенках приборы, чтобы контролировать температуру воздуха, чтобы северный холод и сырость не проникли в обиталище картин. Но подойдите к уголку Мартироса Сарьяна — и Армения охватит вас ароматом пряных трав, светом цветущей земли, жаром камней. Армения этих пейзажей согреет вас высокой, солнечной красотой мира, потому что воспета она народным художником Сарьяном.
* * *
Ранняя ленинградская весна. Караван верблюдов в Самарканде. Электричка мчится сквозь подмосковные леса. Девушка задумалась с травинкой в зубах. Ужас вражеского налета. Раненый ребенок. Новая жизнь древнего города…
Неисчерпаемое многообразие жизни ложится на бумагу. Оно раздроблено на впечатления, факты, события, лица. На бумагу ложатся тысячи остановленных и неповторимых мгновений. Под карандашом или штихелем вечным становится полет, безостановочным делается бег, запечатлевается ужас, находит бессмертие улыбка.
А все это вместе называется графикой, разместившейся в десяти специальных залах Отдела советского искусства Русского музея. Графика — это рисунок, гравюра, литография. В экспозиции отдела она представлена сумрачным Петроградом М. В. Добужинского и поэзией ленинградских пейзажей А. П. Остроумовой-Лебедевой. Плакаты гражданской войны сменяются плакатами Великой Отечественной. Вы увидите здесь станковые линогравюры А. Ушина, блокадную серию А. Пахомова, иллюстрации Д, Дубинского, В. Фаворского, В. Конашевича.
Б. Пророков. Рисунок из серии «Это не должно повториться»
Говоря об Отделе графики, невозможно обойти четыре представленные в музее работы народного художника РСФСР Бориса Пророкова.
Протестующая страстность художника потрясает каждого. Здесь — работы из графической серии «Это не должно повториться», выполненные акварелью и тушью. Эта антивоенная серия Пророкова удостоена недавно Ленинской премии. К листам художника возвращаешься снова и снова, испытывая сложное и высокое чувство ненависти к врагам человечества — и радости за красоту таланта, горя перед лицом смерти — и признательности за утверждение художником жизни.
На бумаге, на холсте, в книге, на экране можно рассказать о трагических событиях так, что у вас родится тягостное ощущение безысходности и тоски. Но в том-то и состоит подлинное искусство, чтобы, поднимая самую горестную тему, вселить в человека ощущение не только печали, но и радости, потому что искусство всегда прекрасно. Народный эпос, страницы Льва Толстого, трагедия Шекспира, музыка Чайковского рождают не только светлую грусть, вызванную трагической судьбой героя, но и радость от соприкосновения с прекрасным.
Ужас войны не подавляет в работах Бориса Пророкова. Перед искаженными или окаменевшими лицами его героев испытываешь чувство очищения. Серию Пророкова можно было бы, следом за пьесой Всеволода Вишневского, назвать «Оптимистической трагедией».
* * *
Советское искусство в залах Русского музея живет в движении, в переменах. Музей — не кунсткамера. Он обязан расти и совершенствоваться. Он должен всегда оставаться своеобразной и полной энциклопедией не только старого, но и современного искусства. Тогда зрители, приходя в музей, получат исчерпывающее представление о том, какими памятниками прошлого мы гордимся, какие победы одерживает сегодня искусство современности.
Главный вестибюль. Второй этаж
Тем, кто придет
Русский музей сравнительно молод — ему шесть с половиной десятков лет. Он — ровесник двадцатого века. И многие великие русские художники ушли задолго до того, как мартовским днем 1898 года старый Михайловский дворец стал сокровищницей национального искусства.
Зрелость музея будет долгой. Потому что он существует не только для нас, современников. Он предназначен и для тех, кто придет, новым поколениям, новым людям. Сокровища русского искусства адресуются и к ним.
Нелегко было собрать трехсоттысячную коллекцию музея.
В начале века коллекции не столько пополнялись, сколько разбирались, сортировались, систематизировались. Новые приобретения происходили случайно. Произведения русского искусства стали в предреволюционные годы предметом азартного коллекционирования частными лицами, а переход картин и скульптур из рук в руки сопровождался нередко аферами и жульничеством. По разным причинам прекращали свое существование частные картинные галереи. Произведения искусства делили порой судьбы людей — старели, погибали, перебирались на новые места. В такой атмосфере драгоценные произведения редко попадали в Русский музей.
Однажды его сотрудники отправились в Муром — старинный русский город Владимирской губернии. Побывали они в Благовещенском монастыре, где в куче мусора обнаружили древние серебряные вещи, имевшие художественную ценность. Архимандрит легко уступил найденные предметы. Однако на вокзале к сотрудникам музея подошел полицейский полковник и предложил следовать за ним. Оказалось, что задержание ни в чем не повинных людей произошло по требованию графини Уваровой, председательницы московского археологического общества: графиня разгневалась, что у нее из-под носа увозят старинное серебро…
В Петрограде многие знали большую коллекцию Рейтерна, состоявшую из рисунков и гравюр русских Мастеров. Среди них находились работы Тараса Григорьевича Шевченко, издавна считавшиеся большой редкостью. Вокруг коллекции Рейтерна крутились дельцы всех мастей. А московские антиквары надумали купить ее в складчину, чтобы потом, разрознив, нагреть на ней руки.
Все это происходило летом и осенью 1917 года.
Алимой 1917/18 года представители музея пришли в Зимний дворец к первому советскому наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому и рассказали ему о Рейтерне. Старый коллекционер жил одиноко в своей нетоплен ной квартире, какие-то неизвестные люди врывались к нему по ночам, требуя выдачи сокровищ, собрание графики было под угрозой.
Луначарский распорядился приобрести все собранные материалы для Русского музея, а самому Рейтерну предложить должность ученого хранителя коллекции.
Так состоялось первое крупное музейное приобретение советского времени. Были спасены драгоценные рисунки и гравюры Тараса Шевченко.
Началась вторая молодость музея. Он искал пути для встречи искусства со зрителем. Иной раз выбранный путь оказывался неудачным; одну из первых послереволюционных экспозиций насмешливо прозвали «бумажной»: среди картин красовались огромные плакаты и диаграммы… Исправить ошибки музею помогли тогда Надежда Константиновна Крупская и Анатолий Васильевич Луначарский.
Коллекции стали пополняться основательно. Начала работать Государственная комиссия, покупавшая произведения искусства для музейных собраний. Порой, однако, картины и статуи попадали сюда удивительным образом. Однажды позвонили с вагоностроительного завода имени Егорова: приезжайте, у нас обнаружился какой-то бронзовый бюст. Может, ценная вещь?! Сотрудник музея увидел на заводском дворе замечательный бюст Суворова работы скульптора Демут-Малиновского. Бюст отлит в первой половине прошлого века. Теперь он входит в экспозицию музея. В другой раз на водопроводной станции нашлась бронзовая статуя работы Антокольского!
Драгоценные полотна, не раз вызывавшие горячие схватки петроградских и московских коллекционеров, обосновались в государственном музее. Значительно расширилось собрание произведений восемнадцатого века. А после 1927 года, когда состоялась посвященная десятилетию Октября выставка АХРРа (Ассоциации художников революционной России), началось коллекционирование произведений советских мастеров.
Всю эту огромную работу приостановила война.
Музы оказались под огнем пушек.
Мы помним и никогда не забудем историю спасения советскими войсками сокровищ Дрезденской картинной галереи. Вряд ли будет преувеличением назвать это подвигом. И все-таки поиски, спасение, реставрация картин Дрезденской галереи происходили уже в мирное время, после окончания войны, и совершались людьми, окрыленными недавней победой, имевшими в своем распоряжении большие, многообразные средства и возможности. Спасение сокровищ Русского музея совершалось горсткой людей, падавших от изнеможения и голода, девятьсот дней смотревших в лицо смерти. Эти люди могли защитить Федотова и Репина, Шубина и Венецианова лишь мужеством и волей. Самоотверженность советского человека оказалась сильнее фашистских снарядов и бомб.
В мирные залы музея вошла тревога. Прославленные холсты вынимались из рам и накатывались на специальные деревянные валы, напоминающие огромные катушки. Картины небольшого формата укладывались в ящики; графика — рисунки, акварели — в папки. Готовились к новому дальнему переходу богатыри-суворовцы, герои картины Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Гневно смотрели репинские бурлаки. Будто вздрогнули русские воины на полотнах Сурикова и Верещагина. Новобранцы на картине Савицкого, казалось, снова шли воевать за Россию…
Эвакоэшелон отправился из Ленинграда в Горький. Здесь драгоценные ящики перегрузили с железнодорожных платформ на баржу, и сокровища искусства поплыли по Волге и Каме — в Пермь.
Только один эшелон с картинами сумел вырваться из блокированного Ленинграда. Вторая партия экспонатов, пролежав некоторое время на товарной станции, вернулась назад. Большая часть сокровищ осталась на своих местах и встретила войну «лицом к лицу».
В июле к музею сошлись художники, не ушедшие еще воевать, рабочие, солдаты ближайших воинских частей. Они рыли в сквере яму, обкладывали ее досками. В ней предстояло покоиться Анне Иоанновне — бронзовой статуе Карло Растрелли. Это замечательное произведение русской скульптуры было закончено в 1741 году — ровно за двести лет до начала войны. Печально ознаменовался двухсотлетний юбилей статуи.
Растрелли передал в облике Анны Иоанновны идею тупого самовластья и напыщенного величия. Полное, одутловатое лицо царицы лоснится, оно выражает ограниченность и жестокость. Бронза сковала и, одновременно, раскрыла для потомков черты той, что построила Ледяной дом и сослала на каторгу — за десять лет царствования — более двадцати тысяч человек, считая лишь знатных дворян.
К. Растрелли. Анна Иоанновна с арапчонком
Российская Академия наук, получив известие об окончании работы над статуей, долго не могла отыскать для нее подходящего помещения. Да и водрузить скульптуру на место представлялось крайне сложным делом. Академия сообщила кабинету двора, что «во оном литом медном портрете весу более ста пудов будет, и для того надлежит учинить наряд, дабы оный портрет на больших роспусках шестью или восьмью лошадьми в Академию наук привезть, и для внесения оного в залу прислать до тридцати человек солдат…»
Теперь, по прошествии двух веков, снова пришлось «учинить наряд», чтобы перенести статую в сквер и закопать ее в землю.
Потом настал черед Александра III.
Этот грузный царственный всадник явился петербуржцам в 1909 году. Скульптор Павел Трубецкой изобразил «царя-миротворца» во всей его тягостной, грубой силе, восседающим на першероне.
Памятник может показаться карикатурным сегодняшнему зрителю. Между тем Трубецкой передал в нем непреувеличенное впечатление от времени и событий александровского царствования.
На открытии памятника перед Николаевским вокзалом (ныне площадь Восстания) присутствовал Репин. Когда сняли покрывало, Илья Ефимович крикнул:
П. Трубецкой. Александр III
— Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и все его царствование!
Репин демонстративно, вызывая неодобрительные толки, поздравлял Трубецкого.
В 1913 году появилось стихотворение Валерия Брюсова «Три кумира»:
… Третий, на коне тяжелоступном, В землю втиснувшем упор копыт, В полусне, волненью недоступном, Недвижимо, сжав узду, стоит…Красные знамена, заполнившие площадь в дни Октября, как-то сразу притушили величие мощного першерона и его всадника. Статуя превратилась в насмешливую примету навсегда отошедшего строя. Так воспринял ее Демьян Бедный, написавший для «Правды» стихи:
Мой сын и мой отец при жизни казнены. А я пожал удел посмертного бесславья: Торчу здесь пугалом чугунным для страны, Навеки сбросившей ярмо самодержавья.Позднее стихи эти были высечены на цоколе монумента. А в 1937 году статую сняли. Ее доставили на территорию Русского музея. Огромный всадник стал единственным экспонатом, не поместившимся в музейных залах.
Теперь, в сорок первом, люди старались оградить великана от превратностей войны. В Михайловском саду вырыли еще более глубокую яму.
Но опустить в нее всадника оказалось невозможным — он был слишком тяжел. Тогда выхлопотали две баржи с песком — они причалили к набережной канала Грибоедова у самой стены музея. Десятки людей таскали песок и засыпали статую. Песчаная гора росла, как египетская пирамида. Наконец, голова статуи покрылась песком. С боков «курган» укрепили досками, а сверху сделали накат из бревен. Поверх наката насыпали земли и засеяли ее овсом. Так завершился этот камуфляж.
* * *
А в музейных залах по-прежнему лежал в своем кресле умирающий Сократ, склонялся над своей бесконечной летописью Нестор, все так же задумчиво сидел, уронив книгу, Иван Грозный — мраморные и бронзовые герои скульптора Марка Антокольского.
Картины устанавливали в ящиках поближе к капитальным стенам, под каменными сводами. Напрягая последние силы, люди стаскивали в подвалы ящики с фарфором и мелкой скульптурой, с листами рисунков и гравюр. Путь с верхнего этажа в нижний продолжался порой два-три дня.
Заботы, каких хватило бы на огромный коллектив сотрудников, легли на плечи двадцати человек. Если б дело шло о набегах древних варваров, окна музея превратили бы в бойницы, за тяжелыми дверьми строили бы баррикады. Но как защитить сокровища искусства от современных варваров, от их фугасных и зажигательных бомб, от дальнобойной артиллерии, наконец, от воздушной волны после близкого взрыва, когда вылетают стекла и губительная сырость врывается в залы, угрожая краскам великих мастеров?
Камни Ленинграда со стоном приняли первые бомбы. Музейные работники познакомились с «зажигалками», изготовленными на родине Гёте и Дюрера. В стране, где родилась великая поэзия, бессмертная музыка, замечательные полотна и вдохновенная архитектура, теперь производилась смерть. В самый канун 7 ноября на территорию музея упала полутонная бомба, — по счастью, она не разорвалась. Но стекла дворца вылетели с печальным звоном, усыпав осколками нарядные паркеты.
Раны музея оказались сравнительно небольшими. Но в этом здании и маленькая пробоина могла привести к печальным последствиям, маленький осколок мог стать причиной великой потери. Потолки в некоторых залах были пробиты. Помещения, охраняемые обычно от каждого лишнего процента влаги, увидели снег. Хранители музея, голодные, теряющие последние силы люди, совершали каждодневный обход по залам музея привычным, но теперь ставшим длинным и трудным километровым маршрутом.
И. Антокольский. Иван Грозный
Блокадными веснами наступало оживление. На балконе просушивали произведения графики. Проверяли сохранность холстов. Летом 1943 года произошло то, что следует назвать подвигом или чудом: сотрудники музея решили отметить 99-ю годовщину со дня рождения Репина открытием выставки его произведений, собранных из различных коллекций. В тот день немцы особенно яростно обстреливали город. Сильный удар потряс стены музея. Когда дым рассеялся, люди увидели отверстие в стене здания.
Открытие выставки все-таки состоялось. Жизнь торжествовала в осажденном городе.
После прорыва блокады у немецких артиллеристов нашли план города, где творения великих зодчих нумеровались как мишени. Свой порядковый номер имел и Русский музей. Враги обстреливали тот или иной квадрат. Уничтожали то или иное Здание. Они лишили ленинградцев хлеба и воды, сна и покоя. Фашисты воспринимали Ленинград как сумму квадратов и районов, как сочетание пронумерованных объектов, доступных плановому уничтожению.
Но они ошиблись. Перед ними в дыму и горе лежал израненный, полуразрушенный город, который не был лишь арифметической суммой объектов, привычным топографическим понятием. Город стоял цитаделью великой истории, которая не подвластна огню и металлу. Он высился фундаментом жизни, не разлетающейся на куски от взрыва фугаски. Он оставался обиталищем человеческого гения.
Музей в дни блокады Ленинграда. Рисунки В, II. Кучумова
Жизнь торжествовала в Ленинграде, давно объявленном врагами мертвым. Жил и Русский музей — вопреки всему, вопреки невозможности жить.
27 января 1944 года Ленинград полностью освободился от блокады. Дымились развалины пригородных дворцов. Черными обгорелыми клочьями оседали на снег куски парчовых тканей, сделанных когда-то на старинных русских мануфактурах. Валялись на земле изувеченные статуи. Но над Невой уже ударили разом триста двадцать четыре орудия, салютуя великому мужеству человека. И ослепительный после ночей затемнения свет фейерверка озарил изможденный, но выстоявший город, не пустивший врагов на свои прекрасные улицы. Победный фейерверк осветил и здание Михайловского дворца, залы музея, где горстка людей защитила великое достояние культуры.
Около трехсот бомб и снарядов упало за годы войны на территории музея. Они не поранили спрятанных сокровищ. Поднялась из земли Анна Иоанновна — бронза позеленела, покрывшись патиной. Разъезжались по залам валы с полотнами. Снова брали альпийский перевал богатыри-суворовцы. Опять грянул раскатистый хохот запорожцев, пишущих письмо турецкому султану. Осветились тревожные пейзажи Левитана…
В. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану
И все-таки время, условия хранения, сырость, холод — все это оставило свою тяжелую печать. Судьба многих картин была теперь в руках реставраторов. Им предстояло потрудиться для будущих поколений.
* * *
Сейчас начнется операция. Свет! Вспыхнул купол большого рефлектора. Хирург опустил на глаза бинокулярные очки. Он подошел к больной, лежащей на столе. В его руке сверкнул скальпель…
Осторожно! Еще не дан наркоз!
Наркоза не будет…
Жизнь человека измеряется десятками лет. Биография произведения искусства — веками и тысячелетиями. Но картины тем более требуют сохранительных мер: холст и краски — отнюдь не такие совершенные материалы, как ткани человеческого организма, хоть и существуют они куда дольше. В мире произведений искусства тоже существуют болезни, старость, законы старения, нежелательные и вредные «агенты», отрицательно влияющие на «здоровье», наконец, несчастные случаи и трагические происшествия. Эти последние слова приходится ставить без кавычек: происшествия бывают самые настоящие.
Один из бывших руководителей Русского музея, переживший в Ленинграде войну и блокаду и видевший, как страдали в те дни произведения искусства, вспоминал идеальные, но недоступные музейной практике условия консервации вещей, какие применены в известном американском «снаряде времени». Этот «снаряд» люди должны вскрыть в 6900 году — через пятьдесят веков, — чтобы узнать о состоянии и уровне жизни на земле в начале двадцатого века. Внутри «снаряда» находятся произведения материальной культуры, искусства, фотографии, запаянные в стекло и содержащиеся в полном мраке и покое. Так люди преградили доступ к вещам даже самому всепроникающему времени.
Картины, скульптура, рисунки, находящиеся в музее, не должны, разумеется, существовать в таких условиях. Произведения искусства рождаются для людей, для зрителей и подвержены разнообразным внешним воздействиям.
Большинство картин на свету постепенно темнеет — масляная основа и лаки перегорают, стареют. Поэтому темнеют и краски. Ночь на Днепре, воссозданная волшебной кистью Куинджи, выглядела полвека назад светлее, белые украинские хатки «ярче» освещались лунным сиянием.
Влажность воздуха и особенно непостоянство температурно-влажностного режима воздействуют на картину еще губительнее. Добиться стабильности этого режима в условиях музейного зала — невозможно. Нити, составляющие холст, от влаги набухают. При малой влажности, наоборот, — пересыхают. Все эти колебания основы губительно сказываются на состоянии красочного слоя: давно высохшие краски не могут расширяться или сужаться в том же «ритме», что нити холста. Тогда красочный слой крошится и осыпается.
Порой, правда крайне редко, случаются и катастрофические происшествия, настоящие ЧП. В январе 1913 года в Третьяковской галерее исступленный маньяк изрезал ножом знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». В конце декабря 1928 года одни из посетителей Русского музея, оказавшийся душевнобольным, разбил единственную гипсовую отливку «Демона» работы Врубеля. В первом случае несчастье произошло при жизни, во втором — после смерти автора произведения. Но и картину Репина и скульптуру Врубеля возрождали и выхаживали не «родители», а «врачи» — специалисты-реставраторы, люди, ведущие в музеях незаметную посетителям, трудную, ответственную работу. Достаточно сказать, что два уникальных шедевра — «Грозный» и «Демон» снова находятся на своих местах, и только опытный глаз специалиста способен разглядеть их старые залеченные раны.
Повседневный труд реставраторов слагается из рядовой кропотливой работы над возрождением памятников искусства. Пожалуй, нет в Русском музее такой картины, к которой не прикасалась бы рука «художественного врача».
Реставраторы всегда начеку, постоянно предпринимают нужные меры по сохранению и закреплению разрушающихся грунтов и красочных слоев картин, заменяют пришедшие в ветхость старые холсты новыми, не разрушая при этом красочного слоя(!), заменяют негодные подрамники, реставрируют произведения скульптуры, графики, прикладного искусства, образцы народного творчества.
Еще сложнее — художественное восстановление памятников. Снятие потемневших от времени лаков и олиф, искажающих колорит картины. Снятие наносных, инородных, антихудожественных слоев живописи, нанесенных неквалифицированными людьми поверх основного изображения и искажающих замысел картины. Восстановление утраченных частей живописи в тон оригинала.
Несколько лет назад в музей вернулась после путешествия на одну из выставок картина Репина «Воскрешение дочери Иаира». Картина эта писалась Репиным при выпуске из Академии художеств и свидетельствует о зрелом мастерстве художника.
Картина вернулась упакованной, как обычно, на валу. Однако когда картину развернули, работники музея ужаснулись: полотно покрылось полосами серо-зеленой плесени. Страшные полосы соответствовали расположению внутренних реек вала, которые оказались сырыми. Влага перешла на картину и произвела свое губительное действие. Теперь при любом неосторожном движении мог осыпаться красочный слой. А тогда восстановить его не улилось бы никакими силами. Так пришла беда, какая нечасто посещает музейное царство.
Спасение картины началось прямо в репинском зале. Реставраторы прибегли к фильтровальной бумаге, которую плотно прижимали к картине и меняли каждый час; затем — к пылесосу, снявшему подсохшую плесень; потом следовала обработка формалином…
Плесень сошла, но всю картину сверху донизу пересекали набухшие вертикальные полосы: краска и грунтовка здесь вздулись и грозили разрушением. Тогда реставраторы применили специальный состав, обладающий свойствами клея и большой эластичностью, — он помог укрепить красочным слой…
Немало процедур совершилось над картиной, пока дочь Иаира, пережившая второе воскрешение, не заняла свое место среди персонажей репинских полотен.
Работа реставратора очень похожа на сложную медицинскую операцию. В руке «хирурга» сверкает медицинский скальпель. Включается рентгеновский аппарат. Множество бутылок и банок с «лекарствами» стоит под рукой. Идет операция. Удаляются инородные или больные ткани. Накладываются швы. Применяются грелки-утюги. Наполняются водой ванны. Идет борьба за жизнь произведений искусства ради будущих поколений.
И. Репин. Воскрешение дочери Иаира
Тишина, строгая и напряженная, как в клинике.
Посторонним вход воспрещен.
* * *
Так спасают живопись.
А совсем недавно вернулась к жизни скульптурная группа выдающегося советского скульптора Александра Терентьевича Матвеева «Октябрь». Вы увидите ее в зале монументальной скульптуры.
Матвеев создал эту композицию в 1927 году, к десятилетию революции. С бронзой было трудно в те годы. И статуя, выполненная в гипсе, постепенно разрушалась. На этот раз требовался «капитальный ремонт». К счастью, в се реставрации смог принять участие автор. И теперь отлитые в бронзе красногвардеец, рабочий и крестьянин навсегда останутся нетленным памятником Октябрю, красоте и силе свободных людей.
Может быть, еще кропотливее — спасать от гибели рисунки, гравюры — графику.
А. Матвеев. Октябрь
Многие рисунки и гравюры попадают в музей в тяжелом состоянии, испачканными, изуродованными до неузнаваемости. Такими ложатся они на стол реставраторов. А выходят из «художественной операционной» чистыми и светлыми, какими были в день своего создания.
Однако сложные меры, предпринимаемые для продления жизни листа бумаги, не всегда спасают положение. Многие сорта бумаги переживают заметный процесс старения, еще не изученный до конца учеными и специалистами. Проходит время, и бумага теряет свою обычную эластичность, становится хрупкой, желтеет. Какие процессы старят ее? Этот вопрос волнует сотрудников музея. Без разгадки секретов «бумажной старости» нельзя решить многих вопросов хранения, консервации и экспонирования графини.
Так пришли ученые к поиску стекла, способного предохранить графику от губительного воздействия света, а тем самым и времени, надежно скрыть от них все виды бумаги и красок. Когда такое стекло будет создано, отпадет печальное правило, разрешающее экспонировать графику лишь около ста дней в году, да и то предпочтительнее осенью или зимой.
Новая комплексная научная проблема объединила работников Отдела хранения и Отдела реставрации музеи. Она вышла и за пределы музейных интересов и распространилась на области технологии бумаги и технология стекла. К работе с увлечением подключились химики, оптики, бумажники, микологи (специалисты по грибкам). Истории стекла и стеклоделия, насчитывающей более шести тысяч лет, предстоит обогатиться еще одной интересной главой. Стекло далеко не впервые, но по-новому станет служить искусству.
… Вы проходите по залам музея, любуясь произведениями великих мастеров, и порой не думаете о том, кем и как были спасены эти шедевры.
Человек, перенесший тяжелую операцию, может с благодарностью сказать: «Меня спас хирург такой-то». Картина, рисунок, скульптура молчат о тех, кто вернул их к жизни. Как было бы хорошо, если бы под именем создателя картины стали, пусть совсем мелким шрифтом, писать: «Картина спасена от разрушения художником-реставратором…» Далее — имя, отчество, фамилия.
Это будет справедливо.
* * *
Однажды в Русский музеи пришло письмо из небольшого болгарского города Елхово: «Уважаемая дирекция! Пишут вам болгарские комсомольцы из среднего политехнического училища „Климент Охридский“… Чтобы лучше узнать русское искусство, мы хотим организовать в нашем училище картинную галерею, составленную из репродукций полотен русских художников…»
Письма с адресом: «Русский музей, площадь Искусств, Ленинград, СССР» — приходят часто. Сотрудники Музея Николая Рериха в Нью-Йорке задают вопросы о наследии чтимого ими русского художника. Инженер из Италии Георгий Веккио мечтает иметь репродукции пейзажей Р. Судковского и И. Грабаря. Студент Колумбийского университета по отделу истории искусства Артур Р. Спрейч занимается творчеством русского художника Н. Ге и просит прислать фотографию картины «Тайная вечеря». Житель Лондона В. Рихтер шлет в дар музею собрание медалей и жетонов, посвященных событиям русской истории. Студенты южноафриканского университета благодарят за посланные им тридцать семь диафильмов с заснятыми на пленку полотнами музея. Голландский журналист просит прислать иллюстративный материал для телевизионной передачи о Мусоргском… Датский искусствовед интересуется своим соотечественником, художником XVIII века Эриксеном, долгое время жившим и работавшим в России. Национальный музей западного искусства в Токио предлагает обмен литературой. Запрашивает документальные данные Лейпцигское художественное издательство…
«Границы» музея расширяются. Они пролегают сегодня едва ли не по всем материкам земли. Это — открытые границы дружбы, творческого обмена, культурного сотрудничества. Узнать и полюбить шедевры Русского музея смогут не только жители болгарского города, но и молодежь Африки, любители искусства в Европе, ученые Америки, ценители нашей культуры на Востоке. Сколько же людей всех возрастов и всех профессий, знакомясь с репродукциями, тянутся сердцем к нашей стране!
Искусство пересекает границы и входит в миллионы домов полномочным представителем человеческой дружбы.
* * *
Русский музей!.. Вы испытываете в нем высокое чувство восторженного удивления перед красотой русской музы. И если ваше сердце открыто прекрасному, если в нем живут Наташа Ростова и Первый концерт Чайковского, кинотрилогия о Максиме и музыка Шостаковича, герои Паустовского и образы Улановой, — вы унесете с собой новые впечатления, рожденные в залах музея. Произведения больших художников разбудят ваше воображение, оживят воспоминания, укрепят надежды…

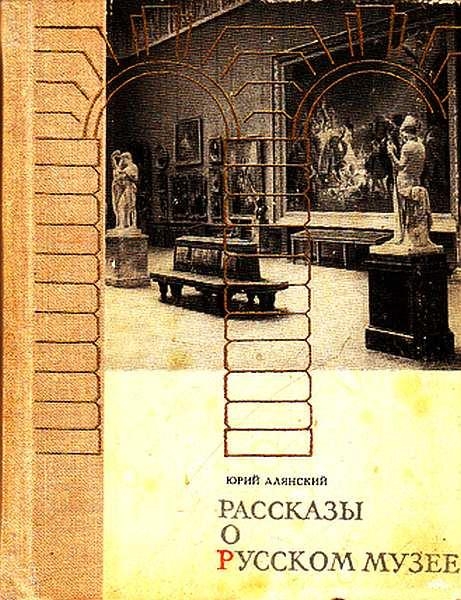









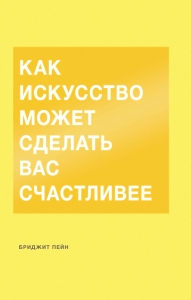

Комментарии к книге «Рассказы о русском музее», Юрий Лазаревич Алянский
Всего 0 комментариев