Уилл Гомперц Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси
Моей жене Кейт и детям – Артуру, Неду, Мэри и Джорджу
Will Gompertz
WHAT ARE YOU LOOKING AT?
150 Years of Modern Art in the Blink of an Eye
Copyright © Will Gompertz, 2012
First published in Great Britain in the English language by Penguin Books Ltd. This edition published by arrangement with Penguin Books Ltd. and Andrew Numberg Literary Agency
Перевод с английского Ирины Литвиновой
Предисловие
Существует множество изумительных работ по истории искусства, начиная от классической «Истории искусства» Эрнста Гомбриха до задиристого и познавательного «Шока новизны» Роберта Хьюза (Хьюз охватил только современное искусство, тогда как Гомбрих замахнулся на все сразу, хотя где-то к 1970 году выдохся). Я не собираюсь соревноваться с такими авторитетами – куда мне! – а хочу предложить нечто иное: собственную познавательную, веселую и легкую для восприятия книгу, охватывающую хронологическую историю современного искусства (от импрессионистов до наших дней), но изложенную с точки зрения сегодняшнего дня. Чтобы, скажем, объяснить, почему такое направление, как конструктивизм, возникшее еще в 1915 году, актуально по-прежнему, как совокупность художественных, политических, технологических и философских обстоятельств, породивших его, обусловила будущее искусства и нашего общества, – и в то же время посмотреть свежим взглядом на то, что этому направлению предшествовало.
Моим знаниям, с которыми я взялся за эту задачу, явно не хватает академизма, да и с практической стороной не ахти: четырехлетний ребенок рисует лучше меня. Вся надежда – на мои способности журналиста и радиоведущего. Как говорил великий покойный Дэвид Фостер Уоллес[1] о своих эссе, популяризация – это такая сфера обслуживания, где человеку, не лишенному интеллекта, дают время и пространство, чтобы он вникал в разные вещи в интересах других людей, у которых есть занятия поважнее. Кроме того, мое преимущество – это опыт, не зря я столько лет проработал в странном и завораживающем мире современного искусства.
За те семь лет, что я был директором галереи Тейт, мне удалось посетить как величайшие музеи мира, так и менее известные собрания, лежащие в стороне от проторенных туристических маршрутов. Я бывал у художников дома, внимательно изучал богатые частные собрания и наблюдал за многомиллионными аукционами современного искусства. Я окунулся в него с головой. Когда я начинал, то не знал ничего; теперь мне кое-что известно. Конечно, еще многому предстоит научиться, но надеюсь, та малость, что я успел впитать (и удержать в себе), хоть немного поможет вам оценить и понять современное искусство. А это, как я убедился, одно из самых больших удовольствий в жизни.
Вступление Непонятное искусство
В 1972 году лондонская галерея Тейт приобрела скульптуру «Эквивалент VIII» американского минималиста Карла Андре. Созданная в 1966 году, она состоит из 120 огнеупорных кирпичей, которые, если следовать инструкциям художника, могут быть сложены в восемь разных форм одинакового объема (отсюда и название «Эквивалент VIII»). Выставленная в галерее в середине 1970-х годов композиция являла собой параллелограмм глубиной в два кирпича.
Ничего особенного в этих кирпичах не было – любой мог приобрести точно такие же по несколько пенсов за штуку. Но галерея Тейт выложила за них более двух тысяч фунтов. Английская пресса как с цепи сорвалась. «Транжирят национальные финансы на груду кирпичей!» – вопили газеты. Даже высокоинтеллектуальный искусствоведческий журнал The Burlington Magazine задался вопросом: «Не сошла ли Тейт с ума?» Всем хотелось знать, с какой стати Тейт так безрассудно тратит государственные деньги на то, что «под силу любому каменщику».
«Деточка, не говори ˝деривативный˝ это нехорошее слово!»
Прошло еще три десятка лет, и Тейт снова потратила деньги британских налогоплательщиков на необычное произведение искусства. На этот раз она решила купить людскую очередь. Впрочем, не совсем так. Не самих людей – в наши дни это противозаконно, – а только очередь. Или, если еще точнее, листок бумаги, на котором изложил свою идею словацкий художник Роман Ондак. Его замысел состоял в том, чтобы нанять нескольких актеров и выстроить их в очередь перед запертой дверью. После расстановки, или, говоря языком галеристов и художников, «инсталляции», актеры должны были обратить свои взоры на дверь и замереть в позе смиренного ожидания. Предполагалось, что это заинтригует прохожих, которые либо присоединятся к очереди (как правило, случается именно так), либо пройдут мимо, недоуменно морща лоб и пытаясь понять, какой художественный смысл ими упущен.
Идея забавна, но искусство ли это? Если каменщику под силу создать аналог «Эквивалента VIII» Карла Андре, то и фальшивую очередь Ондака вполне можно было бы счесть эксцентрической выходкой в духе дурацких розыгрышей. По идее прессе надлежало в этом случае впасть в полнейшую истерику
Но дело ограничилось недовольным ворчанием: ни тебе критики, ни негодования, ни даже двусмысленных заголовков от наиболее остроумных участников таблоидного сообщества – ровным счетом ничего! Единственным откликом на состоявшуюся сделку стала пара одобрительных строчек в одном респектабельном журнале, в рубрике событий в мире искусства. Так что же произошло за эти тридцать лет? Что поменялось? Почему передовое современное искусство, казавшееся поначалу дурацкой шуткой, стало восприниматься не то что с уважением – с пиететом?
Не последнюю роль тут сыграли деньги. За минувшие десятилетия огромное количество презренного металла было вложено в мир искусства. Государственные средства щедрыми потоками тратились на «облагораживание» старых музеев и создание новых. Крушение коммунизма и отказ от вмешательства государства в рыночную экономику (и как результат – глобализация) привели к увеличению популяции мультимиллионеров, для которых приобретение предметов современного искусства стало очень выгодной инвестицией. Покуда падали фондовые биржи и лопались банки, стоимость знаковых произведений современного искусства продолжала расти, как и число участников этого рынка. Еще несколько лет назад международный аукционный дом Sotheby's рассчитывал на покупателей из трех стран. Сейчас таких стран уже более двух десятков, и никого не удивишь присутствием новых богатых коллекционеров из Китая, Индии и Южной Америки. Основные рыночные экономики включились в игру «спрос-предложение», причем первое значительно превышает второе. Стоимость работ умерших художников (которые в силу этого уже не создадут новых произведений) – Пикассо, Уорхола, Поллока, Джакометти и других – продолжает стремительно расти.
«Просто нам удобнее работать с мертвыми художниками!»
Она растет благодаря новым богатым банкирам и теневым олигархам, а также честолюбивым провинциальным городкам и ориентированным на туризм странам, которые хотят «создать собственный Бильбао»[2], – иными словами, изменить свой имидж и повысить привлекательность за счет впечатляющей художественной галереи. Все уже давно поняли: мало купить гигантский особняк или архитектурный памятник. Наполненный скандальными произведениями искусства, он станет куда интереснее для посетителей. А таких произведений не так-то много.
Если не удается заполучить «классиков» современного искусства, выручают «современники». Это работы ныне здравствующих художников, продолжающих традицию современного искусства (началом которого условимся считать творчество импрессионистов семидесятых годов XIX века). Но и в этом сегменте цены взлетели: стоимость работ именитых художников, таких как американский мастер поп-арта Джефф Кунс, сегодня запредельна.
Кунс знаменит своим огромным, украшенным цветами «Щенком» (1992), а также многочисленными карикатурными скульптурами из алюминия, имитирующими фигурки, сделанные из воздушных шариков. В середине 1990-х годов работу Кунса можно было приобрести за несколько тысяч долларов. К 2010 году его композиции, яркие, как леденцы, продавались уже за миллионы. Его имя стало брендом, а работы узнаются мгновенно, как логотип Nike. На волне сегодняшнего коллекционерского бума он стал баснословно богат – наряду с многими другими сегодняшними художниками.
Некогда нищие, художники теперь – мультимиллионеры со всеми атрибутами, положенными гламурным звездам: друзья-мизнаменитостями, личными самолетами и вниманием падкой на сенсации прессы, следящей за каждым их шагом. Невероятно разросшийся в конце XX века сегмент глянцевых журналов с восторгом помогает новому поколению творцов в создании публичного имиджа – в обмен на право публиковать фотографии с их закрытых вечеринок. Фотографии художников на фоне собственных произведений в ослепительных дизайнерских интерьерах, где собираются богатые и знаменитые, сродни возможности заглянуть в замочную скважину, и читатели глянца с жадностью заглатывают такую информацию (даже галерея Тейт наняла издателя Vogue для выпуска собственного журнала под названием Tate Members).
Такого рода журналы вместе с цветными газетными приложениями создали модную космополитичную аудиторию для модного космополитического искусства – свежего зрителя, равнодушного к «тусклой» живописи прошлого, перед которой благоговело предыдущее поколение. Многочисленные сегодняшние завсегдатаи галерей хотят сегодняшнего искусства – свежего, динамичного и яркого. Искусства «здесь и сейчас». Современного и востребованного, как и они сами, искусства сродни рок-н-роллу: шумного, бунтарского, развлекательного и крутого.
Новые зрители сталкиваются с той же проблемой, что и все мы перед лицом искусства, – с проблемой осмысления. Не важно, кто вы – опытный арт-дилер, ведущий академик или музейный куратор – любой может растеряться при взгляде на холсты или скульптуры, только что доставленные из мастерской создателя. Даже Николас Серота, уважаемый во всем мире директор британской императорской галереи Тейт, время от времени приходит в замешательство. Как-то он признался мне, что немного пугается, заходя в студию художника и видя его новую работу. «Даже не знаю, что и думать, – сказал он. – Иной раз страшно делается». Если уж мировой авторитет в области нового современного искусства теряется, то разве можно об этом искусстве судить всем остальным?
Думаю, все-таки можно. Ведь проблема не в том, является данное произведение шедевром или нет, – ее за нас решит время. Важнее понять, как и почему данное произведение вписывается в историю искусства. В этом и заключается парадокс нашего флирта с современным искусством: с одной стороны, миллионы людей посещают Центр Помпиду, нью-йоркский Музей современного искусства и галерею Тейт в Лондоне, но, с другой стороны, самый частый комментарий в разговорах о современном искусстве звучит так: «Ой, я же совсем в этом не разбираюсь».
Это радостное признание собственного невежества отнюдь не подразумевает нехватку культуры или интеллекта. Я слышал, как то же самое говорят знаменитые писатели, успешные кинорежиссеры, политики высокого ранга и университетские преподаватели. Разумеется, все они, за редкими исключениями, ошибаются. В искусстве они очень даже разбираются. Они знают, что Микеланджело – автор фресок в Сикстинской капелле, а Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу». И уж наверняка почти все знают, что Огюст Роден был скульптором и в большинстве своем смогут назвать одну-две его работы. На самом деле они имеют в виду что не разбираются в современном искусстве. Хотя и это не совсем так. Ведь они знают, например, что Энди Уорхол нарисовал 32 банки супа «Кэмпбелл», просто не воспринимают эти картины. Они не могут понять, почему то, что может сделать и ребенок, безоговорочно признается шедевром. И в глубине души подозревают, что это откровенное надувательство, – просто теперь, когда мода изменилась, говорить такое не принято.
Мне это не кажется надувательством. Новое искусство (понятие, охватывающее период с 60-х годов XIX века по 70-е XX) и современное искусство (этот термин применяется в основном к дню сегодняшнему и лишь изредка для произведений, созданных после Первой мировой войны) – это не долгоиграющий розыгрыш, исполняемый перед доверчивой публикой несколькими хорошо осведомленными специалистами. Множество созданных ныне произведений не выдержат испытания временем, однако среди них есть и такие работы, которые, оставшись незамеченными сегодня, завтра будут признаны шедеврами. Такие по-настоящему уникальные произведения искусства, созданные сегодня и в прошлом веке, в самом деле являются величайшими достижениями человечества. Только глупец может ставить под сомнение гений Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Барбары Хепуорт, Винсента Ван Гога и Фриды Кало. Не надо быть искушенным меломаном, чтобы знать, что Бах умел сочинить мелодию, а Синатра – ее спеть.
Я думаю, что, когда речь заходит о признании современного искусства, отправной точкой должно стать не суждение о том, хорошо оно или нет, а понимание его эволюции от классических работ Леонардо до сегодняшних заформалиненных акул и неубранных постелей. Как и в случае с большинством кажущихся на первый взгляд непостижимыми объектов, искусство чем-то напоминает игру – стоит освоить основные правила, и поначалу непонятное сразу приобретает некий смысл. И, если принять концептуализм за такое правило для современного искусства – которое никто не может ни понять, ни кратко объяснить за чашечкой кофе, – то все становится на удивление просто.
Все, что нужно для постижения основ, вы найдете в предлагаемой истории последних 150 лет, когда искусство меняло мир, а мир трансформировал искусство. Все художественные течения, все «измы» сложно переплетены друг с другом, они нерасторжимы, как звенья одной цепи. Но у каждого направления есть собственный канон, свой подход, свой творческий метод, возникший как соединение самых разных художественных, социальных, политических и технологических воздействий.
Вас ждет захватывающий рассказ, который, как я надеюсь, сделает ваше следующее путешествие в галерею Тейт, в Музей современного искусства или в местную художественную галерею чуть менее пугающим и гораздо более интересным.
А дело было как-то так…
Глава 1 Фонтан, 1917
Понедельник, 2 апреля 1917 года. В Вашингтоне американский президент Вудро Вильсон уговаривает Конгресс официально объявить войну Германии. А тем временем в Нью-Йорке три хорошо одетых моложавых господина покидают двухэтажные апартаменты в доме номер 33 по 67-й Западной улице и направляются в сторону центра. Они ведут беседу, улыбаются, иногда негромко смеются. Для худощавого элегантного француза в центре и его коренастых друзей с флангов такие прогулки всегда в радость. Месье – художник, он не прожил в этом городе и двух лет: достаточно для того, чтобы хорошо ориентироваться, но слишком мало, чтобы пресытиться его волшебными, чувственными чарами. Он до сих пор всякий раз волнуется, проходя через Центральный парк на юг к площади Колумба. Картина того, как деревья постепенно сменяются зданиями, кажется ему одним из чудес света. На его взгляд, и сам Нью-Йорк – великое произведение искусства; это некий парк скульптур, полный великолепных современных форм, куда более живых и актуальных, чем здания Венеции – другого великого архитектурного творения человечества.
Троица неспешно шествует по Бродвею. Это одинокий гудроновый бродяга, что затесался среди богатых и нарядных улиц, но оба коренастых – признанные американские эстеты – понятия не имеют о его сумасбродном нраве. И только французу с его гиперчувствительностью ясно: такая уж у Бродвея судьба, и никакими перестройками, переделками и инициативами мэра не изменить того, чем уже отмечено будущее этой улицы – прирожденной вульгарности, над которой бессильно даже время. Тем не менее француз находит в ней определенный шарм. Точнее, некое обаяние естественности.
Покуда трое приближаются к центру города, солнце опускается все ниже, и уже скоро его лучи не могут пробиться через преграды из стекла и бетона; тени исчезают, и от их погибших душ становится зябко. Коренастые переговариваются через голову француза – его волосы откинуты назад, обнажая высокий лоб и залысины. Эти двое болтают, а он тем временем думает. Они идут дальше, а он останавливается. Заглядывает в витрину магазина хозяйственных товаров. Прикладывает к стеклу сложенные чашечкой ладони, защищаясь от солнечных бликов, так что видны длинные жилистые пальцы с ухоженными ногтями: есть в нем что-то от породистого жеребца.
Пауза длится недолго. Француз отходит от витрины и оглядывается по сторонам. Его друзья уже ушли. Он недоуменно пожимает плечами и закуривает сигарету. Затем переходит дорогу, но не для того, чтобы догнать своих спутников, а в поисках теплого объятия солнца. Уже 4:50 пополудни, и волна беспокойства захлестывает француза. Магазины скоро закроются, и ждать придется до утра понедельника, но тогда уже будет поздно.
Он ускоряет шаг, но не слишком. Старается не реагировать на внешние раздражители, но мозг противится – здесь столько всего, что надо понять, обдумать, попробовать на вкус. Кто-то окликает его – француз оглядывается: это Уолтер Аренсберг, один из двух его спутников, тот, который пониже. Аренсберг постоянно поддерживал все художественные начинания француза в Америке с тех самых пор, как тот сошел с парохода ветреным июньским утром 1915 года. Аренсберг знаком велит приятелю вернуться на другую сторону дороги и, миновав Мэдисон-сквер, выйти на Пятую авеню. Но сын нотариуса из Нормандии уже задрал голову, разглядывая огромный бетонный ломтик сыра, – Флэтайрон-билдинг очаровал французского художника задолго до прибытия в Нью-Йорк как визитная карточка города, в котором сразу захотелось поселиться.
Первое знакомство француза с двадцатидвухэтажным шедевром состоялось еще в Париже по фотографии, сделанной Альфредом Стиглицем в 1903 году и впоследствии опубликованной во французском журнале. А теперь, спустя четырнадцать лет, и Флэтайрон-билдинг, и Стиглиц, американский фотограф и галерист, оба стали частью новой жизни в Новом Свете.
Из задумчивости художника выводит очередной окрик, в котором на этот раз слышится некоторое недовольство. Дородный Аренсберг, меценат и коллекционер живописи, энергично машет рукой. Третий компаньон стоит рядом и смеется. Это Джозеф Стелла (1877–1946), он тоже художник и понимает своего друга с его острым галльским умом и способностью в восхищении замирать перед тем, что ему интересно. Стелле и самому знакома эта оторопь перед лицом захватывающего зрелища – так отец смотрит на новорожденного младенца и видит будущую красоту и таланты в, казалось бы, жалком маленьком уродце.
Воссоединившись, троица движется дальше на юг по Пятой авеню и останавливается у дома номер 118, где находится магазин сантехники Дж. Л. Мотта. Внутри Аренсберг и Стелла едва сдерживают смешки, наблюдая, как их галльский компаньон что-то выискивает среди оборудования для ванной и дверных ручек, выставленных на витрине. Вот он подзывает продавца и указывает пальцем на самый обычный белый настенный фаянсовый писсуар. Насторожившись, продавец сообщает трем товарищам, что данная модель сделана в Бедфордшире. Француз кивает, Стелла ухмыляется, а Аренсберг, звонко хлопнув продавца по спине, говорит, что писсуар он покупает.
Они выходят. Аренсберг и Стелла отправляются ловить такси. А философски настроенный приятель-француз замер на тротуаре с тяжелой покупкой в руках, предвкушая предстоящую проделку с pissotiere[3], которую задумал вместе с друзьями. Этим розыгрышем они точно взбаламутят затхлый художественный мир. Оглядывая сияющую белую поверхность, Марсель Дюшан (1887–1968) улыбается про себя: вот будет заварушка!
Купленное изделие Дюшан привез к себе в студию, все на ту же 67-ю Западную улицу, где находились и шикарные апартаменты, которые Аренсберг согласился оплачивать для Дюшана в обмен на право первого выбора будущих (в том числе пока еще неведомых) шедевров. Француз положил тяжелый фаянсовый предмет плоской стороной на пол и повернул, так что тот оказался как бы вверх ногами.
После чего вздохнул и на левой стороне внешнего ободка писсуара черной краской вывел свой псевдоним с указанием даты: «Р. Матт 1917». Теперь до завершения проекта осталось лишь одно: дать ему имя. Пусть это будет «Фонтан». Так объект, что несколько часов назад был лишь стандартным, ничем не примечательным санитарно-техническим приспособлением, в результате манипуляций Дюшана превратился в произведение искусства (ил. 1).
Ил. 1. Марсель Дюшан. «Фонтан» (1917)
По крайней мере так представлялось самому Дюшану. Он был уверен, что изобрел новую форму скульптуры, подразумевающую, что художник выбирает предмет массового производства без сколь-либо очевидных эстетических достоинств и лишает его функционального предназначения, – иными словами, делает бесполезным, – после чего, присвоив имя и изменив контекст и ракурс, превращает в настоящее произведение искусства. Свое изобретение он назвал «реди-мейдом», то есть готовым изделием.
Эту идею Дюшан разрабатывал уже несколько лет – во Франции он начал с того, что приделал к табуретке колесо на велосипедной вилке. Конструкция предназначалась для собственной забавы. Марселю нравилось крутануть колесо и наблюдать за его вращением. Но впоследствии он начал рассматривать это изделие как произведение искусства.
Перебравшись в Америку, наш герой продолжил эксперименты подобного рода: как-то он купил лопату для уборки снега и вывел на ней надпись, прежде чем подвесить за ручку к потолку. Он подписал лопату своим именем, но указал, что она «от Дюшана», а не «сделана Дюшаном», тем самым четко определив собственную роль в процессе: художественный замысел, а не фактическое воплощение. «Фонтан» перенес этот замысел на иной, более публичный и конфронтационный уровень. Дюшан намеревался представить его на Выставке независимых художников 1917 года – крупнейшем вернисаже современного искусства из когда-либо проводившихся в Америке. Сама выставка – вызов американскому художественному истеблишменту – была организована Обществом независимых художников – группой свободомыслящих интеллектуалов, ориентированных на будущее и противостоящих Национальной академии художеств с ее консерватизмом, удушающим, по их мнению, современное искусство.
Создатели Общества объявили, что за один доллар стать его членом может любой художник и каждый имеет право представить две своих работы на Выставке независимых художников 1917 года при условии уплаты пяти долларов за экспонат. Марсель Дюшан был главой Общества и членом оргкомитета выставки, что по крайней мере отчасти объясняет его решение экспонировать на ней свой хулиганский экспонат под псевдонимом. И в этом весь Дюшан – любитель игры слов и острых шуток в адрес высокопарного художественного мира.
Ведь, используя псевдоним «Матт» (что в переводе с английского означает «дурак»), он попросту переиначил название магазина «Мотт», где был куплен писсуар. Говорили, будто псевдоним – аллюзия на комикс о Матте и Джеффе, впервые опубликованный в «Сан-Франциско кроникл» в 1907 году: один из его персонажей, А. Матт, – недалекий мошенник с пристрастием к авантюрам и разработке идиотских способов быстрого обогащения, а его доверчивый дружок Джефф – обитатель приюта для душевнобольных. Учитывая, что Дюшан с помощью «Фонтана» намеревался поддеть жадных коллекционеров и невежественных, но пафосных галеристов, подобное толкование псевдонима выглядит вполне оправданным. Так же как и предположение, что «Р.» подразумевает «Ришар» – французское разговорное наименование для толстосума. С Дюшаном вообще всегда было не слишком просто; не зря же он в конце концов предпочел искусству шахматы.
Сознательно выбирая писсуар для превращения в скульптуру, Дюшан преследовал и другие цели. Он намеревался поставить под вопрос само понятие «произведение искусства», как оно трактовалось учеными критиками, которых он считал самопровозглашенными авторитетами и не слишком профессиональными арбитрами. Ибо художнику самому решать, что является произведением искусства, а что нет. Позиция Дюшана заключалась в следующем: если художник, сознавая контексты и смыслы, объявил свою работу произведением искусства, то так оно и есть. Он понимал: это предложение при всей своей простоте и доступности способно совершить революцию в художественном мире, как только оно обретет популярность и станет общепризнанным.
Дюшан стремился опровергнуть концепцию, согласно которой материал – будь то холст, мрамор, картон или камень – диктует художнику, что ему делать. Считалось, первичен материал, а художнику лишь позволено воплощать в нем свои идеи с помощью кисти, пера или ваяния. Дюшан хотел перевернуть этот порядок. Материалу он придавал второстепенное значение: главное – идея. Только после того как художник сформулировал и развил ее, он выбирает тот материал, который может максимально успешно передать замысел. И если для этого понадобится фаянсовый писсуар, не беда. По сути, искусством может быть все что угодно, если так считает художник, и в этом заключается основополагающий принцип творчества.
Существовала и еще одна распространенная точка зрения, которую Дюшан хотел разоблачить как фальшивку, а именно: что художник есть некая высшая форма человеческой жизни. Что он заслуживает того величественного статуса, которым наделяет его общество за исключительный интеллект, проницательность и мудрость. Дюшан считал, что все это чепуха: художники относятся к себе и воспринимаются другими уж слишком серьезно.
Скрытые смыслы «Фонтана» не ограничивались игрой слов и провокацией. Дюшан умышленно выбрал именно писсуар, поскольку этот предмет многозначен в первую очередь в сексуальном плане, – эту тему Дюшан часто использовал в своих работах. Перевернутый вверх дном писсуар не требовал от зрителя большого воображения, чтобы заметить его сходство с вместилищем теплой живительной силы, изливающейся из пениса, – женскими гениталиями. Однако этот намек не дошел до тех, кто заседал рядом с Дюшаном, так что они отказались демонстрировать «Фонтан» на Выставке независимых художников 1917 года вовсе не поэтому.
Как только указанное произведение было доставлено в выставочный зал на Лексингтон-авеню (спустя всего несколько дней после прогулки троицы по Бродвею), оно сразу же вызвало у всех смешанное чувство оторопи и отвращения. И, несмотря на то что в конверте с сопроводительным письмом от мистера Р. Матта лежали необходимые шесть долларов (один за участие в выставке и пять за демонстрацию экспоната), у большей части руководства Общества (куда, впрочем, входили и Аренсберг, и, естественно, Дюшан, прекрасно знавшие провенанс и предназначение шедевра и страстно выступавшие в его защиту) создалось впечатление, что мистер Матт издевается над ними, что, собственно, соответствовало истине.
Это был вызов остальному руководству Общества, проверка его устава на прочность. Дюшан подначивал коллег – станут ли они на практике следовать тем идеям, которые сами и провозгласили, а именно: в пику авторитарному мнению консервативной Национальной академии дизайна отстаивать новый, либеральный подход: если ты художник и заплатил собственные деньги, то твоя работа должна быть выставлена. И точка.
Консерваторы победили в этом сражении, но, как все мы теперь знаем, с треском проиграли войну. Экспонат мистера Р. Матта сочли слишком оскорбительным и вульгарным лишь на том основании, что это был писсуар, то есть предмет, не очень подходящий для беседы пуритански настроенных обывателей. Дюшан со своими соратниками незамедлительно вышел из руководства Общества. «Фонтан» никогда не демонстрировался на публике. Никто так и не знает, что случилось с этим произведением. Полагают, будто его расколотил кто-то из руководителей Общества, решив тем самым проблему, выставлять писсуар или нет. Между тем через пару дней в своей галерее «291» Альфред Стиглиц сделал снимок пресловутого объекта, хотя это мог быть уже новый, спешно изготовленный экземпляр «реди-мейда». Который тоже исчез.
Но великая сила открытия заключается в том, что обратно его уже не закроешь. И фотография Стиглица сыграла тут решающую роль. Тот факт, что снимок «Фонтана» сделан одним из наиболее уважаемых в художественном мире фотографом, который вдобавок еще владеет знаменитой галереей авангардного искусства на Манхэттене, оказался важен по двум причинам. Во-первых, он удостоверял статус «Фонтана» как полноправного произведения искусства, а потому подлежащего обязательной регистрации в качестве такового. Во-вторых, теперь имелось документальное подтверждение его существования, поэтому противники могли сколько угодно громить работы Дюшана, ведь он всегда мог снова зайти в магазин Дж. Л. Мотта, купить очередной писсуар и сделать точную копию автографа, воспользовавшись фотографией Стиглица. Так, собственно, и случилось. В коллекциях, рассеяных по всему миру, существует пятнадцать экземпляров «Фонтана», удостоверенных авторской подписью.
– Слева «реди-мейд», в центре копия, а справа вещь по мотивам «реди-мейда»…
Когда одна из таких копий выставляется, весьма забавно наблюдать, до чего серьезно воспринимают ее посетители. Толпы ценителей без тени улыбки обступают одиозный предмет и, вытянув шеи, без конца всматриваются в него, время от времени отступая назад, чтобы взглянуть под другим углом. А это просто писсуар! И даже не оригинал. Потому что искусство – это идея, а не предмет.
Та почтительность, с которой относятся к «Фонтану» сегодня, наверное, развеселила бы Марселя Дюшана. Ведь он выбрал писсуар именно из-за отсутствия в нем эстетической привлекательности (того, что он именовал «искусством для сетчатки»). Этот готовый арт-объект, так никогда и не представленный широкой публике, задумывался исключительно как провокация, но стал тем определяющим произведением искусства XX века, которое изменило мир. Воплощенные в нем идеи повлияли сразу на несколько художественных течений: дадаизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт и концептуализм. Безусловно, Марсель Дюшан является самым почитаемым и наиболее часто упоминаемым из всех художников-модернистов от Ай Вэйвэя до Дэмиена Херста.
Да, но искусство ли это? Или Дюшан всего лишь пошутил? Выставил нас всех болванами, которые задумчиво чешут подбородки, «оценивая» последнюю выставку современного концептуального искусства? Одурачил легион респектабельных коллекционеров и доверчивых богатеев, которых ослепила собственная алчность, превратив в гордых обладателей груды барахла? А его вызов, брошенный музейным кураторам, чтобы заставить их взглянуть на вещи шире и прогрессивнее, не привел ли к обратному эффекту? Заявляя, что идея важнее средства ее передачи, предоставляя философии приоритет над техническими приемами, не навязал ли он собратьям по искусству новую догму, заставив относиться к мастерству с опаской и снисходительностью? Или он все-таки гений, который вызволил искусство из средневековой темницы, как тремя веками раньше Галилей освободил науку, заложив основы ее процветания и в конечном итоге спровоцировав интеллектуальную революцию с далеко идущими последствиями?
Я придерживаюсь последнего предположения. Дюшан предложил новое понимание того, что такое искусство и чем оно может стать. Конечно, оно по-прежнему включало и живопись, и скульптуру, но лишь как два из бесчисленных носителей, служащих для передачи замысла художника. Несомненно, именно Дюшан виноват в возникновении пресловутой дискуссии на тему «Искусство ли это?», к которой он, собственно, и стремился. С его точки зрения, роль художника в обществе схожа с ролью философа, и не важно, умеет ли он вообще рисовать. Задача художника не в том, чтобы доставлять эстетическое удовольствие – для этого есть дизайнеры, – а в том, чтобы, немного отстранившись от мира, попытаться его осмыслить или высказаться о нем при помощи идей, единственное назначение которых – быть идеями. Предельную реализацию дюшановская концепция нашла в конце 1950-х и в 1960-х годах как искусство перформанса усилиями, в частности, Йозефа Бойса (1921–1986), который был не только автором идей, но и материалом для их воплощения.
Влияние Марселя Дюшана ощущается на всей истории современного искусства: сначала как одного из первых апологетов кубизма, а впоследствии как отца концептуализма. Но он не единственный герой этой истории, в ней немало неординарных личностей, каждой из которых досталась не последняя роль. Вспомним Клода Моне и Пабло Пикассо, Фриду Кало, Поля Сезанна и Энди Уорхола, плюс, возможно, менее известных Гюстава Курбе и Кацусику Хокусая, Дональда Джадда и Казимира Малевича.
Дюшан отнюдь не родоначальник современного искусства, он – его порождение. Его не было на свете, когда в последней четверти XIX века мировые события точно сговорились сделать Париж самым интеллектуальным городом планеты. Отсюда пока не выветрились тревожные наполеоновские флюиды и запах революции покуда еще витал в воздухе. Этим-то воздухом и надышались вольнодумные художники, которым предстояло перевернуть устоявшийся художественный миропорядок и возвестить приход новой эпохи – модернизма.
Глава 2 Преимпрессионизм: в стремлении к реальности, 1820-1870
Это событие было нетривиальным, а если принять во внимание место действия, так и вообще из ряда вон выходящим. Все произошло в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА) тихим утром понедельника. Я приготовился к мирному созерцанию шедевров, когда у входа в галерею началась какая-то неприятная возня.
Без предупреждения и с пугающей стремительностью маленькому мальчику закрыли руками глаза. Он не увидел, как все началось, а теперь уже и вовсе ничего видеть не мог. Это было абсолютно физическое насилие с целью вполне конкретной – лишить мальчика зрительной способности.
Я с изумлением смотрел, как паренька грубо затолкала в дальний угол галереи разъяренная, но изысканно одетая особа. Смущенный мальчуган – растерянный и сбитый с толку – явно рассчитывал увернуться, уйти из опасной зоны, но был резко остановлен, так что едва не ткнулся носом в стену.
Теперь мальчик тяжело дышал, растерянный и смущенный. Наконец особа убрала свои ладони с его глаз. Пока он моргал, начался допрос.
– Итак, что ты видишь? – поинтересовалась нападавшая.
– Ничего, – ответил тот безучастно.
– Не говори глупости, уж что-то ты, конечно, видишь.
– Нет, действительно ничего, все как-то смазано.
– Тогда отступи на шаг, – послышался отрывистый приказ.
Мальчик отставил левую ногу назад и послушно отодвинулся от стены.
– Ну и?..
– М-мм… нет, ничего не могу разобрать, – произнес ребенок срывающимся от волнения голосом. – Ну зачем ты так со мной? – спросил он. – Что ты хочешь, чтобы я ответил? Пойми же, ведь я ничего не вижу.
Все более разочарованная укротительница схватила мальчика за плечи, оттащила его от стены еще метра на три и с нескрываемым раздражением снова задала вопрос:
– А сейчас?..
Мальчик стоял неподвижно, уставившись на стену; ответа не последовало. Он продолжал молчать. Прошло довольно много времени, и он больше не мог сдерживать эмоции. Он медленно повернул голову к своей мучительнице и произнес:
– Это просто круто, мам.
Лицо матери превратилось в одну сплошную улыбку, демонстрирующую превосходные зубы и духовную радость.
– Я не сомневалась, что тебе это понравится, дорогой, – ласково прощебетала она, заключив его в сверхжаркие объятия, уместные разве что если дитя чудом избежало гибели либо для демонстрации исключительного родительского удовлетворения поведением чада.
Мы по-прежнему оставались единственными посетителями в знаменитом зале Моне Музея современного искусства, но постепенно я начал сомневаться в своем существовании, поскольку мать и дитя абсолютно забыли о моем присутствии. Но вот мамаша освободила свою жертву, которая еще раз (и исключительно по собственной воле) повторила мучительное признание, и повернулась ко мне, смущенно улыбаясь, как это делают взрослые, когда домработница застает их танцующими голыми у себя на кухне под песенку «Незамужние дамы» в исполнении Бейонсе. И пояснила, что я стал свидетелем кульминации плана, который она вынашивала на протяжении многих месяцев, начиная с того самого момента, когда решила взять своего старшего сына (ему было лет десять) в Нью-Йорк, пока супруг оставался дома и присматривал за другими детьми.
Она решила, что это был ее единственный шанс внушить своему десятилетнему отпрыску любовь к трем гигантским полотнам Моне «Водяные лилии» («Нимфеи») (1920), развешанным по стенам зала. Это создает эффект полного погружения для любого зрителя, но только не для неискушенного мальчика, который попросту захлебывается в этих всплесках розового, пурпурного, фиолетового и зеленого. В чем и состоит сила поздних пейзажей Моне (на самом деле это и не пейзажи, лишь их отражения в воде, так что паренек наверняка пожалел, что не захватил с собой трубку для подводного плавания).
Уже на закате жизни Клод Моне (1840–1926) написал этот триптих общей шириной около 13 метров, в течение долгих дней, месяцев и лет созерцая любимый парковый пруд у себя дома в Живерни. Именно эта изменчивая игра света на водной поверхности так поразила воображение пожилого художника. Пусть зрение его и ухудшалось, но ясный ум и умение обращаться с красками по-прежнему оставались при нем. Так же как и склонность к новаторству. Традиционный пейзаж помещает зрителя в некую идеальную точку обзора, задавая четкие визуальные ориентиры, чего не скажешь о «величественных декорациях» позднего Моне, когда мы оказываемся посреди пруда, не имеющего ни границ, ни углов, среди зарослей ирисов и кувшинок, так что ничего не остается, кроме как целиком отдаться гипнотической власти цвета.
Скорее всего подобную странную идею мамаше навеяли книжки с 3D-графикой, на которых одно время помешались все дети, хотя нормальные взрослые (вроде меня) их так и не осилили. Очевидно, они и навели ее на мысль (мстительную?) неожиданно закрыть сыну глаза руками и подвести к холсту настолько близко, насколько возможно, а потом заставить медленно отступать назад. Мать, вероятно, надеялась, что именно так кипящая цветом палитра Моне явится перед сыном во всем своем очевидном великолепии и запомнится на всю жизнь.
Тем временем дама продолжала вести – на мой взгляд, с излишней откровенностью – то, что со стороны выглядело агрессивной психологической обработкой собеседника. Мне она зачем-то рассказала, что познакомилась с отцом мальчика в Нью-Йорке и что вскоре после посещения Музея современного искусства выяснилось, что их живописные вкусы не совсем совпадают. Оказывается, ее будущий супруг восхищался «капельной техникой» Джексона Поллока и восторгался «живописью действия» американского экспрессиониста, в то время как сама она считала эти работы незрелыми и технически, и интеллектуально, признавая, правда, что в их с мужем пристрастиях есть немало общего. А теперь сыну предстояло усвоить, что руководствоваться следует именно ее вкусом. И когда мальчик повернулся к ней и она услышала его слова, то поняла: план удался.
Но кто посмеет обвинить их в слабости к Моне и его собратьям-импрессионистам? Просто на этот раз привычное вызвало не пренебрежение, а удовольствие. Всем нам известно, как выглядят эти картины: вблизи они кажутся беспорядочными мазками краски, а с каждым шагом назад на них все четче проявляется изображение. Мы видели их множество раз и на жестяных банках с печеньем, и на кухонных полотенцах, и на потертых коробочках с пазлами – танцовщиц Эдгара Дега, лилии Клода Моне, живописные пригороды Камиля Писсарро и ренуаровских элегантных парижан, фланирующих на солнышке. Ассортимент любого магазина эконом-класса не может считаться полноценным без хотя бы нескольких из этих классических работ, воспроизведенных на дешевых предметах домашнего обихода. Импрессионисты по сей день остаются неотъемлемой частью нашего художественного языка. Чуть ли не каждый месяц газетные заголовки возвещают, что вчера очередной шедевр побил ценовой рекорд на аукционе или был украден хитроумным профессиональным грабителем.
Импрессионизм – один из тех «измов» современного искусства, с которым большинство из нас чувствует себя уверенно и спокойно. Мы признаем, что по сравнению с более авангардными произведениями эти картины кажутся слегка устаревшими, немного осторожными и, возможно, подозрительно легкими для восприятия, – ну и пусть, что тут плохого? Это же чудесные работы, представляющие узнаваемые сюжеты в доступной, фигуративной манере. Они безоглядно романтичны – туманные, атмосферные и такие «французские»: с их элегантными пикниками в парках, любительницами абсента и окутанными паром поездами, спешащими в солнечное будущее. В контексте современного искусства люди более традиционных вкусов считают импрессионистов последними «настоящими художниками», которые не занимались «концептуальной ерундой» и «абстрактными каракулями», в отличие от нынешних, а писали внятно, красиво и до приятного неагрессивно.
Хотя на самом деле это не совсем верно. По крайней мере современники этих художников думали иначе. Импрессионисты были самыми радикальными, самыми мятежными художниками за всю историю искусства, они крушили все преграды на своем пути навстречу новой эре. За отчаянную верность собственному художественному видению они терпели лишения и насмешки со стороны профессионального сообщества. Импрессионисты в клочья разорвали догмы и, фигурально выражаясь, стянули с себя штаны и показали зад изумленному истеблишменту, прежде чем приступить к подготовке той мировой революции, которую мы сегодня называем современным искусством. Представители многих художественных направлений XX века, например «молодые британские художники» середины 1990-х годов, называли себя ниспровергателями и анархистами, но в действительности им было до этого далеко. А подлинные изгои – это с виду респектабельные импрессионисты XIX века, истинные ниспровергатели и анархисты.
Они не выбирали себе такую судьбу. Перед нами – сообщество живописцев 1860-1870-х годов, которое выработало оригинальную и притягательную манеру писать Париж и окрестности, но путь к успеху оказался перекрыт тогдашним жестким художественным истеблишментом. Что тут оставалось? Сдаться? Может, художники так бы и сделали, будь это все в другом месте и в другое время – но дело было в послереволюционном Париже, где все еще витал бунтарский дух, воспламеняя сердца.
Проблемы у импрессионистов начались, когда они перестали изображать традиционные сюжеты, утвержденные всемогущей косной и бюрократической парижской Академией изящных искусств. Академия требовала, чтобы художники писали картины на мифологические, религиозные или античные темы, с непременной идеализацией изображаемого. Эта фальшь совершенно не привлекала молодых амбициозных художников. Им хотелось выйти из своих мастерских и с документальной точностью фиксировать современный мир. Это был смелый ход. Художникам того времени не было дозволено опускаться до изображения «низких сюжетов» вроде обычных людей, которые развлекаются на пикнике, выпивают или просто мирно прогуливаются. Все равно как если бы Стивен Спилберг подрядился снимать свадебные торжества на видео. Художникам надлежало сидеть у себя в мастерской и писать красивые пейзажи или героические сцены времен древних греков. Именно они нужны были для украшения стен особняков и городских музеев, именно они регулярно и производились. Пока не пришли импрессионисты.
Они изменили правила игры, разрушив стены между мастерской и реальной жизнью. Многие художники и до этого выходили за эти стены, чтобы делать зарисовки, но потом возвращались в мастерскую и использовали результаты своих наблюдений как фон для надуманных сюжетов. А импрессионисты писали свои сцены современной городской жизни прямо на улице, причем от начала и до конца. Новые сюжеты потребовали и новой техники. В те времена общепринятым и общепризнанным считался ренессансный «большой стиль» в духе Леонардо, Микеланджело и Рафаэля, представленный во Франции, в частности, картинами Никола Пуссена (1594–1665). Прорисовка – это было все. Искусство состояло в точности и детальности. Краски природных тонов надлежало смешивать и наносить на холст тщательными мазками, которые после долгой, многодневной лессировки становились почти неразличимыми. А с помощью едва заметных переходов между светом и тенью создавалась иллюзия трехмерности.
Это неплохо, когда неделями сидишь в тепле и тщательно выписываешь патетическую сцену. Но импрессионисты писали на пленэре, при непрерывно меняющемся освещении, а не в искусственно созданных условиях мастерской. Поэтому требовался новый подход. Чтобы поймать и правдиво передать мимолетное ощущение, требовалась прежде всего быстрота. Возиться с трудоемкой светотенью было некогда – ведь когда художник снова поднимет глаза, свет уже изменится. На смену «большому стилю» с его тщательной, изощренной растушевкой пришел стремительный, резкий, «этюдный» мазок, который импрессионисты даже не пытались скрыть, а наоборот, акцентировали – широкие, короткие и яркие запятые наполняли картину энергией молодости в соответствии с духом времени. Впервые краска становится самостоятельным изобразительным средством, ее фактурой любуются, вместо того чтобы маскировать, искусно выстраивая что-то вроде оптического обмана.
Импрессионисты, взявшись работать непосредственно с натуры, были буквально одержимы точной передачей наблюдаемой ими игры света. Что только кажется легко, но на самом деле крайне трудно. Художнику нужно выбросить из головы все предвзятые представления об объекте и цвете – например, что спелая клубника всегда красная, – и вместо этого передавать оттенки, видимые им в данный момент времени при естественном освещении, даже если ради этого придется изобразить клубнику синей.
Они упрямо следовали этому правилу, создавая полотна невиданного прежде цветового диапазона. В сегодняшнем мире технологий высокой четкости, телевидения и кинематографа эти краски кажутся обыкновенными, даже приглушенными, но тогда, в XIX веке, они поражали не меньше, чем жаркое лето в Англии. Реакции угрюмых академиков долго ждать не пришлось – картины заклеймили как инфантильные и непродуманные.
Едва импрессионисты приступили к демонстрации своего новаторского подхода, отказавшись от занудных подробностей во имя создания целостной атмосферы, как угодили в немилость к могущественному парижскому художественному истеблишменту. Их высмеивали, обзывали выскочками, пишущими пошлые карикатуры, вместо того чтобы создавать «настоящую живопись». Импрессионистов такая реакция расстроила, но не сломила. Ребята вообще были не робкого десятка – умные, боевитые, уверенные в себе, они просто пожимали плечами и продолжали делать свое дело.
Момент они выбрали самый подходящий. Все предпосылки для ломки традиций в послереволюционном Париже уже имелись: и бурные политические перемены, и быстрый технологический прогресс, и изобретение фотографии, и новые будоражащие философские идеи. Болтая в кафе, талантливая молодежь наблюдала, как Париж меняется буквально на глазах. Из средневековых трущоб он превращался в современную столицу.
В прошлое уходили темные, сырые, грязные и убогие улицы, их сменяли широкие, светлые и красивые бульвары. Город фантастически преображался под руководством энергичного чиновника, барона Османа, получившего соответствующие полномочия от Наполеона III.
«Император французов», как он сам себя именовал, отчасти унаследовал стратегический склад ума своего знаменитого дяди и мог предвидеть, что новый облик Парижа – не только достойный ответ блистательному Лондону эпохи Регентства, но и реальный шанс подольше удержаться у власти. Обновление города означало, в частности, появление великолепных широких, прямых, далеко просматривающихся улиц, и давало хитрому узурпатору чисто тактические преимущества на случай, если недовольных парижан опять потянет к гражданскому неповиновению, а то и к революции.
Перемены затронули не только город, но и саму технологию живописи. До 1840-х годов художникам, пишущим маслом, приходилось работать в студии еще и потому, что краски невозможно было таскать с собой. С появлением маленьких тюбиков с краской, помеченных разноцветными этикетками, наиболее отважные живописцы смогли работать непосредственно на натуре. К этому же подтолкнуло изобретение фотографии – новое изобразительное средство сразу же заинтересовало молодых и перспективных художников. В каком-то смысле новомодный, недорогой и доступный генератор изображений представлял, разумеется, угрозу для живописцев в смысле их монополии на изготовление картин для богатых и сильных мира сего. Но для импрессионистов куда важнее стали новые возможности, открываемые фотографией. И не в последнюю очередь благодаря разгоревшемуся спросу публики на изображения повседневной парижской жизни.
Путь в будущее был ясен, но заблокирован непримиримостью Академии. Этот финансируемый французским государством оплот обучения изящным искусствам, взявший на себя роль защитника национального художественного духа, своими тяжеловесными приемами невольно производил те песчинки, без которых не появилось бы жемчужин нового, современного искусства. Академия превосходно выполняла свой долг по сохранению богатого эстетического наследия Франции, но взгляды на ее художественное будущее имела безнадежно отсталые.
Для молодых экспериментаторов, стремившихся создавать полотна и скульптуры, отражающие дух времени, это было главной проблемой, которая к тому же усугублялась полным господством Академии не только в академических делах, но и в финансовых. Проводимая ею ежегодная выставка, известная как Парижский салон, была самой престижной витриной для нового искусства, и отборочный комитет имел полномочия делателя королей и разрушителя карьер. Его решение показать на салоне работу нового художника могло обеспечить счастливчика на всю жизнь, и наоборот, отказ – лишить его всех шансов на успех в будущем. Туда толпами приходили коллекционеры и посредники с цепкими глазами и толстыми кошельками, стремясь побыстрее ухватить картину какого-нибудь нового модного художника, одобренного Академией, или последний шедевр уже известного живописца. На Салоне приобреталась основная часть новых произведений французского изобразительного искусства.
Уже в первой четверти XIX века стали слышны сетования на удушающий консерватизм Академии, и тогда же были посеяны первые семена современного искусства. Здравомыслящий молодой художник Теодор Жерико (1791–1824) отмечал, что «Академия, увы, делает слишком много лишнего: она гасит искры священного огня [то есть одаренных художников]; она задувает его, не давая ему разгореться. Огонь нужно раздувать постепенно, Академия же сразу швыряет в него слишком много дров».
Жерико умер очень молодым, в тридцать три года, но успел написать одну из самых знаменитых картин своего времени.
«Плот “Медузы”» (1818–1819) изображает реальное событие – роковое последствие безграмотного решения французского капитана подойти слишком близко к береговой линии Сенегала. Жерико в безжалостных подробностях передает весь ужас кораблекрушения. Для усиления драматизма он прибегает к так называемому къяроскуро, столь любимому Караваджо (1551–1610), – то есть акцентуации контраста света и тени. В центре композиции – мускулистый мужчина, лежащий лицом вниз. Он мертв. Но человек, с которого Жерико писал этого персонажа, был более чем жив и к тому же являлся художником – молодым человеком из высших слоев парижского общества по имени Эжен Делакруа (1798–1863).
Новаторские идеи Делакруа оказали огромное влияние на творчество импрессионистов, которые разделяли стремление своего старшего товарища запечатлеть кипучую жизнь современной Франции. Импрессионистов еще на свете не было, когда Делакруа понял: быстрые, энергичные мазки в какой-то мере могут передать на холсте буйную энергию революционной Франции – надо только точно поймать момент и настроение. Или, как он сам выразился, «если вы не способны набросать прыгающего из окна человека за тот промежуток времени, пока он летит с четвертого этажа на землю, значит, вы никогда не сможете писать великие картины».
Делакруа восхищался экспрессивным мазком испанца Диего Веласкеса (1599–1660), и, как многим художникам-романтикам, ему не было чуждо творчество Шекспира и Байрона. Но его творческую кровь заставил кипеть другой англичанин. Большое полотно «Воз сена» (1821) Джона Констебла (1776–1837), показанное на парижском Салоне 1824 года, произвело на Делакруа огромное впечатление.
Французскому королю Карлу X так приглянулась эта картина, что он присудил ей золотую медаль, а прочим оставалось лишь восхищаться тем ощущением повседневности, которое Констебл привнес в живопись. Среди этих восхищенных был и Делакруа. То, как Констебл работает со светом, его смелые мазки и непосредственность стали откровением для молодого француза, по достоинству оценившего кажущуюся небрежность, с которой Констебл накладывал краски на холст.
Делакруа тоже хотел писать в подобной экспрессивной манере – абсолютно противоположной тому, что делал его антипод и соотечественник Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867), художник, который раболепно следовал неоклассической линии Академии, разделяя ее привязанность к прошлому и, по мнению Делакруа, постыдно предпочитая живописи ремесло рисовальщика. Свою позицию Делакруа сформулировал так: «Холодная точность не есть искусство… и так называемое самосознание большинства художников является лишь доведенным до совершенства искусством нагонять скуку. Такие люди, если бы могли, с тем же усердием продолжали бы писать и на задней стороне холста».
Чтобы придать своим картинам дополнительную энергию и яркость, Делакруа начал использовать чистые, несмешанные краски. Он наносил их с бесшабашной, д’артаньяновской стремительностью, избегая столь ценимой Академией четкости линий и уделяя больше внимания эффекту мерцания от контраста цветов. На Салоне 1831 года он представил работу, которая могла бы произвести сенсацию: мало того, что картина являлась инновационной с технической точки зрения; сюжет ее был до такой степени взрывным, что ее скрыли от людских взоров на тридцать лет.
«Свобода, ведущая народ» (1830) теперь признана шедевром эпохи романтизма и по праву находится в парижском Лувре (репр. 1). Но в 1830 году ее республиканский пафос воздействовал столь мощно, что, казалось, подрывал самые основы французской монархии. Центральный персонаж картины – энергичная женщина, олицетворяющая Свободу, поднимает восставших и ведет их вперед через тела павших. В одной руке у нее развевающийся триколор – флаг Французской революции, другой она сжимает мушкет со штыком. Картина отсылает к событиям июля 1830 года, когда был свергнут Карл X, последний король из династии Бурбонов (кстати, страстный собиратель работ Делакруа). В те дни сам художник, наделенный политическим чутьем, сразу определился, на чьей он стороне, и сообщил в письме к брату: «Я взялся за современный сюжет – баррикаду, – и пусть я сам и не сражался за свою страну, но по крайней мере напишу для нее картину. Это вернуло мне душевное спокойствие».
Сюжет был взят современный (некоторые считают, что человек в цилиндре справа от Свободы – сам Делакруа, поддержавший восставших), но изображение сильно романтизировано: пирамидальная композиция (прием, прежде использованный Жерико в «Плоте “Медузы”») придает фигуре Свободы дополнительное героическое величие (именно образ, созданный Делакруа, впоследствии стал прототипом знаменитой статуи Свободы, подаренной Францией американцам). На полотне присутствует и элемент классицизма: взвихренное по спирали одеяние Свободы – это явная отсылка к древнегреческой Нике Самофракийской, что усиливает политический подтекст картины (Делакруа, конечно, прекрасно знал, что идея демократии родом из Древней Греции). Статус Делакруа, как и присутствие на картине столь любимых Академией символических элементов позволяли надеяться, что чванливые академики работу не отвергнут. И все-таки мастер не удержался и подколол Академию. Весь пафосный классицизм его Свободы уничтожают густые лохмы у нее под мышками, – эта реалистическая деталь, которую не найдешь в искусстве древних, наверняка заставит академиков сморщить носы.
«Свобода, ведущая народ» демонстрирует виртуозное владение современной техникой письма, с ее живым цветом, игрой света и энергичным мазком – всем тем, что станет ключевыми элементами импрессионизма лет через сорок. Но работа Делакруа представляет вымышленную сцену, тогда как импрессионисты стремились только к правде и ни к чему, кроме правды. В этом они следовали примеру другого мастера, куда менее изощренного, – блистательного художника, ставшего одним из родоначальников современного искусства.
Если Делакруа был величайшим романтическим художником Франции, то Гюстав Курбе (1819–1877) являлся наиболее законченным реалистом. Ранний Курбе восхищался Делакруа (и наоборот), но у него не было времени на все те причудливые фантазии и намеки на классицизм, присущие картинам периода романтизма. Он хотел спуститься на землю и писать обыденные вещи, которые Академия и так называемая приличная публика считали низкими и простонародными.
Но вообразите только: если эти господа называли вульгарным натурализмом изображение крестьянина на тропинке, то они наверняка поперхнулись бы своим изысканным вином при виде другого объекта, написанного Курбе, – хорошо всем известного, но мало кем изображенного. Его картина «Происхождение мира» (1866) стала одной из самых провокационных работ в истории искусства, знаменитая своим, мягко говоря, откровенным и бесстыдным изображением голого женского тела от груди до бедер, с широко раздвинутыми ногами, которое, для пущего порнографического эффекта Курбе еще и обрезал по бокам. Эта сексуально откровенная картина сегодня уже никого не шокирует, но в те годы она предназначалась исключительно для частного просмотра. И так было более ста лет, до тех пор пока в 1988 году картина не была выставлена на всеобщее обозрение.
Говорят, что моделью для «Происхождения мира» Гюстава Курбе послужила Джоанна Хиффернан, ирландская подружка многообещающего американского художника Джеймса Макнила Уистлера (1834–1903). Уистлер приехал изучать искусство в Париж, где посещал студию, возглавляемую швейцарским художником Шарлем Глейром, у которого в 1860-е годы некоторое время обучались также Моне, Сислей и Ренуар. В Париже Уистлер был представлен Курбе и впоследствии стал его учеником.
Ил. 2. Джеймс Макнил Уистлер. «Симфония в белом № 1: Девушка в белом»
За это время он написал «Симфонию в белом № 1: Девушка в белом» (1862) (ил. 2), где его натурщицей была все та же Джоанна Хиффернан. На полотне Уистлера изящная ирландка изображена с распущенными волосами в девственно-белом платье.
Эта композиция диаметрально противоположна тому что изобразил Курбе. Поговаривали, будто Уистлер, обнаружив, что его подружка ради Курбе сняла с себя все, впал в такую дикую ревность, что покинул Францию.
Курбе это мало волновало. Ему нравилась репутация грубоватого, неотесанного художника пьяницы, забияки и скандалиста. Предшественник нынешних отвязных радиодиджеев, он был человеком из народа, которому популярность у соотечественников дала в руки увесистую палку, чтобы лупить художественное начальство. Когда академики обвиняли его в самодовольстве, Курбе лишь пожимал плечами. Когда его критиковали за явные нарушения пропорций и за изображение забитой и простонародной современной Франции, он преспокойно продолжал работать в том же духе. А в 1855 году предложил ряд своих работ для Всемирной выставки, организованной при содействии Салона, и, когда их отвергли, попросту устроил собственную экспозицию в здании напротив и назвал ее «Павильоном реализма». В числе других здесь были показаны и два огромных полотна, считающиеся с тех пор классическими: «Похороны в Орнане» (1850), которые ранее уже демонстрировались на Салоне, и «Мастерская художника» (1855).
На обеих картинах запечатлены сцены повседневной жизни с участием узнаваемых людей из круга Курбе, что нарушало установки Академии – на крупных полотнах следовало писать исключительно исторические или аллегорические сюжеты. Об этом условии Курбе был хорошо осведомлен и поэтому в пояснении к «Мастерской художника» указывал, что это «действительно аллегория, подводящая итог моей семилетней творческой и духовной жизни». Он поместил самого себя в центр картины, по одну сторону изобразив своих друзей (в том числе поэта Шарля Бодлера), по другую – самую разнообразную публику, от попрошаек до банкиров. По его словам, аллегория означала «весь мир, устремившийся ко мне, чтобы быть запечатленным». Многие подвергли картину осмеянию, но в ее поддержку прозвучал один весьма примечательный голос: «Салон отверг одну из самых замечательных работ нашего времени». Голос принадлежал Эжену Делакруа.
Романтизм Делакруа обогатил живопись цветом и стилем, в то время как реалист Курбе привнес в нее раскрепощенную, неприкрашенную правду обычной жизни (художник сам хвастался, что никогда не лгал в своих картинах). Оба живописца отвергали косность Академии с ее ренессансным неоклассицизмом. Но условия для появления импрессионистов еще не сложились. Чтобы открыть новую эру в изобразительном искусстве, нужен был художник, способный соединить виртуозную кисть Делакруа с реализмом Курбе.
Эта роль выпала Эдуарду Мане (1832–1883), не самому ярому бунтарю среди художников. Его отец, судья, воспитал в сыне привычку не переступать рамки закона. Но артистическая душа Мане победила его конформистский ум, правда, не без содействия чудаковатого дядюшки. Тот водил племянника по художественным галереям и потворствовал желанию благоразумного юноши стать художником. Так и случилось после двух неудачных попыток поступить на военно-морскую службу. Странно, что художник, который так жаждал признания Академии и однажды назвал Салон «настоящим полем битвы», выбрал путь конфронтации.
Если составить перечень требований, которые академики предъявляли к живописи, в него непременно вошли бы: приглушенные, тщательно смешанные краски, аллюзии на классические сюжеты, изысканная прорисовка линии, идеализированное изображение людей и возвышенное содержание. Уже первая попытка Мане заслужить одобрение Академии не отвечала ни единому из них.
Его «Любитель абсента» (1858–1859) – это портрет представителя парижских низов – опустившегося пьяницы, жертвы тогдашней модернизации Парижа. Подобную тему Академия считала неподобающей. Имея это в виду, Мане к тому же изобразил бродягу в полный рост, как подобало писать лишь достойных господ, и для вящей иронии облачил своего героя в респектабельный черный цилиндр и вполне приличную накидку. Любитель абсента примостился на приступке, рядом справа – бокал крепкого напитка. Осоловелый взгляд мужчины устремлен куда-то вдаль, поверх левого плеча зрителя, а очевидным свидетельством его опьянения служит валяющаяся у ног пустая бутылка. Мрачный, угрожающий образ – вам вряд ли захочется отправиться в места, где можно повстречать такого персонажа.
То, что Мане выбрал не тот объект, уже настроило академиков против него, и к негативным оценкам добавился еще один «неуд» – за художественную технику Вместо того чтобы выполнить портрет по канонам «большого стиля» Рафаэля, Пуссена и Энгра, художник написал какое-то плоское, почти двухмерное изображение, где краски нанесены крупными пятнами с едва различимыми переходами цвета. Мане был излишне самонадеян, предложив «Любителя абсента» комитету Салона для оценки. Возможно, рассуждал он, академики втайне симпатизируют той новаторской манере, в которой он накладывал краску, не смешивая и тем самым усиливая контраст между светом и тенью? А может, восхитятся тем, как он бестрепетно убрал все мелкие подробности ради атмосферы и целостности композиции? И уж, конечно, по достоинству оценят далекий от сентиментальности сюжет и небрежную и раскованную манеру письма! Может, думал Мане, им попросту понравится его новаторское полотно?
Но оно не понравилось. Картину с презрением отвергли.
Реакция Академии очень расстроила Мане, однако он не собирался плясать под ее дудку. Он продолжал идти своим путем, отправляя в комитет Салона все новые работы. В 1863 году он представил картину «Завтрак на траве (в то время имевшую название «Купание») (ил. З), до краев наполненную историко-художественными аллюзиями, которую Академия просто обязана была одобрить. Сюжет и композиция были заимствованы с гравюры Маркантонио Раймонди (ок. 1480–1534), за основу которой, в свою очередь, был взят рисунок Рафаэля (1483–1520) «Суд Париса» (этот сюжет вдохновил и фламандца Питера Пауля Рубенса). Просматривается также сходство с «Сельским концертом» (ок. 1510) и «Бурей» (1508), полотнами, которые приписывают сразу двум живописцам – Джорджоне (1476–1510) и Тициану (1487–1576). На этих картинах имеются обнаженные женщины (одна или две), сидящие на траве рядом с хорошо одетыми молодыми людьми (одним или двумя), и над всем этим витает дух невинности и целомудрия. Эти старые полотна отсылают нас к библейским и мифологическим сюжетам, и явных намеков на сексуальную подоплеку там нет.
Ил. 3. Эдуард Мане. «Завтрак на траве» (1863)
Замысел Мане заключался в том, чтобы взять за основу классические аллегории и композиции и «освежить», придав им современное звучание. Исходя из этого, в картину он поместил трех персонажей – двоих приятных на вид молодых людей современного облика и хорошенькую юную женщину, – и взял сюжетом пикник горожан в парке. Оба натурщика одеты с иголочки – красивые сюртуки и галстуки выгодно оттенены элегантными брюками и темными ботинками. На даме же одежды нет. Никакой. Совсем.
Мане мог выкрутиться, если бы герои пикантного сюжета – прилично одетые господа и голая дама были классическими персонажами, окутанными мифологической аурой, как на картинах раннего Возрождения. Но вместо этого Мане изобразил своих друзей – плохо замаскированных парижских хипстеров того времени. Пуританская Академия с отвращением отвергла картину, в особенности осудив то, как один из мужчин разглядывает обнаженную даму, которая, в свою очередь, нимало не смущаясь, смотрит прямо на зрителя. Ну вот. А дальше о технике исполнения. Академики и ее сочли неподобающей. И снова Мане даже не попытался сделать хоть какой-то постепенный переход между своими смелыми цветами и поэтому абсолютно провалил задачу по созданию иллюзии объемности. Академики усомнились и в том, что Мане потратил достаточно времени на работу над картиной, которая больше походила на фривольную карикатуру, чем на доведенное до совершенства произведение изящного искусства.
Картину категорически забраковали.
Единственное, чем мог утешаться разочарованный художник, так это то, что он оказался не одинок среди отверженных новичков. Комитет Салона 1863 года являл собой сборище закоренелых скептиков. Все усилия Мане успехом не увенчались, но такая же участь постигла и еще три с лишним тысячи работ, в том числе картины таких будущих звезд, как Поль Сезанн, Джеймс Уистлер и Камиль Писсарро. Накал противоречий между художниками-новаторами и Академией все усиливался, так что даже Наполеону III стало жарко. К тому же его собственное узурпаторское правление бешеной популярностью не пользовалось, поэтому, пытаясь подавить назревающий бунт, он решил показать себя либералом. Он настоял на организации другой выставки в противовес Салону академиков, чтобы общество могло само решить, чей подход к живописи правильнее. Выставка, бросившая вызов Салону 1863 года, получила название «Салон отверженных».
Наполеон III невольно выпустил из бутылки джинна современного искусства – дав молодым художникам государственную санкцию, а вместе с ней – установку, что у Академии есть альтернатива. И хотя публика особого энтузиазма по поводу «Салона отверженных» не испытала, зато художественное сообщество восприняло его с восторгом. И, в частности, одну из представленных там картин – она сразу привлекла внимание молодых перспективных живописцев, ищущих новый источник вдохновения. Этой картиной стал «Завтрак на траве» Эдуарда Мане.
В числе этих художников был Клод Моне, разглядевший в живописи Мане новый способ изображения. Чуть позднее он начал работу над собственным вариантом «Завтрака на траве» (правда, вскоре ее забросил, возможно, из-за неодобрительных комментариев Курбе, который частенько захаживал в мастерскую Моне в период работы над картиной), где решил одеть всех персонажей и убрать все античные аллюзии, – с одной стороны, дань уважения творчеству Мане, а с другой – вызов ему же. Тем временем Мане готовился представить на Салоне 1865 года свою новую картину. Несмотря на античное название, «Олимпия» (1863) (репр. 2) показала: «обнаженка» в «Завтраке на траве» была еще вершиной рафинированной пристойности.
Изображая свою ню, Мане снова окутал ее историко-художественными аллюзиями. Вообще-то картина должна была понравиться академикам, считавшим изображение идеальной наготы подтверждением величайшего мастерства художника. Но Мане свою обнаженную не идеализировал. На самом деле он взял тициановскую «Венеру Урбинскую» (1538) и превратил ее в проститутку.
Но всем на удивление картину приняли к показу на Салоне, хотя она сразу же стала предметом споров и спровоцировала жаркую полемику. Большинство из видевших картину были шокированы, поскольку на ней была изображена вполне современная проститутка, написанная в стиле беззастенчивого реализма Курбе. Темный фон картины вкупе с мелкими, не более чем декоративными украшениями вроде бархотки и браслета лишь подчеркивают наготу Олимпии. Помимо соблазнительно-призывного взгляда картина изобиловала и другими намеками сексуального свойства. Черный кот, снятая туфелька (потерянная невинность), букет цветов и небрежно вплетенная в волосы орхидея – все это навевало мысль о недавнем грехе. Для Мане картина обернулась очередным провалом, хотя совсем уж без сторонников он не остался.
Для современного искусства 1863 год стал прорывным «Салон отверженных», «Олимпия» Мане, первые яркие проблески контркультуры помогли созданию атмосферы, в которой амбициозные молодые художники Парижа и его предместий могли свободно дышать. В том же году произошло еще одно событие, оказавшее сильное влияние на импрессионистов. Французский поэт, писатель и художественный критик Шарль Бодлер опубликовал эссе «Поэт современной жизни».
В бурные времена нередко появляется человек или, если угодно, живой талисман, который, наблюдая за развитием событий, превращает их суть в некий текст, тем самым создавая что-то вроде инструкции для угнетенных. Для разочарованных парижских художников, сражавшихся с Академией во второй половине XIX века, таким человеком стал Бодлер, а таким текстом – его «Поэт современной жизни». К моменту опубликования эссе Бодлер уже много лет подряд, пользуясь своим статусом уважаемого поэта и писателя, поддерживал художников, отвергнутых и осмеянных большинством.
Именно он встал на сторону Делакруа и назвал его живопись поэзией, когда другие поносили романтического художника как отступника. Именно Бодлер поддерживал Курбе в трудные минуты, настаивая, что искусству сегодняшнего дня следует рассказывать не о прошлом, а о современности. Многими своими размышлениями он поделился в «Поэте современной жизни», и впоследствии они нашли свое воплощение в основополагающих принципах импрессионизма. Бодлер утверждал, что «… в житейских буднях, в бесконечной изменчивости вещей внешнего мира есть стремительность, требующая от художника соответствующей быстроты исполнения»[4]. Ничего не напоминает? Далее в очерке несколько раз упоминается слово «фланёр», то есть праздношатающийся горожанин из высшего общества. Именно Бодлер обратил внимание публики на этого персонажа, о котором он пишет так: «Толпа – его стихия, так же как воздух – стихия птиц, а вода – стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Бескорыстно любознательный человек, ненасытный наблюдатель испытывает огромное наслаждение, смешиваясь и сживаясь с людской массой, с ее суетой, движением, летучей изменчивостью и бесконечностью. Жить вне дома и при этом чувствовать себя дома повсюду, видеть мир, быть в самой его гуще и остаться от него скрытым – вот некоторые из радостей этих независимых, страстных и самобытных натур, которые наш язык бессилен исчерпывающе описать».
Иными словами, он буквально подталкивает импрессионистов выйти из мастерской на пленэр. Страстно веря, что долг художника – запечатлеть свое время, Бодлер так говорит об уникальности творческого дара: «Мало кому дан талант видеть, и еще меньше таких, у кого есть талант выразить увиденное… куда удобнее заявить, что в одежде данной эпохи абсолютно все уродливо, чем попытаться извлечь таящуюся в ней скрытую красоту, какой бы неприметной и легковесной она ни была». Он призывает художника находить вечное в преходящем. Смыслом искусства Бодлер полагал умение уловить универсальные сущности в случайной, меняющейся повседневности.
А значит, нужно ежедневно окунаться в городскую жизнь и наблюдать, размышлять, ощущать и, наконец, отображать. Именно этот подход придал Мане мужества, когда он бросил вызов Академии. То же стремление красной нитью проходит через всю историю современного искусства. Дюшан был подлинным фланёром, фланёром был и Уорхол, и многие нынешние художники, такие как Франсис Алис или Трейси Эмин. Но первым и, наверное, величайшим фланёром стал Мане, видевший себя тем самым поэтом современной жизни.
Две главные картины, написанные Мане в 1860-е годы, – «Олимпия» и «Завтрак на траве» – сегодня признаны шедеврами, которые выдерживают сравнение с величайшими произведениями изобразительного искусства. Однако в свое время негативная реакция Академии разочаровала и расстроила Мане, а вдобавок посетители Салона хвалили его симпатичные морские пейзажи (перепутав Мане с Моне, к радости последнего – начинающий художник представил на Салоне две из своих марин).
Мане вовсе не претендовал на роль ниспровергателя основ; он видел себя скорее прозорливым интеллектуалом – соперником великих испанцев – Диего Веласкеса (1599–1660), главного живописца двора короля Филиппа IV, и Франсиско Гойи (1746–1828), романтика, автора эстампов и гравюр, – считающимся последним из плеяды старых мастеров. Но история распорядилась так, что Мане досталась роль мятежника и невольного лидера группы инакомыслящих художников, таких как Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Эдгар Дега. Эта группа станет ядром того направления, которое сегодня признано первым в современном искусстве: импрессионизма.
Глава 3 Импрессионизм: поэты современной жизни, 1870-1890
Клод Моне, чуть наклонившись, размешивал кусочек сахара в кофе. Он не торопился. Мерное позвякивание ложечки о чашку было как стук метронома, задающего такт его мыслям. А их у него хватало. Так же как и у собравшихся вокруг. Даже Эдуард Мане, который сам не участвовал в предстоящем рискованном мероприятии, был напряжен.
У всех, кто пришел этим утром в кафе «Гербуа» на неугомонном Монмартре, было много причин для беспокойства и раздумий. На следующий день, 15 апреля 1874 года, открывалась выставка, от которой зависело, расцветет ли их художественная карьера, как летний сад, или растворится, как утренний туман. Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Берта Моризо, Поль Сезанн, Эдгар Дега и сам Моне поставили на кон свое будущее и, бросив вызов Академии, организовали собственную выставку.
Уже не первый год эти художники, в основном тридцати с чем-то лет, встречались в своем любимом кафе по адресу Гранд рю де Батиньоль, дом 11 (сейчас Авеню де Клиши, дом 9), чтобы поговорить о жизни и об искусстве (в ту пору их так и называли – «Батиньольская группа»). Мане, чья мастерская располагалась неподалеку, иногда заходил к ним, чтобы поддержать новичков: надо, говорил он, выполнять свою профессиональную задачу и, игнорируя не признавшую их Академию, просто верить в то, что делаешь. Это было нелегко. Неприятие со стороны истеблишмента существенно било по карману, и для тех, кто в отличие от Мане не имел постоянного дохода, означало разорение.
– Почему вы не выставляетесь вместе с нами? – спросил Моне.
– Я сражаюсь с Академией, мое поле битвы – это Салон, – ответил Мане. Осторожно, как всегда, чтобы друзья не подумали, будто он преуменьшает их усилия, и не усомнились в его поддержке.
– Это весьма постыдно, мой друг. Ведь вы же с нами.
Мане улыбнулся и примирительно кивнул.
– Все у нас получится, – напористо заявил Огюст Ренуар. – Мы хорошие художники, и мы это знаем. Вспомните, что перед смертью говорил Бодлер: «Ничего не делается иначе, чем мало-помалу». Как раз про нас – то, что мы делаем, это не так много, но зато хоть что-то!
– Может, все окажется напрасно, – сказал Поль Сезанн.
Моне рассмеялся. Сезанн (1839–1906), молодой уроженец Экса, говорил мало, а если высказывался, то, как правило, пессимистически. Он относился к выставке с большим сомнением с того момента, как художники коллективно учредили «Анонимное товарищество артистов, живописцев, художников, скульпторов, графиков и проч.» – независимое сообщество, намеревавшееся проводить альтернативную ежегодную выставку в противовес академическому Салону. Месяцем проведения они выбрали апрель, чтобы успеть до ежегодного Салона и чтобы выставку не путали с «Салоном отверженных» и не искали аналогий.
Вместе согласовали правила: никакого отборочного жюри, к участию приглашаются все желающие, заплатившие вступительный взнос, и отношение ко всем одинаково непредвзятое (очень напоминает принцип, принятый Дюшаном в Нью-Йорке полвека спустя). Выставка называлась так же, как и само товарищество; название не очень-то броское, зато место проведения было удачное – бульвар Капуцинок, дом 35, рядом с Парижской оперой в самом центре города, в просторной студии, которой недавно пользовался знаменитый Надар, светский фотограф и отважный воздухоплаватель.
Это была разношерстная команда, которую удалось сплотить благодаря организаторским способностям Камиля Писсарро (1830–1903), интеллекту Мане и колоссальному таланту Моне. Эдгар Дега (1834–1917) и Сезанн не очень-то в нее вписывались и позднее критиковали методы и принципиальные установки остальных. Берта Моризо (1841–1895), единственная женщина в группе (на этом этапе) и невероятно талантливая художница, оказалась в ней благодаря Мане, с которым состояла в дружеских отношениях (возможно, была его любовницей, хотя впоследствии вышла замуж за его брата Эжена). Компанию за столиком кафе дополнял Альфред Сислей (1839–1899), француз по рождению и англичанин по происхождению. Обычно он держался чуть в стороне, притом что учился вместе с Моне и Ренуаром (1841–1919) и дружил с обоими.
Но в то весеннее утро мелкие разногласия были забыты; всех объединяла ненависть к Академии, не раз отклонявшей их работы, и решимость достичь своей выставкой успеха не только для себя, но и для многих других художников (их приглашал главным образом Дега). В кафе царила атмосфера взаимоуважения и поддержки: даже угрюмый Сезанн пожелал коллегам bonne chance — удачи.
Когда они встретились через две недели после открытия выставки, от их оптимизма не осталось и следа. В этот раз Моне уже не пил кофе, а в приступе гнева смахнул со стола чашку с блюдцем, разбив то и другое. Теперь он стучал по краю стола экземпляром сатирической газеты «Шаривари», все больше распаляясь по мере того, как до него доходили новые подробности.
Сезанна нигде не было видно; Ренуар сидел, но – впервые – молчал, как, впрочем, и Мане с Моризо. Говорили только Дега и Писсарро. У них тоже было по экземпляру газеты, из которой они зачитывали выдержки, периодически делая паузу, чтобы дать успокоиться сидящим за столом.
– «Обои и те смотрелись бы более законченными»! – гневно цитировал Моне, размахивая газетой. – Да что этот тип о себе возомнил? – (Хлопок газетой по столу.) – Да как он посмел? – (Еще хлопок.) – «Эскиз» я бы хоть как-то пережил, это оскорбление я слышал не раз, но «обои» – это уже слишком, это чересчур! Он слабоумный идиот, филистер и тупица! – (Хлоп, хлоп, хлоп!) – Камиль, скажи мне, как зовут этого болвана?
– Луи Леруа, – ответил Писсарро и продолжил зачитывать саркастический отчет художественного критика о полотне Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872) (репр. 4) – одной из нескольких выставленных им работ.
– «Впечатление – кто бы сомневался! Раз уж даже я впечатлялся, то там явно было чем впечатлить…» – Писсарро поднял глаза на Моне. – Клод, я думаю, он это не всерьез.
– Я знаю, что не всерьез, черт бы его побрал! – рявкнул Моне. – И это все?
– Не совсем, – сказал Дега, вмешиваясь в разговор и пытаясь изобразить бесстрастность. – Тут он тебя даже одобряет: «…какая свобода, какая непринужденность исполнения!»
– Он не одобряет меня, а удобряет, Эдгар, и ты это знаешь!
Конечно, так оно и было. Но у истории есть управа на подобных циников, и она довольно быстро поймала месье Леруа на слове. Конечно, злобные высказывания в адрес Моне вызвали в тот день немало шума, но вскоре до Леруа дошло, что его ядовитое перо не только не смогло уничтожить Моне и его товарищей, но фактически помогло оформиться самому известному течению в живописи со времен Возрождения: Леруа дал импрессионизму имя и определение, одновременно показав, чего стоит мнение критика.
А вид на гавань Гавра – портового города на севере Франции, где прошло детство Клода Моне, сына бакалейщика, – стал одним из самых узнаваемых и очаровательных произведений импрессионизма. Красновато-оранжевое утреннее солнце нехотя поднимается из моря в небо, словно наемный работник, с трудом выползающий из теплой постели в ненастный зимний понедельник. Огненный шар не настолько ярок, чтобы пробить туманную синеватую пелену, саваном окутывающую корабли и лодки, ему хватает сил лишь на то, чтобы заставить холодное фиолетовое утреннее море заиграть теплыми оранжевыми бликами, точно искусственное полено в электрокамине. Других деталей почти не видно. Это и впрямь впечатление от увиденного художником, возможно, из окна своей спальни.
Будь у вас возможность наблюдать, как работает художник неоклассицизма, как он, пользуясь многочисленными эскизами, кладет слой за слоем краску на полотно, работа Моне, несомненно, показалась бы вам самым черновым из всех предварительных набросков. Конечно, она не лучшее его творение (я голосую за серию «Стог сена») и не квинтэссенция импрессионизма, но здесь присутствует все то, что характерно для целого направления: резкие мазки, современная тематика (работающий порт), приоритет света над линией и контуром, а главное – возникающая у зрителя неодолимая потребность не вглядываться в картину, а вчувствоваться в нее.
Этого Моне и добивался, как он объяснит друзьям в кафе уже потом, когда к нему вернется душевное равновесие. Впрочем, объяснения оказались излишни. К тому моменту к столику подсел, озорно улыбаясь, Альфред Сислей.
– Клод, – он взял у Дега экземпляр «Шаривари», – хочешь послушать, что этот идиот сказал о картине Сезанна?
– О, спасибо, Альфред, но только если он был великодушен к нашему другу, – широко улыбнулся Моне. – О какой картине он там пишет?
– Ну, – начал Сислей, – здесь он высказался по поводу «Современной Олимпии» (1873–1874) Поля: «Помните «Олимпию» Мане? Так вот, в сравнении с сезанновской та просто шедевр что по технике рисунка, что по аккуратности и законченности».
Моне расхохотался. Сислей тоже. Мане промолчал. Поднявшись из-за стола, он извинился и пошел к себе в мастерскую.
Картину Сезанна он знал очень хорошо. Леруа был прав, проводя параллели с «Олимпией» Мане – картиной, которая вызвала скандал на Салоне 1885 года. Вариант Сезанна действительно был прямым ответом на нее – как бы посвящением Мане. И стоит согласиться с Леруа: картина Сезанна гораздо больше напоминает черновой эскиз или карикатуру в стиле журнала The New Yorker. В ней нет строгой структурированности, присущей более поздним работам художника, но достаточно ее увидеть, и становится ясно: это работа гения.
Как и у Мане, «современная Олимпия» Сезанна лежит на постели обнаженная, возле нее хлопочет темнокожая служанка – возможно, тоже без одежд, – готовая прикрыть ее покрывалом. У Сезанна Олимпия лежит головой направо – зеркальное отражение ее предшественницы у Мане (да и у Тициана, коли на то пошло) – на застланной белым кровати, приподнятой наподобие алтаря. На полотне Сезанна Олимпия занимает гораздо меньше места, что позволило автору разместить на переднем плане еще и рассматривающего ее мужчину (клиента?). Господин в черном сюртуке сидит на кушетке, положив ногу на ногу. В левой руке он держит трость, оценивая беззащитную красоту, охраняемую лишь собачонкой (ничтожной по сравнению с его тростью). Мане уже использовал это эффектное противопоставление: хорошо одетый мужчина разглядывает обнаженную женщину (для той картины ему позировали друзья). В «Современной Олимпии» я узнаю только одного персонажа: похотливый, элегантно одетый наблюдатель, в котором, хоть он и обращен спиной к зрителю, отчетливо просматривается автор картины.
Кому-то эта картина покажется мимолетной зарисовкой, но на самом деле полотно Сезанна тщательно продумано и пронизано сексуальным напряжением куда большим, чем «Олимпия» Мане. Но Сезанн остается Сезанном, и композиционная структура волнует его не меньше, чем сам объект. Огромная ваза, полная зелени и желтых цветов, занимает весь правый верхний угол холста, что гармонирует с зелено-желтым ковром, доминирующим внизу слева. Движение рук служанки, поза Олимпии и мужчины в сюртуке абсолютно согласованны и уравновешенны. На первый взгляд эта картина и правда «не шедевр», как выразился Леруа, «что по технике рисунка, что по аккуратности и законченности», – но посмотрите на нее несколько минут, и вы будете сполна вознаграждены. Пусть это и не Сезанн в расцвете своего таланта, – о чем поговорим в следующей главе, посвященной постимпрессионизму, – но мощный интеллект и мастерство резко оттеняют отсутствие таковых У Леруа.
Тем временем Моне успел остыть, и ему уже начинали нравиться колкие комментарии Леруа.
– Мой дорогой Камиль, – хитро подмигнул он Писсарро, – скажи мне, Леруа что-нибудь говорил о твоих работах?
Прежде чем тот успел ответить, Сислей начал зачитывать мнение Леруа о картине Писсарро «Иней на старой Эннерийской дороге» (1873).
– «Что это за борозды? Какой-такой иней? – похихикивая, читал Сислей. – Да это ошметки краски, равномерно разбросанные по грязному холсту. Ни тебе головы, ни хвоста; ни верха, ни низа; ни переда, ни зада».
Моне обхватил себя за плечи, раскачиваясь взад-вперед на стуле.
– Отлично, великолепно! – хохотал он. – Этот Леруа не критик, а сущий клоун!
Писсарро тоже засмеялся. Ему собственная картина очень даже нравилась – сцена из деревенской жизни, старик тащит на спине вязанку хвороста, медленно продвигаясь по сельской дороге между двух золотых полей ясным, но морозным зимним утром.
Художники оживились еще больше, когда заметили приближающегося Поля Дюран-Рюэля. Торговец картинами, он был полноправным участником компании, и даже в определенном смысле главным действующим лицом – с точки зрения продвижения импрессионизма. Именно благодаря его коммерческой смелости и предпринимательской прозорливости молодым художникам хватило духу устроить собственную выставку. Его поддержка вселяла в них уверенность: как бы ни нападал на них Леруа, Дюран-Рюэль не даст им погибнуть.
Следуя за Агнес, дамой-метрдотелем кафе «Гербуа», Дюран – Рюэль уселся на стул, на котором прежде сидел Мане.
– Кажется, нам удалось, non[5]? – сказал он, поглядывая через стол на Моне.
– Да, Поль, да. Помнишь, как мы впервые встретились в Лондоне – ты, я и Камиль…
– И Шарль, – добавил Дюран-Рюэль.
– Да, конечно, – ответил Моне. – И Шарль.
Это случилось в 1870 году, когда Франция воевала с Пруссией, и Дюран-Рюэль покинул Париж и нашел убежище в Лондоне. Тридцатидевятилетний торговец произведениями искусства, он был в расцвете сил и исполнен планов и энергии. Временное пребывание в Лондоне представлялось ему возможностью дальнейшего развития галерейного бизнеса, унаследованного в 1865 году от отца вместе с самой галереей в Париже. К тому же он очень хотел расширить ее ассортимент, считая недальновидным вкладываться лишь в картины барбизонской школы – группы пейзажистов-единомышленников середины XIX века, работавших в деревне Барбизон в пятидесяти километрах к юго-востоку от Парижа. Дело в том, что Дюран-Рюэль-отец выстроил галерею, а заодно и свою репутацию, продавая пейзажи сельских окрестностей Фонтенбло. Барбизонцы Жан-Батист Камиль Коро (1796–1875) и Жан-Франсуа Милле (1814–1875) стали одними из создателей новой пейзажной живописи (не без влияния Джона Констебла и его реалистических английских деревенских пейзажей) с ее точной передачей света и цвета. Они первыми начали работать на пленэре, непосредственно перед объектом, что стало возможным после изобретения компактных тюбиков для масляной краски, которые можно было без особых хлопот носить с собой.
Дюран-Рюэль-старший помогал барбизонцам, создавая сообщество просвещенных ценителей их живописи и тем самым стимулируя спрос на картины. Поль хотел сделать то же для художников своего поколения, но понимал, что для успешного бизнеса и развития покупательского спроса нужно эстетически привязать работы новых талантов к полотнам, что уже значились в каталогах галереи. Он разыскивал молодых амбициозных художников, развивающих живописную технику барбизонской школы. Он прочесал всю Францию и большую часть Европы, но не нашел никого подходящего. Пока приятель – еще один барбизонец, Шарль-Франсуа Добиньи (1817–1878) – не свел его с двумя молодыми французскими художниками. Оба, как и сам Дюран-Рюэль, решили пересидеть в Лондоне невзгоды франко-прусской войны, которую Франция Наполеона III постепенно проигрывала. Для Клода Моне и Камиля Писсарро британская столица стала вынужденным, однако не худшим выбором: здесь они могли продолжать свои художественные эксперименты на пленэре. Такой подход к живописи Моне перенял у своего учителя Эжена Будена (1824–1898) еще в Гавре, портовом городе в Нормандии, где жил с отцом (мать умерла, когда Клоду было шестнадцать).
Клод Моне начинал карикатуристом, но его творческие устремления изменились после встречи с Буденом, который и сам решил заняться пейзажем лишь благодаря барбизонской группе. Именно Буден приохотил Моне писать на пленэре, «ведь три мазка на природе дороже двух дней за мольбертом в мастерской». Интерес Моне к работе на открытом воздухе превратился в увлечение на всю жизнь после встречи с голландским художником Яном Бартольдом Йонгкиндом (1819–1891). У голландца Моне научился запечатлевать природу в ее непосредственной красоте, добавляя в палитру более светлые краски.
Моне с энтузиазмом воспринял свежие идеи и поделился ими с друзьями, которыми обзавелся в школе искусств и за ее пределами. Камиль Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Поль Сезанн посмотрели, послушали и отправились по тому же пути. В 1869 году Моне и Писсарро рисовали в предместьях Парижа, упражняясь в этой новой для них манере, а позднее уже вместе с Ренуаром навестили знаменитый «Лягушатник»[6] и запечатлели буржуа en vacances2,[7], купающихся и катающихся на лодках летним солнечным днем.
Итак, в 1869 году Моне и Ренуар создали картины с одинаковым названием «Лягушатник», написанные практически с одной и той же точки. Это дает нам возможность сравнить стили обоих художников, благо сюжет взят один и тот же, беззаботный и раскованный – нарядная публика отдыхает у популярной купальни. В центре обоих полотен – светское мероприятие на крохотном круглом понтоне, до которого можно добраться по деревянному мостику (слева). Остальные отдыхающие болтают в кафе (справа) или купаются у дальнего края понтона. На переднем плане – пришвартованные к берегу лодки чуть покачиваются на легких волнах, – мелкая рябь поблескивает серебром под лучами послеполуденного солнца. На заднем плане, проходя сквозной полосой через обе картины, тянется ряд деревьев с пышной листвой.
Картина Моне задумывалась как эскиз («плохой эскиз», как говорил он сам) для большого полотна с прорисовкой деталей, которое, как надеялся художник, будет принято Салоном (на самом деле оно оказалось отвергнуто и в конце концов потеряно). Плох эскиз или хорош, но как образец раннего импрессионизма он просто идеален: стаккато мазков, яркие краски, стремительное письмо и сюжет из современной буржуазной жизни. То же можно сказать и о картине Ренуара.
Но полотна различаются стилем и подходом. Ренуара больше привлекает людская компонента – он сосредоточен на нарядах, лицах и позах отдыхающих. Для Моне люди большого интереса не представляют, даже, может, являются помехой, отвлекающей от игры света на воде, лодках и небе. Его картина суше, она менее выспренна в сравнении с ренуаровским туманным воспоминанием о безмятежном дне, палитра гармоничнее, а композиция жестче. Впрочем, главное отличие – в строгости, с которой документируется событие. В интерпретации Моне оно выглядит достоверно и правдоподобно, тогда как манера Ренуара, сентиментальная и несколько слащавая, соединяет в себе элементы импрессионизма и романтизма.
Впрочем, ни тот, ни другой художник не имели особого успеха у Академии. Как и Писсарро – тот к моменту встречи с Дюран-Рюэлем в Лондоне вообще бедствовал, да, впрочем, и Моне тоже – ему приходилось содержать любовницу и ребенка. Для обоих встреча с торговцем картинами оказалась как нельзя кстати.
Но и для Дюран-Рюэля тоже. У него был чрезвычайный, отшлифованный десятилетиями нюх на талант. Дюран-Рюэль посмотрел работы художников, послушал их и понял, в какую сторону ему развивать свой бизнес. Эти два молодых живописца, выросшие в традициях барбизонцев, являли собой будущее его галереи и, возможно, живописи вообще. К великому финансовому утешению Моне и Писсарро, Дюран-Рюэль сразу же купил у них картины для своей галереи на Нью-Бонд-стрит в Лондоне.
Его предпринимательская отвага этим не ограничилась. Он пошел на крайне необычный шаг – решил не ждать следующего ежегодного Салона Академии, чтобы с его помощью организовать спрос на работы Моне и Писсарро (чего могло и не случиться), а взялся за дело сам. Фактически он стал антрепренером этих художников: высвободил их из зависимости от Академии, выплачивая ежемесячную стипендию, на которую они могли существовать (ни у Моне, ни у Писсарро других источников дохода не было). Дюран-Рюэль обязался не только покупать их картины, но и создать на них коммерческий спрос и тем самым изменить самый способ функционирования художественного рынка.
Его тактика состояла в том, чтобы на регулярных выставках барбизонцев понемногу разбавлять их востребованные пейзажи новыми работами. Предполагалось, что зрители примут живопись Моне и Писсарро, увидев в ней логическое продолжение традиции Коро, Милле и Добиньи. Это был сильный ход. Умный и дальновидный Дюран-Рюэль не мог не заметить, что спрос на современное искусство тоже меняется. Революция – политическая и техническая – способствовала появлению нового социального типа: буржуа. Дюран-Рюэль прогнозировал, что у этих «новых богачей» окажутся иные художественные запросы, нежели у их предшественников королевского или аристократического происхождения, что они захотят увидеть на полотнах другие лица и сюжеты.
Просвещенным мужчинам и женщинам захочется приобретать не мрачные тяжеловесные полотна с древними иконографическими сюжетами, а живопись, отображающую новый и яркий мир. Ведь у людей появилось то, чего не было прежде, – досуг, свободное время, чтобы гулять и наслаждаться всеми дарами новых технологий. Вот что, предрекал Дюран – Рюэль, будет пользоваться спросом у покупателей: изображения современников, которые точно так же вкушают прелести городской жизни – прогуливаются в парках под ручку, катаются на лодке по озеру, купаются в речке или выпивают за столиком кафе. Галерист даже призвал художников рисовать картины меньшего размера, чтобы они умещались на стенах скромных квартир менее богатых коллекционеров.
Дюран-Рюэль верил в потенциал своих подопечных и предвидел, что вкусы в обществе будут меняться столь же стремительно, как и окружающий мир. Интуиция его не подвела: умозрительный бизнес-план окажется успешным и сыграет важную роль в деле освобождения парижских художников от диктата Академии. Наконец-то у талантливых, но отвергнутых или непризнанных появилась реальная альтернатива. Мало того: Дюран-Рюэль дал им финансовую независимость, чтобы те могли осуществлять свои творческие цели без помех или постороннего вмешательства со стороны. Это, в свою очередь, привело к возникновению и относительно быстрому развитию современного искусства и формированию сегодняшней коммерческой модели, в центре которой – эрудированный, высокопрофессиональный арт-дилер.
На момент открытия знаменитой выставки 1874 года Дюран-Рюэль поддерживал и продвигал творчество Моне, Писсарро, Сислея, Дега, Ренуара и других. И если сами художники морщились от комментариев Луи Леруа, то мудрый арт-дилер, видимо, ликовал. Прирожденный импресарио, он понимал могущество прессы и умел им пользоваться: как чуть позже заметит Оскар Уайльд, «неприятно, когда о тебе говорят плохо, но еще хуже – когда о тебе совсем не говорят». И снова природное чутье не обмануло Дюран-Рюэля: не попади обидное словечко Леруа в печать, не появилось бы и бренда, под которым создавался импрессионизм.
Дюран-Рюэль процветал. Но ходить по лезвию никогда не бывает легко. Если парижская галерея пользовалась огромным успехом, то лондонской пришлось непросто, ив 1875 году она все-таки закрылась. Это стало ударом для честолюбивого Дюран-Рюэля, но он признавал, что лондонская галерея принесла ему немалую выгоду – пусть и не звонкую монету, как он рассчитывал: ведь это она навела Шарля-Франсуа Добиньи на мысль познакомить его с Моне и Писсарро. Именно лондонское предприятие, собственно, сделало имя и Дюран-Рюэлю, и в какой-то степени Моне.
Большую часть времени в столице Соединенного Королевства Моне провел за изучением работ английских пейзажистов. Он был уже знаком с картинами Джона Констебла и Джеймса Макнила Уистлера, в то время тоже жившего в Лондоне. Но, похоже, по-настоящему его воображение воспламенила волшебная атмосфера на полотнах другого художника. Хотя Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1775–1851) ушел из жизни несколькими годами ранее, в Лондоне по-прежнему выставлялось несколько его работ, и ничто не мешало Моне изучать их вдоль и поперек. Как и Моне, Тернера завораживала игра света; говорят, однажды, потрясенный великолепием природного освещения, он воскликнул: «Солнце – это Бог!»
В 1871 году, когда Моне жил в Лондоне, в Национальной галерее можно было увидеть картину Тернера «Дождь, пар и скорость» (1844) (репр.3), рядом с которой нетрадиционный стиль француза представлялся весьма консервативным. Тернера тоже привлекала современность, и он изобразил повседневный сюжет – подобные впоследствии станут фирменными у импрессионистов: скорый поезд, несущийся по знаменитому новому мосту через Темзу. Символ индустриальных достижений эпохи.
Изобразительный метод у Тернера тоже новаторский. Золотая пелена освещенного солнцем дождя наискось омывает полотно, растворяя почти все очертания. Черная труба, вздымающаяся над стремительно летящим паровозом, едва различима, так же как и темно-коричневый мост на переднем плане, а остальное расплывается. Холмы вдалеке, еще один мост слева и речные берега лишь очерчены, а солнце, дождь, река и мост сливаются в бурлящую смесь голубого, коричневого и желтого. Это великолепное, полное свободы и экспрессии изображение ликующей жизни и сегодня выглядит свежим и новаторским. Констебл так сказал о Тернере: «Кажется, будто он пишет подкрашенной дымкой, легкой и эфемерной». Он так и делал, предвосхищая и таинственную пиротехнику импрессионистов, и взрывы чистой эмоции, которыми прославились американские абстрактные экспрессионисты через сто лет после появления «Дождя, пара и скорости».
Помимо пейзажей Тернера Моне нашел в Лондоне и другие источники вдохновения, предлагаемые городом в ассортименте… Например, смог. Для человека, которого привлекает рассеянный свет, лондонский плотный, нездоровый зимний туман – смесь промозглой мороси и угольного дыма из тысяч городских труб, было явлением, которое обязательно нужно увидеть. Моне часами просиживал на своем табурете на берегу Темзы неподалеку от здания парламента в центре Лондона, запечатлевая будни города. Его старания увенчались серией запоминающихся, удивительных по красоте импрессионистических картин, на которых удалось отлично передать ощущение времени и места. Может, парижскому Салону они и не понравились, зато мне – очень.
«Темза ниже Вестминстера» (1871) сегодняшнему зрителю может показаться традиционным и даже банальным лондонским пейзажем, но во времена Моне он был ультрамодернист-ским. Призрачное серо-голубое здание парламента на заднем плане, поднимающееся из Темзы, как древний готический замок, тогда еще не стало привычным – его возвели недавно, после пожара 1834 года, уничтожившего старый Вестминстерский дворец (это событие Тернер запечатлел на картине «Горящие палаты лордов и общин»). В новинку был и Вестминстерский мост (тоже вдалеке), пересекающий картину посередине, словно полоска грязного кружева. На переднем плане в правой части картины рабочие строят новый пирс, примыкающий к недавно сооруженной набережной Виктории на северном берегу Темзы – месту воскресных прогулок расцветающего лондонского среднего класса. По воде снуют современные паровые буксиры, тоже чудо техники. Если бы Моне приехал в Лондон лет на десять раньше, то на его полотне мы недосчитались бы многих элементов, поскольку их еще попросту не существовало.
Техника письма была не менее современна. Мелкие подробности опущены ради художественной целостности. Моне ставил целью создать гармоничное полотно, где формы, свет и атмосфера соединились бы в единое целое. Плотное свечение окутывает картину, как тюлевая занавеска, размывая отчетливые контуры. Пирс и рабочие на переднем плане намечены лишь несколькими неровными темно-коричневыми мазками. Их отражения воспроизведены мазками-запятыми, перебивающими фиолетовые, голубые и белые штрихи, которыми передана остальная водная поверхность. Парламент и Вестминстерский мост – всего лишь силуэты на заднем плане, придающие композиции глубину и указывающие на плотность тумана.
Картина до такой степени эскизна, что кажется не в фокусе. Что стало великим достижением Моне: он сумел полностью осуществить то, ради чего и написал «Темзу ниже Вестминстера» – создать эталон импрессионизма. И пусть здания, вода и небо слились в едином расплывчатом ландшафте: отсутствие изощренной детализации вдыхает жизнь в пейзаж, возбуждает воображение зрителя, вовлекая его в происходящее на полотне, подобно фильму.
На творчество Моне повлияли многие живописцы: пейзажисты барбизонской школы, Мане, Констебл, Тернер и Уистлер – и это лишь некоторые имена. Но что, пожалуй, удивительно, еще одним источником вдохновения стали для него красочные двухмерные японские укиё-э, или «картины изменчивого мира», – ксилографии, которые появились в Европе в середине XIX века, после того как Япония вышла из двухвековой изоляции навстречу остальному миру. Первоначально они выставлялись на Всемирных выставках в Париже (1855, 1867 и 1878 гг.), ну а в дальнейшем их применение было уже не столь престижным – нередко в них попросту упаковывали товары, доставляемые из Японии.
Мастерами укиё-э, такими как Кацусика Хокусай (1760–1849) и Утагава Хиросигэ (1797–1858), восхищался еще Мане. Именно под впечатлением от их плоских графических работ, в частности «Великой волны в Канагава» (ок. 1830–1832), где рядом с гигантской голубой волной с белыми бурунами гора Фудзи изображена совсем крошечной, – Мане сильно укорачивает перспективу, что хорошо заметно на его картинах «Олимпия» и «Завтрак на траве». А Моне использует и другие находки японцев. Асимметричное построение «Темзы ниже Вестминстера», когда большая часть объекта находится с правой стороны, – обычный технический прием укиё-э для усиления эмоционального воздействия. Как и предпочтение целостного гармонического и эстетического решения точной передаче конкретных особенностей изображаемого предмета: вот почему Моне упрощает очертания пирса и здания парламента.
Моне и Мане были не одиноки в своем подражании японской ксилографии. Всех импрессионистов покорило их стильное – на манер комикса – упрощение рисунка. И не в последнюю очередь – Эдгара Дега, в чьих картинах немало от укиё-э. Больше всего его восхищал Хиросигэ, создавший сотни гравюр, в том числе серию «53 станции Токайдо»: – 466-километровой дороги между Эдо (нынешним Токио) и Киото.
Ил. 4. Утагава Хиросигэ. «Станция Оцу» (ок. 1848–1849)
Одна из работ под названием «Станция Оцу» (ок. 1848–1849) (ил. 4) изображает сцену из повседневной жизни: мелкие торговцы скупают товар на рынке, а потом тащат его на спине, чтобы везти дальше. Сюжет ничем не примечателен, чего не скажешь о композиции и перспективе.
Хиросигэ запечатлел действие с высоты птичьего полета, как будто через камеру видеонаблюдения, установленную на крыше высотного здания. Ощущение «подглядывания сверху» усиливается благодаря тому, что изображение выстроено по диагонали, от левого нижнего угла к верхнему правому, создавая ощущение движения и заставляя глаз следовать за ним к воображаемой точке за краем картины. Чтобы добавить динамизма, Хиросигэ резко обрезает действие на переднем плане, что является любимым приемом художников укиё-э. В результате зритель чувствует себя непосредственным участником действия.
А теперь о «Танцевальном классе» (ил. 5) – картине, написанной Дега в 1874 году – том самом, когда состоялась выставка, получившая название «первой импрессионистической». На картине изображена танцевальная студия, заполненная балеринами; они не особо внимательно слушают пожилого балетмейстера, опирающегося на длинную трость, которой он отбивает такт, постукивая по полу Юные танцовщицы стоят вдоль стенки, делают растяжку На всех белые пачки и цветные пояса, завязанные бантами на талии. Из-за щиколотки балерины на переднем плане выглядывает маленькая собачка, а сама девушка стоит к зрителю спиной, щеголяя большой красной заколкой в волосах. Слева изображена самая ленивая танцовщица; она чешет спину, закрыв глаза и задрав подбородок, вся отдавшись наслаждению.
Ил. 5. Эдгар Дега. «Танцевальный класс» (1874)
Для тех, кто так же, как и я, когда-то работал за театральными кулисами и наблюдал за репетициями, эта картина чрезвычайно правдоподобна и навевает приятные воспоминания. В ней точно схвачена кошачья природа балерин, их кажущаяся ленца и отстраненность и в то же время абсолютное владение собственным телом, излучающим и чувственность, и мощь. Дега совершил художественный прорыв, проигнорировав традиционные правила Академии и прибегнув вместо них к приемам мастеров японской ксилографии. Как и Хиросигэ в «Станции Оцу», Дега строит композицию по диагонали, из левого нижнего угла в верхний правый. И точно так же использует чуть приподнятый ракурс, асимметрию, сокращенную перспективу и обрезку картины «по живому»: например, от балерины с правого края осталась лишь половина. Разумеется, это лишь визуальный трюк – но он работает, оживляет сцену, которая иначе выглядела бы статичной. Дега словно пытается дать нам понять: вот мимолетное мгновение, остановленное кистью художника.
Но это неправда. «Нет искусства менее спонтанного, чем у меня», – признался он однажды. И в этом смысле Дега действительно никакой не импрессионист. В отличие от Моне и компании он не увлекался живописью на пленэре, предпочитая работу в мастерской с предварительными набросками. К каждой картине он тщательно готовился, анализируя, делая сотни эскизов, исполненных почти научного интереса к человеческой анатомии и вызывающих в памяти физиологические изыскания Леонардо да Винчи четырьмя веками раньше. Постоянно меняющееся естественное освещение тоже не очень заботило Дега: в первую очередь он стремился передать иллюзию движения.
Эта сверхзадача отчетливо просматривается на его картине «Коляска на скачках» (между 1869-м и 1872-м), представленной на первой выставке импрессионистов в бывшей мастерской Надара (картину к тому времени купил Дюран-Рюэль).
Тут Дега снова применил приемы японских мастеров. Но теперь по диагонали (от нижнего правого угла к верхнему левому) размещена запряженная коляска с нарядной парочкой зажиточных буржуа, приехавших посмотреть скачки. Коляска и лошади на переднем плане безжалостно обрезаны, прямо по колесам и корпусу, по конским ногам и телам. Сделано это, как и на многих других картинах Дега, включая бесчисленных танцовщиц – грациозных и гибких моделей на пике физической формы – исключительно ради передачи красоты движения.
Способ воссоздать непосредственное ощущение движения Дега подсказала не только японская графика. Многому он (как и другие импрессионисты) научился у быстро развивающегося искусства фотографии, особенно интересуясь работами пионера в этой области Эдварда Мейбриджа (1830–1904). Англичанин, перебравшийся в Америку, Мейбридж прославился серией мгновенных фотографий 1870 года, которые кадр за кадром фиксировали каждый момент движения лошадей и людей. Для Дега снимки стали настоящим откровением, он тщательно изучал и копировал их, прежде чем провозгласить свою художественную задачу: «запечатлеть движение, точно и правдиво».
Возможно, он преуспел тут больше своих коллег благодаря неотступной верности контурной линии. Это наряду со склонностью работать в студии отличало его от других завсегдатаев кафе «Гербуа». В двадцать с небольшим Дега познакомился с членом Академии, художником Жаном Огюстом Домиником Энгром, – давним противником Делакруа. Традиционалист Энгр внушил молодому коллеге понимание рисунка как основы картины. Дега усвоил урок. И стал прекрасным рисовальщиком – одним из уникальных современных художников, которые, как и Пикассо с Матиссом, умели рисовать не хуже старых мастеров.
Это бросается в глаза в его «Коляске на скачках». В картине превосходно все – и напряженная композиция, и живые, грамотно положенные краски, но рисунок – само совершенство. Даже язвительным критикам пришлось признать: рисовать Дега умеет (жаль, Леруа об этом не упомянул). Художника похвалили, отметив верность рисунка, точность исполнения и твердость руки. Возможно, в Дега критики увидели некоторую надежду на то, что искусство старых мастеров можно успешно соединить с авангардом.
В общем-то к этому Дега и стремился. Он считал себя реалистическим художником и не любил, когда его называли импрессионистом, хотя при этом был активным участником той первой выставки 1874 года и внес свой вклад почти в каждую из семи, которые состоялись в течение последующих двенадцати лет. И хотя Дега нельзя считать стопроцентным импрессионистом, в отличие от Моне, Писсарро и Ренуара, многое в его подходе созвучно творчеству коллег: и сюжеты из современной жизни столичных буржуа, и многоцветная палитра, и упрощение формы, и свободная манера письма, и стремление запечатлеть ускользающий миг.
Накануне последней выставки в Париже в 1886 году когда-то сплоченная группа художников, известных под названием «импрессионисты», уже начинала распадаться в силу художественных разногласий и географических расстояний. Однако это вполне естественное расхождение обернулось решительным и окончательным расколом, когда участники группы заняли противоположные позиции в отношении пресловутого «дела Дрейфуса» в середине 1890-х годов.
Альфред Дрейфус, капитан французской армии еврейского происхождения, был облыжно обвинен в измене и сослан в тюрьму на Острове дьявола во Французской Гвиане за передачу немцам секретных военных документов. Позже появились доказательства его невиновности. Дело, расколовшее все французское общество, разделило и импрессионистов. Дега, Ренуар и Сезанн, к их позору, разделили антисемитскую позицию военных (которые намеренно подставили Дрейфуса, чтобы выгородить другого офицера), в частности Ренуар написал своему другу: «Решительно не стану больше иметь дело с евреями».
Дега не убедили даже неопровержимые доказательства невиновности капитана. Результат занятой художником позиции, которую разделяли Ренуар и Сезанн, стал катастрофическим для импрессионистского движения. Камиль Писсарро, давний идейный вдохновитель группы, был евреем. Его поддерживал Моне, а также писатель Эмиль Золя, который продолжил дело Бодлера и стал литературным защитником авангардного искусства. В 1898 году он написал открытое письмо тогдашнему президенту Франции Феликсу Фору о ситуации с делом Альфреда Дрейфуса, опубликованное в газете «Орор» под заголовком «Я обвиняю». В нем Золя называет гонения на Дрейфуса «мерзейшим общественным преступлением». Моне оценил бесстрашие и мужество Золя. Но государство придерживалось иной точки зрения и приговорило писателя к тюремному заключению за оскорбление власти. До вступления приговора в силу Золя успел уехать в Англию и вернулся только летом 1899 года, когда политический ветер уже сменил направление. К этому моменту импрессионизм стал такой же частью культурной жизни Франции, как Парижская опера и, по иронии судьбы, сама Академия.
Тем временем бизнес Дюран-Рюэля процветал. Хотя это было нелегко – отчасти потому, что после выставки 1874 года удача отвернулась от торговца картинами и он не мог больше платить художникам, – но его упорство в конце концов оказалось вознаграждено: в 1886 году для импрессионистов настал звездный час благодаря организованной Дюран-Рюэлем выставке в Америке. И хотя их работы уже бывали там, но выставки такого масштаба Америка еще не знала. Успех превзошел все ожидания, о чем Дюран-Рюэль, сравнивая французов с американцами, выразился так: «Американская публика не смеется и не обсуждает новинки. Она просто покупает!»
Наконец-то импрессионисты создали себе имя, а вместе с ним надежное будущее: их искусство стало искусством нового мира.
Глава 4 Постимпрессионизм: развилка, 1880-1906
Ни один из четырех художников, известных нам как постимпрессионисты, никогда себя этим словом не называл. И не потому, что Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Жорж Сера и Поль Сезанн не признавали или не одобряли этот термин. Просто он появился через много лет после их кончины.
Название изобрел в 1910 году британский художник, критик и музейный куратор Роджер Фрай (1866–1934). Ему потребовалось общее обозначение для группы очень разных живописцев, выбранных для участия в выставке, которую он устраивал в лондонской галерее Графтон. Картины тогдашних французских авангардистов в Лондоне показывали редко, и устроители рассчитывали на сенсацию. Предполагалось, что в слепящих лучах славы окажется сам Фрай. Вот почему важно было придумать бренд, одновременно и удобный для раскрутки, и способный выдержать критику коллег по искусству. Что, как показывает мой собственный опыт, чрезвычайно трудно.
Их тех семи лет, что я проработал в галерее Тейт, шесть с половиной мне пришлось заниматься обсуждением возможных названий выставок. «Я не шучу», «Ни слова лжи», «Это материальный мир» – все уже где-то и когда-то было. Обычно на совещание по выбору названия собиралось человек пятнадцать, тринадцать из которых помалкивали, периодически вставляя лишь «нет» или «ни в коем случае», в то время как оставшаяся парочка оптимистов продолжала сыпать идеями. Выглядит нелепо, зато наглядно высвечивает главное противоречие в околохудожественном мире: между требованиями рынка и мнением специалистов. Хотя музейщики и художники сознают, что их идеи доходят до неискушенной, скептически настроенной публики именно через СМИ, но заниматься рекламой мало кому хочется. Они скорее согласятся, чтобы им проткнули глаза ржавыми гвоздями, чем одобрят название выставки, которое может унизить их в глазах соратников своим «популизмом». В результате появляются названия сухие и безжизненные, будто взятые из скучного научного журнала. А тем временем искрометная команда пиарщиков умоляет включить в анонс слова «шедевр», «блокбастер» или «первый и единственный шанс увидеть». Многочасовые дискуссии, подогреваемые кофеином, как правило, сопровождаются стремительными потоками электронной почты, не иссякающими до самого последнего момента, когда достигнут сомнительный компромисс, который может увлечь воображение публики, а может и нет.
Проблемой, с которой столкнулся Роджер Фрай, было отсутствие явного общего знаменателя для творчества каждого из четверых художников. Но он разглядел в них четыре угла в основании только-только возводящегося здания искусства XX века, притом что Сера и Ван Гога называют неоимпрессионистами; Сезанн одно время ходил в импрессионистах, а Гогена связывали с символистами (чьи картины изобиловали намеками и недосказанностями). Но художественный стиль каждого развивался своим путем, и постепенно между ними становилось все меньше общего. Из соображений как историко-культурных, так и коммерческих Фрай решил включить в экспозицию и картины Эдуарда Мане. Лондонская публика почти ничего не знала о представляемых художниках, но что-то слышала о предтече импрессионистов. Притягательность его имени должна была, как надеялся Фрай, вытащить ценителей искусства из дома промозглым зимним днем. Как только они доберутся до выставки, рассуждал Фрай, он подсунет им современных художников, которые, каждый по-своему, продолжили дело Мане. Так что в названии выставки Мане следовало упомянуть непременно, а вот остальных не обязательно. Но и слово «импрессионист» стоило бы вставить, это хорошая приманка. Итак, «Мане» и «импрессионисты» – это звучит, правда, не вполне отражает суть дела. Что же делать? Фрай нашел выход из положения: он добавил приставку. Выставка получила название: «Мане и постимпрессионисты».
Именуя Ван Гога, Гогена, Сера и Сезанна «постимпрессионистами», Фрай исходил из того, что все они вышли из импрессионизма – движения, которое вдохновил и поддерживал Мане. Все четверо начали самостоятельное путешествие по миру живописи, но придерживались принципов импрессионизма, так что приставка «пост» {лат. «после») вполне уместна. Ну а если зацепиться за значение слова «post» в английском языке («почта»), то, можно сказать, они действительно были кем-то вроде почтальонов: каждый подхватил послание импрессионизма и доставил по новому адресу.
А дальше? Название имело успех, а само мероприятие – нет. Термин «постимпрессионизм» прижился, но выставка получила злобные отзывы с полным набором обидных комментариев. Вскоре после ее открытия Фрай написал отцу, что получил «ураган газетных нападок со всех сторон». Типичный пример – рецензия в «Морнинг пост», в которой выдвигалось предположение, что сама дата открытия выставки – годовщина «порохового заговора» 1605 года, когда группа католиков во главе с Гаем Фоксом попыталась взорвать здание английского парламента, – несет в себе мрачную символику: «Трудно было выбрать более подходящую дату, чем пятое ноября, чтобы обнаружить широкомасштабный заговор с целью уничтожения всего здания европейской живописи». Эти газетные нападки мало отличались от тех, которым ранее подвергались импрессионисты. В будущем точно так же достанется еще многим новаторским направлениям в искусстве. «И это вы называете искусством?» – таков был глумливый лейтмотив критики. Фрая обзывали чудаком с извращенным вкусом. Но так думали не все. Художники Дункан Грант (1885–1978) и Ванесса Белл (1879–1961), как и ее сестра, Вирджиния Вулф, считали Фрая человеком необыкновенным и пригласили его присоединиться к компании богемных интеллектуалов, которые позднее стали известны как «группа Блумсбери».
Говорят, когда Вирджиния Вулф в своем знаменитом очерке 1923 года «Мистер Беннетт и миссис Браун» написала, что «где-то в декабре 1910 года человеческая природа изменилась», она имела в виду выставку Роджера Фрая. Его жизнь уж точно изменилась. Выставку в галерее Графтон он организовал вскоре после своего увольнения с должности куратора музея Метрополитен в Нью-Йорке, когда рассорился с тогдашним его президентом, финансистом Джоном Пирпонтом Морганом (знаменитым Джи-Пи-Морганом), который и нанял Фрая. До того момента их профессиональные отношения были взаимовыгодными. Опытный глаз Фрая и деньги Моргана работали в полной гармонии. Именно в то время Фрай обнаружил в Париже рынок авангардной живописи. Она изменила и его самого, и его взгляд на искусство. Фрай перестал заниматься художественными течениям прошлого и сосредоточился на современности. В 1909 году выходит его «Эссе по эстетике», в котором постимпрессионизм назван «изобразительным языком воображения».
По большому счету это утверждение абсолютно бессмысленно, поскольку его можно отнести ко многим произведениям искусства, созданным до импрессионистов. Разве роспись потолка Сикстинской капеллы, сделанная Микеланджело, не «изобразительный язык воображения»? Но в контексте художественного течения, которое родилось из строгой приверженности импрессионистов объективному отражению повседневной жизни, оно имеет право на жизнь. Каждый из четверых постимпрессионистов (на свою выставку 1910 года Фрай приглашал еще и Матисса с Пикассо, но их в то время относили к фовизму и кубизму соответственно) изобрел собственный впечатляющий художественный рецепт, смешав основные принципы импрессионизма с «изобразительным языком воображения».
Ван Гог и экспрессионизм
Лучше всех это удалось голландцу Винсенту Ван Гогу (1853–1890). Его биография – наверное, самая захватывающая в мире искусства, – хорошо известна: безумие, ухо, подсолнухи и самоубийство. Камиль Писсарро, человек объективный, чуткий к таланту, покровитель молодых художников, охарактеризовал личность Ван Гога одной полной сострадания и участия репликой: «Я заранее знал, что этот человек либо сойдет с ума, либо оставит нас всех далеко позади. Но я никак не предполагал, что он сделает и то и другое сразу».
Жизнь Винсента началась вполне заурядно, в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт. Он был старшим из шестерых детей в семье преподобного Теодора Ван Гога и его жены Анны Корнелии. Его дядя был совладельцем гаагского отделения французской компании «Гупиль и Кº», торгующей предметами искусства, и он помог шестнадцатилетнему Винсенту пройти там обучение. Племянник в учебе преуспел. Последовали командировки в зарубежные отделения фирмы: сначала в Брюссель, затем в Лондон. К этому времени в компанию пришел и младший брат Винсента, Тео, что положило начало переписке между обоими Ван Гогами, продолжавшейся до самой смерти Винсента. В письмах они обсуждали живопись, литературу, новые идеи, и постепенно в них начинает проскальзывать растущее разочарование Винсента в торговле произведениями искусства с ее меркантильностью, усиленное крепнущим увлечением христианством и Библией. Именно этот внутренний конфликт заставил молодого человека уйти из фирмы. Ван Гог поселился в захудалом английском городке Рэмсгейте, где занялся преподаванием и готовился стать священником. Дела шли неважно. Винсент был человеком безусловно порядочным, но увлекающимся. Когда неоплачиваемая работа учителя и миссионера потеряла свое очарование, он написал брату Тео: «В этом моя главная мука – на что я еще гожусь? Разве я не могу служить в церкви и приносить хоть какую-то пользу?» Тео дал необычный, пророческий совет: «Стань художником».
Ил. 6. Винсент Ван Гог. «Едоки картофеля» (1885)
Предложение оказалось ценным во всех смыслах. Винсент принял его, а Тео оплатил. Отныне он стал оказывать своему старшему брату финансовую поддержку. Винсент пять лет провел в Нидерландах, а Тео тем временем переместился в парижское отделение компании «Гупиль». Винсент хотя и взял несколько уроков живописи (за счет Тео), но практически остался самоучкой. Постепенно он находит собственную художественную интонацию. В середине 80-х годов XIX века Ван Гог написал свое первое, как считается теперь, великое полотно – правда, у современников оно не вызвало ни малейшего интереса. «Едоки картофеля» (1885) (ил. 6) стали впечатляющим достижением начинающего художника. На картине изображены пять человек вокруг стола в маленькой комнате, освещенной лишь тусклой масляной лампой, – сложная композиционная задача для новичка. Но Ван Гогу этого было мало. В те годы он стремился стать художником «крестьянской жизни» – социальным бытописателем, как Чарльз Диккенс. Его крестьяне должны были выглядеть не сентиментально, а реалистично; цветовая палитра и способ изображения должны исподволь говорить о нищенской жизни и скудном рационе. В результате полотно изобилует темными оттенками коричневого, серого и синего, руки у крестьян – цвета земли, а пальцы заскорузлые, цвета картофельной кожуры. Немногочисленные прямые линии способствуют ощущению, что семья хоть и бедна, и измучена, но еще не сломлена. Ван Гог отправил картину Тео. Тео прислал письмо. «Почему бы тебе не приехать в Париж?» – спрашивал он.
В 1886 году Винсент прибыл в Париж и…vive la différence![8] Тео познакомил его с импрессионистами, и Винсент прозрел. Он увидел цвет. Много цвета. Другу он написал, что старается противопоставить синий оранжевому, красный зеленому, желтый фиолетовому, ищет смешанные и блеклые цвета, чтобы уравновесить резкие контрасты. Старается передать насыщенный цвет, а не гармонию серого. Теперь Ван Гог знал, что делать. Он взял на вооружение импрессионистский спонтанный мазок, пробовал себя в технике импасто (когда краска накладывается таким толстым слоем, что возвышается над холстом, создавая эффект объемности) и обнаружил, что его любовь к японской ксилографии, зародившаяся еще в Антверпене, разделяет почти весь художественный авангард Парижа. Все это вместе оказалось несколько чересчур. Винсент хватался то за одно, то за другое. Тео предложил ему отдохнуть в сельской местности на юге Франции, и Винсент с радостью согласился. Он уже мечтал о создании «Студии на Юге» – колонии художников наподобие бретонской на севере страны, куда уехал его друг Гоген.
Винсент отправился в Арль, и там случилось второе прозрение. На этот раз для парня из северной Европы открытием стало южное солнце. Прежде он полагал, что понял и по достоинству оценил цвет еще в Париже, но это было ничто в сравнении с излучением божественного светила в Провансе. Все краски обрели небывалую яркость. Винсент буквально узрел свет. За четырнадцать месяцев в Арле он написал около двухсот картин, в том числе такие шедевры, как «Желтый дом» (1888), «Натюрморт с тарелкой лука» (1889), «Сеятель» (1888), «Ночная терраса кафе» (1888), «Подсолнухи в вазе» (1888), «Звездная ночь над Роной» (1888) и «Спальня» (1888). Он говорил, что хочет достичь того уровня, «чтобы люди сказали: «Этот человек глубоко чувствует»…
Он мог добавить и «глубоко сочувствует». Когда моему сыну было шесть лет, мы пошли с ним в галерею, где продавались репродукции современной живописи. С щедростью «воскресного папаши» я великодушно предложил ему выбрать один постер и одну открытку. Открытку я не помню, а вот репродукцию запомнил хорошо: это была «Спальня» (1888) Ван Гога.
– Почему эту? – спросил я.
– Она успокаивает, – ответил сын.
Если бы Ван Гог был жив и находился с нами в галерее, он бы, наверное, бросился к моему сыну и заключил в объятия. Потому что именно это ощущение он и пытался передать своей картиной. Чтобы каждый ее аспект олицетворял покой: цвета, композиция, свет, настроение и обстановка.
Арль был городком Ван Гога, своей простой красотой напоминая художнику столь любимые японские гравюры. (Из письма к Тео 1888 года: «Я завидую исключительной ясности японцев, которая очевидна во всех их работах. Они никогда не скучны и не выглядят сделанными наспех. Они естественны, как дыхание. Японцы несколькими уверенными мазками создают изображение с такой легкостью, как мы застегиваем пальто».) Благодаря солнцу и собственным надеждам создать коммуну художников Ван Гог ощущал себя превосходно. Но к нему отнеслись как к чудаку-однокласснику, которого все любят, но стараются не связываться: мало кто всерьез воспринял приглашение Ван Гога присоединиться к нему в Арле. Поль Гоген (1848–1903) стал исключением. Оба художника-самоучки, подружившиеся еще в Париже, стремились вырваться из строгих рамок импрессионизма. Полтора месяца они соревновались между собой и нахваливали друг друга, тем самым подталкивая к достижению все новых художественных высот. К моменту их злополучного разрыва и эпизода с отрезанным ухом (полагают, что после яростной ссоры Винсент побежал в бордель, где и откромсал себе ушную мочку) оба уже преуспели в осуществлении своей художественной миссии. Ван Гог заложил основы нового, более экспрессивного художественного направления, а Гогена потянуло в экзотические дали.
Творчество Ван Гога нам хорошо знакомо, как и история его жизни, – впрочем, современникам она была почти неизвестна. Но подобное знание вряд ли подготовит вас к первой встрече с его оригинальным полотном. Это как впервые попасть в Берлинскую филармонию или на карнавал в Рио: вы просто переноситесь в другое измерение. И к этому невозможно подготовиться, здесь важен эффект присутствия. В Берлинской филармонии поражает глубина звука, в Рио – непередаваемая энергетика, а у Ван Гога – сама картина. Потому что величайшие творения Ван Гога – не просто живопись, они отчасти и скульптура.
С расстояния нескольких метров многие его картины начинают казаться трехмерными. Подойдите чуть ближе, и вы заметите, что холст бугрится крупными сгустками яркой масляной краски. Он облеплен краской, как трансвестит субботним вечером. Художник пренебрег кистью, обошелся мастихином и собственными пальцами. Эта техника не нова. Рембрандт и
Веласкес тоже увлекались импасто. Но в руках Ван Гога он и отчетливее, и выразительнее. Художник хотел, чтобы краска не просто служила для изображения, но и сама была этим изображением. Если импрессионисты стремились передать правду, запечатлевая увиденное с неумолимой объективностью, то Ван Гог хотел пойти еще дальше и выявить правду более глубинную – правду внутреннего состояния. Он избрал субъективный подход, изображая не просто то, что видел, а то, как ощущал увиденное (репр. 5). Для передачи своих эмоций он стал искажать изображения, акцентируя и гипертрофируя детали, как карикатурист. Он писал старую оливу и, чтобы подчеркнуть старость, безжалостно выкручивал ствол и искривлял ветки, так что она выглядела как древняя старуха, мудрая, но обезображенная временем. Для пущего эффекта он добавлял сгустки масляной краски, превращая плоское изображение в объемное, картину – в скульптуру. Брату Тео он писал, отвечая общему другу, который поинтересовался, почему Винсент отказался от точного изображения: «Скажи Серре, что я пришел бы в отчаяние, будь мои фигуры правильными… что мое заветное желание – научиться делать такие же ошибки, так же перерабатывать и изменять действительность, так же отклоняться от нее; если угодно, пусть это будет неправдой, которая правдивее, чем буквальная правда». Тем самым Ван Гог предвосхитил одно из самых значительных и продолжительных художественных направлений XX века – экспрессионизм.
Конечно, на ровном месте ничего не создать, даже художнику такой сверхчувствительной души, как Ван Гог. Вот что говорит Кейт Кристиансен из отделения европейской живописи музея Метрополитен: «Удлиненные, перекрученные формы, неожиданные ракурсы и невероятный цвет – вот основа его художественного метода. Но главное – это не просто виртуозные приемы мастера; он сумел наполнить их огромной экспрессией». Думаете, наверное, что речь о Ван Гоге? Отнюдь. Это сказано об Эль Греко (1541–1614), который сознательно искажал пропорции ради передачи чувства еще за триста лет до того, как Ван Гог появился на свет. Печать этого жившего в Испании и родившегося на Крите (отсюда прозвище Эль Греко, то есть Грек) ренессансного гения несет на себе вся история современного искусства.
Помимо живописи, Эль Греко и Ван Гога сближали и другие страстные увлечения. Оба были невероятно религиозны и не жаловали материализм своего поколения. Обоим успех достался нелегко, и оба оказались вынуждены уехать из родной страны в поисках вдохновения и поддержки.
Но если сравнивать их экспрессионистскую живопись, то здесь мы сразу увидим различие. Темы Эль Греко – это мистика, аристократы и святые, в то время как Ван Гога влекут не столь возвышенные предметы: кафе, деревья, спальни и крестьяне. Экспрессионистский поход к подобным повседневным объектам, утвердившийся в его творчестве, стал той визуальной находкой, которая помогла искусству сделать следующий шаг.
Хотя Ван Гог умер в 1890 году практически безвестным и непризнанным, но его влияние на современное искусство сказалось незамедлительно. Через три года норвежец Эдвард Мунк (1863–1944) напишет свой знаменитый «Крик» (1893) – картину, которой не было бы без Ван Гога. Скандинавский художник всегда стремился сделать свои полотна более эмоциональными, но не знал как. Пока не приехал в Париж в конце 80-х годов XIX века и, увидев работы голландского постимпрессиониста, не понял, как добиться этой художественной цели. В «Крике» Мунк позаимствовал вангоговский метод «перекручивания» изображения ради передачи глубинных переживаний. В результате появилось полотно, ставшее квинтэссенцией экспрессионизма: искаженное ужасом лицо, на котором отобразилась смесь страха и мольбы – недвусмысленное свидетельство мучительного беспокойства самого художника. Картина стала пророческой, можно даже сказать, современной «Моной Лизой». Написанная на заре модернизма, она говорит о будущих ужасах и человеческих тревогах в преддверии нового столетия.
Человеческий крик стал лейтмотивом и в работах более близкого к нам по времени экспрессиониста – великого ирландца Фрэнсиса Бэкона (1909–1992). Художник часто обращался к хранимому им кадру из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» (1925), где на знаменитой одесской лестнице застыла кричащая няня: ее лицо в крови, пенсне разбито. Этот кадр подвиг его на создание ей важнейшей и ценнейшей работы второй половины XX века. Ни одна другая картина не передает мучительную боль, которую Бэкон стремился изобразить на протяжении всей своей жизни, в такой степени, как «Штрихи к “Портрету Папы Иннокентия X” Веласкеса» (1953). Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер однажды пренебрежительно отозвалась о Бэконе как о «художнике, который рисует такие жуткие картины». А он настаивал, что жуткие не его картины, а мир, созданный политиками вроде нее.
Фрэнсиса Бэкона не волновало, назовут ли его экспрессионистом или нет (называть ли виноград фруктом?), но его волновал Ван Гог. Очень сильно. Бэкон как-то заметил, что «живопись – это отображение нервной системы на холсте», и эти слова с тем же успехом могли принадлежать и великому голландцу. В 1985 году Бэкон написал картину «Посвящение Ван Гогу» в дополнение к серии полотен в память о голландском гении, созданных в 1956–1957 годах. Они основаны на работе Ван Гога «Художник на пути в Тараскон» (1888). Само полотно погибло во время войны, но для Бэкона оно стало воплощением двух важных граней творчества его художественного кумира. Одна – стиль письма и цветовая палитра, то есть его экспрессионизм. Другая – романтический образ, которым Бэкон (как, впрочем, и большинство из нас) не мог не наделить Ван Гога: безденежный, недооцененный, чувствительный гений, который пожертвовал всем ради искусства, шагая одиноко по миру: своего рода Ганди от искусства и первый мученик модернизма.
Через два года после «Художника на пути в Тараскон» Ван Гога уже не было в живых. В возрасте тридцати семи лет, в самом расцвете своего творчества, он скончался от ран, после того как за два дня до этого выстрелил себе в грудь. Рядом с ним был Тео, который обожал старшего брата. Через несколько месяцев он сам умер от психического и физического истощения, вызванного сифилисом. Так закончилось десятилетнее сотрудничество братьев, которое подарило миру величайшую, никем не превзойденную живопись.
Впрочем, Поль Гоген, старый друг и мучитель Ван Гога, так не считал.
Поль Гоген и символизм
«Я великий художник, и я это знаю», – хвастался Поль Гоген. В другой раз он сказал, что «Ван Гог извлек выгоду из того, чему я его научил. И ежедневно должен меня за это благодарить». Наглец? Да наверняка. А еще корыстный плагиатор, который бросил жену и детей, чтобы резвиться с юными красотками на южных морях, при этом заражая их сифилисом. Это был тот еще субъект – склочник, циник, пьяница и эгоцентрик. Бывший учитель и наставник Гогена Камиль Писсарро назвал его интриганом, попутно сообщая, что Моне и Ренуар нашли его работы «просто ужасными». Даже друг Гогена, шведский драматург Август Стриндберг, говорил ему: «Я не могу понять твое искусство, и оно мне не нравится».
Как, no-вашему Гоген отреагировал на последнее замечание? Опубликовал его. На видном месте. В каталоге своих работ. Потому что, невзирая на свои пороки, – которых, видимо, хватало, – он был смелым и как человек, и как художник. Все-таки не у каждого хватит духу отказаться от жизни биржевого маклера, коллекционера картин импрессионистов, чтобы попытаться присоединиться к их художественной тусовке. И дело не в финансовом риске. Крах фондовой биржи 1882 года эту проблему снял: когда молодой финансист проснулся однажды утром, то обнаружил, что денег у него больше нет. Нет, риск заключался в другом: художники, которых он уважал, могли просто не воспринять его всерьез. Или, того хуже, счесть мошенником, который хочет купить себе место в закрытом клубе, – это как если бы какой-нибудь богатей вздумал выступить вместе с «Роллинг Стоунз».
Отвага Гогена проявилась еще ярче в конце 1880-х, когда он решил бросить импрессионистов, назвав их строгую приверженность натурализму «чудовищной ошибкой». Неудивительно, что Моне и Ренуар, увидев его новые «бытовые» картины, восторга не испытали. Поначалу эти двое могли подумать, что Гоген последовал их правилам, выбрав обычный объект и написав его спонтанными мазками. Но уже в следующую минуту они наверняка насторожились. Неужели в природе есть такие пронзительные оттенки оранжевого, зеленого и голубого? Нет. «Mon dieu![9] – воскликнул Моне. – Да этот парень просто издевается над нами!»
Так оно и было. Для рациональных Моне и Ренуара в природе таких оттенков не существовало, зато для Гогена – пожалуйста. Прогуливаясь с коллегой-художником по парку Буа д’Амур в Бретани, Гоген рассуждал: «Как тебе видится это дерево… оно ведь действительно зеленое? Тогда возьми зеленый, самый красивый зеленый цвет своей палитры. А тень… она ведь синеватая, да? Смело рисуй самым синим, насколько это возможно». И если его буйные цвета лишь намекали на отход от импрессионизма, то сюжеты напрямую свидетельствовали, что Гоген уже выпал из гнезда. Его картины были так же далеки от реальности, как мультфильмы Диснея, и перегружены тайным смыслом и символами. Ван Гог, его собрат по колориту, использовал насыщенные цвета, чтобы выразить чувство; Гоген же наращивал интенсивность своей палитры ради сюжета картины.
«Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888) (репр. 6) – ранний образец творчества Гогена в его постимпрессионистский период. В отличие от картин современной жизни, созданных Моне и компанией, эта работа Гогена лишь частично относится к реальному миру. В основе картины сюжет о том, как группу бретонок после церковной проповеди посетило божественное видение библейского Иакова, борющегося с ангелом. На переднем плане женщины, спиной к зрителю, наблюдают за борьбой с посланником Божьим. Выглядят они реалистично – в традиционных для бретонских крестьянок черных жакетах и белых чепцах, – вроде бы ничего особенного. Пока не поймешь, что Гоген использует неяркую палитру в этой части холста, чтобы «оторваться» на другой половине.
Для пространства, где Иаков сражается со златокрылым ангелом, Гоген выбрал один, но ошеломляющий цвет. Чтобы оттенить религиозную мечтательность, в которой пребывают женщины, он написал траву блеклым оранжево-красным, и этот цвет доминирует надо всем, словно детский крик в библиотеке. Надо помнить, что Гоген в то время находился в Бретани, на севере Франции, где нет оранжево-красных полей. Цвет несет исключительно символическую и декоративную нагрузку; Гоген решил пожертвовать правдоподобием ради общего замысла и драматизма аллегории.
Справедливости ради стоит сказать, что сюжет картины корнями уходит в реальность. Бретонцы нередко собирались поглазеть на поединки молодых борцов. Но он многократно усиливается благодаря включению библейской истории, наложению неестественных красок и бесчисленных мифологических аллюзий. Взять хотя бы мощную ветвь дерева, что тянется по диагонали картины, разрезая ее пополам. Неужели в реальности на переднем плане могла быть подобная ветвь, а если и была, то почему она оказалась точно в этом месте? Ответ прост. Ветвь служит средством повествования, Гоген использовал ее как границу между действительностью и миром фантазии. Слева от ветки все реально – группа набожных женщин, но вот справа – игра их воображения: Иаков, борющийся с ангелом. В левой, «реалистичной», части картины можно заметить непропорционально маленькую корову. Гоген поместил ее на фантастическую оранжево-красную траву как олицетворение деревенского уклада бретонцев, пронизанного верой в сверхъестественное. Иаков, возможно, символизирует Гогена-художника, а ангел – внутренних демонов, мешающих ему воплотить задуманное.
Американский режиссер Фрэнк Капра отсылает нас к этой картине в своем фильме «Эта прекрасная жизнь» (1946). Джеймс Стюарт играет Джорджа Бейли – депрессивного, ненавидящего самого себя бизнесмена, который приходит к выводу, что для его жены и детей было бы лучше, если бы он ушел из жизни. Он на грани самоубийства: стоит на мосту в морозную зимнюю ночь и вглядывается в грозную реку под ногами, но вдруг видит, как в бурлящий поток прыгает другой человек. Инстинкт берет верх: благородный и смелый бизнесмен забывает о своих невзгодах и ныряет в ледяную воду, чтобы спасти жизнь другому человеку, не зная, что тот – его ангел-хранитель Кларенс (Генри Трэверс). Следующий кадр – Джордж и Кларенс обсыхают в деревянной лачуге. Бельевая веревка рассекает экран по горизонтали. Внизу, под веревкой, Джордж разбирается со своими земными неприятностями, а над ней возвышается голова небожителя Кларенса и изрекает премудрости горнего мира.
Фантастика в гогеновском «Видении» – предвестник сюрреализма. Простоватые бретонки предвосхищают «примитивизм» таитянских картин Гогена, вдохновивших Пабло Пикассо, Анри Матисса, Альберто Джакометти и Анри Руссо. А большие плоскости чистого цвета без каких-либо теней, позаимствованные Гогеном, как и многими до него, из японских гравюр, станут прототипом экспрессивных, символических образов абстрактного экспрессионизма.
«Видение после проповеди» превратило художника-любителя Гогена в лидера авангарда. У торговца предметами искусства Тео ван Гога, который уже и раньше проявлял интерес к творчеству друга своего брата, теперь сомнений не осталось. Он приобрел у Гогена несколько картин и обещал купить еще больше в будущем. К этому времени Гогена уже причислили к набирающему силу движению символистов, которое появилось во многом благодаря литературе. Писатели-символисты восхитились диагональной веткой Гогена, разглядев в ней пример того, как средствами изобразительного искусства передать аллегорический сюжет. Вместо того чтобы превратить объект (ветку) в нечто субъективное (изображение), художник взял субъективное (идею) и представил его в виде объекта (ветки). Великолепно. Если только вы не принадлежите к школе импрессионизма с его требованием показывать жизнь как она есть.
Гоген был настойчив и последователен. Он пришел к выводу, что импрессионистам недостает строгости мысли; с его точки зрения, они не в состоянии рассмотреть то, что стоит за реальностью, которая случайно оказалась перед их глазами. Он полагал, их рациональный взгляд на жизнь лишает искусство его важнейшей составляющей: воображения. Ему надоел не только художественный подход импрессионистов, но и главный их сюжет – современная жизнь. Как бросивший курить становится ярым врагом табака, так бывший финансист Гоген решил: материализм – это зло. Для начала он отправился в Порт-Авен в Бретани – жить там было дешево, а он оказался на мели, – и вошел в роль крестьянина. Своему другу Эмилю Шуффенекеру (1851–1934) он писал: «Я люблю Бретань. В ней есть что-то дикое и первобытное. Когда мои деревянные башмаки стучат по граниту мостовых, я слышу неясный, приглушенный, но глубокий и могучий тембр, который звучит в моей живописи».
Возможно, сказано несколько претенциозно, но Гоген, кажется, в самом деле что-то нащупал. Не зря он в свое время учился у других – например, у щедрого на помощь Дега, позаимствовав у того жирный контур и обрезку «по живому». Теперь он созрел для создания собственного смелого и новаторского стиля. Для Гогена полумер не существовало; если уж менять что-то кардинально в искусстве, то надо менять и в жизни. Он отправился на Таити, чтобы стать «дикарем, волком в лесу и без ошейника». Жюлю Гюре из газеты «Эко де Пари» он говорил: «Я уезжаю, чтобы жить в покое и избавиться от цивилизации. Я только хочу создавать простое, очень простое искусство. Для этого я должен возродиться в неиспорченной природе, не видеть никого, кроме дикарей, жить, как живут они, и передавать то, что воспринимает мой мозг, самыми примитивными изобразительными средствами, как это делает ребенок». А еще, мог бы он добавить, бросить жену и детей и наслаждаться роскошной жизнью беспечного холостяка.
Вырвавшись на Таити, освободившись от семейного гнета и домашних забот, Гоген быстро находит свой художественный стиль. Вдохновляясь освещением, обликом аборигенов и легендами полинезийских островов, он пишет огромное количество картин, персонажи которых в большинстве своем – сладострастные юные туземки, обнаженные, полуобнаженные или завернувшиеся в кусок пестрой ткани. В этих картинах есть эротика и экзотика, яркость и простота: модернизм и примитивизм. Гоген хотел сам жить такой жизнью и изображать ее, доисторическую, первобытную, свободную от лукавства и суетности современного мира. Впрочем, для этого он прибегнул к последним достижениям живописной техники – лишнее свидетельство противоречивой натуры художника, обнаружившего, что принципы, выработанные парижским авангардом, действительно помогают передать простодушную наивность туземцев.
Двухмерное изображение с помощью цветовых блоков – техника, впервые опробованная Мане и впоследствии взятая на вооружение Моне и Дега, делала картины Гогена плоскими, как детский рисунок. Это впечатление усиливалось тем, что Гоген утрировал или полностью искажал естественный цвет – выразительный прием, с которым Гоген и Ван Гог вместе экспериментировали в Арле. Так появилась серия стилизованных декоративных полотен – образы безмятежного тропического рая, сотворенные художником, который сам подался в дикари.
Однако Гоген не стал ни дикарем, ни крестьянином. Он оставался художником на натуре, туристом. Бывший парижский брокер писал пряные картины для европейского рынка, для буржуазии, почувствовавшей вкус к идеализированному изображению экзотики и первобытности. Он был белым европейцем средних лет из среднего класса с романтическим видением тропических островитян и тягой к роскошным телам молодых таитянок.
Картина «Почему ты сердишься?» (1896) – типичное полотно второго таитянского периода Гогена. В картине, как всегда, нет мужчин, обычной выглядит и милая пасторальная обстановка. Чуть в глубине пальма, разделяющая полотно по вертикали. За ней хижина, крытая пальмовыми листьями, рядом изгибается пыльная тропка, ближе к зрителю сменяясь пятачком сочной зеленой травы. Цветы, растения, клюющие куры, бегающие цыплята, какие-то горы в отдалении довершают очаровательные декорации, среди которых разворачивается сюжет картины.
Действующие лица – шесть туземных женщин. Трое стоят справа от пальмы, и еще трое сидят слева. Из трех стоящих – две, что на заднем плане, намереваются войти в хижину. Первая – молодая и привлекательная – чуть приспустила платье, обнажив грудь. Та, что за ней, гораздо старше, она наклонилась к молодой и уговаривает ее зайти в хижину. Там же на заднем плане, но слева от пальмы на табуретке сидит пожилая туземка. С белым шарфом на голове, в сиреневом платье, она, похоже, несет вахту у темного главного входа в хижину.
Предположение, что это бордель, подтверждается, когда на переднем плане замечаешь трех молодых цветущих женщин. Та, что стоит справа от дерева ближе к нам, одета в синий саронг с узором, свысока и с презрением она взирает на девушек, что сидят на траве слева от дерева. Та, что подальше от пальмы, почти на самом краю картины, сидит спиной к зрителю. На ней белая майка и синяя юбка. Похоже, она что-то шепотом рассказывает своей подружке, сидящей к зрителю лицом. Та, с обнаженной грудью, скромно потупила глаза, стараясь избежать пронзительного взгляда женщины в синем саронге. Именно их мимикой объясняется название картины: агрессивной обвиняющей позе противостоит робкое недоумение.
Символика становится все более очевидной. Женщины, что стоят у хижины, пока не вовлечены в события, происходящие в ее темном интерьере: они держатся с достоинством, их честь не запятнана. Чего не скажешь о пожилой – содержательнице этого борделя – и сидящих девушках на переднем плане. Но кто же те невидимые посетители? Таитянские мужчины? Возможно. Гоген? Вероятно. Колонизаторы из Европы? Несомненно.
Ведь покуда Гоген с удовольствием торговал невинностью таитянских туземцев, он искренне считал себя защитником и заступником островитян. Поэтому вопрос в названии картины отчасти риторический. Сама сцена, когда пришельцы «оскверняют» остров и его народ, вызывает злость у Гогена. Он сокрушается о непорочном образе жизни, который на его глазах разрушается его же соотечественниками. Его чувства, несомненно, искренние, но, как всегда у этого одаренного и яркого художника-новатора, исполнены противоречий.
А вот что бесспорно, так это его умение передавать мысли и чувства, присущие только ему, но понятные всем нам. Чтобы добиться этого, обычно требуется время для развития таланта, пока не появится фирменный, узнаваемый стиль. Лишь когда художник обрел собственный голос, становится возможен его диалог со зрителем, выстраивание договоренностей с ним и дальнейшее развитие контактов. Гоген достиг этого уровня в невероятно короткие сроки, что свидетельствует о его даровании и интеллекте.
Полотно Гогена можно узнать со ста шагов. Богатая палитра – золотисто-охристые тона, всевозможные оттенки зеленого, шоколадно-коричневого, ярко-розового и оранжевого, красного и желтого, сочетается и подчеркивается уверенностью мазка, которой нельзя научиться. Его картины, как и скульптуры, тотчас притягивают взгляд и в то же время поражают сложностью. Это психологические драмы, обнажающие печаль и душевную боль, которые мучают его персонажей и всех нас. Он восстал против импрессионизма и вернул искусство в область воображения, за что поколения художников ему благодарны.
Пуантилизм Сера
Сегодня словом «гений» перебрасываются, как косячком марихуаны на рок-фестивалях 70-х годов прошлого века. Младенец кусает брата за палец в видеосюжете на YouTube, и он уже гений, как и победитель телешоу «Х-Фактор» или автор скандального приложения iFart. Я не уверен, что они заслуживают этого звания, но Джонатан Айв уж точно его достоин. Главный дизайнер корпорации «Эппл», он привнес в наш информационный век логику и красоту. «Айподы», «айпады», «айфоны» – все это его детища. Так что в моей «ай-книге» гениев этот дизайнер британского происхождения, безусловно, значится. Он взял самые несексуальные предметы – компьютеры и жесткие диски – и превратил их в объекты страстного вожделения. А это уже подвиг. Волшебство XXI века. Что же позволило Айву его совершить? Простота.
Но не та простота, которая равна глупости или непосредственности. Простота, которую Джонатан придал продукции Apple, требует встроенного в череп жесткого диска в несколько миллиардов гигабайт и клинического упорства. Как лаконичность фразы Хемингуэя или ясность виолончельной сюиты Баха, такая простота рождается в результате многочасовой работы, многодневных размышлений и опыта целой жизни. Айв – как и оба других гения – добивался грандиозного, упрощая сложное, придавая осмысленность изначальному хаосу и подчиняя его замыслу, в котором форма и функция гармонично объединены.
Это – простота, которой пытались добиться художники на протяжении всего XX века. И, как мы увидим чуть позже, прямоугольные сетки у художника движения «Де Стиль» (1917–1931) Пита Мондриана и минимализм 1960-х Дональда Джадда, выраженный в его прямоугольных скульптурах, – это всего лишь два примера глубоких раздумий многих авангардистов о том, как добиться упорядоченности и основательности в мире с помощью такой неоднозначной вещи, как искусство.
Вопрос волновал и Жоржа Сера (1859–1891), третьего из четверки постимпрессионистов. Он был столь же серьезен, сколь эмоционален был Ван Гог, и являл собой полную противоположность энергичному бонвивану Гогену. Но, несмотря на разницу характеров и происхождения, эти трое были друзьями, объединенными решимостью помочь искусству уйти от тех ограничений, которые накладывал импрессионизм. Прискорбно, что всех троих среди прочего объединяла предрасположенность к уходу из жизни в расцвете мастерства. Гоген справился с ней лучше остальных, закончив свой жизненный путь, когда ему было пятьдесят с лишним. Следом идет Ван Гог, чье самоубийство в возрасте тридцати семи лет страшно потрясло Сера, умершего годом позже. Всего в тридцать один год Сера умер от, предположительно, менингита, который через две недели забрал и его маленького сына, а вскоре и отца. Его лучший друг и собрат по пуантилизму Поль Синьяк (1863–1935) поставил ему диагноз, сказав: «Наш бедный друг сам убил себя работой на износ».
Сера действительно работал много. Этот художник очень серьезно воспринимал себя, жизнь и искусство. Его отец был человеком странным и вел замкнутый, уединенный образ жизни вдали от семьи, обитавшей в Париже. Он не стремился к общению. И оказалось, что Жорж унаследовал от своего папаши некоторые причуды. Он тоже был необыкновенно скрытным и необщительным, предпочитал одиночество, прятался от городской жизни. Но для Жоржа это означало в первую очередь затворничество у себя в мастерской. Его личная творческая территория была здесь, а не на пленэре. Подобно Дега, он делал несколько предварительных набросков (он называл их «croutons»[10]) на открытом воздухе «перед объектом», но заканчивал картину уже в студии.
Выскочить наружу, по-быстренькому состряпать картину, чтобы успеть к первой порции абсента на вечерних посиделках в кафе, – это было не для Сера. В отличие от Моне он не стремился ухватить быстротекущий момент; наоборот, ему надо было отразить бесконечность времени. Он хотел сохранить все, чему научил его импрессионизм, – яркую палитру, повседневные сюжеты, мечтательную атмосферу, но придать этому структуру и прочность. Картины импрессионистов напоминали ему кучу тряпья, небрежно брошенную на пол, а он считал, что оно должно быть сложено в аккуратные стопки. Сера ставил целью привнести в импрессионизм порядок и дисциплину: систематизировать новаторскую игру с цветом, сделать формы отчетливыми и дополнить их объективность научной методологией.
«Купальщики в Аньере» (1884) – его первая серьезная работа. И это был настоящий выплеск! Впечатлили не только гигантский размер картины (2,01 х 3 метра) и возраст Сера – ему было всего двадцать четыре. Это картина с настроением. Теплым летним днем компания мужчин (явно с работы) и юнцов отдыхает на берегу Сены. Двое подростков стоят по пояс в воде; на голове одного из них ярко-красная купальная шапочка. Мальчик постарше сидит на высоком берегу, свесив ноги, и куда-то смотрит. Рядом с ним, лежа на боку, нежится мужчина в котелке, еще один господин наблюдает за рекой, его голова и глаза скрыты от нас большой панамой. В отдалении лавируют парусные лодки, а снизу вверх тянутся столбы дыма из труб современных парижских фабрик на горизонте. Мирная сцена пригородной жизни, отраженная на безмятежном полотне Сера.
Сцена написана в ясном фигуративном стиле, без малейших признаков туманной зыбкости, свойственной импрессионистам. У Сера и река, и ее берега обрели четкую геометрию. Его краски – оттенки красного, зеленого, синего и белого – такие же насыщенные, как у Моне или Ренуара, но нанесены с механической точностью.
Дюран-Рюэль представил картину на своей чрезвычайно успешной выставке 1886 года в Америке «Работы маслом и пастелью импрессионистов Парижа». «Купальщики» на ней особого успеха не имели. «Нью-Йорк тайме» так написала о них: «…одна из наиболее тревожащих среди выставленных картин… яркие цвета создают впечатление агрессивности». Другой американский критик увидел в картине «вульгарное, неразвитое и пошлое мышление». Что само по себе чересчур жестоко.
Ведь для молодого художника выставить свою работу рядом с картинами уважаемых и закаленных импрессионистов – это уже было достижение. К тому же «Купальщики в Аньере» стали для Сера отправной точкой его художественного пути, который привел его к знаменитым картинам в стиле пуантилизма (или иначе дивизионизма), когда на холст многочисленными точками наносятся несмешанные краски. К моменту написания «Купальщиков в Аньере» Сера еще не дошел до метода разделения цветов, но был к нему уже близко. Белый цвет рубашек, парусов и зданий служили общему замыслу Сера, оживляя соседние цвета вокруг, усиливая оттенки зеленого, красного и синего. Молодой художник начинал понимать: чем дальше разведены цвета, тем они ярче выглядят. Отсюда и размер картины – его краскам нужен был простор, чтобы дышать свободно.
В 1880-х годах XIX века наука стремительно меняла жизнь парижан, и железное чудо Гюстава Эйфеля стало символом трансформации Парижа, который из диккенсовского скопления трущоб превратился в современный шедевр, выстроенный с математической точностью. Сера мыслил в духе времени: он тоже считал, что все можно объяснить с научной точки зрения, даже когда речь заходит об искусстве. Он был поклонником Делакруа и разделял его увлеченность теорией цвета. Но если Делакруа экспериментировал методом проб и ошибок, то подход Сера скорее напоминал режиссерский кастинг. Он хотел постигнуть природу каждого цвета, чтобы понимать, как они будут взаимодействовать в пределах холста. И здесь пришлось обратиться к мнению специалистов.
Книга Исаака Ньютона «Оптика» (1704) была (и по сей день остается) исходной точкой для всякого, кто изучает теорию цвета. Великий ученый объясняет, как луч белого света, проходящий сквозь призму, разделяется на спектр из семи цветов. Лет через сто многогранный гений Иоганн Вольфганг Гёте изложил свое мнение по этому вопросу в книге «Теория цвета» (1810). А в 1839 году французский химик Мишель Эжен Шеврейль написал работу «О законе одновременного контраста цветов». Сера изучил их все.
Он считал, что современное искусство должно сочетать в себе точность старых мастеров и исследования импрессионистов в области цвета и повседневной жизни. Дега (который прозвал Сера «нотариусом» за консерватизм в одежде) придерживался тех же взглядов, но, как известно, реализовал их иначе. Сера решил отказаться от произвольных мазков импрессионистов и заменить их тщательно наносимыми точками, цвет которых он зачастую выбирал с противоположных сторон цветового круга (репр. 8), дабы подчеркнуть яркость с помощью контраста.
Этот прием он придумал, штудируя книги по теории цвета. Идея состояла в следующем: хотя на цветовом круге красный и зеленый расположены диаметрально, если их поместить на полотне рядом, то они дополнят друг друга: красный станет краснее, а зеленый – зеленее, тем самым каждый раскроется в максимальной полноте. Мане, Моне, Писсарро и Делакруа знали об этом, когда решили не смешивать контрастные цвета на палитре, а наносить их прямо на холст, так что те лишь слегка соприкасались, оставаясь чистыми.
У Сера имелась собственная теория. Он обнаружил, что контрастные цвета (красный и синий, синий и желтый и т. д.) кажутся ярче, если их слегка разделить. Он исходил из того, что, когда мы смотрим на красную, зеленую или синюю точку, то видим не только физическое пятно, но и легкое цветовое свечение вокруг него. Этот оптический эффект усиливается, если точка находится на белом фоне, который в большей степени отражает цвет, чем поглощает. И, как часто бывает, когда речь заходит о живописи, первопроходцем был Леонардо да Винчи. Для создания своих шедевров он сперва покрывал холст базовым слоем белой краски, а уже поверх него наносил прозрачные красочные слои. В результате при взгляде на картину кажется, что она светится: это белая грунтовка отражает падающий свет.
Сера решил остановиться на своем «точечном» варианте. У него крошечные пятнышки краски не соприкасаются и не смешиваются – эту работу делает за них зрительский глаз. Чтобы дополнительно оживить цветовую гамму, Сера грунтовал холст ярко-белой краской. На таком фоне светящиеся разрозненные точки чистого цвета придавали картине мерцание и трепет. Для художника с обостренным чувством порядка у этой техники был еще один плюс: ее сложность требовала от Сера дальнейшего упрощения форм. Результат получился ошеломляющий.
«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884–1886) (репр. 7) – одна из самых узнаваемых картин в мире. Она являет нам Сера в самом расцвете пуантилизма, хотя в ту пору французу не было даже тридцати. И снова перед нами огромное полотно, метра два на три – размер, позволяющий тщательно нанесенным пятнышкам пульсировать всей полнотой цвета. В отличие от «Купания в Аньере» сцена здесь гораздо более оживленная (Аньер – пригород Парижа напротив острова Гранд-Жатт на Сене). Состав действующих лиц включает человек пятьдесят, а еще восемь лодок, трех собак и обезьянку. Мужчины, женщины и дети на картине приняли разнообразные позы, большинство нарисованы в профиль и смотрят на реку Одна из дам, в длинном оранжевом платье и широкой соломенной шляпе, стоит у самой кромки воды. Левая ее рука покоится на бедре, а в правой – небольшая удочка. Несколько пар сидят и разговаривают, маленькая девочка танцует, собачка прыгает, а элегантная мамаша и ее смирная дочурка задумчиво бредут по направлению к зрителю. Почти все укрываются от солнца шляпой или зонтиком или тем и другим вместе. Прелестная, чарующая сценка – но далеко не простая.
Пуантилизм Сера дает интересный и неожиданный результат. Кажется, что изображение пенится, как бокал шампанского, когда контрастные точки искрятся перед глазами. Но элегантно одетые парижане, прогуливающиеся по солнышку славным воскресным деньком, которых Сера изобразил с помощью тщательно нанесенных точек, на картине неподвижны и безжизненны, точно фигурки, вырезанные из бумаги. Всем этим Сера нагоняет такой сюрреалистический ужас, что даже кинорежиссер Дэвид Линч, наверное, крякнул бы от удовольствия.
Картина «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» была выставлена на восьмой и последней выставке импрессионистов 1886 года, но, по всей видимости, оказалась там не очень уместна. Потому что это типичный постимпрессионизм. Тут нет ничего от импрессионистского «ускользающего мгновения»; куда больше – от игры в «море волнуется раз», когда по команде участники замирают в неких позах. Правда, здесь используется импрессионистская палитра несмешанных цветов, которые Сера чудесным образом сбалансировал, чтобы создать атмосферу теплой безмятежности. Но эти декорации далеки от импрессионизма: в них нет ни реализма, ни объективности. Общественные парки в Париже – обычно места шумные. Люди здесь не ходят строем и не сидят рядком.
И хотя картина представляет типичную сцену городской жизни конца XIX века, гармония самой композиции, простые и повторяющиеся геометрические формы и плотные тени воскрешают в памяти живопись Возрождения. А величественные фигуры уносят нас даже в более отдаленные периоды в истории искусства, к классической античности и египетским фризам, когда мистические сцены вырезались в камне и по кругу размещались вдоль стен, снаружи здания или внутри помещения. Но в этом стилизованном изображении, несомненно, угадывается и что-то уж очень «сегодняшнее». Цветные точки предвосхищают нашу забавную пиксельную эпоху, а геометрические формы напоминают современный промышленный дизайн. В искусстве Жоржа Сера определенно уже есть что-то от Джонатана Айва.
Это «что-то» проступает и в картинах четвертого и последнего из постимпрессионистов. В их компании он был самым взрослым и самым эксцентричным. Он был с импрессионизмом с момента его зарождения, но не пошел с ним до конца. Об этом художнике – на мой взгляд, величайшем в истории современного искусства, – Пикассо сказал: «Он был всем нам как отец». Стоит понять живопись Поля Сезанна – и все сразу станет на свои места.
Глава 5 Сезанн: «всем нам как отец», 1839-1906
Семидесятилетний британский художник Дэвид Хокни (р. 1937), рассуждая об искусстве, умел находить нетривиальные выражения. «Сезанн первым начал работать в оба глаза», – заявил он. Я улыбнулся. В январе 2012 года мы обсуждаем с ним Поля Сезанна, французского постимпрессиониста, прогуливаясь по выставке работ самого Хокни.
Лондон готовится к проведению летних Олимпийских игр, и устроители городских торжеств предложили Дэвиду оформить обширные галереи Королевской академии на Пикадилли. Задачу он выполнил, заполнив залы изображениями одних и тех же сюжетов: холмы, поля, деревья и тропинки Восточного Йоркшира на севере Англии. Сейчас Хокни семьдесят четыре, и он вновь сосредоточил свое внимание на сумрачных английских пейзажах взамен ярких огней Голливуда, где жил и работал последние тридцать лет. Картины – а это и написанные маслом холсты, и распечатки с айпада – завораживают и удивляют. Завораживают красками и формами, как их видит Хокни: тропинки фиолетовые, стволы деревьев оранжевые, листья – «киношные» слезы, снятые в технологии «Техниколор». А удивляют потому, что впервые всемирно признанный художник уровня Хокни взялся за переосмысление английского сельского пейзажа – во всяком случае, впервые за последние полвека.
Скажу больше. Современные пейзажи Хокни – самые неожиданные, оригинальные и провокационные после тех, что были написаны более ста лет назад во Франции человеком, о котором мы и ведем разговор, – Полем Сезанном. И совершенно очевидно, что этот постимпрессионист оказал большое влияние на британского художника как своим творчеством, так и взглядами. Пока мы беседуем, неспешно прогуливаясь по залам выставки, Хокни делает несколько отступлений, взахлеб рассказывая о том, как зреет замысел картин. Это – его соображения о природе наблюдения, которые в полной мере относятся к новаторским изысканиям художника, известного как «отшельник из Экса».
Такое прозвище дали Сезанну его современники после того, как он променял веселье Парижа на без малого сорок лет добровольного уединения в окрестностях своего родного дома в Экс-ан-Провансе на юге Франции. Как Моне в Живерни или Ван Гог в Арле, Сезанн стал пленником местного пейзажа. Хокни продолжил традицию полного погружения, открыв собственный источник вдохновения в одном из уголков родного Йоркшира: здесь он, как и Сезанн, годами изучал природу, свет и цвет, пытаясь понять, как лучше изобразить то, что он видит и чувствует.
Может, из-за того, что он столько лет прожил в Голливуде, Хокни испытывает потребность говорить о разрушительном влиянии камеры на искусство. Его гнев направлен на одноглазого монстра во всех обличьях, будь то фотография, кино или телевидение. Он считает, что именно камера заставила многих современных художников отказаться от фигуративного искусства, и они решили, что один механический объектив сумеет отразить реальность лучше, чем любой живописец или скульптор. «Но они ошибаются, – говорит он мне. – Камера не может увидеть того, что видит человек, она обязательно что-то да упустит». Будь Сезанн жив, он энергично закивал бы головой в знак согласия, добавив, что фотография ловит лишь мгновение. В то время как пейзаж, портрет или натюрморт, которые, казалось бы, увековечивают мгновение, на самом деле являются результатом дней, недель, а для многих художников (таких как Сезанн, Моне, Ван Гог, Гоген и Хокни) – и лет пристального созерцания предмета. Это результат осмысления огромного объема информации, опыта, наблюдений и пространственных исследований, который проявляется в цвете, композиции и атмосфере произведения.
Если десять человек встанут на вершине холма и сфотографируют вид одной и той же камерой, результаты будут практически одинаковые. Если те же десять человек сядут на холме и несколько дней будут писать красками тот же самый вид, получится десять разных картин. И не потому, что кто-то из них окажется более профессиональным художником. Все дело в человеческой природе: мы смотрим на один и тот же пейзаж, но видим его по-разному. Каждый человек привносит в творчество собственный, уникальный набор представлений, опыта, вкуса и знаний, по-своему интерпретируя увиденное. Мы замечаем то, что нам интересно, и закрываем глаза на все остальное. Условно говоря, рисуя двор фермы, кто-то сосредоточится на курах, а кого-то больше заинтересует жена фермера.
Если продолжить фермерскую тему, то я почти не сомневаюсь, что Сезанн выбрал бы сочетание статичных объектов: постройки, поилки, сено. Он предпочитал писать то, что не может двигаться: образы, в которые можно подолгу вглядываться; это позволяло ему получить правильное представление об объекте. Как художник, он стремился научиться изображать объект максимально верно – не фиксировать ускользающее мгновение, подобно импрессионистам, или вид в одной проекции, словно фотограф, но правдиво передать результаты неукоснительного наблюдения. Живописец мучился этой задачей. Когда его спрашивали, чего он стремится достичь, Сезанн отвечал кратко: «Уверенности». Критик Барбара Роуз справедливо заметила, что отправной точкой для старых мастеров служило утверждение: «Это то, что я вижу», в то время как для Сезанна все начиналось с вопроса: «Это то, что я вижу?»
Если бы его запросы только тем и ограничились, Сезанн так и остался бы частью импрессионистского движения, к которому принадлежал (его картины были включены в первую выставку импрессионистов 1874 года). Но придирчивый постимпрессионист предпочел еще больше усложнить дело, озадачившись тем, как именно он видит. Еще 130 лет назад он понял, что увидеть – не значит принять на веру; увидеть – значит усомниться. Именно это философское прозрение стало «мостиком», перекинутым из века разума и просвещения в XX век модернизма. И – через недавние работы Дэвида Хокни – в искусство XXI века. Философия Сезанна изменила лицо искусства. И, как многие гениальные озарения, его мысль ошеломляет не только своей простотой, но и очевидностью.
Мы, люди, рассуждал Сезанн, обладаем бинокулярным зрением: у нас два глаза. Более того, наш левый и правый глаз по-разному регистрируют визуальную информацию (хотя мозг объединяет два изображения в единое целое). Каждый глаз по-своему видит окружающие предметы. Мало того, мы ведь еще имеем привычку ерзать. Рассматривая объект, мы совершаем какие-то движения: вытягиваем шею, крутим головой, приподнимаемся с места. Тем не менее художник создает изображение, как будто подсмотренное через статичный объектив. В этом Сезанн увидел проблему искусства и своего времени, и прежнего: оно не представляет то, что мы действительно видим, ведь смотрим мы не одним глазом, а двумя. Так распахнулась дверь в модернизм.
Сезанн решил этот вопрос напрямую, изображая предмет на картине одновременно с двух точек зрения (сбоку и спереди, например). Взять хотя бы «Натюрморт с яблоками и персиками» (1905) (репр. 9). Это – один из сотен натюрмортов, написанных художником за сорокалетнюю карьеру, на которых похожие объекты скомпонованы примерно в одном стиле и изображены в двойной перспективе (или «в оба глаза», как выразился Хокни).
На этой картине несколько яблок и персиков разложено на правой стороне деревянного столика. Часть фруктов высится пирамидкой на тарелке, остальные просто лежат на ближнем крае стола. На заднем плане, за яблоками и персиками, стоит пустая бело-желто-голубая ваза. Слева от тарелки с фруктами две трети столешницы покрывает хлопчатобумажная драпировка (вероятно, занавеска) с набивным цветочным орнаментом в синем и грязно-желтом тонах. Материя скомкана на столе, так что получились глубокие складки, в одной из которых уютно устроилось красное яблоко, словно бейсбольный мяч в Кетчерской перчатке. Ткань прижата кувшином кремового цвета, который стоит слева напротив вазы.
Пока все традиционно. Но дальше начинается художественная революция. Сезанн изобразил кувшин сразу в двух ракурсах: сбоку, на уровне глаз, и сверху, как бы заглядывая в горлышко. То же самое относится к деревянной столешнице – ее художник наклонил к зрителю примерно на двадцать градусов, чтобы показать как можно больше яблок и персиков (тоже нарисованных под двумя углами). С точки зрения закона прямой линейной перспективы, принятой в живописи с эпохи Возрождения, фрукты покатились бы со стола и упали на пол. Но тут перспектива принесена в жертву ради правды. Сезанн показывает то, как мы видим. Он демонстрирует совокупность ракурсов, в которых мы рассматриваем ту или иную композицию. И одновременно пытается сообщить и другую правду – о том, как мы воспринимаем визуальную информацию. Если мы видим двенадцать яблок, сложенных на тарелке, мы не «считываем» их по одному, как двенадцать отдельных яблок, но интерпретируем образ в целом: тарелка, полная яблок. В понимании Сезанна это означает, что общий план картины куда важнее, чем отдельные элементы.
Показ предметов под несколькими углами внутри целостной композиции делает изображение более плоским. Наклоняя столешницу к наблюдателю, Сезанн увеличивает количество зрительной информации, жертвуя иллюзией трехмерности. И распрощавшись таким образом с мнимым «воздушным кубом», сосредоточивается на целостности образа. Для Сезанна каждая форма и цвет на холсте – как музыкальные ноты, которые он тщательно подбирает, чтобы зазвучал один гармонический аккорд: каждый удар кисти подчинен этой задаче. Такой подход требует скрупулезного планирования.
За каждым яблоком, каждой складкой драпировки стоит обдуманное, осознанное решение художника, стремящегося создать ритмичную, рациональную композицию. Цвета предметов и то, как они сочетаются, зеркально отражая и дополняя друг друга, – все учтено Сезанном, который, как и Сера, был дока по части колористики. Чередуя чистые, несмешанные пятна теплых и холодных тонов, он добивается мерцающего свечения. Голубой (холодный) и желтый (теплый) – диаметральные противоположности и в неумелых руках могут явить ужасающий диссонанс. Но под виртуозной кистью Сезанна они создают тот контраст, благодаря которому холст буквально источает колористическую сочность. Оба цвета выступают как бы в паре, лейтмотивом проходящей сквозь «Натюрморт». Это и крупные голубые и желтые цветы узора на драпировке, и нежные голубые завитки на вазе, напротив которой россыпью лежат желтые яблоки; и легкие вкрапления того же голубого тона на желтоватой столешнице. Эти же едва уловимые голубые пятна дополняют собой не только цвет плодов, но и переднюю боковину деревянного стола, желто-коричневую в вечерних лучах уходящего лета.
Столь современный подход к цвету Сезанн уравновешивает традиционными тональными переходами, присущими «большому стилю». Глубокие коричневые тона стены-фона постепенно сменяются светло-коричневыми деревянного стола, те, в свою очередь, переходят в оттенки красного и желтого (плоды) и, наконец, разрешаются в кремово-белую тональность кувшина и вазы. Это и есть наивысшее проявление живописного мастерства и чувства цвета – когда разрозненные элементы связываются в единое целое, в нерасторжимый гармоничный образ благодаря краскам, выступающим в роли музыкальных аккордов.
«Натюрморт с яблоками и персиками» наглядно демонстрирует, как Сезанн навсегда изменил искусство. Его отказ от традиционной перспективы в пользу общего художественного замысла и внедрения в живопись бинокулярного зрения открыл дорогу кубизму (где иллюзия трехмерного пространства была отброшена ради максимальной передачи визуальной информации), футуризму, конструктивизму, а также орнаментальности Матисса. Но Сезанн на этом не остановился. Исследуя, как мы на самом деле видим предметы, он пришел к открытию, которое впоследствии приведет живопись в революционную и до сих пор спорную область абстрактного искусства.
Сезанн, как и его друзья-постимпрессионисты, в конце концов осознал бесперспективность импрессионизма. Сера перерос эту школу в своем стремлении к упорядоченности и структурированности. Ван Гог и Гоген порвали с ней, не приняв требования точно отображать объективную реальность. А Сезанн, со своей стороны, считал, что импрессионисты недостаточно объективны, им не хватает твердости в стремлении к подлинному реализму. Его опасения разделяли Дега и Сера, которые находили картины Моне, Ренуара, Моризо и Писсарро несколько надуманными; лишенными структуры и ощущения устойчивости. Сера, как мы знаем, обратился к науке за помощью в решении этой проблемы; Сезанн повернулся к природе.
Он полагал, что всем «художникам следует целиком посвятить себя изучению природы». Каким бы ни был вопрос, мать-природа даст на него ответ. Сам Сезанн озадачил ее вполне конкретной проблемой: как превратить «импрессионизм в нечто более основательное и вечное, подобное музейному искусству». Он имел в виду соединение основательности и серьезности старых мастеров с приверженностью импрессионистов устраиваться непосредственно перед объектом, на пленэре, в попытках точно сымитировать реальность на холсте.
Эта задача как нельзя лучше соответствовала его характеру – в чем-то консерватора, в чем-то революционера. Он ставил великих художников Возрождения выше импрессионистов в том, что касается композиции, пропорций и форм. В то же время он считал, что работам Леонардо и других недостает правдоподобия. В 1866 году, еще увлеченный импрессионизмом, Сезанн писал своему школьному другу Эмилю Золя: «Я думаю, что в картинах старых мастеров изображения предметов на открытом воздухе сделаны по памяти, потому что в них нет того своеобразия и той правдивости, что присущи природе». Другими словами, любой талантливый художник может сфабриковать пейзаж, но передать природу на холсте достоверно – это задача куда более трудная.
«Знаешь, все картины, сделанные дома, в мастерской, никогда не сравнятся с вещами, написанными на пленэре, – заявил Сезанн, прежде чем связать себя с жизнью на природе, отдавшись на милость окружающей среде, и продолжил: – [В сценах на открытом воздухе] я вижу прекрасные вещи, и надо начать работать только на пленэре». День за днем, с рассвета до заката, он будет сидеть у горы или моря в своем родном Провансе и писать то, что видит. Ведь, по Сезанну, задача художника «проникнуться тем, что у тебя перед глазами, и упорно стараться изъясняться как можно логичнее».
Это оказалось сложнее, чем он ожидал. Словно отец семейства, решивший устранить мелкую поломку своими руками, но увязший во множестве сопутствующих непредвиденных сложностей, Сезанн обнаружил, что каждый раз, когда он одолевал одну проблему, связанную с добросовестным, документальным отображением природы – например ее масштаба и перспективы, тотчас возникали десятки других, – скажем, искажение формы или неточность композиции. Все это приводило его в смятение, мучило, терзало сомнениями в собственных способностях. Удивительно, как он не оказался в том же сумасшедшем доме, что и Ван Гог, который, кстати, находился по соседству с его домом в Провансе. Но Сезанн был слеплен из другого, чем его голландский коллега, теста. Как писал Золя: «Он [Сезанн] сделан из одного куска твердого и неподатливого материала; ничто его не согнет, ничто не может вырвать у него уступки».
Это передалось ему от отца. Père[11] Сезанна был богатым и успешным человеком, который знал, что почем в этом мире. Он не одобрял идею сына стать художником. Что это за профессия? Где тут галстук, костюм-тройка, сверкающие туфли и кабинет с именем, выгравированным на дверной табличке? Отец посоветовал упрямому сыну стать адвокатом. «Non», – ответил Поль. И это, как ни странно, сработало, поскольку отец, пусть и без особой охоты, оплатил учебу сына в Школе изящных искусств и помогал в первые годы творчества. Но отношения между ними всегда оставались напряженными и вряд ли стали лучше, когда Сезанн-младший не известил отца, что обзавелся любовницей и сыном. Только после смерти отца в 1886 году, когда сын унаследовал большую сумму и поместье в Эксе, он наконец обрел некоторый покой, и Прованс стал его домом.
Гора Сент-Виктуар доминирует над местным пейзажем, – огромная, угрюмая, видная на десятки километров вокруг. Ее неизменность, ее история, ее могучее присутствие оказывали магнетическое действие на столь же несокрушимого художника, стремившегося создавать картины, исполненные ощущения постоянства. Техника, которую выбрал Сезанн, чтобы запечатлеть этот свой заветный мотив, вполне соответствовала складу его характера. В то время как Ван Гог выражал свое видение объекта через искажение, Сезанн делал это через рисунок и цвет, что наглядно демонстрирует картина «Гора Сент-Виктуар» (1887) (репр. 10), которой ныне владеет галерея Курто в Лондоне.
На сей раз Сезанн написал вид на гору с западной части Экса, со стороны своего фамильного поместья. Лоскутное одеяло из золотых и зеленых полей (изображенное под двумя углами, как минимум) расстелено до самого подножия синевато-розовой громады, которая торчит среди пейзажа, как гигантская вспухшая шишка. То, как Сезанн изобразил гору, заставляет предположить, что он находился неподалеку, в то время как на самом деле расстояние составляло около тринадцати километров. Именно это Сезанн имел в виду, говоря о выражении ощущения через линию и цвет. Он намеренно ушел от точной перспективы, приблизив гору, дабы показать, что для его сознания и глаз она – доминирующий объект. Холодноватые тона, которыми он написал ее, призваны передать суровость каменного монолита на фоне более мягких и теплых красок полей.
Зрение Сезанна подобно слуху летучей мыши, оно работает на иной частоте, не как у всех нас. Некоторые особенности нашего зрительного восприятия он смог воспроизвести благодаря своей технике двойной перспективы, гармоничной композиции и акцентированию особо значимых субъективно выбранных объектов. Но и этого живописцу показалось мало. Как он сам говорил молодому французскому художнику Эмилю Бернару (1868–1941), «надо увидеть природу так, как никто ее прежде не видел».
Поначалу Бернар работал с Гогеном в Понт-Авене в Бретани; они рассорились после того, как Бернар заявил (вполне обоснованно), что Гоген украл у него идеи и стиль. Но тогда Бернару следовало признать, что и сам он, в свою очередь, не просто прислушался к советам Сезанна, но и позаимствовал некоторые его соображения, скорее всего высказанные в знаменитом афоризме обычно молчаливого художника: «Разрешите мне повторить, что я уже говорил вам… трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса…»
Речь идет об открытии, которое он сделал, когда увидел «природу так, как никто ее прежде не видел»: оказывается, когда мы смотрим на пейзаж, мы видим прежде всего формы. И тогда Сезанн попробовал свести изображение полей, зданий, деревьев, гор и даже людей к последовательности геометрических фигур. Поле становилось зеленым прямоугольником, дом превращался в коричневый куб, а большой камень приобретал форму шара. Этот прием виден и на полотне из галереи Курто, являющем собой не что иное, как нагромождение геометрических фигур. То был радикальный, революционный подход, который заставил многих любителей традиционного искусства озадаченно чесать затылок. Морис Дени (1870–1943), молодой французский художник, попытался объяснить его, заявив, что картину возможно оценивать и по иным критериям, отдельным от изображенного объекта. «Следует помнить, – сказал он, – что картина – не боевой конь, не обнаженная женщина или какой-нибудь эпизод, а прежде всего не что иное, как плоская поверхность, покрытая красками, нанесенными в определенном порядке».
Через двадцать пять лет аналитический подход Сезанна к изображению, основанный на редукции детали ради геометрической формы, приведет к логическому следствию: полному отрыву от объекта. Художники России, Германии, Италии, Франции, Нидерландов и, наконец, Америки (в лице абстрактных экспрессионистов) начнут создавать свои произведения из плоских, монохромных геометрических фигур: квадратов, кругов, треугольников и ромбов. Для некоторых фигуры были аллюзиями на окружающий мир (желтый круг – солнце, голубой прямоугольник – море или небо), для других нагромождение квадратов и треугольников стало не более чем формальной конструкцией. В таких случаях художник просил, чтобы его работы оценивали на основе вышеприведенного философского заявления Мориса Дени. Поразительно, что отшельник Сезанн, запершись у себя в Эксе, вдали от авангардного Парижа, оказал столь мощное влияние на искусство XX века. И это при том, что мастер еще не завершил своих изысканий.
Для достижения поставленной цели – превращения импрессионизма «в нечто более основательное и вечное, подобное музейному искусству», – оставалось сделать последний логический ход. После упрощения пейзажа до группы взаимосвязанных геометрических фигур предстояло предпринять всего один шаг вперед: ввести в пейзаж что-то наподобие жесткой координатной сетки. Или, как поэтично выразился сам живописец, «линии, параллельные горизонту, передающие протяженность фрагмента природы или, если угодно, той картины, которую Pater Omnipotens Aeteme Deus[12] развертывает перед нашими глазами. Линии, перпендикулярные этому горизонту, дадут глубину».
Воплощение этой идеи Сезанна можно увидеть все на той же картине «Гора Сент-Виктуар» из галереи Курто. Художник выстроил систему параллельных горизонтальных линий при помощи полей, железнодорожного виадука, крыш домов; она тянется до самого подножия горы. А потом, чтобы создать ощущение глубины, он добавил активно укороченный и обрезанный древесный ствол, тянущийся снизу вверх по всей левой стороне холста. Прием работает в точном соответствии с замыслом Сезанна: создавая иллюзию, будто гора и поля находятся в отдалении. Вы можете и сами в этом убедиться, удалив ствол из поля зрения (скажем, просто заслонив его рукой). Попробуйте – и вы почувствуете, что трехмерность исчезла. Полностью изменится и восприятие ветвей дерева, этой хитроумной «рамки», придуманной Сезанном. Они повторяют форму горного хребта, но как только ствол дерева уходит из поля зрения, становятся элементом неба. Верните ствол на место – и ветви вновь образуют внушительный элемент переднего плана картины, словно нависая над головой художника.
Но у дерева есть еще одна немного странная ветка, торчащая посередине ствола. С помощью листвы на ней Сезанн соединяет задний план с передним; расстояние в тринадцать километров перекрывается простым нанесением нескольких параллельных диагональных мазков зеленой краски. Мастер как бы склеивает время и пространство путем наложения и объединения отдельных плоскостей цвета – с помощью техники, известной как «пассаж» (которая и привела к кубизму). Это тоже результат стремления художника отобразить «гармонию природы» и то, как мы видим предметы и пространство, когда не сознаем ни расстояний, ни законов перспективы.
В попытках «добавить новое звено» к искусству прошлого Сезанн, сам того не ведая, приоткрыл дверь в модернизм. К моменту его кончины она уже болталась на расшатанных петлях. Его изобретения – структурная решетка и упрощение деталей до геометрических форм – нашли свое отражение в архитектуре Ле Корбюзье, угловатых конструкциях Баухауса и искусстве Пита Мондриана. Этот голландец, один из основателей движения «Де Стиль», довел идеи Сезанна до их предельного выражения в своих знаменитых картинах, где решетка из вертикальных и горизонтальных черных полос с вкраплениями прямоугольников основных цветов составляет сущность произведения.
Сезанн умер в октябре 1906 года в возрасте шестидесяти семи лет от осложнений пневмонии, которую подхватил, промокнув до нитки под дождем во время работы на пленэре. Месяцем раньше он задается вопросом в одном из писем: «Удастся ли мне когда-нибудь достичь той цели, к которой я стремился так долго и так трудно?» В этой реплике – и отчаяние, и разочарование, и вся сущность этого человека. Его преданность искусству была безграничной и непоколебимой. Он ставил перед собой сложные интеллектуальные и технические задачи, решить которые, как ему казалось, так и не смог. Но в своих упорных попытках он достиг больше, чем любой из его современников. К 1906 году Сезанн стал фигурой почти легендарной. Отчасти это было связано с его жизнью добровольного изгнанника в Эксе и отсутствием желания (и необходимости) продавать свои картины (которые, когда он все-таки посылал их в Париж, хорошо продавались). Он стал этаким «Хладнокровным Люком»[13] парижского авангарда: чем меньше он говорил, тем больше к нему прислушивались. Сезанн успел заворожить многих художников, которые впоследствии прославят свое поколение, в их числе Анри Матисс (1869–1954) и Пьер Боннар (1867–1947). Но мало кто так восхищался им, как одаренный молодой испанец Пабло Пикассо, который сказал: «Сезанн – мой единственный учитель! Конечно, я смотрел на его картины… я годами изучал их».
В 1907 году на Осеннем салоне устроили мемориальную выставку Сезанна. Она стала сенсацией. Художники всего мира съехались посмотреть ретроспективу работ Мастера из Экса. И застыли в благоговении, потрясенные тем, как много позаимствовал Сезанн у старых мастеров, чтобы продвинуть искусство вперед. Выставка пришлась как раз на тот период, когда некоторые из плеяды молодых талантливых художников начинали разочаровываться в поверхностности современного мира. Оценивая достижения Сезанна, они задумывались о том, что можно почерпнуть из опыта предшественников, если еще больше углубиться в прошлое – в эпоху, когда о современной цивилизации еще и речи не было.
Глава 6 Примитивизм,1880–1930/ Фовизм, 1905–1910: зов предков
Примитивизм проходит через всю историю современного искусства и служит надежным фундаментом. Термин относится к произведениям западноевропейской живописи и скульптуры, которые копировали – или напоминали – артефакты, резьбу и другие изображения, дошедшие до наших дней из древних культур. В нем улавливается империалистический подтекст, ведь его придумали просвещенные «цивилизованные» европейцы для снисходительного обозначения искусства необразованных и «нецивилизованных» племен Африки, Южной Америки, Австралии и южной части Тихого океана.
Примитивизм предполагает отсутствие развития в этих культурах и соответственно в искусстве: африканскую деревянную скульптуру, сделанную две тысячи лет назад, не отличишь от той, что сварганят сегодня, – они обе первобытны по определению. Но ирония в том, что современная версия скорее всего предназначена для туристов, – это как раз тот случай, когда «первобытные» ловкачи водят за нос доверчивых европейцев, – но этого не могли знать те, кто в начале XX века с энтузиазмом превозносил ценности «наивной», неиспорченной культуры благородных дикарей.
Сентиментальное и идеализированное представление о благородном дикаре восходит к эпохе Просвещения, зародившейся в конце XVII века. В современном искусстве одним из первых приверженцев примитивизма стал Гоген. Это он в 1891 году оставил европейский декаданс и поселился среди туземцев Таити, заявив, что станет «дикарем» и будет творить, вдохновляясь «первобытным окружением» (как оказалось, еще и заражать это окружение венерической болезнью). Это было в духе идеологии «возврата к истокам», которая в конце XIX века вызвала к жизни целое направление в декоративно-прикладном искусстве, в разных странах именуемое по-разному: ар-нуво (во Франции), югендстиль (в Германии), Венский сецессион (в Австрии). Художники и другие мастера стали изготавливать предметы и картины, в которых преобладал чувственный изгиб, – вещи, отсылающие зрителя к элегантности древней керамики и простоте природных мотивов.
Густав Климт (1862–1918) – пожалуй, наиболее известный художник этого направления, а его картину «Поцелуй» (1907–1908) можно считать самым ярким воплощением новой школы. Влюбленная чета на картине могла быть с таким же успехом изображена на стене пещеры – ведь композиция тут двумерная, а сюжет вечный. Мужчина стоит, склонив голову к щеке коленопреклоненной возлюбленной; ее босые ступни покоятся на ковре, сплетенном из трав и цветов. Фигуры окутаны золотистым сиянием богатых одежд. На мужчине длинная золотая туника с древним мозаичным узором; женщина в золотом платье, украшенном геометрическими фигурами-символами, напоминающими какие-то удивительные доисторические окаменелости. Фоном для ритуальных объятий служит плоская бронзовая поверхность, – совершенная, как и мир, в котором обитают влюбленные.
В картине Климта, безусловно, присутствует мистическая атмосфера примитивизма, но она гораздо более роскошная и изысканная, чем в произведениях парижских модернистов, тоже вдохновленных далеким прошлым. Хотя в творчестве парижан присутствовали те же отсылки к древности, но имелись и собственные, специфические источники вдохновения. Французы основали колонии в Западной Африке, откуда в Париж хлынул поток артефактов. Французские торговцы возвращались из Африки со всевозможной «экзотикой» – красочным текстилем, резными фигурками и разнообразными поделками, использовавшимися в ритуалах африканских деревень. Самым популярным сувениром, который можно было найти в антикварных магазинах города и этнографическом музее, стала резная африканская маска – будущая квинтэссенция современного искусства. Молодые художники, жившие в Париже конца века, восхищались простотой и непосредственностью этих резных тотемов – недостижимыми для них самих, поскольку все первобытные порывы из них вытравили еще на стадии обучения. Воззрения у художников были, конечно, романтические: «аборигенное искусство» создано сознанием, не испорченным материалистической западной культурой; сознанием, в котором еще сохранилась детскость, только и способная творить непорочные и глубоко правдивые произведения.
Считается, что молодое поколение наставил на путь примитивизма художник Морис де Вламинк (1876–1958). По его собственным словам, все началось с того, что он увидел три африканские маски в одном кафе в Аржантёйе, северо-западном пригороде Парижа, в 1905 году. Был невыносимо знойный день, и художник пребывал в поисках бокала освежающего вина в награду за долгие часы работы на пленэре. Повлияло ли на его душевное состояние сочетание перегрева на солнце с перебором спиртного – вопрос остается открытым, но как бы там ни было, увидев эти маски, художник был сражен наповал экспрессивной силой того, что он назвал «инстинктивным искусством». После долгого торга он в конце концов приобрел маски у хозяина кафе, аккуратно завернул их и понес домой, чтобы показать парочке своих друзей, которые, как он полагал, разделят его энтузиазм.
Вламинк оказался прав. Анри Матисс и Андре Дерен (1880–1954) были приятно удивлены. Эту троицу объединяло восхищение яркой палитрой Ван Гога и первобытными пристрастиями Гогена. Теперь, рассматривая африканские маски, они сходились в том, что в этой резьбе по дереву присутствует та свобода, которой столь недостает европейскому искусству. Их всю жизнь учили стремиться к достижению идеальной красоты – но ведь в этих африканских артефактах ею и не пахнет: напротив, маски порой бывают уродливы и тем не менее ценятся как некий символ. Что если и нам, троим парижанам, взяться за что-то подобное? Освободившись от слепого следования внешнему, акцентировать в своих картинах внутренние свойства объекта?
Довольно скоро в ходе беседы, поводом для которой послужили маски, трое художников договорились о новом подходе к живописи: цвет и эмоции куда важнее, чем точное изображение предмета. В то лето Матисс и Дерен, старые друзья, вместе учившиеся в Париже, бросили нудноватого Вламинка и отправились на каникулы в Кольюр, на юг Франции. Там их встретило солнце такое жгучее и цвета настолько яркие, что оба взялись за работу с утроенной энергией, выдав на-гора сотни картин, этюдов и скульптур. Их работы поражали эмоциональной раскованностью, буйством красок, они как будто излучали радостную весть о том, что мир прекрасен. Картина «Лодки в порту Кольюра» (1905) Дерена типична для творчества обоих художников того периода.
Естественные цвета, перспектива и реализм – со всем этим Дерен распрощался ради того, чтобы передать душу порта. И это означало совсем иное изображение классического средиземноморского побережья. Вместо золотой полоски пляжа, утыканной лодочками, Дерен пишет песок огненно-красным цветом, символизирующим раскаленный жар. Грубо сколоченные рыбацкие лодки акцентированы голубыми и оранжевыми мазками. Точно воспроизвести горную гряду вдали художник даже не пытается, лишь едва обозначает ее чередой розовых и коричневых пятен, окаймляющих верхний край картины и уравновешивающих цветовую композицию. Море обозначено отрывистыми темно-синими и серо-зелеными штрихами, напоминающими ранний импрессионизм Моне или пуантилизм Сера, но с гораздо меньшим вниманием к деталям: море у Дерена скорее похоже на мозаичный пол. В результате мы имеем картину-воспоминание, которая не столько изображает Кольюр, сколько позволяет его ощутить. Смысл ее предельно ясен: порт – жаркий, деревенский, незатейливый и живописный. Художник использует краски, как поэт слова, чтобы передать суть вещей.
Вернувшись в Париж, Матисс и Дерен продемонстрировали Вламинку плоды своих трудов. Дерен нервничал, не зная, как отреагирует взрывной Вламинк, поскольку уже имел случай убедиться в буйном темпераменте друга во время их совместной службы в армии. Вламинк взглянул на работы художников-отпускников и ушел. Он отправился прямиком к себе в мастерскую, взял мольберт, холст, кое-какие краски и был таков.
И вскоре появился «Ресторан “Ла Машин” в Буживале» (1905). На картине – модная деревушка к западу от Парижа в знойный полдень. Она безлюдна – вероятно, жители прячутся по домам, спасая глаза от слепящего пейзажа, – разумеется, если они видят свою деревню так же, как Вламинк. Он довел интенсивность цвета до максимума, превратив сельскую идиллию в галлюцинацию. Для художника улицы Буживаля действительно вымощены золотом (судя по краскам). Между тем приятная деревенская зелень превратилась в броское лоскутное шитье из оранжевых, желтых и голубых заплаток. Кора на дереве не коричневая и не серая, как можно было бы ожидать, а калейдоскопическое сочетание ярко-алого, аквамаринового и лимонно-зеленого. Что же до домов вдоль золотой брусчатки, то их формы у Вламинка предельно упростились, крыши обозначены небрежными мазками бирюзовой краски, а фасады – белыми и розовыми пятнами.
Все вместе – что называется, «вырви глаз». Вламинк использует чистую краску, прямо из тюбика, чтобы экстремальным цветом выразить свои экстремальные ощущения. Он как-то сказал о своей работе в тот период, что «транспонировал в оркестровку чистых тонов все, что чувствовал… Я переводил на язык цвета то, что видел, инстинктивно, без всякого метода, чтобы сказать правду не как художник, а как человек. Выжимая до конца, ломая тюбики аквамарина и киновари». Вламинку это удалось. «Ресторан “Ла Машин” в Буживале» – картина из реальной жизни, но не из той, что знакома большинству из нас.
К осени три художника решили, что произвели достаточное количество шокирующих работ, чтобы выступить на Осеннем салоне 1905 года. Это был новый Салон, открытый в 1903 году в пику стремительно теряющей актуальность ежегодной выставке Академии с целью обеспечить художников-авангардистов альтернативным выставочным залом, где они могли бы показать свои работы. Некоторые члены отборочного комитета Салона, увидев психоделические опыты нашей троицы, посоветовали им воздержаться от публичного показа. Но Матисс, влиятельная фигура в комитете, настаивал, что он и двое его друзей не только выставят свои картины, но и повесят их в одном зале, чтобы посетитель мог сполна насладиться ослепительной палитрой.
Реакция на их усилия была неоднозначной. Кого-то позабавили пестрые насыщенные цвета, но большинство было не в восторге. Влиятельный критик Луи Восель, человек консервативных взглядов, пренебрежительно сказал, что эти картины писали дикие звери (фр.«les fauves»). Ироничная реплика критика в очередной раз дала не только имя, но и импульс новому направлению в современном искусстве.
Дерен, Матисс и Вламинк вовсе не помышляли о новом движении, у них не было ни манифеста, ни политической программы. Они просто хотели исследовать пространство экспрессии, открытое Ван Гогом и Гогеном, и попытались влиться в русло атавистического искусства африканских поделок. В защиту Воселя стоит сказать, что в результате этих экспериментов на свет явилась палитра совершенно неожиданная, сильно выходящая за рамки понимания критика в 1905 году. Его глаз оказался не готов к сочетаниям цветов, умышленно подобранных в диссонансе ради создания произведений самобытных и запоминающихся, как те образцы материальной культуры древних племен, что все больше заполняют мастерские художников. Миру искусства, который еще только привыкал к импрессионизму и постимпрессионизму, экстремальные цвета «диких» казались верхом вульгарности и безвкусия. При этом в парижском художественном сообществе вряд ли удалось бы найти человека более далекого от дикости, чем Анри Матисс.
То был серьезный человек, отец троих детей, всегда прилично одетый, с манерами адвоката (кем он прежде и работал). Единственная «дикая» выходка, которую он себе позволил, это пойти против воли отца и променять юриспруденцию на живопись. Во всем остальном он был прямой, как взлетная полоса. Однажды Матисс признался, что мечтает «об уравновешенном искусстве, которое могло бы дать отдых уму интеллектуального работника, делового человека, литератора, подобно тому, как удобное кресло дает отдых физически усталому человеку». Но у посетителей Осеннего салона 1905 года при виде его работ подобных ощущений не возникло. Самый большой переполох вызвала картина Матисса «Женщина в шляпе» (1905). Это портрет его жены Амели, она одета в лучшее воскресное платье и оглядывается через плечо. Как мы знаем, импрессионисты и постимпрессионисты ратовали за неформальные картины, передающие настроение, но даже они сочли бы, что это чересчур. Но сам Матисс так не считал.
«Женщина в шляпе» поднимает уровень нонконформизма на новую высоту. Краски на холст брошены настолько небрежно, что портрет выглядит мазней на использованной палитре. А если учесть, что модель – это жена художника, то поступок Матисса выглядит вообще неслыханным. Впрочем, художник начинал эту работу вполне традиционно – изобразил жену в элегантном наряде, как подобает модной даме из французского буржуазного семейства. Рука в стильной перчатке сжимает веер, прекрасные каштановые волосы большей частью скрыты замысловатой шляпкой. Все пристойно: мадам Матисс осталась бы довольна. Пока не увидела конечный результат. Муж уменьшил ее лицо до размеров африканской маски, да еще раскрасил его эскизными мазками желтого и зеленого. Шляпа выглядит так, будто ее рисовал ребенок, пытаясь изобразить вазу с тропическими фруктами, а роскошная шевелюра мадам обозначена несколькими оранжево-красными штрихами, так же как брови и губы. Что же до платья… Скажем так, Матисс не стал с ним церемониться, нарядив жену в нечто похожее на тряпье с благотворительной распродажи – смесь диких расцветок в совершенно произвольном сочетании. Фон практически отсутствует, его заменяют четыре-пять расплывчатых цветных пятен. Непосвященному критику картина могла скорее показаться наспех сляпанной работой маляра, привыкшего подбирать колер на ободранной стене, чем полотном уважаемого художника в зените мастерства.
Можно ли назвать портрет красочным? Пожалуй, да. А точным? Ни в коем случае. Когда вы в последний раз видели человека с зеленым носом? Обидно за мадам Матисс? Очень. Если бы Матисс так надругался над пейзажем, это вызвало бы некоторое смятение, но изобразить женщину в таком виде – это неслыханная дерзость. И словно подливая масла в огонь, на вопрос, во что же все-таки была одета его жена, Матисс ответил: «В черное, разумеется». Картина получилась небрежнее, чем работы импрессионистов, ярче, чем у Ван Гога, пестрее, чем у искрометного Гогена. На самом деле она ближе всего к работам Сезанна. Прием, который применил Матисс, структурируя образ цветовыми блоками, предполагает, что он прислушался к совету Сезанна писать то, что действительно видишь, а не то, что тебя приучили видеть. Буйство красок на портрете – свидетельство страсти, которую этот сдержанный человек испытывал к своей жене.
После нескольких дней раздумий «Женщину в шляпе» купил эмигрировший из Америки Лео Стайн, брат Гертруды Стайн. Этот мощный тандем перебрался в Париж в 1903 году. Квартира Лео и Гертруды Стайн на улице Флерюс, в модном квартале Монпарнас на южном берегу Сены, стала центром культурной жизни города: здесь собирались художники, поэты, музыканты и философы, жившие в Париже или туда наведывавшиеся. Попасть в этот салон и засветиться там мечтали все. Лео был искусствоведом и коллекционером, Гертруда – харизматичной интеллектуалкой и писательницей. Вместе они собрали потрясающую коллекцию современного искусства и влиятельное сообщество друзей. Их вклад в историю современного искусства трудно переоценить. Они не только были заметными фигурами в среде городской интеллигенции, но еще и стимулировали творчество молодых художников. Они подталкивали их вперед, поддерживали материально, покупая их работы, – даже если они им не очень нравились. Как это было и с «Женщиной в шляпе» Матисса, про которую Лео сказал: «Более отвратительной мазни я еще в жизни не видел».
Со временем он изменил свое отношение и к картине, и к новому стилю Матисса. Настолько, что уже в следующем году купил еще одну спорную работу художника, «Счастье жизни» (1905–1906) (репр. 11), также известную как «Радость жизни». Эта покупка демонстрирует веру Стайнов в своих друзей-художников, как и их уверенность в собственных оценках. Она же – пример того, как дальновидный покровитель может оказать существенную помощь художнику в становлении его карьеры, как это было в случае с Леонардо да Винчи в XV веке и совсем недавно с Дэмиеном Херстом. К счастью для Стайнов, большая квартира позволяла развернуться их страсти к живописи. «Радость жизни» – объемистое полотно, размером примерно 2,4 х 1,8 метра, и его предстояло втиснуть между другими картинами Сезанна, Ренуара, Анри де Тулуз-Лотрека и упомянутой «Женщиной в шляпе» Матисса.
«Радость жизни» можно считать квинтэссенцией фовистской живописи. Отправной точкой для Матисса стала пасторальная сцена – давно устоявшийся жанр традиционной пейзажной живописи. Он представил картину, исполненную гедонистического упоения – здесь предаются любви, музицируют, танцуют, нежатся на солнце, собирают цветы, отдыхают, и все это происходит на ярко-желтом пляже, поросшем деревьями с оранжевыми и зелеными кронами. Они грациозно склоняются, отбрасывая пятна тени на фиолетовую траву, где целуются и обнимаются влюбленные. Спокойное море вдали такого же экстравагантного цвета, как трава, служит границей, отделяющей золотой песок от странно-розового неба.
Этюды к этой картине Матисс написал во время своей недавней поездки в Кольюр с Дереном, но история сюжета гораздо старше. Она восходит к XVI веку, к гравюре Агостино Карраччи (1557–1602) «Взаимная любовь», которая изображает практически такую же сцену. На обеих картинах группа радостных танцоров на среднем плане, нежащаяся парочка на переднем. Те же влюбленные в тени в правом нижнем углу, и те же нависающие ветки, которые обрамляют композицию и направляют взгляд зрителя в ее центр, на освещенную прогалину. Ну и, конечно же, ни лоскутка одежды на персонажах. Сходство поразительное.
Если не считать того, что персонажи у Матисса – это причудливые, небрежно написанные фигуры леденцового цвета. И в этом смысле полотно в высшей степени оригинальное: в нем Матисс демонстрирует великолепное владение не только цветом, но и композицией. Легкость, изящество, текучие линии – сами по себе радость для глаза. Способность одним штрихом на холсте поймать внимание зрителя и надолго удержать его – признак не просто хорошего живописца, но великого мастера. За всю историю живописи мало кому из художников удавалось достичь подобного равновесия контрастных форм и согласованности композиции. Но случилось так, что один из тех редких талантов, что могли бы выдержать подобное сравнение, проживал в Париже одновременно с Матиссом.
Пабло Пикассо (1881–1973), способный молодой испанский художник, заставил заговорить о себе еще в свой первый визит в Париж в 1900 году, совсем юным. К 1906 году он уже стал полноправным парижанином, «звездой» авангарда и частым гостем в салоне Стайнов. Это там он увидел последние работы Матисса и, фигурально говоря, позеленел от зависти, как нос мадам Матисс на пресловутом портрете.
Внешне мужчины держались любезно, но в душе были отчаянными соперниками и не спускали друг с друга глаз. В частных беседах оба признавались, что между ними развернется нешуточная борьба за звание величайшего из ныне живущих художников, которое освободилось после смерти Сезанна.
Пабло Пикассо и Анри Матисс были антиподами. Фернанда Оливье, любовница Пикассо и его тогдашняя муза, приписывала Матиссу высказывание, что два художника – «противоположности, как Северный полюс и Южный». Пикассо приехал с жаркого юга Испании, Матисс – из прохладной Северной Франции: у каждого свой темперамент, соответствующий месту рождения. Будучи на десять лет старше Пикассо, в профессиональном отношении Матисс приходился ему ровесником, поскольку предшествующая карьера адвоката задержала его старт художника.
В своих мемуарах Фернанда Оливье отмечает и физическое несходство двух художников. Матисс, писала она, «выглядел великим мэтром» с его «правильными чертами лица и густой золотистой бородой». Она считала его «серьезным и осторожным», человеком «поразительно ясного ума». И совершенно не похожим на ее возлюбленного, которого она описывает так:
«Маленький, смуглый, коренастый, не знающий ни минуты покоя и сеющий вокруг тревогу, с проницательным и странно-неподвижным взглядом темных, глубоко посаженных глаз». По ее признанию, внешне «в нем не было никакой особенной привлекательности… но то сияние, тот внутренний огонь, какой чувствовал в нем всякий, порождал своего рода магнетизм».
Когда Пикассо увидел фовистскую картину Матисса «Женщина в шляпе», он ответил на нее «Портретом Гертруды Стайн» (1905–1906). Портрет женщины, которой суждено было стать главным пропагандистом и щедрым заказчиком Пикассо, отличается от работы соперника по многим параметрам. Пикассо использует приглушенную коричневую палитру вместо ярких зеленых и красных тонов Матисса. Нет здесь и ощущения спонтанности, от портрета веет твердостью и постоянством. Если повесить обе картины рядом, покажется невероятным, что они рождены в одно время, – настолько различается авторский подход. Где у Матисса – скорость и яркость современной жизни, там у Пикассо – несущая конструкция, на которую эта жизнь опирается; где у Матисса мгновенный всплеск чувства, там у Пикассо – взвешенный ответ. Матисс подобен джазовой импровизации, Пикассо строг, как симфонический концерт. Разве можно себе представить большую противоположность?
Дружба обоих художников со Стайнами стала катализатором одного из величайших прорывов в современном искусстве. В один из дней поздней осени 1906 года Пикассо заглянул к Стайнам пропустить стаканчик. Пройдя в гостиную, он обнаружил, что Матисс уже in situ[14]. Пикассо поздоровался и расположился напротив. Подавшись вперед, чтобы заговорить со своим коллегой-художником, он увидел, что фовист что-то прячет у себя на коленях. Наблюдательный и догадливый Пикассо сразу заподозрил подвох.
– Что там у тебя, Анри? – спросил Пикассо.
– Ээ… хм… так, ничего, – замялся Матисс.
– Правда? – не сдавался Пикассо.
– Да ну, – сказал экс-юрист, нервно поправляя очки, – просто дурацкая штуковина.
Пикассо протянул за ней руку, как учитель, отбирающий игрушку у ученика. Матисс, поколебавшись, отдал вещицу.
– Где ты это нашел? – пробормотал Пикассо в смятении.
Матисс, видя, как впечатлила испанца вещица, попытался преуменьшить ее значимость.
– Да вот купил смеха ради в антикварной лавке по дороге сюда.
Пикассо метнул взгляд на соперника. Матисса он знал хорошо. Тот никогда ничего не делал «смеха ради». Пикассо делал, а Матисс – нет.
Прошло несколько минут, пока Пикассо разглядывал деревянную фигурку – голову негра. Наконец он вернул ее владельцу.
– Что-то древнеегипетское, правда же? – предположил заинтригованный Матисс.
Пикассо молча встал и подошел к окну.
– Линии и формы, – продолжал Матисс, – точно как в эпоху фараонов, нет?
Пикассо улыбнулся, извинился и откланялся.
Он не хотел обидеть Матисса – просто лишился дара речи, пораженный увиденным. Для него африканская скульптура явилась фетишем, магическим предметом, предназначенным для защиты от неведомых духов. В ней таились странные, таинственные силы, непостижимые и неподвластные человеку. Испанец впал в транс. Но то был не ледяной страх, а жгучее ощущение жизни. Вот что должно пробуждать искусство, подумал Пикассо. Теперь он знал, что делать дальше.
Пикассо отправился в этнографический музей Трокадеро посмотреть коллекцию африканских масок. Когда он вошел в выставочный зал, его поразил отвратительный запах и полное пренебрежение к экспонатам. Но художник снова почувствовал мощную силу, исходящую от предметов. «Я был совсем один, – рассказывал он потом. – Хотелось бежать оттуда. Но я остался. Просто не мог уйти. Я понял нечто очень важное; что-то происходило со мной. – Он испугался, решив, что в масках заключены таинственные и опасные призраки. – Я смотрел на эти фетиши, и мне вдруг стало ясно, что я тоже против всех. Я тоже ощущаю, что вокруг неведомое и враждебное», – признавался Пикассо.
Говорят, в искусстве тоже случаются аналоги «Большого взрыва», когда направление живописи и скульптуры меняется резко и необратимо. Что ж, наверное, это как раз тот самый случай. Встреча Пикассо с масками вызвала фундаментальный сдвиг в искусстве. Всего за несколько часов художник переосмыслил все, чем занимался до сих пор. Много позже он объяснил, что, увидев маски, «понял, почему стал художником». «Когда я стоял один в том ужасном музее в окружении масок, индейских кукол, пыльных манекенов, мне, должно быть, и явились «Авиньонские девицы»; не то чтобы их подсказали увиденные формы: та картина стала моим первым опытом экзорцизма – да, именно так!»
Именно полотно «Авиньонские девицы» (1907) (репр. 13) привело к кубизму, который, в свою очередь, породил футуризм, модернизм и много чего еще. Современные художники по-прежнему считают эту работу Пикассо одной из самых значимых в истории искусства. Подумать только, что картина (о ней мы подробнее поговорим в следующей главе, посвященной кубизму), могла и вовсе не появиться на свет, не загляни Пикассо к Стайнам в тот осенний вечер 1906 года.
Пользуясь гостеприимством и покровительством Стайнов, Пикассо неплохо проводил время и в своей мастерской на Монмартре. Она находилась в многоквартирном общежитии художников, прозванном Бато-Лавуар, «Корабль-прачечная на плоту», возможно потому, что здание скрипело, как деревянный корабль на сильном ветру Там он устраивал вечеринки для друзей и меценатов, которые поддерживали молодых художников. И вот однажды затеял банкет в честь особенно дорогого гостя…
– MerdeZ[15] – пробормотал расстроенный Пикассо.
Он знал, виноват только он сам; бесполезно пытаться винить кого-либо другого. Как он мог так сглупить? Забыть, на какой день назначен ужин. Тем более, когда сам приглашаешь! Маленький испанец, начавший приобретать известность, оглядел свою убогую студию в поисках вдохновения – чего, как правило, ему хватало с избытком. Но только не сегодня, в темный ноябрьский вечер, когда ожидания слишком высоки и так много поставлено на кон.
Через два часа «сливки» парижского авангарда поднимутся на крутой холм Монмартра, что на севере Парижа, рассчитывая на изысканное угощение и развлечения. Поэт Гийом Аполлинер, писательница Гертруда Стайн, художник Жорж Брак (1882–1963) – вот лишь некоторые имена из внушительного списка гостей. Предполагалось, что это будет незабываемый вечер.
Пикассо был колоритным персонажем и ценителем не только искусства. На его вечеринках высокая кухня и изысканные вина сочетались с абсентом и безудержным весельем. Но, пока гости наряжались, готовясь к вечеру, Пикассо пребывал в панике. Он сообщил неверную дату поставщику провизии, который даже после слезных просьб художника отказался прийти на выручку. Пикассо заказал угощение на послезавтра. Вот уж действительно merde.
Впрочем, стоит ли расстраиваться? В конце концов Пикассо и его молодые друзья больше всего любили розыгрыши и импровизацию. Даже если вечеринка обречена на катастрофу, она станет лишним поводом посмеяться над ней в будущем. Все вспомнят, как шестидесятичетырехлетний почетный гость Пикассо – художник Анри Руссо (1844–1910) – приехал, ожидая увидеть красную ковровую дорожку, ведущую на банкет, устроенный в его честь, но вместо этого обнаружил, что мероприятие отменено и гости махнули в «Мулен Руж». К счастью, все обошлось. Хотя безнадежность «нынешней молодежи» была бы в каком-то смысле адекватным приветствием художнику-самоучке, которого и самого в художественном мире считали в общем-то «безнадежным».
Анри Руссо был простым, малообразованным человеком, по-детски наивным. Тусовка Монмартра дала ему прозвище Le Douanier (Таможенник), намекая на род его занятий. Как и большинство прозвищ, оно было безобидное, но в то же время с насмешливым подтекстом. Руссо как художника воспринимали с трудом. У него не было никакой профессиональной подготовки, никаких связей, а живописью он увлекся лишь в сорок лет. Более того, он обладал совсем иным складом личности. Художники были либо богемой, либо профессионалами, нацеленными на решение формальных художественных задач, либо и тем и другим. Руссо не принадлежал ни к богеме, ни к профессионалам. Он был обывателем средних лет, неприметным, спокойно проживающим свою будничную жизнь среди себе подобных.
Сорокалетние сотрудники таможни обычно не становятся суперзвездами современного искусства. Во всяком случае, если такое и случается, то не очень часто. Но Руссо стал Сьюзан Бойл своего времени. Помню, как все восприняли эту некрасивую, немолодую шотландскую исполнительницу: что это – шутка? розыгрыш? А потом она запела. И тогда циники обнаружили, что у нее великий дар: не только умопомрачительный голос, но и умение исполнить песню с той искренностью, которая присуща наивным душам. Допустим, во времена Руссо не было своего «Х-Фактора», но нечто похожее, безусловно, имелось. Недавно созданный «Салон независимых» стал выставкой, где все желающие могли показать свои работы. В 1886 году Руссо воспользовался этим предложением. К этому времени ему уже было хорошо за сорок, и он надеялся состояться на новом поприще – профессионального художника.
Увы, надежды не оправдались. Руссо подняли на смех. Критики и зрители хихикали, презрительно отзываясь о его работах, возмущаясь тем, что бездарь посмел подумать, будто эта мазня достойна публичного показа. Картина «Карнавальный вечер» (1886) подверглась яростным нападкам. Сюжет не вызывал нареканий: молодая пара, одетая в карнавальные костюмы, возвращается домой пешком через вспаханное поле зимней ночью под полной луной, которая висит в небе над голыми деревьями. Но зрителям, воспитанным на академической живописи, показалась неприемлемой та немудрящая манера, в которой Руссо эту сцену изобразил. Они еще не успели толком переварить новые идеи, предложенные импрессионистами, а тут еще эти любительские картинки какого-то Таможенника. Публика видела ноги, зависшие в дециметре над землей, отсутствие достоверной перспективы и в целом плоскую и неумелую композицию. Пожалуй, именно тогда среди зрительских оценок впервые прозвучало: «Мой пятилетний ребенок нарисовал бы не хуже».
Но как раз благодаря отсутствию технических навыков и умений и появился узнаваемый стиль Руссо: соединение незамысловатой иллюстрации к детской книжке с двумерной четкостью, присущей японской ксилографии. Именно эта удивительно эффектная комбинация придает картине обаяние и оригинальность. Сам Камиль Писсарро, великий импрессионист, похвалил «Карнавальный вечер» за «валёры… и богатство тонов».
Простодушие давало Руссо ценное преимущество: он был невосприимчив к критике. С самого начала своей поздней творческой карьеры он верил в будущий успех, и ничто не могло убедить его в обратном. Поэтому он сделал то, что делают архитекторы, когда сталкиваются с уродливой конструкцией, которую невозможно убрать: он превратил проблему – собственную наивность – в элемент своего фирменного стиля.
В 1905 году Руссо уволился из таможни, чтобы целиком посвятить себя живописи. Он представил свою картину «Голодный лев бросается на антилопу» (1905) (репр. 12) на престижном Осеннем салоне. С технической точки зрения работа выглядит по-прежнему неумело. Антилопа больше похожа на осла; свирепый лев выглядит перчаточной куклой, а существа, наблюдающие из зарослей джунглей за этой беззубой схваткой, кажутся взятыми из журнальной головоломки «сколько животных вы тут видите». Это полотно открывает целую серию тематических картин, написанных по той же схеме: в центре – хищный зверь, прижавший к земле свою несчастную жертву, на фоне пышных джунглей из экзотических листьев, цветов и трав. Небо всегда голубое; солнце – если присутствует – либо встает, либо садится, но никогда не дает ни света, ни тени. Ни одну из картин этой серии даже с большой натяжкой не назовешь реалистичной или убедительной.
Вероятность того, что Руссо когда-либо посещал места более экзотические, чем парижский зоопарк, так же далека от правдоподобия, как места, где, по его словам, он побывал, – от французской столицы. Таможенник – чудак и мечтатель, склонный к причудливым фантазиям, – охотно рассказывал, будто картины навеяны воспоминаниями о его «мексиканском походе», когда он с войсками Наполеона III сражался против императора Максимилиана. Но нет никаких подтверждений того, что он когда-либо видел боевые действия – и даже покидал пределы Франции. В результате для многих Руссо стал предметом шуток. Но для кого-то, в том числе Пикассо, он был героем. И дело не в мастерстве – все прекрасно понимали, что технически Руссо не выдерживает сравнения с Леонардо, Веласкесом или Рембрандтом. Но нечто в его стилизованных изображениях тем не менее завораживало испанца и его окружение.
Это нечто – неискушенность, свойство невинной души. Пикассо, очарованный стариной и оккультизмом, чувствовал, что живопись Таможенника вышла за рамки изображения природы и вступила на территорию сверхъестественного. Молодой художник подозревал, что Руссо напрямую общается с потусторонним миром; что наивность помогла ему заглянуть в суть человека, что недоступно большинству художников, испорченных образованием. Подозрения Пикассо усилились обстоятельствами, при которых он наткнулся на «Портрет женщины» (1895) Руссо, который и оказался поводом для банкета в честь автора.
Он увидел картину не в собрании модного торговца предметами искусства и не в Салоне. Она случайно попалась ему в лавке старьевщика на рю де Мартир на Монмартре. Хозяин лавки просил за портрет мизерную сумму в пять франков – как за использованный холст, который еще мог бы пригодиться какому-нибудь нищему художнику. Пикассо сразу купил картину и хранил ее у себя до конца жизни, вспоминая позже, что она «захватила меня как наваждение… это один из наиболее правдивых психологических портретов во французской живописи».
Напиши Руссо «Портрет женщины» в 1925-м, а не в 1895 году, картину отнесли бы к сюрреализму, – атмосфера ее настолько сказочна, что норма тут выглядит странностью. На портрете в полный рост изображена суровая женщина средних лет, которая холодно смотрит куда-то поверх зрителя. На ней длинное черное платье с голубым кружевным воротником и поясом в тон. Руссо изобразил ее стоящей на балконе, очевидно, буржуазной парижской квартиры, – пышная многоцветная гардина чуть отодвинута в сторону, чтобы были видны цветы в ящиках с наружной стороны. За спиной женщины, в отдалении, угадываются парижские военные укрепления, – вероятно, имитирующие фон «Моны Лизы» Леонардо (Руссо имел разрешение заниматься копированием картин в Лувре, где находится «Мона Лиза»). В правой руке у женщины сорванные анютины глазки, а левая опирается на перевернутую ветку дерева, словно на трость. Над головой висит птица, парящая в небе (на самом деле кажется, будто она вот-вот влетит женщине в висок, но тут уж ничего не поделаешь – перспектива у Руссо отсутствует).
Пикассо освободил одну из стен своей мастерской, занятую разросшейся коллекцией африканских масок, и повесил на самое видное место «Портрет женщины», приготовившись к банкету в честь Руссо. Это был трогательный жест, но накормить приближающуюся армию авангардистов было по-прежнему нечем. Как только прибыла Гертруда Стайн, он тотчас потащил ее на Монмартр за продуктами. Тем временем Фернанда Оливье сварила рис, заправив его всем, что смогла найти на кухне, и мясные закуски. Пока она лихорадочно хлопотала у плиты, соотечественник Пикассо, художник Хуан Грис (1887–1927) бросился наводить порядок в своей мастерской по соседству, чтобы освободить место, где гости могли оставить свои пальто и шляпы.
Мероприятие имело все шансы на провал, но, как это часто бывало, когда в деле участвовал Пикассо, обернулось легендарным успехом. К тому времени, как на такси прибыл Аполлинер вместе с польщенным, но ошеломленным Руссо, все три десятка приглашенных уже сидели за столом и были готовы приветствовать почетного гостя. Аполлинер в привычной театральной манере постучал в дверь мастерской, затем медленно открыл ее и подтолкнул вперед озадаченного Руссо. Седовласый коротышка-художник замер как вкопанный в окружении самой модной публики Парижа, которая встретила его оглушительными овациями. Со смесью гордости и смущения живописец джунглей и пригородных ландшафтов подошел к похожему на трон креслу, которое приготовил для него Пикассо, и сел. Затем снял с головы берет художника, положил на пол скрипку, которую принес с собой, и улыбнулся так широко, как никогда в жизни не улыбался.
Руссо даже в голову не пришло, что мероприятие в какой-то степени было доброй шуткой в его адрес. Позже, в тот же вечер, когда завышенная самооценка усугубилась алкоголем, Таможенник подошел к Пикассо и сказал, что они – два величайших художника своего времени. «Ты – в египетском стиле, я – в современном!»
Каково бы ни было мнение Пикассо относительно этой реплики, он продолжал и дальше собирать картины Руссо, считая их вдохновляющими и очень симпатичными. Говорят, Пикассо как-то пошутил, что ему понадобилось четыре года, чтобы научиться письму Рафаэля, но целая жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок. В этом отношении Руссо может считаться его наставником.
Примитивизм в скульптуре
Таможенник умер в 1910 году. Богема Монмартра, когда-то принявшая его в свой круг забавы ради, была искренне опечалена. Аполлинер написал эпитафию для его надгробья:
Милый Руссо! Друзей встречая у Небесных Врат, С нас пошлин не бери за краски и холсты. Они тебе понадобятся, брат, — Портрет звезды напишешь ты[16].Эти стихи высек на камне скульптор Константин Бранкузи (1876–1957), который был в числе гостей знаменитого банкета в честь Руссо. Он с особым трепетом относился к творчеству и личности умершего.
Они оба были аутсайдерами. Француза Руссо парижский художественный истеблишмент так до конца и не принял; румын Константин Бранкузи был им обласкан, но предпочел сохранить некоторую дистанцию: все же у него имелись балканские корни. На этом сходство не заканчивается. Оба художника были мастера по части мифа о самих себе. Руссо любил поговорить о своих приключениях по ту сторону Атлантики (которых не было), а Бранкузи представлялся бедным ремесленником, который отправился в пешее паломничество из своего сельского дома в предгорьях румынских Карпат в Париж, центр мирового искусства.
Подтвердить или опровергнуть слова Бранкузи было некому, но доподлинно известно, что он родился в семье достаточно богатой, чтобы оплатить ему учебу вШколе искусств в Бухаресте и поездку во Францию. Но нет сомнения в том, что Константин действительно происходил из румынской деревни. Как и в том, что ветхие деревянные церквушки, разбросанные по горам его родного края, помогли мальчику развить чувство прекрасного. Внутри них он видел грубый резной орнамент, слышал церковное пение, корнями уходящее в фольклор, и эти воспоминания сформировали его как художника.
С кончиной Гогена роль художника-крестьянина Бранкузи взял на себя. Он носил сабо, свободную блузу, широкие белые штаны и отпустил густую черную (впоследствии седую) бороду. «Неотесанный простолюдин» – в таком несколько противоречивом амплуа предстал миру этот житель самого эстетского из городов. Впрочем, оно соответствовало тогдашнему духу примитивизма. Как и творчество Бранкузи.
Его талант скульптора стал очевиден для парижского авангарда, едва стертая в кровь нога Бранкузи ступила на землю французской столицы в 1904 году. Для него тут же нашлись места в самых престижных школах искусств, ему наперебой предлагали место ученика у маститых художников. Одним из них был сам Огюст Роден (1840–1917), который как отец современной скульптуры ушел от идеализма прошлых поколений и придал своим работам импрессионистический характер. Однако Бранкузи остался недоволен. Он чувствовал, что скульптура все еще слишком буквальна и ее можно улучшить как с эстетической точки зрения, так и с технологической.
Ил. 7. Огюст Роден. «Поцелуй» (1901–1904)
Вообще говоря, ехидные разговоры пошли еще когда стало известно, что скульптуры Родена сделаны не его руками. Он лишь создавал модель того, что хотел бы видеть, а потом передавал ее ремесленникам, которые выполняли заказ. Тут же встали вопросы подлинности и профессиональной этики – хотя вообще-то подобные методы практиковали даже такие авторитеты, как Леонардо и Рубенс. О чем весь художественный мир дружно забыл, устремив укоризненный взгляд в сторону Родена.
На взгляд Бранкузи, конечный результат перевешивал технологическую сторону Но это была точка зрения практика. В отличие от Родена он делал всю работу сам от начала до конца, зачастую минуя стадию моделирования и сразу вырезая скульптуру из намеченного массива – камня или дерева. Такой подход был в новинку, как и обращение к столь «неблагородным» материалам, ведь традиционно скульптуру высекали из мрамора или отливали из бронзы.
Одной из удач знаменитой скульптуры Родена «Поцелуй» (1901–1904) (ил. 7) стала иллюзия двойственности: единая мраморная глыба – это и стройные тела двух молодых влюбленных, и в то же время прочная скала, на которой они предаются страсти. «Поцелуй» Бранкузи (1907–1908) (ил. 8) демонстрирует тот же прием, но современнее и в то же время куда архаичнее. Он изваял из куска камня (около 30 квадратных сантиметров) силуэт целующейся пары, которая выглядит как единое целое. В отличие от Родена Бранкузи даже не пытался скрыть физические свойства материала; более того, он нарочно выбрал грубый камень с шершавой поверхностью. И вырезал общие очертания влюбленных. Композиция восхитительно проста. Две едва намеченные фигуры, изображенные до пояса, слились в поцелуе, тесно прижавшись и нежно охватив друг друга за шею короткопалыми руками. В музее искусства африканских племен или среди руин на берегах Нила скульптура смотрелась бы вполне органично.
Ил. 8. Константин Бранкузи. «Поцелуй» (1907–1908)
Но дело было в Париже первого десятилетия XX века. Булыжник, а не мрамор, грубая резьба без предварительного моделирования, никакой гладкой красивости и в довершение всего поцелуй обычной парочки, а не романтическая встреча двух мифологических персонажей. Бранкузи бросил вызов традиции, используя неблагородный материал и изображая простолюдинов. К тому же «Поцелуй» стал чем-то вроде публичного манифеста – он, Бранкузи, делает скульптуру смиренно, как ремесленник, без претензии на величие и мастерство. Что, на его взгляд, предполагает более честные отношения между художником, объектом и зрителем. Отказаться от рабочей модели, воплощая замысел непосредственно в материале, – это он называл «истинным путем к скульптуре».
Бранкузи сделал серию каменных и мраморных голов в натуральную величину, напоминающих древнеегипетские статуи сфинксов и царей, деревянные африканские скульптуры и даже почти средневековые посмертные маски с их странным выражением лица. Мраморная «Спящая муза» (1909–1910) – это соединение всех трех традиций в едином совершенном произведении. Используя холодную чистоту белого мрамора, Бранкузи изобразил изящную голову женщины, безмятежно лежащей на боку. У «Спящей музы» идеальная кожа и великолепно правильный овал лица, нежно очерченный вокруг спокойно сомкнутых век. Воистину спящая красавица!
Итальянский художник Амедео Модильяни (1884–1920) тоже был ценителем древности и знатоком чувственных форм.
Переехав в Париж в 1906 году, он увлекся искусством Сезанна и Пикассо, но стоило ему в 1909 году познакомиться с Бранкузи и увидеть «примитивные» скульптуры румына, как он отложил кисть и взялся за резец. Следующие несколько лет он посвятил копированию стиля Бранкузи, вырезая головы из известняка. Сегодня Модильяни больше известен как автор декоративных сексуальных изображений сладострастных обнаженных женщин, что своими удлиненными пропорциями напоминают femmes fatales[17] из комиксов. Но именно благодаря скульптурным головам он нашел тот стиль, который, если Ил. 9. Альберто Джакометти. верить аукционным ценам, до «Шагающий человек» (1960) сих пор популярен. В 2010 году «Голова», вырезанная Модильяни между 1910-м и 1912 годами, была продана на аукционе Christie's за 52,6 миллиона долларов, побив тогдашний ценовой рекорд для французских торгов произведениями искусства.
Ил. 9. Альберто Джакометти. «Шагающий человек» (1960)
Но это сущие гроши по сравнению со стоимостью работы другого скульптора-примитивиста. «Шагающий человек I» (1960) (ил. 9) Альберто Джакометти (1901–1966) был продан в 2010 году за рекордные 104 миллиона долларов – при том что аукционный дом Sotheby's рассчитывал выручить за него в лучшем случае 28 миллионов. Такая цена – свидетельство неиссякающей силы экспрессионистских скульптур Джакометти. Обугленный, хрупкий, чуть подавшийся вперед «Шагающий человек» словно объят ужасом перед лицом смутного будущего. Скелетообразная, будто собранная из жердей фигура высотой в 183 см акцентирует внимание на вертикали, которая, как отметил Сезанн полувеком раньше, оптически сокращает глубину пространства. А в данном случае – усиливает ощущение экзистенциальной драмы: сиротливый персонаж предстает вечным узником современного мира, изголодавшимся по надежде и облаченным лишь в неизбывное одиночество.
Джакометти переехал в Париж в начале своей карьеры. Здесь он тоже открыл для себя скульптуры Бранкузи, которые пробудили в нем интерес к искусству, существующему вне западной цивилизации. Его внимание привлекли ритуальные ложки африканского племени дан из джунглей Берега Слоновой Кости. Этим черным деревянным ковшам или совкам для зерна часто придавали форму женского тела; ручка изображала длинную шею, переходящую в голову, а черпало напоминало туловище. В 1927 году Джакометти создал «Женщину-ложку» – то, что сейчас называют его первой значительной работой. Бронзовая скульптура отчетливо ассоциируется с ложкой племени дан, но Джакометти упростил форму и добавил короткий наклонный цоколь, который выглядит парой ног, замотанных подолом юбки.
Подобный интерес к первобытному искусству и связанное с ним желание упростить скульптурную форму проявляли не только парижские художники. Английский скульптор Барбара Хепворт (1903–1975) с юных лет увлекалась доисторической тематикой. Любовь к искусству далекого прошлого зародилась в ней еще в детстве, когда отец возил Барбару в школу по диким пустошам Северной Англии. Девочка во все глаза смотрела на высящиеся над дорогой величественные йоркширские холмы с их могучими уступами и темными лощинами. Однако впечатлительная школьница видела в этих мокрых от дождя великанах не смутную угрозу а художественные произведения: скульптуру
После окончания средней школы она поступила в Художественную школу в Лидсе, где познакомилась с сокурсником по имени Генри Мур (1898–1986), и эта дружба, замешанная на общности взглядов, впоследствии оказала заметное влияние на мировую скульптуру Оба художника видели и чувствовали первобытную мощь ландшафта Северной Англии: эти любимые ими изборожденные трещинами каменные громады позже станут для обоих источником вдохновения. Мур и Хепворт бывали в Париже, где подружились в числе прочих с Пикассо и Бранкузи, и некоторые идеи, почерпнутые в этих поездках, воплотили в своих работах. Объединение творческих усилий привело к прорыву в начале 1930-х годов: скульптура обрела новое измерение, когда они представили идею сквозного отверстия в объеме.
В 1931 году Хепворт сделала абстрактную скульптуру из алебастра – уничтоженную во время Второй мировой, – под названием «Пронзенная форма». При взгляде на нее возникало впечатление, будто кто-то сидит в мешке, пробитом пушечным ядром. Мур быстренько подхватил инновацию Хепворт, объявив 1932 год «годом дыры».
Если Мур сосредоточился на фигуративной пластике – во многом под влиянием Пикассо и первобытного искусства, то Хепворт искала себя в абстракционизме. Ее гладкие, округлые работы привлекали внимание к самому материалу скульптуры и пространству вокруг нее (и внутри). Хепворт создала несколько двухцветных деревянных форм – таких как «Море» (Pelagos) (1946). Конструкция размером с человеческий торс, внутри которой вырезано отверстие, а затем добавлены струны наподобие гитарных, создающие ощущение напряженности (прием, впервые использованный Владимиром Татлиным, русским конструктивистом, о котором мы поговорим в главе 10).
«Море» – в высшей степени абстрактная скульптура, но гладкая поверхность, изящно вырезанное отверстие и элегантная форма рождают осязаемое чувство гармонии и красоты.
В 1961 году Хепворт получила заказ от ООН на скульптуру, символизирующую мир, для площади Объединенных Наций в Нью-Йорке. Так появилась бронзовая композиция высотой 6,5 метра под названием «Одиночная форма» (1961–1964): в ней угадывается корабельный парус – работа, выполненная Барбарой в 1937 году из дерева и в гораздо меньшем размере. В верхнем углу оригинального паруса было лишь небольшое углубление, но в заказанном ООН Хепворт сделала большое круглое отверстие, чтобы сквозь него струился свет мира.
Когда Барбаре Хепворт было семь лет, директриса школы прочитала детям лекцию об искусстве древних египтян. Лекция изменила жизнь девочки. Она потом говорила, что это «был взрыв», и с тех пор мир для нее стал сплошь «формами, силуэтами и тканями». Пикассо, Матисс, Руссо, Бранкузи, Модильяни, Джакометти, Мур и многие, многие другие подпали под чары этнического и доисторического искусства. Оно манило своей непосредственностью и эмоциональным воздействием упрощенных форм. И соединяло современных художников с историей человечества, а их творчество – одновременно с прошлым и будущим.
Глава 7 Кубизм: другая точка зрения, 1907-1914
Гийом Аполлинер, рожденный в Италии французский поэт, драматург и лидер художественного авангарда, умел поддеть не только своих коллег-литераторов. Обладая острым умом, он любил блеснуть на публике, вставив bon mot[18] и в дискуссию о современном искусстве. Правда, чаще его остроты сбивали публику с толку, чем что-то проясняли. Но иной раз литературный дар помогал Аполлинеру очертить самую суть произведения или творческого метода художника с такой точностью, какая мало кому давалась.
Так, никто лучше Аполлинера не сумел определить истинную природу кубизма – направления, которое многим кажется слишком трудным для восприятия. О своем друге Пабло Пикассо, одном из основателей кубизма, Аполлинер сказал: «Он анализирует объект, как хирург анатомирует труп». Это и есть суть кубизма: разборка предмета на составляющие посредством пристального анализа.
Даже Аполлинеру с его передовыми взглядами потребовалось время, чтобы оценить новый подход к искусству. С кубизмом поэт познакомился, посетив студию Пикассо в 1907 году Испанец пригласил друга посмотреть свою последнюю работу, для которой сделал более 100 эскизов. Почти готовая, она воплотила в себе главное устремление Пикассо: путем соединения самых разных художественных подходов решать насущные задачи – такие, скажем, как возвращение к доминирующей роли контурной линии, от чего в свое время отказались импрессионисты. Но когда гордый Пикассо показал верному другу свою новую картину «Авиньонские девицы» (репр. 13), тот пришел в замешательство и недоумение.
С гигантского, в два с половиной квадратных метра, полотна на литератора таращились пять обнаженных женщин – грубо раскрашенные тела были словно выхвачены из общей гаммы коричневых, голубых и розовых тонов острыми, как бритва, угловатыми линиями, похожими на трещины разбитого зеркала. Аполлинер подумал, что после этой картины карьеру Пикассо ждет та же участь. Он ничего не понимал. Зачем приятелю вдруг понадобилось отойти от изящной и лирической фигуративной живописи, успевшей понравиться коллекционерам и критикам, ради стиля, который выглядит не только чересчур примитивным, но и слишком холодным?
Ответ на этот вопрос отчасти заключался в присущей Пикассо склонности к соревнованию. Он все время чувствовал профессиональную угрозу своей репутации самого экстравагантного и перспективного художника современности, исходящую от Матисса. Это подспудное беспокойство переросло в настоящий страх, когда в 1906 году упомянутый фовист представил свою картину «Счастье жизни». Пикассо взбудоражила и мемориальная сезанновская выставка 1907 года: она вдохновила его и исполнила решимости продолжить начатые «отшельником из Экса» изыскания в области перспективы и особенностей зрительного восприятия.
Блестящий результат этих изысканий – «Авиньонские девицы» – картина, целиком построенная на идеях Сезанна и ознаменовавшая рождение нового направления в искусстве. У Пикассо почти отсутствует пространственная глубина. Наоборот, пять женщин представлены в двумерной проекции, их тела упрощены до набора треугольников и ромбов, словно вырезанных из терракотово-розовой бумаги. Детали упрощены до предела: грудь, нос, рот и руки намечены одной-двумя короткими угловатыми линиями (примерно такими Сезанн обозначал поле). Нет даже попыток имитации реальности – у двух женщин из этой гротескной группы (справа) вместо голов африканские маски, женщина слева обратилась в древнеегипетскую статую, в то время как две центральные фигуры представляют собой попросту стилизованные карикатуры. Черты лица у всех сдвинуты, как в мультиракурсной съемке, эллиптические глаза находятся на разной высоте, а рты искривлены.
Картина создает ощущение клаустрофобии, поскольку Пикассо резко укоротил перспективу. Не возникает привычной иллюзии объема, когда изображение уменьшается, словно бы уходя вглубь полотна; наоборот, женщины как будто вот-вот выпрыгнут из холста, как в стоп-кадре 3D. В том и состоит замысел художника. Ведь женщины на картине – уличные проститутки, они выстроились на смотр, чтобы вы, клиент, могли сделать свой выбор. Авиньонскими они названы, кстати, по названию улицы в Барселоне, известной своими проститутками, а не живописного городка на юге Франции. А чаша спелых фруктов у их ног – метафора предлагаемых наслаждений.
Пикассо называл свое полотно «актом экзорцизма». Отчасти потому, что «Авиньонские девицы» стирают некоторые страницы его собственного художественного прошлого, являя собой смелый эксперимент в новом направлении, но в то же время художник имел в виду, что картина – сигнал, предупреждение об опасных последствиях случайных связей с девушками легкого поведения. Некоторые из его друзей дважды расплатились за искушение: сначала деньгами, а потом и жизнью. Венерические болезни свирепствовали в артистической богеме Парижа конца XIX века (их жертвами стали Мане и Гоген). В первоначальных эскизах картины присутствовали семеро: пять проституток и двое мужчин – матрос (клиент) и студент-медик с черепом в руке (символ смерти). Видимо, Пикассо задумывал более морализаторскую работу о «цене греха». Но потом обнаружил, что без элементов нарратива композиция выглядит ярче и убедительнее.
Соревнуясь с Матиссом и развивая идеи Сезанна, Пикассо по ходу дела не забывал прихватывать кое-какие идеи старых мастеров. Все наперебой цитировали его слова: «Плохие художники копируют, великие – воруют»; сегодня мы назвали бы такой подход постмодернистским. Но тогда это была всего лишь сочная шутка, впрочем, вполне уместная, если сравнить прото-кубистских «Девиц» Пикассо с ренессансным шедевром кисти испанца Эль Греко «Снятие пятой печати» (1608) (ил. 10), изучению которого Пикассо уделил немало времени.
Картина иллюстрирует сюжет из шестой главы Книги Откровений Иоанна Богослова (6:9-11), – когда убиенные за Слово Божие обретают спасение. Синий цвет одежд коленопреклоненного апостола Иоанна, простершего руки к небесам, – тот же, что и у фоновой драпировки в «Авиньонских девицах». Кстати, и подход Пикассо к изображению ткани во многом позаимствован у Эль Греко – мазки белого, резкие линии, контрастные тени, придающие складкам глубину и пышность. А композиция непосредственно отсылает к трем обнаженным девам с апокалиптического полотна, вплоть до того, что одна из авиньонских девиц, повернутая в профиль и обращающаяся к остальным, – это зеркальное отражение праведницы Эль Греко. Даже гнетущее, темное небо Апокалипсиса не осталось без внимания Пикассо, – молодой художник явно попытался воссоздать такую же напряженную атмосферу.
Ил. 10. Эль Греко. «Снятие пятой печати» (1608)
Историки искусства вот уже больше ста лет ломают головы над «Девицами» в поисках источников и параллелей. Но Аполлинер не располагал нашим бэкграундом. Откуда ему было знать, что художники-авангардисты XXI века будут ссылаться на картину Пикассо 1907 года как на одно из наиболее значительных произведений. Или что не пройдет и года, как оно породит кубизм. Поэту предстояло оценить то, что он видит, – а видел он нечто ошеломляющее, непостижимо непривычное.
Аполлинер в своем неприятии картины не был одинок: Матисс тоже высмеял Пикассо, а потом еще и разозлился, заподозрив, что испанец пытается уничтожить современное искусство.
Наслушавшись нелестных оценок от друзей, Пикассо прекратил работу над картиной, хотя и считал ее незаконченной. Он свернул холст в трубку и спрятал в углу мастерской, где тот и пылился долгие годы. Наконец в 1924 году картину купил один коллекционер, но и после этого ее мало кто видел, она редко экспонировалась вплоть до конца 1930-х годов, когда полотно приобрел Музей современного искусства (МоМА). Реакция на «Девиц» была настолько огорчительной, что Андре Дерен даже опасался, что «в один прекрасный день мы найдем Пикассо повесившимся позади его великого холста». Даже художник Жорж Брак, побывавший, как и Пикассо, на посмертной выставке Сезанна и вышедший оттуда преобразившимся, так и не понял, чего испанец пытался добиться. Но в отличие от прочих, которые приходили, смотрели, хихикали и уходили, Брак немного погодя вернулся, чтобы предложить Пикассо свои идеи и помощь.
Этот творческий союз двух молодых художников – Брак описал его как художественную одиссею, сравнимую с «восхождением двух альпинистов в связке», а Пикассо назвал «супружеством» – и дал жизнь кубизму. Работа партнеров предопределила развитие всего изобразительного искусства XX века, вплоть до модернистской эстетики дощатых сосновых полов и настольных ламп с регулируемой складной штангой. Партнерство, начавшееся в 1908 году, неожиданно оборвала Первая мировая война.
Поразительно, но оно, возможно, никогда не набрало бы силы, способной запустить маховик перемен в искусстве, без поддержки дальновидного предпринимателя по имени Даниэль-Анри Канвейлер. Бизнесмен немецкого происхождения начинал как биржевой брокер в Лондоне, но, оказалось, жизнь финансиста не вполне удовлетворяет его духовным запросам.
Канвейлер переехал в Париж попробовать себя в торговле предметами искусства и вскоре, посетив мастерскую Пикассо, увидел «Девиц». В отличие от других Канвейлер нашел картину великолепной и захотел купить ее тотчас. Но художник не согласился ее продать, и тогда Канвейлер предложил Пикассо финансовую поддержку для продолжения творческого поиска и пообещал покупать его работы по мере их появления. Когда спустя какое-то время к Пикассо присоединился Брак, Канвейлер распространил свою щедрость и на него (хотя и на менее выгодных условиях). Избавленные от денежных забот, художники могли теперь вволю рисковать, не опасаясь неприятия публикой и критикой.
В своем творчестве друзья-художники отталкивались от наследия Сезанна, чьи находки оба давно взяли на вооружение. В прошлом фовист, Брак много работал на пленэре в Эстаке, небольшом городке близ Марселя, одном из любимых уголков Сезанна. В своих картинах Брак использовал многое из сезанновской техники, в частности, зелено-коричневую палитру. Однако его работы выглядят совсем иначе. Взять хотя бы «Дома в Эстаке» (1908) – типичное полотно того периода. Брак изобразил склон холма, сплошь уставленный домиками, между которыми лишь кое-где зеленеет дерево или куст. Художник как будто постоянно меняет фокусное расстояние фотоаппарата, «зумит» то один объект, то другой, усиливая четкость в ущерб глубине. А традиционные элементы пейзажа – небо и горизонт – вообще «выброшены из кадра» ради орнаменталь-ности общего рисунка.
Такой ракурс использовал и Сезанн, но если он лишь слегка пододвигал объекты к зрителю, то Брак норовит вытащить буквально все на передний план. Объекты притиснуты к нему, как пассажиры к лобовому стеклу при резком торможении. Домики на склоне словно напирают друг на друга, но у них нет ни окон, ни дверей, ни палисадников, ни печных труб. Детали принесены в жертву композиции и связности ее элементов. Как и у Сезанна, только в более радикальном варианте, пейзаж разложен на упрощенные геометрические формы: роскошная недвижимость предстает набором светло-коричневых кубиков, перемежающихся мазками более темного оттенка, создающими тени и глубину Редкие пятна зеленого – кустарник или деревце – дают глазу передохнуть среди сплошных наезжающих друг на друга коричневых коробочек.
Когда Брак представил некоторые свои эстакские работы отборочной комиссии Осеннего салона 1908 года, те были отвергнуты, а затем и осмеяны. Матисс, один из членов комиссии, презрительно фыркнул: мол, «Брак прислал картину, сплошь состоящую из кубиков». Реплика прозвучала как раз в разговоре с Луи Вокселем – тем самым, что когда-то назвал «дикими» ранние работы самого Матисса, невольно став родоначальником термина «фовизм». И вот в очередной раз обидное слово сделалось названием нового направления в искусстве: так появился кубизм.
Итак, имя уже имелось, но само художественное движение толком еще не началось. Досадный момент, ведь термин только осложнил понимание и без того непростого направления в живописи. Название «кубизм» вполне подходит для описания некоторых картин Брака, созданных в 1908 году в Эстаке под влиянием Сезанна, но совершенно не отражает сущности новаторской живописной техники, в которой они с Пикассо начали работать с осени того же года. Термин оказался ошибочным: в кубизме нет никаких кубов, все как раз наоборот.
Кубизм – это признание двухмерной природы холста и категорическое НЕТ попыткам создания иллюзии трехмерного пространства (в частности, того же куба). «Объемное» изображение куба требует от художника взгляда на объект с одной точки, в то время как Брак и Пикассо теперь рассматривали объект одновременно под всеми возможными углами.
Представьте себе картонную коробку. Брак и Пикассо, условно говоря, разбирают ее, раскладывают на клапаны, чтобы получилась плоскость, позволяющая нам видеть все стороны коробки сразу. Но при этом художники хотят сохранить ощущение трехмерности этой коробки, чего плоский план дать не может. Поэтому они мысленно обходят коробку со всех сторон, выбирая такие ракурсы, которые дадут оптимальное представление об объекте. Потом они пишут виды этих отдельных сторон коробки и определенным образом состыковывают получившиеся плоскости на холсте – в грубом приближении к оригинальной трехмерной форме коробки, так чтобы куб все-таки угадывался, но как бы выложенный в двух измерениях. Художники полагали, что подобный способ изображения вызовет у зрителя куда более сильное чувство узнавания истинной природы коробки (или любого другого предмета). Можно сказать, кубизм пытался заставить наш мозг работать, привлекая его внимание к повседневному и примелькавшемуся.
Ил. 11. Жорж Брак. «Скрипка и палитра» (1909)
Помимо прочего художниками была предпринята попытка более точно показать, каким образом мы видим предмет на самом деле. Посмотрим, как эта задача решается на картине Жоржа Брака «Скрипка и палитра» (1909) (ил.11). Он написал ее спустя год после начала сотрудничества с Пикассо, в начальный период кубизма, называемый аналитическим кубизмом (1908–1911) и предполагающий пристальный анализ объекта и пространства, которое тот занимает.
Композиционно картина «Скрипка и палитра» очень проста. Скрипка стоит под пюпитром с нотными листами, занимая две нижние трети холста. Над пюпитром, на гвозде, вбитом в стену, висит палитра, рядом – зеленая штора. Художник вновь использовал так любимую Сезанном приглушенную гамму бледно-коричневых и зеленых тонов. Впрочем, на сей раз это не столько дань уважения мастеру, сколько необходимость. Брак понял, как и Пикассо, что, только приглушив цвет, можно успешно совместить несколько перспективных точек зрения на одном холсте: разнообразие ярких красок помешает выстроить желаемую конфигурацию и создаст впечатление невнятицы и сумбура. Художники разработали новую технику, когда прямая линия как бы фиксирует смену ракурса, а ее легкая растушевка-тень показывает зрителю, что смена на самом деле произошла. Дополнительный бонус при таком подходе – ощущение сквозного узора, сбалансированного и гармоничного.
Это немаловажный аспект кубизма. Впервые в истории живописи холст перестает претендовать на роль некоего окна в мир, инструмента для создания оптической иллюзии, и сам превращается в эстетический объект. Пикассо называл такую живопись «чистой», имея в виду, что зрителю следует судить о картине, исходя из ее собственных достоинств (цвета, линии, форм), а не из уровня достоверности создаваемой иллюзии. Главным теперь становится наслаждение от эмоций и ритмов, которые ощущаются нами при разглядывании угловатых фигур, изображенных на холсте.
А их на картине Брака немало. Художник разделил скрипку на несколько фрагментов, а затем повторно собрал их в свободную, но геометрически правильную конструкцию, причем все фрагменты показаны в разных ракурсах. Скрипку теперь можно увидеть с обеих сторон, сверху и даже снизу, причем одновременно. Это не то непосредственное изображение предмета, которое может нам дать фотоаппарат, и не подражание живописи прежних времен, но совершенно новый способ видения и передачи образа музыкального инструмента. Брак превратил статический объект в живой. Кажется, будто и впрямь звучит музыка, слетая с вибрирующей обечайки и напряженных, как стрелы, струн. Этому ощущению способствуют и взметнувшиеся над пюпитром, чуть выше прямоугольного плеча скрипки, распахнутые страницы партитуры.
Что ж, пока все понятно. Но дальше Брак делает нечто совершенно не соответствующее общему стилю картины. Гвоздь в стене, на котором висит палитра, нарисован в реалистической манере, с использованием традиционной перспективы. И задняя стена, которая вместе с листками партитуры была частью двумерного изображения, становится из-за этого частью трехмерной иллюзии. Почему? Что происходит? Брак усомнился в своем методе? Или это шутка?
Нет. Пикассо – тот правда был шутником, но не Брак. Француз просто попытался решить еще одну проблему. Его смущало то, что картина казалась герметично запаянной, оторванной от реальности, существующей в собственном мире. Он рассудил, что если добавить элемент «реального мира», то образ лучше закрепится у нас в сознании, отложится в зрительной памяти и заставит нас внимательнее вглядеться в картину, втянет зрителя в нее – прием наподобие того, что сегодня используют супермаркеты, продавая товар по убыточной цене, чтобы завлечь покупателя. Гвоздь – вовсе не знак поражения и не признание того, что прежняя роль холста как окна в мир была лучше. Напротив: Брак воспользовался классической техникой, чтобы на ее фоне продемонстрировать радикальную новизну собственного подхода. Так же как противоположные цвета цветового круга выявляют все лучшее друг в друге, Брак, используя элемент традиционной перспективы, оттенил новаторство кубизма.
То был новый взгляд на мир, ставший отражением и откликом на недавние прорывные достижения в науке и технике.
В 1905 году вдруг явился не по годам развитой швейцарец немецкого происхождения Альберт Эйнштейн со своей теорией относительности. И Брак, и Пикассо знали об этой революционной работе, в том числе и о выводах Эйнштейна насчет относительной природы времени и пространства. Художники, как и многие их друзья, с жаром обсуждали концепцию четвертого измерения и возможные последствия других научных достижений. Так, открытие атома вдруг оказалось вовсе не финальной точкой в познании материи, а лишь концом пролога к этому познанию. От подобной информации становилось не по себе: привычный устойчивый мир на глазах превращался в тревожно-непонятную математическую неизвестную. Зато кубистская идея разрыва объекта на взаимосоотнесенные элементы представлялась в данном контексте вполне логичным шагом. Точно так же, как изобретение рентгеновского анализа подтолкнула художников к тому, чтобы, глядя сквозь внешнюю оболочку объекта, изобразить то, что порой невидимо, но заведомо существует.
За пределами научных лабораторий все уже предвкушали новые победы братьев Райт в воздухоплавании, радостное возбуждение кружило голову завсегдатаям парижских кафе (Пикассо даже прозвал Брака Уилбуром в честь Уилбура Райта), а тут еще свою толику хмеля добавили во многом спорные психоаналитические изыскания Зигмунда Фрейда о природе подсознательного. В общем, история не помнит периодов – ни прежде, ни после, – когда столько незыблемых истин, на которых держалась цивилизация, разом оказалось под вопросом или вовсе опровергнуто.
Когда атмосфера до такой степени насыщена идеями, то неудивительно, что двоим амбициозным, талантливым и пытливым художникам захотелось разработать концептуальный подход и к искусству тоже. Ведь их творческий метод опирался не на имитацию объекта, а на знание о нем. Брак и Пикассо стремились создать новую формулу для искусства, такую, которая охватывала бы не только то, что видно наблюдателю, но и то, что ему заранее известно об объекте: «предзнание». По словам Аполлинера, художники «создавали новые конструкции из элементов, заимствованных не из видимого мира, а из реальности подсознания», чтобы показать, как мы на самом деле видим предметы и существуем в этом мире. Каждый такой элемент кубистической картины существует в собственном времени и пространстве (то есть наблюдался художником в иное время и в ином ракурсе, нежели другие элементы), однако он соотнесен и связан со всеми остальными элементами как часть единой системы.
Такой подход хоть и предполагал чрезвычайно сложную финальную сборку, однако оказался удивительно современным и вскоре вышел за пределы одной мастерской, распространяясь все шире среди художественного сообщества. Группа парижских художников-экспериментаторов, в том числе Фернан Леже, Альбер Глез, Жан Метцингер и Хуан Грис, подхватили идеи кубизма Брака и Пикассо и примерно с 1910 года начали работать в той же манере. Именно эти художники, а не основатели кубизма, впервые представили публике новое направление на выставке Салона независимых 1911 года (с тех пор известного как Салон кубистов). Правда, ни одной работы Брака или Пикассо на Салоне не было: и тот и другой решили воздержаться от участия.
А из выставленных работ ближе всего к творчеству друзей оказались картины Хуана Гриса. Соотечественник Пикассо, он тоже перебрался в Париж, подружился с обитателями «Плавучей прачечной» и начал формировать собственный вариант кубизма, более стилизованный и гладкий. Такие его картины, как «Натюрморт с цветами» (1912), кажутся металлическими, они словно склепаны из стальных пластин. Грис использует кубистическую технику, дробя объекты и пространство, а затем складывая в ином порядке чуть видоизмененные фрагменты того и другого. Но на этой картине декоративное начало, «узор» подавляет все остальное, так что опознать удается только корпус и гриф гитары. В остальном картина состоит из «нечитаемых» наборов геометрических фигур. Из форм грядущего искусства.
Потому что неизбежным следствием кубизма станет полная абстракция. Спустя всего несколько лет супрематисты и конструктивисты в России и художники из нидерландской группы «Де Стиль» в Голландии станут создавать картины и скульптуры, состоящие исключительно из кругов и треугольников, сфер и квадратов, без малейшей попытки изобразить знакомый нам мир. Но сами кубисты ни к чему подобному не стремились. Пикассо как-то заявил, что никогда в жизни не писал абстрактных картин. Они с Браком решили изображать самые обыденные предметы – курительные трубки, столы, музыкальные инструменты, бутылки – отчасти чтобы сделать компоненты сложных конструкций более узнаваемыми. Но по мере продвижения по пути кубизма оба стали понимать: их картины и в самом деле становятся «нечитаемыми».
И тут Пикассо предпринял еще один революционный шаг, очень хитроумный, однако не сделавший его работы более понятными. Испанец «продырявил» форму. Вместо того чтобы коверкать и корежить объект, представляя его с различных точек зрения, Пикассо начал удалять элементы – скажем, грудь, – оставляя на изображении отверстие. Эта грудь потом могла появиться в другом месте – скажем, на плече, – отчего образ становился еще более дробным, чем на предыдущих кубистических картинах.
Включая традиционно-реалистический гвоздь в натюрморт «Скрипка и палитра», Брак давал понять, что кубизм не утратил связи с реальностью. Но им с Пикассо необходимо было пойти дальше и помочь зрителю сориентироваться и сообщить о сюжете картины. Тут, как им представлялось, могли бы помочь буквы и слова, и одним из первых примеров такого новаторства стала работа Пикассо «Моя красавица» (1911–1912) (ил. 12).
Ил. 12. Пабло Пикассо. «Моя красавица» (1911–1912)
«Моя красавица» – это портрет Марсель Умбер, возлюбленной Пикассо. Очертания ее головы и тела можно угадать в нагромождении форм, доминирующем в центральной части полотна. Справа, ближе к нижней части картины, – шесть гитарных струн, которые она тихонько перебирает. А в самом низу холста – куда более узнаваемые элементы: слова «МА JOLIE» («Моя красавица»), выведенные заглавными буквами. Это ласковое прозвище для Марсель художник позаимствовал из припева популярной шансонетки. Пикассо указал на этот музыкальный подтекст, разместив скрипичный ключ справа и чуть выше буквы «Е» в слове «JOLIE» – так указывают степень в математике.
Введение текста – это было смело. Ведь живопись всегда оперировала изображением, а не словом. Позаимствовать средство у одной формы коммуникации, чтобы поддержать другую – на такое не всякий бы решился. Но эта буквальная цитата из повседневной жизни облегчала понимание кубистической картины. Правда, буквы не стали панацеей. Кубизм поставил перед Браком и Пикассо новые проблемы, главная из которых была связана с представлением трехмерных предметов на двумерном холсте. Картины стали настолько плоскими, что зрителю, пожалуй, стало уже трудновато отделить изображаемый предмет от фона. Конечно, ничего страшного, если холст сплошь покрыт единым сквозным узором, только это получается уже не живопись, а обои. Разумеется, Брак на самом деле был когда-то ремесленником-декоратором, но он уже давно сменил профессию. Теперь он – вполне оперившийся художник, как и Пикассо. И их уж точно никак не назовешь обойщиками. Но что, если…
Что, если… скажем, взять кусок обоев и наклеить на холст? Хм…
Брак начал экспериментировать с техникой, которую освоил, еще работая декоратором. Он стал добавлять в краску песок и гипс, чтобы придать ей дополнительную текстуру и иногда даже пользовался расческой вместо кисти для создания эффекта паркета. Пока он месил и причесывал гипс, Пикассо продолжал оглядывать студию в поисках источника вдохновения. В начале лета 1912 года он создает «Натюрморт с плетеным стулом» (1912). Верхняя часть овальной картины – кубизм в чистом виде. Газетные вырезки, трубки и бокал рассыпаются веером, как колода карт на полу. Однако нижняя половина совсем другая. Пикассо налепил на холст кусок дешевой клеенки, которой оклеивали изнутри комодные ящики или использовали вместо оберточной бумаги. Узор на клеенке напоминает сиденье плетеного стула. Картину Пикассо обрамил куском витого шнура.
Включение настоящей клеенки в картину стало прорывом. К 1912 году все уже свыклись с тем, что художники изображают повседневную жизнь: предметы реального мира при посредстве кисти и красок преобразуются в искусство. Однако зритель был не готов к тому что художник просто возьмет предмет обихода и физически поместит его на холст: это нарушало все правила взаимоотношений искусства и жизни.
Узорчатая клеенка дала желаемый эффект: картина Пикассо сразу сделалась понятнее. Все становится на свои места: овальный холст изображает поверхность столика в кафе. Трубка, бокал и газета (обозначенная буквами JOU — от Journal) – самые уместные тут предметы. Клеенку можно понимать и как аккуратно задвинутый стул, и как скатерть. Но остроумный прием Пикассо не только добавил внятности кубистскому полотну. Поместив кусок клеенки в свою живописную работу, он поднял статус никчемного лоскута до высоких сфер изящного искусства. Иными словами, Пикассо взял предмет массового производства и превратил его в нечто уникальное и ценное.
Брак пошел еще дальше. В сентябре того же года он создал натюрморт «Блюдо с фруктами и стакан» (1912), для которого вырезал и наклеил на холст обои «под дерево». Поверх обоев он нарисовал углем блюдо с фруктами в кубистском стиле и стакан. В этой живописи, кстати, нет собственно живописи. Цвет обеспечивают обои, купленные Браком в одном авиньонском магазине. И тут мы вторгаемся на территорию интеллектуальной игры. Брак взял кусок обоев, имитирующих дерево. Затем он поместил эту «фальшивку» в свою картину – по сути, поделку. Но тем самым он изменил статус обоев: теперь они – единственная «реальная» вещь на картине. Сложно, я знаю. Но понять необходимо. Потому что с этого и начинается концептуальное искусство. Не с Марселя Дюшана и не с художников-перформансистов 1960-х годов. Все началось с Брака и Пикассо в Париже 1912 года.
Обои Брака и клеенка Пикассо могли бы остаться никчемными кусками отделочных материалов, но для истории искусства оказались шашками динамита. Сезанн распахнул дверь в модернизм; а эти два молодых авантюриста сорвали ее с петель. Они не копировали реальную жизнь: они ее присваивали. Аналитический кубизм превратился в синтетический. Брак и Пикассо сделали очередное открытие: они изобрели коллаж.
Помните корявые аппликации, что все мы мастерили на уроках рисования в школе? Когда вырезали кусочки из газет и журналов и наклеивали их на картонку? Это было так очевидно, так просто, так по-детски. Но никто, ни одна живая душа до Брака и Пикассо, не додумался сделать коллаж частью изобразительного искусства. Да, люди и раньше вырезали что-то и вклеивали – в альбом для памятных вещей или фотографий. Древние украшали свои картины драгоценными камнями, а Дега одел в муслин и шелк свою скульптуру «Маленькая танцовщица» (1880–1881). Но поместить обычный, повседневный материал на мольберт художника, вознести на высокий алтарь искусства – это было новаторство.
А потом эта парочка достала из рукава блузы еще один сюрприз: трехмерное папье-колле (термин буквально переводится как «бумажная наклейка»). Сегодняшние искусствоведы назвали бы эти шаткие конструкции из струн, картона, дерева и раскрашенной бумаги ассамбляжем или, может быть, даже скульптурой. Но тогда, в 1912 году, слова «ассамбляж» еще не существовало, а скульптуры представляли собой изваяния из мрамора или бронзы, установленные на постаменте.
Когда осенью 1912 года поэт и критик Андре Сальмой посетил студию Пикассо и увидел «Гитару» (1912), висящую на стене, то растерялся. Испанский художник сделал трехмерное подобие гитары, склеив куски картона, проволоки и струн.
– Что это? – спросил Сальмой.
– Ничего особенного, – ответил Пикассо. – Это elguitare[19]!
Заметьте, не просто guitare, a elguitare — «та самая гитара».
Брак и Пикассо какое-то время изготавливали эти трехмерные модели как подспорье для написания своих будущих кубистских картин. А теперь выставили их как самостоятельные произведения. Это был окончательный разрыв с традицией. Отныне предметом искусства могло стать что угодно.
В течение следующих двух лет оба художника, словно дуэт джазовых музыкантов, импровизировали со всевозможными материалами и подхватывали идеи друг друга. Их изобретения в смешанной технике, соединяющей «низкие», бытовые предметы и высокое искусство, повлекли за собой как немедленные, так и долгосрочные последствия. Марсель Дюшан, бывший парижский кубист, уехал в Америку и быстренько произвел на свет собственное произведение искусства из подручного материала: «Фонтан» (1917), он же переосмысленный писсуар. Сюрреалисты преклонялись перед «Девицами» Пикассо – картина, кстати, получила известность благодаря их идейному вождю Андре Бретону. И что такое банки супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола, надувные собаки Джеффа Кунса и заформалиненные акулы Дэмиена Херста, если не присвоение художником готовых предметов с целью представления их в новом, художественном контексте?
Это лишь некоторые примеры влияния кубизма. Его воздействие прослеживается во всем искусстве и дизайне XX века. Кубистская эстетика углов, резких линий и пустого пространства – реализация Браком и Пикассо идей Сезанна, – эволюционировала в модернизм. Простая и элегантная архитектура Ле Корбюзье, стиль ар-деко 1920-х и утонченный шик Коко Шанель – все это обязано своим появлением двум молодым художникам. Как и модернистская проза Джеймса Джойса, поэзия Т.С. Элиота и музыка Игоря Стравинского. Если вы оторветесь сейчас от книги и посмотрите вокруг, то увидите: отовсюду на вас смотрит наследие кубизма.
И оно, вероятно, будет жить вечно, хотя само направление не продержалось и десятилетия. Тогдашний Париж, как и мир, породивший Брака и Пикассо, – мир богемных вольнодумцев, черпающих вдохновение в кофе и абсенте, – доживал последние дни. «Прекрасную эпоху» ожидало столкновение с величайшим ужасом и испытанием: Первой мировой войной. Некоторые создатели кубизма окажутся под ружьем, в том числе Брак. Как и Гийом Аполлинер, поэт, критик и влиятельный защитник современного искусства, – ослабленный ранениями, полученными в бою, он умрет от инфлюэнцы в 1918 году. А Даниэлю-Анри Канвейлеру, меценату и покровителю молодых художников, как немцу и, следовательно, врагу государства, придется покинуть Париж.
Праздник кончился. Первая мировая война положила конец кубизму; Пикассо говорил, что с тех пор больше не видел своего брата по искусству. Это было не совсем так: они увиделись. Брак выжил на войне и вернулся в Париж, чтобы продолжить карьеру художника; он регулярно встречался со своим давним партнером, который всю войну оставался в Париже. Пикассо имел в виду, что их художественная авантюра кончилась: кубизма больше не существовало. Впрочем, оба продолжили художественные поиски. К тому времени оба маэстро уже были знамениты, и их находкам тоже досталась слава.
Можно лишь удивляться тому, чего смогли достичь эти два молодых художника. У кубизма никогда не было своего манифеста: Пикассо с Браком не интересовались политикой. Чего нельзя сказать о следующем направлении в искусстве, сразу же выдвинувшем свои идеи. У футуризма были совсем другие цели и куда более мрачное наследие…
Глава 8 Футуризм: да здравствует будущее, 1909-1919
В течение восьми лет, с 1905-го по 1913 год, художественные направления появлялись стремительно и неожиданно, словно пропавшие дальние родственники на похоронах миллиардера. Неведомые доселе сообщества стали претендовать на звание новых пионеров искусства, объявляя себя наследниками импрессионизма Моне или пуантилизма Сера: кто во Франции (фовизм, кубизм, орфизм), кто в Германии (группы «Мост» и «Синий всадник»), кто в России (лучизм), кто в Нидерландах (неопластицизм, группа «Де Стиль»), кто в Великобритании (вортицизм). Одни крупнее, другие мельче, одни влияли на других, но все внесли свой вклад в современное искусство.
Стремительность их появления – а иногда и исчезновения – отражала ситуацию в Европе того времени: континент пришел в движение, перемены стали привычным фоном. Технические новинки, скрашивающие досуг среднему классу, хлынули сплошным потоком. Группы художников, поэтов, философов и писателей встречались, выпивали и обменивались мыслями в своих стремительно модернизирующихся столицах, где электричество сделало светскую жизнь круглосуточной. С убожеством грязных городских трущоб распрощались навсегда. Лейтмотивом для всей Европы стало «долой старое, да здравствует новое!»
Во всяком случае, к этому призывал в своих речах и памфлетах Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), провокационный итальянский поэт и прозаик. Маринетти родился в семье итальянцев в Египте, учился в Александрии, в коллеже французских иезуитов, где приобщился к французской и итальянской культуре. Лишь восемнадцатилетним он впервые побывал в Италии и во Франции – к тому времени об обеих странах у него уже успело сложиться чрезмерно романтизированное представление. Маринетти был страстным спорщиком и полемистом. Новаторские речи парижских писателей-авангарди-стов он смаковал, точно изысканные вина, прокручивал их в голове, упивался их властью. В возрасте двадцати с небольшим перебравшись в Милан, он тут же спохватился, что его новая родина, Италия, до сих пор не представлена на подмостках современного искусства. И вскоре решил проблему, выступив с концепцией, названной футуризмом.
В отличие от прежних направлений, футуризм с самого начала был откровенно политическим течением. Неистовый Маринетти хотел изменить мир. И в определенной степени – хорошо ли, плохо ли – это ему удалось. Он обладал множеством недостатков, но застенчивости и скромности среди них не было. Иными словами, если у Маринетти появлялась идея, мир должен был о ней узнать. Редкостное нахальство! Только представьте, поэт и писатель, практически не известный никому, кроме итальянского авангарда, решил опубликовать свой радикальный манифест в газете – да еще и на первой полосе. И не в какой-то местной газетенке, и даже не в родной Италии (которая уже была завалена его футуристическими прокламациями). Нет, в субботу 20 февраля 1909 года Маринетти явил миру манифест футуризма в передовице знаменитой французской газеты «Фигаро». Это был смелый, хорошо рассчитанный, умный шаг. Маринетти знал, что единственный шанс быть услышанным мировой художественной и интеллектуальной элитой – это зайти с их парижского тыла. И, конечно же, спровоцировать драку. Что он и сделал, сцепившись с самыми большими хулиганами города: Жоржем Браком, Пабло Пикассо, кубизмом в целом и его главным апологетом Гийомом Аполлинером.
Владельцы «Фигаро» явно нервничали перед публикацией. Чтобы дистанцироваться от итальянца-подстрекателя, они предварили манифест Маринетти заявлением: «Редакция считает необходимым предупредить, что автор несет всю полноту ответственности за свои оригинальные идеи и чрезмерную несдержанность в обличении того, что составляет предмет всеобщей гордости и уважения. Но мы сочли, что нашим читателям будет интересно ознакомиться с первой публикацией этого манифеста независимо от того, как они его оценят». Манифест занял две с половиной колонки первой страницы «Фигаро». Озаглавленный «Футуризм», он состоял из двух частей: вступления и программы, включавшей одиннадцать основополагающих тезисов. Это был острый и язвительный документ; можно понять, почему издателям стало не по себе.
Представляя себя и своих единомышленников, Маринетти писал: «Из Италии мы провозглашаем всему миру этот наш яростный, разрушительный, зажигающий манифест. Этим манифестом мы учреждаем сегодня футуризм, потому что хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов, краснобаев и антикваров». Далее он обратился к богатому художественному прошлому страны, пытаясь донести идею о том, что современное итальянское творчество задавлено тяжким наследием золотого века, прежде всего Древнего Рима и эпохи Возрождения. Он бунтовал, как закомплексованный младший брат, оказавшийся в тени успешного старшего. Иначе он не сказал бы: «Слишком долго Италия была страной старьевщиков. Мы намереваемся освободить ее от бесчисленных музеев, которые, словно множество кладбищ, покрывают ее. Музеи – кладбища!… Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!.. Берите кирки, топоры и молотки и крушите, крушите без жалости седые почтенные города!» И это только аперитив перед основным блюдом, собственно манифестом.
Вот как звучит тезис номер два: «Мужество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии». Что ж, это тоже пока разминка, а лучшее (и самое гневное) еще впереди. К четвертому тезису автор уже разогнался до скорости гоночной машины, «капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы… ревущая машина, мотор которой работает, словно пулемет, – она прекраснее, чем крылатая статуя Ники Самофракийской». И вот, наконец, тезис номер девять, где риторика уже зашкаливает. Этими иконоборческими словами Маринетти не только привлек к себе внимание, о котором страстно мечтал, но и посеял семена ужасного будущего и для себя, и для всего футуризма, который станет ассоциироваться с фашизмом: «Мы будем восхвалять войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине». Ни больше ни меньше!
«Выдайте деятелей искусства!»
Как бы то ни было, Маринетти достиг желаемого. Если еще вчера о нем спрашивали: «А кто это?», то на другой день уже возмущались: «Кем, черт возьми, он себя возомнил?» Парижская интеллигенция ответила немедленно и, конечно, убийственной критикой. По мнению одного высоколобого эстета, автору манифеста следовало бы назвать его «не “футуризмом”, а “вандализмом”», а другой заметил: «Такое возбуждение господина Ф.Т. Маринетти – свидетельство либо чудовищного недомыслия, либо чудовищной жажды рекламы».
Что касается рекламной стратегии, она оказалась и впрямь хитрой, профессиональной и очень успешной. Таким изощренным манипуляциям со СМИ и общественным мнением позавидовали бы лучшие рекламщики Мэдисон-авеню. Французский критик Роже Аллар писал в 1913 году: «…с помощью статей в прессе, хитро организованных выставок, провокационных лекций, полемики, манифестов, деклараций и других форм футуристической пропаганды делается имя художнику или художественному направлению. От Бостона до Киева и Копенгагена эта шумиха создает иллюзию, а выскочка отдает приказы». Именно у Маринетти научатся играть в рекламные игры с пользой для себя те же дадаисты, Марсель Дюшан, Сальвадор Дали, Энди Уорхол и Дэмиен Херст.
Но пока футуризм представлял собой лишь манифест. В конце концов Маринетти был литератором, а не живописцем, – собственно, как и его первые последователи. Но год спустя появилось и соответствующее художественное направление. Маринетти удалось завербовать таких итальянских художников, как Умберто Боччони (1882–1916), Карло Карра (1881–1966), Джино Северини (1883–1966) и Джакомо Балла (1871–1958). Их картины и скульптуры вполне соответствовали неистовым лозунгам манифеста и наглядно воплощали его напыщенные тезисы. От художников требовалось изобразить динамизм современной жизни или по крайней мере передать его ощущение. Маринетти лишь воспел красоту и агрессивный напор машины, а художники – отобразили. Их работы, полные энергии и динамики, подхватили эстафету новаторской фотографии французского ученого Этьен-Жюля Маре и Эдварда Мейбриджа, создавших в конце XIX века последовательности неподвижных изображений скачущих лошадей. Футуристы заявляли, что их картины не «застыли во времени» – в отличие от статичных, погруженных в самое себя работ Брака и Пикассо. Впрочем, кубистская идея показывать объект одновременно под несколькими углами пришлась футуристам по душе. Футуризм был, в сущности, кубизмом в движении.
Ил. 13. Джакомо Балла. «Динамизм собаки на поводке» (1912)
Иногда получалось неплохо, но бывали и промахи. Симпатичная, хотя и довольно нелепая картина Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке» (1912) (ил. 13) изображает собаку и хозяина со множеством ног – что должно означать движение. Получилось мило, но глупо. В то время как скульптура УмбертоБоччони «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (1913) (ил. 14) весьма хороша и прекрасно воплощает художественную задачу футуризма – соединить человека и механизированную среду обитания в энергичный образ скорости и прогресса. Скульптура изображает шагающего киборга – получеловека-полумашину. У него нет ни лица, ни рук, но аэродинамические очертания изогнутого тела подчеркивают его готовность к полету, к скольжению по воздуху со скоростью, недоступной смертным. Именно такие композиции сделали слово «футуризм» ярлыком по умолчанию для всякого восторженного воспевания технического прогресса: отныне они стали именоваться «футуристическими».
Ил. 14. Умберто Боччони. «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (1913)
Своим появлением футуристические картины и скульптуры во многом обязаны техническим и композиционным изобретениям кубизма. Кубисты тоже пытались соединить время и пространство в единое целое и применяли для этого похожую технику дробления и наложения плоскостей. Но если кубисты относились к своим произведениям как к искусству и только, то футуристы рассчитывали прежде всего на резкую эмоциональную реакцию публики, они выступали с политическими заявлениями, а динамическое напряжение стремились создать между реальными прототипами изображенных объектов.
Сходство между футуристами и кубистами стало еще более заметным после того, как художественный десант Маринетти высадился в Париже в 1911 году и увидел работы Брака и Пикассо в галерее Канвейлера, а картины «Салона кубистов» – Робера Делоне, Жана Метцингера и Альбера Глеза – на выставке «Независимых». Итальянцы усвоили урок современного искусства и взяли на вооружение идеи французского авангарда. Немедленным ответом на визит в Париж стал триптих Боччони «Состояния души» (1911).
Вообще-то он писал эту серию дважды, оба раза в 1911 году: накануне поездки в Париж и по возвращении. Идея осталась неизменной, и Боччони подчеркнул это, сохранив названия каждой из трех картин в обеих версиях: «Те, кто уезжает», «Прощания» и «Те, кто остается». Художник хотел изобразить психологические аспекты взаимодействия человека с машиной (в данном случае с поездом). На картине «Те, кто уезжает» – люди, отправляющиеся в путешествие на поезде, у Боччони они охвачены «одиночеством, болью и смятением». В «Прощаниях» – ожидаемый сюжет: люди на перроне отшатываются от уходящего поезда. Полотно «Те, кто остается» изображает глубокую меланхолию провожающих.
Первый триптих, до поездки, был вполне в духе постимпрессионизма: картины сочетали экспрессионизм Ван Гога, символизм Гогена, палитру Сезанна и колористические воззрения
Сера. А по настроению первоначальная версия триптиха ближе к воспаленному сознанию Эдварда Мунка, чем к энергичному, устремленному в будущее, одержимому скоростью, бесшабашному футуризму
Но триптих, созданный по возвращении из Парижа, уже гораздо ближе к нашим представлениям о футуристическом искусстве. В угловатых, упрощенных геометрических формах «Тех, кто уезжает» явственно прослеживается влияние кубизма. Техника нарезки объектов и их склейки в накладывающиеся друг на друга конструкции созвучна Пикассо и Браку с их наложением плоскостей, как и насыщенно-синяя палитра и «осколочная» композиция.
Но атмосфера совершенно иная: отчетливо-футуристическая. Своей эмоциональностью картина «Те, кто уезжает» разительно отличается от трезвости кубизма. Темные тона и острые, как стрела, диагональные синие штрихи-осколки усиливают ощущение тревоги. Головы пассажиров – полулюдей-полуроботов, – должно быть, подсказали режиссеру Фрицу Лангу образ человекомашины в научно-фантастическом киношедевре «Метрополис» (1927). Да и само полотно Боччони, по сути, готовый фильм. Или скорее киноафиша, с характерным смешением интерьера (люди в тусклом освещении вагона) и наружного вида (залитый солнцем город на заднем плане): сюжет охватывает события разного времени, но зрительно они соединены вместе. У футуристов было собственное название этой насыщенной действием художественной техники, как бы сжимающей время: симультанность.
Вторая картина триптиха, «Состояния души: Прощания» (репр. 14), использует схожие стилистические приемы. На этот раз герой картины очевиден: стоящий под парами мощный паровоз, которому Боччони присвоил номерной знак в графической манере, придуманной Браком и Пикассо. Сюжетом картины стали встречи людей на вокзале – встречи и проводы. Здесь объятия, окутанные паром; вагоны и поля, электрические мачты на фоне заходящего солнца. Это будущее людей, каким увидел его художник: управляемое электричеством и машинами, стремительное и не ведающее пределов. Будущее в развитии.
Картина «Те, кто остается» лишена насыщенного цвета и энергии первых двух полотен. Это почти монохромный образ поражения. Сине-зеленые призрачные фигуры устало бредут со станции, частично скрытые полупрозрачной завесой жирных вертикальных линий, намекающих на холодный проливной дождь. Они возвращаются к несчастливому прошлому, где уже не будет любимых, которые устремились на поезде в будущее. Жалкие фигурки, изображенные в кубистском стиле, наклонены под углом сорок пять градусов, как будто вот-вот рухнут под тяжестью своего старомодного существования.
Второй триптих «Состояния души» – это квинтэссенция футуристической живописи. Он стал одним из самых ярких экспонатов первой выставки футуристов, которая состоялась в 1912 году в Париже, в галерее Бернгейма-младшего. Кажется странным, что Боччони вообще согласился выставлять серию с учетом ее формальной аллюзии на алтарные триптихи эпохи Ренессанса, – ведь футуристы призывали отказаться от любых отсылок к прошлому. Впрочем, французов огорчили более современные ассоциации, о чем один из критиков не замедлил высказаться: «Головастики месье Боччони – не что иное, как унылый плагиат с Брака и Пикассо».
Действительно, художники с обеих сторон – кубисты и футуристы – продолжали присматриваться друг к дружке, взаимообучаясь и влияя друг на друга. Французский кубист Робер Делоне (1885–1941) пристально следил за успехами итальянских коллег. Его картина «Команда Кардиффа» (1912–1913) сочетает в себе и кубистские, и футуристические черты.
Она изображает встречу двух спортивных команд на матче по регби в Париже. Один из игроков прыгает, чтобы поймать высокий мяч, задрав лицо кверху. Фоном выбраны предметы, символизирующие современный досуг: колесо обозрения, биплан и главная туристская достопримечательность города – Эйфелева башня. Символ понятен: восходящий импульс, прыжок к небу, в будущее. Несколько действий, происходящих в разное время и разных местах, соединены вместе: еще один пример футуристической симультанности. Это соединение напоминает кубистский коллаж (и современный рекламный постер). Но почерк Делоне отличается от эстетики как кубизма, так и футуризма. Здесь нет ни динамики, ни яростной футуристической живописи, а для канона Брака или Пикассо картина чересчур красочна.
Что наконец-то позволило Аполлинеру отделить своих французских друзей от движения Маринетти, которого он ни в грош не ставил. Футуризм он называл «гротескным безумием, безумием невежества» и попросту «глупостью». Но движение набирало силу даже среди его единомышленников. Так что, не желая терять лицо перед парнем из Милана, Аполлинер просто придумал новое название для того, что было, по сути, гибридом, своего рода кубофутуризмом. Он оценил «Команду Кардиффа» Делоне как начало нового художественного направления и окрестил его орфизмом (в честь легендарного Орфея, чья завораживающая душу музыка покорила даже богов).
Но французская интеллигенция опоздала и уже не могла ни остановить, ни присвоить себе футуризм и его неутомимого пропагандиста. Футуристическая парижская выставка начала свое шествие по Европе: Лондон, Берлин, Брюссель, Амстердам и далее со всеми остановками. И повсюду был Маринетти – выступая, споря, убеждая. От Санкт-Петербурга до Сан-Франциско Маринетти пожимал тысячи рук и оглушал тысячи ушей, прежде чем представить публике картины, приглянувшиеся его механистическому и все более маниакальному воображению. И мир прислушался. Футуристы сломали монополию Парижа на контроль за развитием современного искусства. Начиная с 1912 года новые главы истории этого искусства будут написаны в разных городах мира, получивших равноправный статус именно благодаря реакции на кубофутуризм.
Так, в Великобритании художник и писатель Уиндэм Льюис (1882–1957) объединил единомышленников – лондонских художников и скульпторов – в новое направление, вортицизм, которое вышло из кубофутуризма. Название направлению дал в 1913–1914 годах поэт Эзра Паунд, назвавший вихрь {англ. vortex) точкой максимальной энергии. С началом Первой мировой войны направление перестало существовать, не успев окончательно оформиться. Однако времени хватило на создание нескольких запоминающихся произведений искусства, самым мощным среди которых стал «Перфоратор» Джейкоба Эпстайна (1913–1915).
Эпстайн (1880–1959) родился и учился в Америке, но в 1905 году приехал в Великобританию, да там и остался. Он посетил Пикассо в Париже, нашел испанца «замечательным художником – виртуозом и человеком тонкого вкуса и обостренной чувствительности». Вскоре после этого Эпстайн создал «Перфоратора» – скульптуру, которая выглядит футуристической даже сегодня, хотя появилась еще в 1913 году. Двухметровый исполин – не то робот-рептилия, не то человек-машина – оседлал настоящий перфоратор для горных работ. Перфоратор поддерживается треногой, на двух ее опорах стоит чудище, и черный пневматический бур свисает у него между ног, как огромный фаллос, готовый погрузить свой стальной наконечник в недра матушки-земли. Лицо монстра напоминает голову богомола, глаза из-под угловатого козырька словно вызывают зрителя на бой. Воистину торжество машинной эротики, мечта Маринетти.
По словам Эпстайна, он создал скульптуру «в новаторские предвоенные дни 1913 года… вдохновленный страстью к технике… это вооруженная зловещая фигура дня сегодняшнего и завтрашнего». Но очень скоро его франкенштейновский монстр превратился в мрачное пророчество: кровавая бойня Первой мировой явила миру ужасающую оборотную сторону союза человека и машины. После чего Эпстайн утратил интерес к машинам и разобрал свою работу, воссоздав только ее часть – бронзовый ампутированный торс без левой руки. Прежде непобедимый воин глядит теперь из-под козырька униженно и недоуменно.
Хоть Эпстайн и сменил направление творчества, но футуризм продолжал свой победный марш при мощной поддержке Маринетти с его декларациями и скандалами. Итальянский шоумен от искусства никогда не стеснялся размахивать кулаками. Он признавал, что хорошая драчка – это реклама, тот самый кислород, без которого пламя нового искусства не сможет разгореться. Но в свете событий Первой мировой публичные страшилки и подстрекательские речи Маринетти выглядели все более зловещими. Политический ландшафт менялся. Недовольное население Европы с возрастающим удовольствием слушало, как футуристы скандируют: «Долой прошлое, да здравствует будущее!» Уже поднимали голову коммунисты. Как и фашисты.
И словно опровергая сложившееся мнение большинства – что искусством балуются только левые либералы, Филиппо Маринетти обратил свой литературный дар на службу другой стороне, став соавтором «Доктрины фашизма» в 1919 году, всего через десять лет после опубликования собственного футуристического манифеста. Он подружился с Муссолини и даже баллотировался в парламент в 1919 году (безуспешно) от фашистской партии. Следует сказать, что фашизм, каким его видел Маринетти, существенно отличался от той мерзости, в которую он вскоре превратился. Вскоре все стало ясно, так что Маринетти пришлось уйти на запасной путь. Но он оставался верен Муссолини и решительно защищал его на публике.
Утверждать, что именно футуризм привел к фашизму, было бы некоторым преувеличением. Но коль скоро мы говорим об эпохе, когда искусство влияло на политику столь удивительным и пагубным образом, то и уйти от неудобной правды нам тоже не удастся. Футуризм навсегда останется в неразрывной связи с фашизмом.
Глава 9 Кандинскии/Орфизм/ «Синий всадник»: звуки музыки, 1910-1914
Понятие «абстрактное искусство» охватывает картины или скульптуры, которые не имитируют и даже не пытаются изобразить физический объект, скажем дом или собаку Такая попытка выглядела бы провалом в глазах художника-абстракциониста, чья задача – создать произведение, в котором мы, простые смертные, не сможем узнать ничегошеньки из нашего привычного мира. Абстракционизм иногда называют «беспредметным искусством».
Ну, вам известны эти, казалось бы, случайные закорючки и квадратики, наводящие иной раз на мысль, что такое может изобразить и пятилетний ребенок. Что, кстати, тоже вполне возможно, хотя и маловероятно. Хитрая вообще-то штука – понять, чем эти линии отличаются от нарисованных мною или вами, но отличие есть. Что-то в их особенной текучести, композиции или формах заставляет нас миллионами устремляться в галереи современного искусства, чтобы увидеть абстрактные картины таких авторов, как Марк Ротко и Василий Кандинский. Каким-то образом художникам удалось так соединить формы и мазки, что композиции отзываются в нас глубоким смыслом, хотя мы и сами не знаем, в чем он. Абстрактное искусство – некая тайна, то, что вносит хаос в наш рациональный мозг, полагающий, что картина или скульптура обязательно должна нам о чем-то рассказывать. Это сложная идея, выраженная, что характерно, в простой форме. В следующих главах я попытаюсь сделать примерно то же самое.
Вы можете возразить, что все затеял еще Эдуард Мане в середине XIX века, начав удалять отдельные живописные детали со своих картин, взять хотя бы «Любителя абсента» (1859). Каждое следующее поколение художников жертвовало все новой визуальной информацией в попытке ухватить атмосферу (импрессионизм), усилить эмоциональное воздействие цвета (фовизм) или рассмотреть предмет с различных сторон одновременно (кубизм).
Оглядываясь назад, понимаешь, что этот процесс неизбежно должен был привести к полному отказу от всех реалистических подробностей и рождению абстрактного искусства. Мане и его преемники определили роль художника эпохи фотографии как светского обозревателя, философа и «ясновидца», обнажающего сокровенную правду жизни. Фотокамера освободила его от черновой, повседневной работы – передачи внешнего сходства – и позволила заняться освоением новых способов изображения, способных пробудить у зрителя новые чувства и мысли.
Франческо в сорок лет внезапно осознает; что потратил половину жизни на разработку собственной подписи звездочками на холсте
Первопроходцы – художники и скульпторы Европы – с энтузиазмом устремились по этому пути. Обретенная свобода и самопровозглашенное право на поиск позволяли им теперь упрощать объекты, искажать их форму и рассекать на геометрические плоскости – во имя художественного прогресса. И вот в 1910 году, спустя сорок лет после начала этой революции, изменившей роль искусства и художника, произошел окончательный разрыв с традицией.
Франтишек Куика (1871–1957), чешский художник, большую часть жизни проживший в Париже, был участником кубофутуристического движения, которое Аполлинер назвал орфизмом. В 1910 году Куика начал создавать яркие, но совершенно непостижимые полотна: относительно их сюжета не имелось ни малейшей подсказки. Все, кроме автора и его ближнего круга, видели на холсте лишь набор трудноопределимых форм. «Первый шаг» Куики (ок. 1910) – одна из первых его пробных вылазок в мир абстрактного искусства. Это несколько кругов и окружностей, изображенных на черном фоне. Самый яркий круг занимает центральное положение в верхней части холста, – большой и белый, обрезанный сверху, как вареное яйцо; он отчасти перекрывает чуть меньший серый круг, расположенный немного ниже. Вокруг двух этих кругов – ожерелье из расположенных полукольцом одиннадцати с половиной сине-красных таблеток. Каждая обрамлена зеленой окружностью. В левом углу холста – большое красное кольцо, пересекающееся с полукольцом из таблеток. Вот и все.
«Первый шаг» – картина ни о чем; она совершенно абстрактна. Это попытка исследовать наши взаимоотношения с космосом и Вселенной: визуальный образ взаимосвязанности Солнца, Луны и планет (причем название картины несет особую смысловую нагрузку). Вместо сюжета Купка просто излагает на холсте некоторые свои мысли.
Два года спустя Робер Делоне, признанный основоположник орфизма, сделал свой ход – картиной, которая окажет огромное влияние на искусство будущего. «Синхронный диск» (1912) вдохновил немецкий авангард, а позже и американский абстрактный экспрессионизм. На первый взгляд полотно напоминает разноцветную мишень для игры в дартс. И тоже, как в «Первом шаге», – полное отсутствие сюжетного элемента. Но есть одно принципиальное отличие от работы Купки: здесь вообще нет аллюзий на физические объекты, будь то космические или еще какие. Объектом художник избрал цвет.
Как и Сера, Делоне заворожила теория цвета. И вдохновляли работы французского химика Мишеля Эжена Шевреля, в частности его «Закон синхронности контраста цветов» (отсюда и название картины Делоне), опубликованный в 1839 году. Шеврель показал, как цвета, соседствующие на цветовом круге, влияют друг на друга (вечная тема в истории современного искусства). Сера использовал эту систему, чтобы дать ответ импрессионизму; Делоне с ее помощью добавил немного цвета кубизму. Он применил технику деконструкции Брака и Пикассо к цветовому кругу, раздробив его, а потом восстановив уже в форме круглой мишени, разрезанной на четыре сектора, словно пицца. Каждый сектор содержит семь цветовых сегментов, дугами расходящихся от центра. В результате мы имеем семь концентрических кругов, состоящих из разделенных контрастирующих цветов.
Придя к выводу, что реальность нарушила «цветовой закон», Делоне избрал цвет единственным предметом изображения. И попытался создать зрительный образ, испускающий гармонические цветовые волны, – что-то аналогичное музыке. В этом и состояла сверхзадача орфизма, недаром названного в честь легендарного древнегреческого поэта и музыканта. Авангардисты вообще отчетливо ощущали связь музыки с изобразительным искусством.
Это важно иметь в виду для понимания творчества пионеров абстракционизма. Своими красочными росчерками и разводами они не собирались обманывать публику, выдавая умение малевать за высокое искусство, как и не пытались оторваться от реальности, дабы прослыть пророками или мистиками. Нет, они предпочитали сравнивать себя с музыкантами, а свою работу – с партитурой.
Что объясняет причины их перехода к абстракционизму. Ведь музыка, если ее не сопровождает пение или декламация, и есть высшее проявление абстрактного искусства. Рыдание скрипки или рокот барабана способны унести слушателя в воображаемый мир, и для этого вовсе не надо прибегать к визуализации. Слушатель волен фантазировать и интерпретировать смысл музыки. Если она берет за живое, значит, композитор правильно расставил ноты. Ранние примеры абстрактного искусства – что-то в том же духе, разве что вместо нот художники использовали цвет и форму.
Рихард Вагнер, великий немецкий композитор-романтик XIX века, еще полувеком раньше разглядел потенциал синтеза музыки и изобразительного искусства. Он стремился к так называемому Gesamtkunstwerk — синтезу искусств. Замысел состоял в том, чтобы соединить разные виды искусства в единую синкретическую сущность, способную преобразовать жизнь человека и общества. Вагнер вообще был человек амбициозный.
Концепция возникла не без влияния его кумира – немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788–1860), в частности, касательно теории музыки. Шопенгауэр был мизантроп: жизнь считал бесполезным занятием, а человека – рабом собственной воли к жизни, пленником первичных и ненасытных инстинктов – жажды секса, пищи и безопасности. Он утверждал, что только искусство способно спасти нас от этого ярма, приподнять над низменностью бытия, только оно позволяет увидеть истинную суть вещей и тем самым дарует облегчение. А высшей формой искусства, осеняющей нас вожделенным отблеском свободы, является музыка – опять же в силу своей абстрактной природы, – звуки слышны, но не видны, поэтому воображение не связано ни волей, ни разумом.
Вагнер подхватил эту идею, разделив все виды искусства на два лагеря. В одном оказались музыка, поэзия и танец, как создающиеся единственно усилием творческого гения. А в другом – живопись, скульптура и архитектура, здесь гений только придает форму материальному носителю. Задачей стало найти формат, позволяющий каждому виду искусства, взаимодействуя с другими, раскрыть истинный потенциал во всем его великолепии.
Вероятно, композитору удалось осуществить свою мечту о синтетическом искусстве, потому что во время исполнения оперы «Лоэнгрин» на сцене Большого театра в Москве молодой русский профессор права поймал себя на том, что думает точно так же. С первых тактов увертюры вагнеровской эпической оперы, основанной на средневековой легенде, Василий Кандинский (1866–1944) начал «видеть». В его воображении сложилась яркая картина. Его любимая Москва, только сказочная, родом из русского фольклора и народного лубка. «…Я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Этого оказалось достаточно, чтобы Кандинский, страстный художник-любитель, задался вопросом: сможет ли он создать картину такой же эмоциональной и эпической мощи, как опера Вагнера, – не в подражание музыке великого маэстро, а как самостоятельное произведение, в котором краски стали бы нотами, а цветовая гамма – тональностью?
В том же 1896 году страсть к искусству побудила Кандинского посетить выставку французских импрессионистов в Москве. Там он впервые увидел полотна Моне – знаменитую серию «Стога сена». Для молодого русского она стала озарением.
«До того я был знаком только с реалистической живописью, – вспоминает он, – и то почти исключительно русской… И вот сразу увидел я в первый раз картину. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена…. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встает перед глазами до мельчайших подробностей».
Тридцатилетний Кандинский внезапно ощутил: теперь он знает, что ему делать. Он бросил читать лекции на факультете права Московского университета и решил покинуть Россию. В декабре 1896 года он отправился в Мюнхен, центр европейского искусства и преподавания живописи. По прибытии в немецкий город он сразу же поступил на курсы изобразительного искусства. Новоиспеченный студент быстро освоил живописную технику импрессионистов, постимпрессионистов и фовистов и очень скоро стал признанным мастером немецкого авангарда.
В своей первой профессиональной картине Кандинский объединил Моне и Ван Гога. «Мюнхен. Планегг 1» (1901) – этюд, изображающий раскисшую от дождей тропку, по диагонали пересекающую поле и исчезающую, свернув на горизонталь, перед большой гранитной скалой на заднем плане. Кандинский писал в манере «стаккато» – короткими, толстыми мазками – и дорабатывал их мастихином. Сиреневое небо – это экспрессионизм Ван Гога, а залитое солнцем поле напоминает об импрессионизме Моне.
Несколько лет спустя живописная манера Кандинского приблизилась к фовизму с его яркими красками и упрощенными формами. Баварская деревня Мурнау на долгие годы стала для художника предметом интенсивных исследований. Картина «Мурнау. Деревенская улица» (1908) – наиболее характерна для этого периода. Тон задают яркие, смелые цветовые блоки – детали Кандинский отмел в манере Матисса и Андре Дерена.
На картине, написанной годом позже, «Кёхель. Прямая улица» (1909) отказ от деталей зашел еще дальше: только три едва прорисованных деревца и пара худосочных фигур позволяют зрителю понять, что же имелось в виду Без этих подсказок картина превращается в одеяло из ярких разноцветных лоскутов: оранжевого (дома), желтых и красных (поля), голубых (дорога) и темно-синих (гора).
На этом пути к полной абстракции, да и вообще на протяжении всей художественной биографии Кандинского музыка сохраняла власть над его творчеством и жизнью. В том же 1909 году он написал серию работ под общим названием «Импровизация» с очевидным музыкальным подтекстом. Художник стремился визуализировать звуковой ландшафт – создать полотна, позволяющие зрителю услышать «внутренний звук» цвета. А для этого следовало дополнительно избавиться от отсылок к реальному миру. Кандинский считал, что «внутренний звук» можно услышать, только если картина лишена «внешних смыслов», отвлекающих зрителя-слушателя.
По-настоящему абстрактной «Импровизацию IV» (1909) не назовешь, хотя пару минут все-таки придется потратить, чтобы понять, что синяя фигура по центру – это дерево, красное основание – поле, а желтая верхняя четверть справа – небо. Чтобы различить радугу в какофонии красок в левом верхнем углу, следует просто иметь в виду, что этот элемент – привычный мотив у зацикленного на цвете Кандинского.
Однако русский художник уже вплотную приблизился к полному разрыву с остатками реализма. Причем одновременно с парижскими орфистами Купкой и Делоне. Это не совпадение. Авангардное искусство начала XX века хотя и охватило уже и Францию, и Германию, и Италию, и Россию, и Нидерланды, и Великобританию, но представлено было узким кругом художников, в большинстве лично знакомых друг с другом. И, как водится, склонных к кочевой жизни. Скажем, москвич Кандинский обосновался в Мюнхене, но много времени проводил в
Париже, где познакомился с Гертрудой и Лео Стайн (и их собранием картин Матисса и Пикассо). А француз Делоне женился на талантливой украинской художнице Соне Терк (1885–1979), которая получила образование в Санкт-Петербурге, затем училась в художественной школе в Германии и, наконец, в 1905 году поселилась в Париже.
Но где бы все эти люди ни были, они дышали одним воздухом. Наполненном музыкой. Если Делоне привели к абстракции исследования в области «звучания» цветовых комбинаций, то Кандинский пришел к тому же самому с другой стороны. Для него момент откровения наступил после музыкального концерта.
В январе 1911 года художник отправился в Мюнхен послушать атональную музыку венского композитора Арнольда Шёнберга (1874–1951). Кандинский был потрясен услышанным и той же ночью сел писать картину «Импрессия III (Концерт)» (1911). Через два дня работа была закончена, и в ней прямо-таки сквозит влияние концерта Шёнберга. Большой черный треугольник в правом верхнем углу символизирует рояль, который словно магнитом притягивает публику (в левом нижнем углу). Рояль и слушатели соединяются в единую линию, перерезающую картину по диагонали. Нижний правый угол целиком заполняет ярко-желтый цвет, передающий волшебные звуки фортепиано. По другую сторону диагонали все выглядит туманнее. Цвет не такой насыщенный, мазки белого перебиваются фиолетовым, синим, оранжевым и желтым. Наверняка и это тоже что-то означает, но вряд ли вы догадаетесь, что именно.
Художник уже очень, очень близок к полной абстракции. Еще несколько месяцев – и он наконец создаст картину без единого узнаваемого элемента физического мира: прорыв совершится именно благодаря Шёнбергу. Кандинский нашел родственную душу. Он написал музыканту про свою теорию цвета и высказал предположение, что картина может излучать такую же энергию, как и музыка. Шёнберг его горячо поддержал: так завязалась дружба на всю жизнь между двумя великими мастерами. В ходе последующей переписки они обменивались возвышенными идеями о «сегодняшней гармонии», которую нужно искать на «антилогическом пути», и (вторя Шопенгауэру) об «устранении сознания из искусства». Общий посыл заключался в том, что Кандинскому следует освободиться от предметности и создавать картины, руководствуясь подсознанием, а не профессиональными навыками: картины, раздражающие и пробуждающие в зрителе чувство сочетанием несовместимых красок – тем, что на музыкальном языке называется диссонансом.
«Картина с кругом» (1911) – первое полностью абстрактное произведение Кандинского. Полотно размером почти полтора метра на метр наполнено буйством цвета и не поддается логическому толкованию. Фиолетовые, голубые, желтые и зеленые краски звучат сами по себе, не имея ни формы, ни смысла. По левой стороне холста спускается розовато-лиловый зигзаг. На своем пути он пересекает бесформенные пятна цвета вроде тех, что оставляет на стенке маляр-самоучка, подбирая колер. В верхней части картины Кандинский изобразил две округлые формы – черную и синюю, – похожие на глаза, но автор такого толкования не предполагал.
«Картину с кругом» он задумывал как аналог музыкальной партитуры: совершенно абстрактную и именно в силу этого звучную. Даже искушенные поклонники Кандинского, которые умеют отыскивать в его картинах казаков, лошадей, горы, башни, радуги и библейские истории, застынут в недоумении, не в силах вычленить ни одного знакомого сюжета. Художник написал эту картину в том же году, что и книгу «О духовном в искусстве», в которой изложил много своих теорий, в том числе и теорию цвета. Несколькими короткими фразами он очерчивает место символизма в своем искусстве: оно второе, а на первом – музыкальность. «Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль.
Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу». Бурная эмоциональность «Картины с кругом» стала первым ответом Кандинского на вагнеровскую оперу Но художник остался недоволен. Он чувствовал, что мог бы сделать лучше.
Вообще 1911 год оказался насыщенным для Кандинского. Сначала концерт Шёнберга, потом революционная «Картина с кругом» и, наконец, первая публикация книги – уже немало событий для одного года. Но это еще не все. Русский художник разошелся во взглядах со своими немецкими коллегами из мюнхенского авангарда. Он был их лидером, но однажды друзья поставили под сомнение его поиски в области абстрактной живописи. Кандинский вспылил и решился на разрыв, создав собственный клуб – творческое сообщество под названием «Синий всадник».
Приглашения получили Робер Делоне и Арнольд Шёнберг – оба их приняли. Как и двое немецких художников, Франц Марк (1880–1916) и Август Маке (1887–1914), которые тоже рассорились с мюнхенской группой. Слово «синий» в названии было символически важно: для участников объединения этот цвет обладал уникальными духовными свойствами. Синий, полагали они, осуществляет синтез внутреннего – сферы чувств и интуиции – с внешним миром и Вселенной. «Всадник» тоже был символом. Участников объединяла любовь к лошадям, родившаяся из их романтической увлеченности фольклором. Конь олицетворял первобытное начало и ассоциировался у художников с их собственным путем в искусстве, которым они следовали навстречу свободе и приключениям, руководствуясь инстинктом и отрицая современный мир коммерции и расчета.
Объединение дало Кандинскому необходимое творческое пространство, позволившее продолжить работу над наиболее важной для него серией картин – также метафор музыки. Он приступил к своим «Композициям» в 1910 году, замахнувшись на создание живописной симфонии. Первые три «Композиции» погибли во время Второй мировой, поэтому сегодня «Композицию IV» мы вынуждены рассматривать как первую в серии. На весьма красочном и немаленьком (2 х 1,59 м) полотне отчетливо ощущается продолжающееся влияние фовистов.
А еще, пожалуй, и недовольство автора тотальной абстракцией «Картины с кругом»: «Композиция IV», написанная в том же году, в меру фигуративна. Здесь есть пейзаж – три горы: маленькая фиолетовая слева, большая синяя в центре и еще большая, желтая, справа. На вершине синей горы – замок, на желтой высятся две башни. Перед синей горой стоят три казака, – два огромных черных копья у них в руках эффектно разбивают картину пополам. Справа от копий – мир и гармония, и влюбленные нежатся среди пастельных полутонов. По левую сторону кипит жизнь. Две весельные лодки отчаянно сражаются с бушующим морем. Черные линии скрестились, как мечи в бою, и неистовая буря маячит в арке робкой радуги.
Здесь звучит немало тем, волновавших Кандинского: взаимоотношения человека и мифа, неба и земли, добра и зла, войны и мира – эпических, близких сердцу Вагнера и духу немецкого романтизма. Но это еще не Gesamtkunstwerk, к которому стремился Кандинский. На взгляд художника, картина не достигла уровня, сравнимого с достижением великого немца – создателя такого синкретического произведения, как оперная тетралогия «Кольцо нибелунга». Кандинскому предстояло ждать еще два года.
«Композиция VII» (1913) (репр. 15) стала его «Кольцом нибелунга». Это вершина серии и высшая точка художественной биографии автора. Крупнейшая (2x3 метра) из его работ блистательно увенчала годы штудий, эскизов и художественных исследований. Теперь Кандинский знал, что абстракция и есть тот магический ингредиент, который позволяет создать картину, сопоставимую с симфонией. Не предлагая никаких визуальных подсказок, «Композиция VII» требует от зрителя приятия ее собственных условий.
В центре художник поместил кривоватый черный круг – точно глаз психоделического тайфуна. Вокруг фейерверком взрываются краски, беспорядочно разлетаясь во все стороны. Левая половина картины более хаотичная, более яростная: разноцветные кривые режут плоскость, оставляя черные и темнокрасные раны. Правая половина спокойнее: здесь крупные цветовые пятна соединяются более гармонично. Но ближе к краю картины сгущается тьма, предваряемая устрашающим нагнетанием черных, зеленых и серых тонов.
Естественные попытки расшифровать изображение упираются в упрямое нежелание Кандинского дать хоть какую-то предметную подсказку, одновременно будоража и изматывая зрителя. Что характерно, художник добился-таки своего: вы действительно начинаете «слышать» краски, улавливать звуки в его мазках. Цвета, сталкиваясь, гремят, как медные тарелки; зазубренные желтые линии ревут, как трубы; черный круг в центре плачет, словно струнная группа. На заднем плане ухает большой барабан. А в центре, в нижней части холста, чернеет тонкая линия, беззащитная и одинокая: определенно это дирижер, призванный навести какой-то порядок в хаосе.
Виртуозной кистью Кандинского восхищался немецкий художник швейцарского происхождения Пауль Клее (1879–1940). Как и Кандинский, он учился в Мюнхене и пробовал себя в немецком экспрессионизме и символизме. Он разделял и мировоззрение русского коллеги, тоже веря, что искусство может помочь человеку обрести связь с окружающим миром и собственным духовным «я». И питал столь же глубокую любовь к музыке (родители Клее были музыкантами, его жена – пианисткой) и интерес к первобытному и народному искусству. Кандинский пригласил молодого художника вступить в группу «Синий всадник». Для Клее настал звездный час.
При всем своем таланте Клее долго и мучительно искал себя в живописи. Он изучал работы старых мастеров, импрессионистов, фовистов и кубистические работы Пикассо и Брака, но все никак не мог обрести собственный стиль. Поддержка Кандинского, Делоне и других участников группы «Синий всадник» придала Клее уверенность, позволив продолжать поиски собственного видения. И он тоже прозрел, правда, благодаря не музыке, а путешествиям. В 1914 году Клее отправился в Тунис писать маслом, и это изменило и его самого, и его творчество. До поездки он в основном занимался графикой – рисунками, гравюрами и черно-белыми эстампами.
Уже через несколько дней пребывания в Тунисе у него открылись глаза. Солнце Северной Африки позволило ему разглядеть истинный потенциал цвета. Долгая борьба с самим собой закончилась. Успокоенный и счастливый, Клее заявил: «Цвет и я – единое целое. Я – живописец». Эти его слова подкреплены написанной в Тунисе акварелью «Мечеть в Хаммамете» (1914). Картина как бы состоит из двух половин, соединенных переходами нежных оттенков розового. В верхней угадывается Хаммамет – маленький городок на северо-западе Туниса. Видна мечеть и зеленые деревья под сияющим светло-голубым небом. Нижняя половина ближе к абстракции. Фантастический узор из розовых и красных заплаток с вкраплениями фиолетового и зеленого кажется наброшенным на картину тонким лоскутным покрывалом.
Композиция вполне соответствует канонам спиритуализма – духовной основы «Синего всадника». Реальная жизнь явлена в верхней половине картины, дабы соединиться с бесплотным началом, на которое намекает нижняя: мир внутренний и внешний связаны посредством цвета. Клее, как и Кандинский, полагал, что «искусство не воспроизводит видимое, но делает видимым то, что не всегда таковым является».
Акварель отчетливо свидетельствует о профессиональной зрелости Пауля Клее: непринужденная, «детская» манера письма и нереалистичные, наивные краски соединяются удивительно изысканно: каждый из цветов как бы поддерживает и оттеняет остальные. Как и в остальных работах художника, здесь прослеживается смесь самых разных влияний – от двумерности кубизма Брака до лирического орфизма Делоне и контрастной палитры абстракций Кандинского, так взволновавших Клее. Но только его уникальный дар графика соединил все это в стройную, целостную композицию.
Клее начинал картину с точки, а затем тянул из нее линию. Он понятия не имел, чем та закончится, но знал, что через какое-то время это поймет: образ непременно всплывет, и тогда можно будет достроить его плоскими цветовыми блоками. Нанося их, он слышал музыку, чувствовал, как звучит каждый из оттенков.
Купка, Делоне, Кандинский и Клее шагали к абстракции под музыку, звенящую в ушах. В своих картинах они кромсали знакомый мир так, чтобы душа и чувства зрителя пробудились и вырвались из плена реальности. Ради этого они сделали предметом искусства цвет и музыку – и таким образом, несомненно, достигли конечного пункта на пути к абстракции. Тут-то и встал вопрос: что дальше?
Глава 10 Супрематизм / Конструктивизм: русские, 1915-1925
Один из нетрадиционных вариантов внемузыкального подхода к абстрактному искусству вообще предполагает полный отказ от понятия объекта – как физического, так и воображаемого. Понимаю, звучит бредово. Как вообще можно изобразить «ничто»?
Разумеется, никак. Но можно создать произведение искусства, ориентированное на физические свойства самого произведения. Вместо того чтобы пытаться изобразить реальную жизнь – пейзажи, людей, предметы, – можно исследовать краски, их цвет, тон, плотность и текстуру (или свойства иных материалов, используемых для создания произведения); а также анализировать ощущение движения, пространства и уравновешенности композиции. Иными словами, создать совершенно новое изобразительное искусство, отрицающее все, бывшее прежде, и стремящееся утвердить новый миропорядок.
Правда, в таком случае из изобразительного искусства придется удалить само изображаемое, что звучит несколько экстравагантно. Ведь изобразительное искусство есть визуальный язык; изображать, как следует из самого названия, – его прямая работа. Живопись или скульптура без образа – все равно что книга без сюжета или игра без правил. Даже абстрактные картины Кандинского и Делоне предлагали зрителю некую образную идею – выраженную с помощью музыкальных символов и библейских аллегорий (Кандинский) или материальной отправной точки, например цветового круга (Делоне). Но прежде чем сосредоточиться исключительно на технических и материальных аспектах произведения и его связи с жизнью, Вселенной и всем остальным, необходимо провести полную переоценку роли искусства и ожиданий зрителя. Что предполагает окончательный разрыв с символической традицией, восходящей аж к доисторической наскальной живописи. Однако для того, чтобы это произошло, требуются совсем особые обстоятельства.
Маки, как мы знаем, растут на потревоженных землях. Пройдитесь летом по просторам Северной Франции, где шли страшные бои Первой мировой войны, и, если это разгар лета, вы увидите красное зарево над землей, мерцающее, как рассветный туман. Это полыхают миллионы маков, которыми поросла земля, вспаханная бомбами и удобренная кровью и плотью раненых и мертвых.
Точно так же катастрофические социальные потрясения нередко взращивают великое искусство. Неслучайно современное изобразительное искусство родилось во Франции – стране, пережившей революции и войны. Как неслучайно и то, что очередной разрыв с традицией – отказ от любых форм изображаемого, – произошел в стране, населенной авангардистской интеллигенцией, стране, втянутой в водоворот гражданских конфликтов, спровоцированных революционно настроенными лидерами.
Именно художники дореволюционной России вписали новую главу в историю современного искусства. Страна пережила трагическое начало XX века. Начавшаяся в 1904 году война с Японией закончилась унизительным поражением, вина за которое легла на царя-самодержца Николая II. Проблемы непопулярного монарха усугубились внутренними беспорядками. Рабочие, составлявшие немалый процент населения России, были недовольны плохими условиями труда, низкой заработной платой и самым продолжительным в Европе рабочим днем. Протест нарастал, и 9 января (22-го по современному стилю) 1905 года петербургские рабочие направились с мирным шествием к роскошному Зимнему дворцу. Но царь не был склонен к компромиссу и приказал полиции разогнать демонстрантов: в результате погибли более 100 протестантов, а событие вошло в историю как Кровавое воскресенье.
Жестокие методы царя оказались эффективны: протест удалось подавить. Но они посеяли семена неминуемого бунта и краха империи. Рабочие ушли с площади, но не с политической сцены. В октябре 1905 года масштабная национальная забастовка привела к революции, которую поддержал петербургский Совет рабочих депутатов, фактическим лидером которого стал Лев Троцкий. Скоро по всей стране было уже пятьдесят рабочих Советов. И наконец Владимир Ленин, вождь большевиков (к которым принадлежал и Иосиф Сталин), заявил о начале вооруженного восстания.
Царь удержался на троне, согласившись на созыв Государственной Думы и участие в ней представителей от рабочих. Правда, ни сам монарх, ни революционеры-подпольщики не верили в ее дееспособность. Царя спасла начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Страна снова сплотилась вокруг своего государя. Увы, не лучшая армия во главе с бездарным командованием особых побед не добилась, зато теперь народ знал на кого валить все неудачи. В 1917 году Николая II бесцеремонно свергли, а через год и вовсе расстреляли. У руля встал Ленин и его партия большевиков, они объявили страну коммунистической республикой, играя на вере народа в утопические идеалы. Россия изменилась до неузнаваемости, а вместе с ней и искусство.
В то время как Троцкий, Ленин и Сталин занимались подпольной работой и мечтали о небывалом в истории эгалитарном государстве, художники-авангардисты стремились создать невиданное прежде искусство. Большевики остановились на модели Карла Маркса под названием «коммунизм». Художники придумали столь же новаторское и демократическое беспредметное искусство.
По глобальному влиянию, результатам и долгосрочности своего проекта русские художники обошли политиков с разгромным счетом. Коммунизм привел к «холодной войне» с Западом, едва не обернувшейся ядерным Армагеддоном, – и в конечном счете потерпел крах. Между тем беспредметная живопись дала толчок современному дизайну и по иронии судьбы обеспечила победное шествие американского абстрактного экспрессионизма. Покуда политики США и СССР мерялись силой, изобразительное искусство обеих стран демонстрировало невероятное и не признаваемое руководством взаимопроникновение и взаимовлияние.
Уже в 1913 году русская художница Наталья Гончарова заявляет, что современное искусство России играет в мире ведущую роль: «Искусство моей страны несравненно глубже и значительнее, чем все, что я знаю на Западе». Это было признание в том, что она и ее русские друзья с радостью проглотили все, что предложило им западноевропейское искусство, и теперь готовы пуститься в самостоятельное плавание.
Многие русские художники в свое время путешествовали по Европе, обучаясь и черпая вдохновение. Но и те, кто был не в состоянии съездить в Париж или Мюнхен, могли увидеть лучшие образцы последних достижений европейского авангарда в московском доме Сергея Щукина, богатого купца и страстного коллекционера новейшего современного искусства. Каждое воскресенье он приглашал ведущих российских художников и интеллектуалов к себе домой и демонстрировал им собрание картин, не уступающее многим музейным.
К 1913 году передовые русские художники догнали своих западноевропейских коллег. Они усвоили идеи и стили Моне и Сезанна, Пикассо и Матисса, Делоне и Боччони и теперь стали поборниками и практиками кубофутуризма. Петербургские объединения настолько уверовали в свои художественные таланты, что уже ставили под сомнение смелость западных коллег. Некоторые русские художники соглашались, что Пикассо и другие зашли, конечно, далеко, – но надо бы зайти подальше.
В их числе и Казимир Малевич (1878–1935), талантливый художник в расцвете лет, который в начале 1913 года хотя и работал по-прежнему в кубофутуристическом стиле, но уже почувствовал разочарование в этом франко-итальянском направлении. И попробовал поиграть с идеей «алогизма» – очередного малопонятного «изма», произведенного от «алогии», абсурда с рационалистической точки зрения. Художника привлекала та область, где встречаются здравый смысл и абсурд. И он написал картину-манифест под названием «Корова и скрипка» (1913) – в общем-то типичный кубофутуризм с многочисленными наплывающими друг на друга плоскостями и скрипкой на переднем плане, ничего необычного. Если не считать короткорогой коровы, которая стоит прямо по центру боком к нам с крайне недоуменным видом. Смешно, странно, эксцентрично – чем не отдых от добросовестной серьезности современного искусства? «Корова и скрипка» – предвестница и дадаизма, и сюрреализма, ее вполне мог написать Терри Гиллиам, создатель сюрреалистической ноги из анимационной заставки к «Летающему цирку Монти Пайтона». Малевич, как и многие великие, умел расслышать голос времени.
Его эксперименты с абсурдом и правом художника на самовыражение соответствовали духу русского авангарда, выработавшего собственный бунтарский взгляд на футуризм. Впервые футуристические тезисы были сформулированы в манифесте, вошедшем в первый сборник поэтов-кубофутуристов с характерным названием «Пощечина общественному вкусу» (1912).
Свою угрозу русские футуристы осуществили в опере под названием «Победа над Солнцем» (1913). Либретто написал поэт-футурист Алексей Крученых (соавтор манифеста) на «зауми» – специально искаженном, обессмысленном, однако эмоционально понятном языке. Сюжет был не менее оригинален и причудлив.
Будетлянские силачи срывают Солнце с неба и заключают в ящик-гроб – как символ прежнего порядка вещей, ветхого прошлого, устаревших технологий и покорности силам природы. Теперь, когда Солнце благополучно изъято, Земля освободилась и может устремиться сквозь космос в будущее. Тут появляется Путешественник во времени и уносится аж в XXXV век, чтобы посмотреть, как живет новый мир, существующий лишь за счет изобретений человечества. Он обнаруживает, что Новые процветают и любят свою высокотехнологичную энергетику космической жизни, но есть и Трусы – слабые, которые «сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными». Тенденция понятна?
А вот публика, собравшаяся на премьеру в петербургском театре «Луна-парк», оказалась совершенно сбита с толку. Все разошлись по домам раздраженные. Текст был непонятный, сюжет слишком заумный, да и музыка не ласкала слух. Партитуру сочинил Михаил Матюшин (1861–1934), включив в нее диссонансы и ультрахроматическую, четвертьтоновую музыку. Короче, позор фанатам хардкор-футуризма! Впрочем, для большинства населения, наверное, ничего страшного. В любом случае музыка Матюшина не стала его главным вкладом ни в оперу, ни в искусство вообще.
Зато Матюшин открыл миру Казимира Малевича. Композитор попросил своего друга-художника сделать декорации и костюмы для оперы. Малевич принял предложение и создал фантасмагорические, яркие, роботоподобные костюмы в духе кубофутуризма и задник для сцены из геометрических фигур. Декорации тоже были броскими и в меру футуристическими, но в общем контексте не выглядели чересчур радикальными. За исключением одного элемента, который появился в конце оперы. Это был обыкновенный холст, на котором Малевич написал черный квадрат. Задумывался он лишь как часть сценических декораций, а вовсе не как самостоятельное произведение. Но судьба распорядилась иначе.
Обыкновенный черный квадрат на белом холсте произвел величайшую революцию в искусстве, встав в одном ряду с открытием математической перспективы, бинокулярными экспериментами Сезанна и писсуаром Дюшана. Не то чтобы в то время сам Малевич осознавал всю важность своей композиции. Но пришел 1915 год, а с ним и вторая постановка оперы, и художник ухватил смысл черного квадрата. В письме к Матюшину – который работал над второй редакцией, – он просит: «Я буду очень признателен, если ты включишь мою декорацию занавеса для сцены победы [где появляется черный квадрат]… Рисунок этот будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды».
Под «плодами» Малевич подразумевал стиль художественного выражения, действительно оригинальный. Автор назвал его супрематизмом, формой чистой абстракции: в этой живописи уже не было абсолютно никакой описательности. Супрематические картины Малевича состоят из одной или нескольких плоских геометрических фигур на белом фоне. Каждый квадрат, прямоугольник, треугольник или круг полностью закрашен черным, красным, желтым или синим (реже зеленым). Художник говорил, что убрал все визуальные подсказки, чтобы зритель мог наслаждаться «опытом непредвзятости… верховенством чистого чувства».
И снова Малевич начал с картины-манифеста, чтобы заявить о рождении нового направления в искусстве. Вдохновленный собственной сценографией в «Победе над Солнцем», он взял квадратный холст размером 79,5 х 79,5 см, полностью закрасил его белым, а затем изобразил большой черный квадрат в середине. Он так и назвал свою работу: «Черный квадрат» (1915) (ил. 15). Само название – сухое, буквальное – уже провокация: Малевич словно предлагает зрителю не искать в картине никакого дополнительного смысла: здесь ничего не увидишь, кроме того, что есть в названии и изображено на полотне. Малевич говорил, что на картине «все явления мира сведены к огромному Нулю».
Ил. 15. Казимир Малевич. «Черный квадрат» (1915)
Он хотел, чтобы зритель вглядывался в «Черный квадрат». Размышлял о взаимосвязи и соотношении между белым полем и черным центром, любовался текстурой краски, почувствовал невесомость одного цвета и плотность другого. Он даже надеялся, что эта «напряженность» внутри его ультрастатичного изображения создаст у зрителя ощущение динамизма и движения. Все это стало возможно в воображении Малевича, потому что он «освободил искусство от предмета». Отныне мы свободны видеть все, что нам хочется.
«Черный квадрат» может показаться упрощением, однако Малевич предполагал нечто иное. Художник знал: пусть все отсылки к внешнему миру удалены, мозг зрителя все равно будет пытаться истолковать картину, найти в ней смысл. Но что там найдешь? Зритель поневоле вернется к первоначальному умозаключению: да нет, это просто черный квадрат на белом фоне. Разум начнет работать по замкнутой схеме, как спутниковый навигатор в поисках сигнала. Вот тут-то, надеялся Малевич, покуда сознание мечется, и появляется шанс у подсознания. Как только оно вырвется из рационалистической тюрьмы, то сразу увидит на маленьком скромном квадратном полотне всю жизнь и все мироздание.
По мнению Малевича, его черно-белая картина символизировала Землю во Вселенной, свет и тьму, жизнь и смерть. Рамка, как у всех его супрематических картин, отсутствует – как слишком жесткая и недвусмысленная граница, – благодаря чему белый фон холста сливается со стеной, создавая ощущение бесконечности. Черный квадрат как будто плывет во Вселенной, неподвластный силе тяготения, – символ упорядоченного космоса или черной дыры, которая засасывает в себя все сущее. Так или иначе, это прыжок в темноту.
Супрематизм был дерзкой концепцией. По крайней мере абстрактные картины Кандинского доставляли зрителю визуальное удовольствие, хоть и не поддавались расшифровке. Никто не мог созерцать его гигантские «Композиции», не поражаясь взрывам цвета, играющим по всей поверхности холста. Как к ним ни относись, никто не станет спорить, что мало кто умел писать так, как Кандинский. С супрематизмом Малевича все гораздо сложнее.
Черный квадрат на белом холсте? Эка невидаль! Да любой из нас намалюет не хуже. Почему же творения Малевича так почитаемы и стоят миллионы долларов, в то время как плоды наших усилий наверняка сочтут поверхностными и никчемными? Может, права современная британская художница Трейси Эмин, когда, защищаясь от аналогичных обвинений, говорит, что тут все дело в том, кто додумался первым?
В определенной степени, думаю, так оно и есть. Оригинальная идея в искусстве – штука важная, а ее плагиат интеллектуальной ценности не имеет. Но не менее важна и самобытность работы. Современное искусство предполагает новаторство и воображение, а не воспроизведение статус-кво и тем более не бледную имитацию. Прибавьте к этому редкость произведения – эта его финансовая составляющая неизмеримо возрастает в нашем капиталистическом обществе, где правит закон спроса и предложения. Соедините все вместе: оригинальность идеи, самобытность и редкость, – и станет понятно, почему «Черный квадрат» Малевича стоит миллион долларов, а наши с вами потуги – ни цента. Его картина – историческая ценность, уникальный объект, радикальным образом повлиявший на все дальнейшее изобразительное искусство.
«Это выглядит круто», – говорят обычно о дизайнерских работах, созданных под явным влиянием абстрактного искусства Малевича. Модные идеи Тома Форда, промышленный дизайн аудиосистем компании Bang&Olufsen, логотип лондонского метро, обложки грампластинок Factory Records, архитектура столицы Бразилии, бесчисленные плавательные бассейны – все это реализация принципов супрематизма. Они в том, чтобы удалить избыточность, упростить очертания, сократить цветовую палитру и сосредоточиться на чистоте формы. Сегодня эстетическая экономность и минимализм стали для нас признаком интеллекта, обдуманности, современности и изысканности.
Но все же, если вернуться к первоисточнику всех этих дизайнерских находок, «Черному квадрату» Малевича, не покидает ощущение, что картина – чистое надувательство и провокация. И понятно почему. Автор, конечно, ничего подобного не имел в виду, просто он требует от зрителя слишком многого.
Скепсис по поводу «Черного квадрата», да и всего абстрактного искусства, которое пошло по пути супрематизма, вызван тем, что Малевич перевернул с ног на голову традиционные отношения между художником и зрителем.
Исторически художник считался чем-то вроде обслуживающего персонала: живописцам и скульпторам надлежало запечатлевать, вдохновлять и создавать красоту на благо обществу и его элитам. Мы, публика, упивались своей привилегией решать, насколько удачно художник справился с задачей, изобразив церковь, собаку или папу римского. Даже когда художники восставали против Академии и шли своим путем, создавая все более непонятные картины, мы сохраняли свое превосходство. Художник по-прежнему должен был доставлять нам удовольствие или интриговать изображением знакомого нам мира. Кандинский поднял статус художника, предложив зрителю компромисс: он создавал прекрасные, яркие картины в надежде, что мы в ответ удержимся от соблазна свести цвета к известным нам предметам и позволим себе перенестись в воображаемый мир, словно слушая музыку.
Впрочем, Кандинский оставил в своих полотнах достаточно сюжетных ходов и цветовых комбинаций, чтобы дать зрителю возможность насладиться картиной, не чувствуя себя ущербным и не задаваясь вопросом: «Почему я не чувствую музыку?» Беспредметное искусство Малевича не предлагало таких уступок. Это была прямая конфронтация со зрителем, вынуждающая его, глядя на плоский черно-белый «Черный квадрат», искать там нечто большее. «Самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура», – заключил Малевич.
По сути, он превратил художника в шамана. А искусство – в интеллектуальную игру, правила которой устанавливает художник. Теперь главным стал человек с кистью или резцом, это он призывает зависимого и беззащитного зрителя не бояться и довериться ему. Так остается и поныне: абстрактное искусство толкает нас на риск оказаться в дураках и поверить в то, чего нет. Либо беспечно пренебречь очередным откровением, попросту испугавшись принять его на веру
Малевич тайно работал над своими супрематическими картинами в течение двух лет после премьеры «Победы над Солнцем» 1913 года. Он говорил, они ведут его «к открытию еще не осознанного». Это он замахнулся, конечно. Как и с утверждением, что «новая моя живопись не принадлежит земле исключительно». Малевич даже провозгласил себя «председателем мирового пространства» и вынашивал идею супрематического спутника, «который будет двигаться по орбите, образуя свой новый путь». А потом добавил к своим и без того чрезмерным межгалактическим нагрузкам задачу «перекодировки» мира.
Подобные высказывания при всей их экстравагантности, отражают умонастроения многих художников и интеллектуалов начала XX века. Полеты в космос еще оставались предметом научной фантастики. Путешествие за пределы планеты представлялось захватывающим приключением – живое воображение неисправимых романтиков рисовало все новые перспективы и безграничные возможности. Однако утверждения Малевича звучат не столь оптимистично. В них чувствуется растущее беспокойство художников авангарда по поводу косвенных последствий модернизации. Катастрофа Первой мировой войны разворачивалась у них на глазах; кругом царила разруха, миллионы людей гибли. Кандинский, Малевич и многие другие художники винили в смуте и кровопролитиях материализм и эгоизм, охвативший человеческое сообщество.
По Малевичу, настала пора строить новый утопический идеал – систему, в которой все могли бы жить долго и счастливо. Его вкладом в это благое дело стала новая форма искусства, подчиняющаяся космическим законам и способная вновь упорядочить неспокойный мир. Картина «Супрематизм» (1915) соединила в себе многие излюбленные мотивы Малевича. На вертикально ориентированном холсте расположен ряд четырехугольников различной ширины и длины – некоторые настолько тонкие, что больше напоминают прямую линию, – на белом фоне. Сверху по диагонали спускается большой черный четырехугольник, слегка расширяющийся книзу Прямоугольники помельче – синий, красный, зеленый и желтый – наплывают на эту черную фигуру Тонкая черная линия делит картину пополам. Под ней – маленький красный квадрат поверх широких полос желтого и коричневого цвета. Здесь нет узнаваемых житейских сюжетов; картина – о чувстве, которое она вызывает у зрителя. И это чувство, судя по взаимодействию форм в пространстве белого фона, связано с постоянным движением повседневности во Вселенной. Каждый отдельный цветовой блок в картине влияет на внешний вид других блоков – так же, как мы все влияем друг на друга. Для Малевича супрематизм был чистым искусством, когда цвет и форму диктует сама краска, а не формы натуры.
Полотна Малевича 1913–1915 годов были показаны на выставке, ставшей легендарной. Групповая экспозиция состоялась в Петрограде и называлась «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”». Само название – намеренно декларативное: оно – послание миру от российских художников-новаторов, объявляющее, во-первых, о конце итальянского футуризма (до кавычек) и возвещающее, во-вторых, начало нового этапа в современном искусстве (0,10). Название «0,10» (или «Ноль-десять») придумал Малевич. Имелись в виду десять художников – участников выставки (позже их стало четырнадцать), сумевших «выйти за Нуль». То есть убрать из своих картин всю узнаваемую предметность и изобразить Ничто.
Малевич представил десятки своих супрематических картин, включая, разумеется, «Черный квадрат». Его поместили на почетном месте – под потолком в дальнем правом углу от двери. Тоже неслучайно: этим Малевич указывал на культовый статус картины, ведь в правом – «красном» углу русских православных домов традиционно вешали иконы.
В числе других участников выставки был харьковчанин Владимир Татлин (1885–1953) – одна из самых авторитетных фигур русского авангарда наряду с Малевичем. Оба были влиятельными членами «Союза молодежи» – петербургского объединения художников-новаторов. Члены «Союза» устраивали коллективные выставки своих работ, и именно Малевич с Татлиным возглавили движение молодых живописцев, графиков и скульпторов к беспредметной живописи. Они могли бы стать Браком и Пикассо Восточной Европы, рука об руку героически сражаясь за новое искусство. К сожалению, они больше походили на царя Николая II и большевиков. Ревность, соперничество и творческие разногласия переросли в гневные стычки и взаимную неприязнь. К тому времени, когда состоялась выставка «0,10», оба уже ненавидели друг друга.
Чем ближе был день открытия выставки, тем выше делался градус взаимной враждебности. Оба готовили свои работы в глубокой тайне, опасаясь, как бы соперник не украл прием (и саму идею) и, не дай бог, не захапал бы себе всю славу. Общий стресс накануне открытия выставки придавал этой вражде несколько параноидальный оттенок. Ситуация накалилась до предела, когда выяснилось, что Малевич повесил «Черный квадрат» в углу. Татлин пришел в ярость.
На «красный угол» у него имелись свои виды. Татлин создал скульптуру специально для этого угла с соответствующим названием «Угловой контррельеф» (1914–1915) (ил. 16). Мало того, что заклятый конкурент украл идею, он еще и впечатление от скульптуры решил испортить? Это стало последней каплей. И, как водится у мужчин в подобных случаях – даже авангардные художники не исключение, – корифеи предпочли разрешить творческий спор испытанным способом – на кулаках (о том, кто победил, история умалчивает).
Ил. 16. Владимир Татлин. «Угловой контррельеф» (1915)
Что до самой выставки, то Малевич действительно затмил всех. Супрематизм стартовал успешно, и «Черный квадрат» стал главным событием экспозиции – хотя и озадачил большинство посетителей. Но это тогда; сегодня «Угловой контррельеф» Татлина справедливо признан всеми как новое слово в скульптуре. Изготовленный из жести, меди, стекла и гипса, он представляет собой несколько причудливых конструкций, которые были натянуты поперек угла на высоте груди. Татлина вдохновил Пикассо. В 1914 году, незадолго до начала войны, скульптор посетил парижскую студию испанца и увидел его коллажи, в том числе знаменитую «Гитару» (1912). И подумал, что в этой технике можно делать иное искусство, и не из того, что подвернется под руку, как Пикассо, но с использованием современных строительных материалов. Для Татлина они имели не только художественную, но и идеологическую ценность. Стекло, железо и сталь олицетворяли индустриальное будущее новой России. Он был убежден, что сможет соединить эти материалы в единую конструкцию, куда более интересную, сильную и честную, чем абстрактные картины Малевича с их космической символикой.
Татлин не замахивался на трансцендентное и показывал то, что есть, таким, каково оно есть. Такой эстетический подход, присущий скорее архитектуре, предполагал интерес к физическим свойствам используемых материалов и их компоновке. Татлинские трехмерные угловые контррельефы были призваны привлечь внимание к самой структуре и текстуре, к объемам и занимаемому пространству. В отличие от Пикассо Татлин не стремился выдать предметы, из которых собрано произведение, за что-то иное, окрашивая их или как-то иначе обрабатывая, как не пытался собирать из них узнаваемые формы. Его беспредметное искусство, хотя и более прагматичное, чем у Малевича, решало сходные задачи: показать объект в пространстве, бросить вызов гравитации, дать почувствовать текстуру, весомость, напряжение и гармонию пропорций.
Висячие угловые контррельефы Татлина 1915 года до сих пор выглядят современными. Его металлические листы, причудливо изогнутые и скрученные, напоминают архитектуру Фрэнка Гери, в частности облицованную титановыми панелями крышу музея Гуггенхайма в Бильбао (1997). Натянутая между стенами проволока, удерживающая части конструкций Татлина, вызывает в памяти впечатляющий подвесной мост Нормана Фостера – Виадук Мийо (2004) в Центральной Франции. А в самих парящих в воздухе громоздких угловых конструкциях есть что-то от искусственных спутников на земной орбите. Но прежде всего, конечно, следует признать влияние этих композиций на развитие самого изобразительного искусства. Татлин переосмыслил сущность скульптуры. Впервые трехмерное произведение не претендовало на реалистическое или шаржированное изображение реальной жизни, но было предметом искусства само по себе и требовало оценки в качестве такового. К тому же оно не стояло на пьедестале, в нем не ощущалось тяжести камня или меди и его нельзя было обойти со всех сторон.
ДНК угловых контррельефов Татлина можно отыскать и в абстрактных скульптурах Барбары Хепворт и Генри Мура, и у Дэна Флавина в минималистских объектах и инсталляциях из флуоресцентных ламп, и у Карла Андре в его штабелях кирпича. Название выставки оказалось правильное – она действительно возвестила о конце футуризма.
И о начале супрематизма Малевича и конструктивизма Татлина, хотя движение Татлина официально оформилось лишь в 1921 году, когда вышла книга М. Гинзбурга «Стиль и эпоха» – манифест советского конструктивизма. Но сам термин появился раньше, году в 1917-м, будто с легкой руки Малевича, нелестно отозвавшегося об «искусстве конструирования».
Русский авангард поставил искусство на новый фундамент, подобно тому, как Ленин создавал социалистическое государство. Самоуверенный политик, он имел свои взгляды на многие вещи, в том числе и на искусство. Начать с того, что западное искусство было объявлено декадентским, капиталистическим и буржуазным. В новой, Советской России искусство должно быть «понятно миллионам» и служить потребностям народа и руководства. Творчество Татлина, занимавшего к тому времени высокое положение в академических художественных кругах, оказалось крайне востребовано. Как и его соратников по конструктивизму – Любови Поповой (1889–1924), Александра Родченко (1891–1956) и Александры Экстер (1882–1949).
Это оказался необычный альянс для современного искусства: авангардисты России искренне поддерживали власть вместо того чтобы бросать ей вызов. И какой блестящий ход для продвижения большевистских идей и образа новой жизни – привлечь на свою сторону самых прогрессивных художников страны! Задачу им поставили прямым текстом: создать визуальный образ коммунизма. Конструктивисты установку выполнили и тем самым навсегда связали понятие художественного авангарда с левыми идеями.
Утопический идеал коммунизма обрел имидж мгновенно узнаваемый, агрессивный и психологически убедительный. Опираясь на искусство Татлина 1915 года, конструктивисты пошли дальше, стремясь осмыслить роль художника в новом обществе. Образ отстраненного интеллектуала, создающего загадочные произведения, понятные только для избранных, уже не годился. Искусству следовало служить народу, а значит, художник был теперь больше, чем просто художник. Уже в 1919 году было провозглашено, что художник теперь просто конструктор и механик, командир и прораб. В какой-то мере русские конструктивисты занимались всем этим, а еще преподаванием.
В их сообществе царило равноправие. Впервые вместо роли запасных игроков женщины-художницы оказались в числе лидеров движения. Любовь Попова, Александра Экстер и жена Родченко Варвара Степанова (1894–1958) – все они сыграли важную роль в разработке теории и создании конструктивистского искусства. Попова первая предложила определение конструктивизма, заявив: «Построение в живописи = сумме энергии частей».
Конструктивисты утверждали, что и сама роль холста изменилась – теперь он приобретает самостоятельную художественную ценность как «реальный» материал, на котором пишутся конструкции из геометрических форм. Термином «фактура» конструктивисты обозначали подчеркиваемые ими природные свойства материалов, используемых при создании картины. Холст, краска, подрамник – все эти элементы «пошли на повышение», став полноправными элементами произведения.
Страсть конструктивистов к материалу и технологии привела их к архитектуре. Некоторые даже стали называть себя художниками-инженерами, например Татлин. Именно он спроектировал здание, так никогда и не построенное, однако принесшее направлению всемирную славу. Сейчас оно известно просто как «Башня Татлина» (ил. 17). Если и был в истории проект, олицетворяющий амбиции художественного движения, так это спиральная башня Татлина; сооружение из стекла, железа и стали высотой 400 метров должно было заявить миру: Советская Россия – величественнее, лучше и современнее всех прочих стран (и уж тем более Франции с ее жалкой 300-метровой парижской Эйфелевой башней).
Ил. 17. Владимир Татлин. «Памятник III Интернационалу» (Башня) (1919–1920)
Дерзкий замысел русского художника не ограничивался размерами и материалами конструкции. Башня должна была называться «Памятником III Интернационалу» – международной цитадели коммунизма. Ее предполагалось построить в Петрограде, на северном берегу Невы; наклонный, похожий на строительные леса каркас должен был взмывать вверх под агрессивно-элегантным углом в шестьдесят градусов. Сооружение имело три уровня, представляющие типичные для конструктивизма стереометрические фигуры. Нижний имел форму куба, который, как предполагал Татлин, станет совершать за год полный оборот вокруг своей оси. Выше помещалась пирамида меньшего размера, скорость вращения – один оборот в месяц. А венчал башню цилиндр с суточным периодом вращения – оттуда предполагалось транслировать коммунистическую пропаганду на весь мир.
Татлин не считал свою башню произведением искусства, а рассматривал ее как серьезный строительный проект. Ему можно поставить «отлично» за начинание и оригинальность, «хорошо» – за инженерное решение (можно ли было построить башню? скорее всего нет) и «неуд» за своевременность. Он завершил проектирование в 1921 году, явно не в лучшее для реализации столь грандиозного проекта в России время. Страна переживала засуху, неурожай и катастрофический голод. Миллионы умирали, и проект Татлина выглядел уже даже не неуместным, а пожалуй, безумным. Его положили под сукно и больше оттуда не доставали.
Тем временем другие конструктивисты устроили в Москве выставку «5 × 5 = 25». Перекликаясь с названием «0,10» Малевича, московская экспозиция 1921 года состояла из пяти работ пятерых художников-конструктивистов. В ней участвовали Родченко и Попова из когорты Татлина, – но не он сам. Родченко выставил триптих «Гладкие доски» (1921) монохромных полотен: «Чистый красный цвет», «Чистый синий цвет», «Чистый желтый цвет» – под общим названием «Последняя картина», или «Смерть живописи». Каждый монохромный холст был попросту окрашен в цвет, указанный в названии, – как ковровая плитка. Так, по словам Родченко, происходит, когда «живопись доведена до логического конца». «Я подтвердил, – заявил он, – что плоскость – это просто плоскость, никакой репрезентации на будет. Все кончено».
Его описание картины было правильным; но вывод – в высшей степени ошибочным.
Триптих можно рассматривать как ранний пример того, что предстояло увидеть миру в обозримом будущем: холсты, окрашенные в один цвет. Это искусство явит себя как абстрактный экспрессионизм – название другое, но суть та же. Так чем же отличаются монохромные полотна Родченко от произведений абстрактного экспрессионизма, которые якобы содержат некое духовное измерение, пробуждающее в зрителе глубинные, потаенные чувства?
Да мало чем, отвечу я вам. Тут все зависит от мнения автора. Родченко говорит, что его монохромные холсты беспредметны, они не более чем окрашенный материал; в то время как другие (Ив Кляйн, например, но о нем позже) утверждают, будто их одноцветные полотна исполнены глубокой мистической, эмоциональной и духовной глубины.
Родченко намеревался бросить вызов супрематическому вероучению о беспредметном искусстве. Малевич уверял зрителя, что его треугольники и квадраты – это больше, чем просто приятные глазу графические элементы: в его искусстве содержится скрытый смысл и метафизическая истина. Как мы уже отмечали, такой подход подразумевает веру зрителя в талант и интуицию художника. Но Родченко уверял: его конструктивистские картины не содержат ничего особенного, а тем более трансцендентного. Он даже намеренно принижал их художественную значимость, называя побочным продуктом своих постоянных экспериментов с материалами с целью создания промышленного продукта.
В 1921 году Родченко и его сподвижники своим манифестом официально заявили о рождении конструктивизма. Следом появился другой манифест, объявивший «смерть искусству», которое было названо «буржуазным». Чтобы прояснить собственную позицию – и позицию единомышленников, Родченко решил изменить название движения. Отныне конструктивисты становились «производственниками». Завершив этим организационную работу, они покинули «башню из слоновой кости» и занялись практическим делом: стали промышленными дизайнерами, выполняя наказ Ленина о расширении вклада художника в общество. Теперь они создавали плакаты, разрабатывали шрифты, оформляли книги, придумывали одежду и мебель, проектировали здания и театральные декорации, обои и посуду И весьма преуспели: конструктивистская палитра, геометризм и инженерные решения нашли свое приложение в графическом дизайне. Контрастные цвета их плакатов – красный, белый и черный – мгновенно узнаваемы. Так же как жирные рубленые шрифты и характерный рисунок тканей.
Любовь Попова придумывала ультрамодные платья – такие отлично смотрелись бы на раскованных посетительницах джаз-клубов от Монмартра до Манхэттена (репр. 17). Александр Родченко стал мастером печати и полиграфического дизайна. Его обложка для книги Льва Троцкого «Вопросы быта» (1923) многим обязана беспредметному искусству Малевича и Татлина. Середину ее занимает большой красный квадрат на белом фоне, по центру – два вопросительных знака: огромный черный, проходящий сверху донизу, а внутри него белый, гораздо меньше, – точно слабое эхо. Толстые красные и черные линии подчеркивают композицию сверху и снизу.
Яркий образ. Но не такой запоминающийся, как плакат Лисицкого. Эль Лисицкий (1890–1941) учился на архитектора, покуда не попал под чары супрематизма Малевича. Становление Лисицкого-художника протекало в бурной послереволюционной России. В стране бушевала Гражданская война, белогвардейцы пытались свергнуть социалистическое правительство Ленина. Лисицкий хотел внести свой вклад в поддержку большевистского дела. Таким вкладом стал его плакат, в котором присутствовали геометрические фигуры, наплывающие плоскости и черно-бело-красная палитра супрематизма. «Клином красным бей белых!» (1919) (репр. 16) – один из самых знаковых плакатов современности, мощный и понятный, классический образчик наглядной агитации. Плакат разделен диагональю на две половины – белую и черную. На белой стороне – большой красный треугольник, острым углом прорезающий границу между черным и белым и проникающий в белый круг, который доминирует на черной стороне. От острия треугольника несколько красных осколков отскакивают в окружающее белый круг черное пространство.
Занятно, как формы и стиль беспредметного искусства находят применение в образной, символической графике. Лисицкий прибег к ним, чтобы напрямик, в лоб рассказать о событиях реального мира. И подтвердить правоту Малевича и Татлина: кажущиеся тривиальными формы при условии грамотной, талантливой компоновки и в самом деле вызывают эмоциональный отклик у зрителя. Стиль Лисицкого впоследствии повлиял на многих графических дизайнеров и даже на несколько поп-групп. Kraftwerk — пионеры немецкой электронной музыки, – в значительной степени опирались на супрематическую и конструктивистскую эстетику, которая особенно заметна в обложке их знаменитого альбома Man-Machine (1978). И шотландская группа Franz Ferdinand тоже пошла на прямое заимствование стиля Родченко/Лисицкого при разработке обложек для многих своих хитов начала 2000-х годов.
Воздействие и художественное влияние плаката Лисицкого доказывает силу беспредметного искусства. В руках великих художников оно достигает своей цели, прорываясь сквозь суету современной жизни и говоря о вещах более глубоких и значимых. Вот почему оно до сих пор нас волнует. Есть что-то магнетическое и привлекательное в простоте этих жестких форм, раскрашенных в основные цвета, – то, что невозможно ни объяснить, ни логически обосновать. Каким-то образом русским художникам удалось свести «все» в «ничто» и открыть нам то, о чем мы даже не догадывались. Нечто из области равновесия и оптики, напряжения и текстуры. Но прежде всего из области подсознания. Мы любим это искусство, сами не зная почему. Малевич, Татлин, Родченко, Попова и Лисицкий явились гениальными провидцами, пионерами чистого абстракционизма.
Но они были не одни…
Глава 11 Неопластицизм: за решеткой, 1917-1931
Иногда люди, имеющие отношение к искусству, начинают говорить и писать претенциозные глупости. Мы все уже привыкли, что рок-звезды свинячат в отелях, спортсмены получают травмы, а искусствоведы несут ахинею. Но главные вредители – музейные кураторы: это их перу принадлежат напыщенные и невразумительные тексты для музейных путеводителей и стендов. В лучшем случае их рассуждения о «древнейших наслоениях» и «педагогических практиках» озадачивают посетителей; в худшем случае – унижают, путают и навсегда отбивают интерес к искусству. Хорошего мало. Но скажу из опыта: кураторы тупят не нарочно; они вообще-то способные ребята, просто им приходится угождать все большей аудитории.
Музеи – это научные учреждения, народ там работает башковитый, у охранников и официанток в кафе не редкость докторская степень по искусствоведению от ведущих университетов. Здесь царит дух интеллектуального соперничества, и какой-нибудь диковинный факт из истории живописи становится безжалостным оружием ежедневного подкалывания коллеги: «О Боже! Роберт из отдела живописи XX века не знает, что Ротко в своих поздних работах использовал глазурь, содержащую даммару, яйцо и синтетический ультрамарин!»
Говорят, истории искусства на всех знатоков не хватает, и этим отчасти объясняется, почему музейные сотрудники так вязнут в мелочах. Многие произведения уже изучены вдоль и поперек: информации накоплено слишком много. Бедному куратору приходится осваивать ее и разбавлять собственными мыслями, чтобы избежать обвинений в плагиате. Затем информацию надо изложить так, чтобы не выглядеть идиотом перед придирчивыми коллегами. Иначе на карьере можно ставить крест. В конфликте между профессиональным статусом и запросами неискушенного посетителя приоритет всегда у статуса. Вот почему описания на стенде галереи или в ее рекламной листовке полны загадочных терминов и фраз. Хоть музей и заявляет, что информация рассчитана на неподготовленного зрителя, но на самом деле она доступна лишь посвященным да экспертам-лингвистам.
Кстати, от подобной ловушки не застрахован и художник. Мне доводилось интервьюировать гениальных художников, заслуженно уважаемых за ум, интуицию и красоту работ. Но почему-то стоит микрофону оказаться у них под носом, вся эта ясность куда-то улетучивается. И уже спустя полчаса, полного придаточных предложений, уточняющих оборотов и витиеватых метафор, ты не только не приближаешься к пониманию смысла работ интервьюируемого, но сильно от этого смысла удаляешься. Словно в романе о Тристраме Шенди, где говорится много остроумных речей, но до злополучной развязки дело так и не доходит.
Ну и что с того, спросите вы? Художники, может, и выбирают визуальный язык потому, что им трудно выразить свои мысли посредством письменного или устного слова. Однако – рискуя и самому угодить в болото претенциозности, – все-таки отмечу некий парадокс. По своему опыту могу сказать, что именно абстрактные художники – те, что старательно удаляют из своих произведений все лишнее, дабы открыть нам истину в последней инстанции, рассказывают о собственных работах цветисто и многословно, как никто. Малевич рассуждал о космических кораблях и космологии, Кандинский – о музыкальном звучании своих картин. Даже прагматик Татлин любил поразглагольствовать о материальности объема и напряжении трехмерного пространства. Но первый приз за «трудности перевода» собственного абстрактного творчества на человеческий язык я бы отдал голландскому художнику Питу Мондриану (1872–1944).
Для объяснения своего замысла человек, прославившийся картинами-«решетками», прибегнул к навороченному и надуманному способу, позаимствовав прием изложения у критика Луи Леруа – того самого, что в 1874 году написал разгромную статью про первую выставку импрессионистов. Статья Леруа представляла собой вымышленный разговор между ним и неким художником-скептиком. Правда, Мондриан несколько изменил сценарий: современного художника-интеллектуала сыграл он сам, а в собеседники взял недоумевающего зрителя – некоего певца (возможно, реального, а возможно, и нет), чтобы иметь возможность апеллировать к музыке. Мондриан назвал свой текст «Диалог о новой пластике» (1919). Начинается он так.
Действующие лица:
А – певец, Б – художник
А. Я восхищаюсь вашими ранними работами. Они очень много значат для меня, и я хотел бы понять ваш нынешний стиль в живописи. Я ничего не вижу в этих прямоугольниках. В чем состоит ваш замысел?
Б. Мои новые картины имеют ту же цель, что и предыдущие. Они все преследуют одну и ту же цель, но в моих последних работах она выражена более четко.
А. И что же это?
Б. Цель в том, чтобы пластически выразить взаимоотношения посредством противопоставления цвета и линии.
А. Но разве ваши ранние работы не изображали природу?
Б. Природа для меня была только средством выражения идеи. Но если вы последовательно следите за моими работами, то наверняка видите в них постепенный отказ от натуралистического изображения объектов и акцент на пластическом выражении взаимоотношений.
А. То есть, по-вашему, естественный вид объекта противоречит пластическому выражению взаимоотношений?
Б. Согласитесь, если два слова пропеть с одинаковой силой и акцентировкой, они будут ослаблять друг друга. Нельзя с равной ясностью изобразить природный вид объекта и пластику взаимоотношений. В натуралистической форме, в естественном цвете и естественных линиях пластические отношения завуалированы. Пластическая передача взаимоотношений возможна только через цвет и линию.
И потом довольно долго и в том же духе насчет пластики и взаимоотношений. В оправдание Мондриана скажу, что задачу он поставил непростую: объяснить нечто совершенно новое и незнакомое. Структура и тональность «Диалога» предполагают, что голландский художник и правда считал себя учителем и толкователем, призванным объяснить смысл жизни всем нам.
Говоря о «пластике», Мондриан имеет в виду пластические искусства – в тогдашней Европе этот термин применялся только к живописи и ваянию. Его видение было новым («нео») подходом к пластическому искусству («пластицизму»). Как и Малевич, Мондриан чувствовал, что может разработать такую живопись, способную вместить все, что мы знаем и чувствуем, в одну упрощенную систему, и тем самым погасит великие конфликты нашей жизни. Малевич создал супрематизм в ответ на революцию в России; Мондриана подтолкнула кровопролитная Первая мировая. Он сформулировал идеи нового искусства – неопластицизма, – между 1914-м и 1918 годами, покуда грохотали пушки. Мондриану хотелось помочь обществу начать все заново, с новой стартовой позиции, когда первичным является единство, а не индивидуализм. Его целью было «выразить пластически то «общее, что присуще всем вещам, а не то, что их разъединяет».
Художник пришел к выводу, что для достижения этой цели придется свести изобразительное искусство к его первоэлементам: цвету, форме, линии и пространству. А затем ради еще большего упрощения представить элементы в самой чистой форме, ограничив выбор цвета тремя первичными – красным, синим, желтым, геометрические формы двумя – квадратом и прямоугольником, а линии использовать только прямые, горизонтальные и вертикальные, нанесенные черной краской. Никаких попыток создать иллюзию глубины. С таким ограниченным набором выразительных средств Мондриан рассчитывал осмыслить жизнь, гармонично уравновесив все противоборствующие силы Вселенной. Отказ от любых узнаваемых объектов тут был крайне важен: не дело искусства копировать реальную жизнь, полагал Мондриан, ведь оно – часть этой реальной жизни, так же как язык и музыка.
«Композиция С (№ III) с красным, желтым и синим» (1935) (репр. 18) – это «классический» Мондриан. Простой белый фон (как почти всегда) служит художнику универсальной и чистой основой для построения картины. На этот фон нанесена разреженная решетка – с помощью вертикальных и горизонтальных черных линий разной толщины. Это важная деталь: Мондриан стремился показать вечное движение жизни, и это ощущение, как он чувствовал, можно передать, варьируя толщину черных линий. Чем тоньше линия, рассуждал он, тем быстрее глаз ее «считывает», и наоборот; получается, ширина линии работает чем-то вроде педали газа и служит, таким образом, конечной цели – приданию картинам «динамического равновесия».
Равновесие, напряженность и равенство – это для Мондриана всё. Его творчество – политический манифест, призывающий к свободе, единству и сотрудничеству. «Настоящая свобода, – говорил он, – это не взаимное равенство, но взаимная равноценность. В искусстве формы и цвета имеют разные характеристики и положение, но они равноценны». В «Композиции с красным, желтым и синим», как и во всех его абстрактных работах начиная с 1914 года, горизонтальные и вертикальные линии выражают напряженность взаимоотношений между противоположностями: отрицательным и положительным, сознательным и бессознательным, духом и телом, мужским и женским, добром и злом, светом и тьмой, хаосом и гармонией: инь и ян. Эти взаимоотношения устанавливаются в точках пересечения или слияния координатных осей X и Y: так образуется квадрат или прямоугольник.
Вот тут-то для Мондриана и начинается самое раздолье. Его композиции всегда асимметричны, поскольку это помогает создать ощущение движения, но это ставит перед автором новую задачу: используя ограниченную палитру, сбалансировать всю конструкцию. В «Композиции с красным, желтым и синим» он изобразил большой красный квадрат в левом верхнем углу, затем уравновесил его, разместив более «плотный», но меньших размеров синий квадрат в нижней части, чуть правее центра. Тонкий желтый прямоугольник в нижнем левом углу служит противовесом двум другим. Блоки белого цвета, хотя и «легче» цветных, зато занимают на холсте больше пространства, чем остальные три цвета, вместе взятые: так реализуется идея «равноценности». Ни один элемент не доминирует: всеобщее равенство на плоской поверхности, или, выражаясь спортивноюридическим языком, «единое игровое поле».
Как говорил Мондриан, «неопластицизм утверждает справедливость, потому что равенство пластических средств в композиции показывает: каждый, несмотря на различия, может быть равным среди равных». Это знаковое заявление. Оно высвечивает огромную разницу между неопластицизмом Мондриана и абстрактным искусством Кандинского, Малевича и Татлина. Ни в одной работе голландского художника индивидуальные элементы не сливаются; они всегда самодостаточны. Нет ни наплывающих плоскостей, ни тональных переходов. Это потому, что Мондриан стремился к унификации взаимоотношений между отдельными элементами, а не к традиционному романтическому идеалу любви, когда двое соединяются в одно.
Движение к абстракции Мондриан начал там же, где и Татлин: в парижской студии Пикассо. До своего визита в 1912 году голландец писал традиционные пейзажи в стиле фовизма и пуантилизма. Но изучив кубистические полотна Брака и Пикассо, их землистую палитру, он вернулся домой другим человеком. Следующие несколько лет он посвятил созданию нового направления в живописи. Неопластицизм должен был стать чистейшей из всех форм абстрактного искусства.
На примере четырех картин Мондриана можно проследить его путь от подражателя старым мастерам до пионера модернизма; каждая из них изображает дерево. Первая называется «Вечер. Красное дерево» (1908). Сгущаются зимние сумерки, создавая серо-голубой фон, кажется, что голое корявое дерево дрожит от холода. Его переплетенные сучья расходятся по всему холсту, как вены по тыльной стороне ладони. Красно-коричневый ствол склоняется вправо, сгибаясь под тяжестью ветвей, почти метущих землю. Эта картина – свидетельство влияния на Мондриана голландских пейзажистов-романтиков XXVII века. Ее выразительные краски – темно-красные, синие, черные – подсказывают, что художник заимствовал некоторые приемы и у другого соотечественника, Винсента Ван Гога.
Вторая картина в этом ряду – «Серое дерево» (1912). Началось пробуждение Мондриана-абстракциониста; чувствуется влияние увиденных в парижской студии кубистических картин. Перед нами снова дерево без листьев, ствол в центре, ветви простираются горизонтально по всей ширине холста и вертикально до самого верха. Однако на этот раз палитра куда более мрачная. Тональные градации серого копируют мрачные оттенки, которыми увлекались Брак и Пикассо периода аналитического кубизма. Очертания дерева упрощены ради композиционной структуры, поскольку пространственная глубина здесь напрочь отсутствует.
Следом идет «Цветущая яблоня» (1912). Тут Мондриан продвинулся по пути абстракции еще дальше. Настолько, что если не знать, о чем картина, то сразу и не догадаешься. Художник использовал охристо-серую палитру Брака. Ветки дерева очень стилизованные, без деталей – серия коротких и толстых черных, мягко закругляющихся линий, некоторые из которых сливаются, образуя сеть из эллиптических ячей, горизонтально плывущую по холсту. Сеть привязана к нескольким черным вертикалям, придающим картине стройность. Перед нами сквозной двумерный орнамент.
И наконец в 1913 году появляется «Картина № 2 / Композиция № VII». Объект – все то же дерево (уж поверьте мне на слово), но абстракции здесь столько, сколько не снилось и кубистам. Мондриан разбил объект на крошечные фрагментированные плоскости, так что изображение напоминает потрескавшееся от солнца дно пересохшего африканского озера. Более того, он выкорчевал дерево из земли и оставил плавать в пространстве, убрав все визуальные подсказки. Цвета приглушенные, за исключением сияющего желтого, который словно вырывается за границы полотна. И, по-видимому, призван символизировать первичность духовного начала.
Мондриан, как Кандинский и Малевич (и много позже Джексон Поллок), увлекался теософией – модным квазирелигиозным учением, на принципах которого строили свое мировоззрение многие художники. Такие идеи, как соединение вселенского и индивидуального, равенство элементов, синтез внутреннего и внешнего, – все это было почерпнуто из теософии.
Религия и духовность – сюжет «Композиции VI» (1914), знаменующей завершение пути Мондриана к чистой абстракции. Тут изображена церковь, хотя, глядя на картину, об этом не догадаешься. Картина ориентирована вертикально, фон – серый, поверх него нанесена сетка из черных горизонтальных и вертикальных линий, которые образуют узор из прямоугольников и квадратов. Некоторые из этих простых геометрических фигур представляют собой «пустые» рамы, наложенные на серый фон, в то время как другие закрашены светло-розовым. На религиозную тематику указывает присутствие трех черных линий в форме заглавных «Т» в центре холста: их можно принять за христианские кресты. В остальном это совершенно абстрактная живопись. Вскоре Мондриан отбросит и эти последние остатки визуальных отсылок к знакомым предметам и сосредоточится исключительно на создании абстрактных образов, дабы с их помощью передать ощущение трансцендентной гармонии.
Именно в этой точке своего творческого пути высокодуховный Мондриан встретил практичного и деятельного соотечественника – художника, писателя, дизайнера и импресарио по имени Тео ван Дусбург (1883–1931). В 1917 году они вместе основали журнал, редактором которого стал ван Дусбург. Они дали ему название «Де Стиль», что означает просто «стиль», но на слух ассоциируется с дистилляцией, а это как нельзя лучше отражает суть их эстетической философии. В отличие от предыдущих художественных направлений основатели «Де Стиль» с самого начала заявили о своих глобальных амбициях, опубликовав в 1918 году манифест на четырех языках. Ими двигало послевоенное желание начать все заново: создать международный стиль, способный «служить формированию международного единства в Жизни, Искусстве и Культуре».
Как писал Мондриан, «Де Стиль» намерен запечатлеть «чистое творчество человеческого духа… выраженное чисто эстетическими взаимоотношениями, воплощенными в виде абстрактных форм». Иными словами, речь шла о создании независимого направления в живописи вокруг мондриановых решетчатых композиций. Эдакий лего-арт для духовно продвинутых взрослых: комплект деталей для коллективного творчества по созданию и поддержанию утопического будущего.
Природные формы надлежит «искоренить», провозглашал манифест «Де Стиль», как мешающие «чистому художественному выражению». Единственное, что имеет смысл, – это создавать произведения, в которых достигается единство, реализуемое через взаимоотношения между цветом, пространством, линией и формой. Концепция, по мнению художников, применимая во многих других видах искусства, включая архитектуру и дизайн.
Это доказал один из первых участников художественной группы «Де Стиль», нидерландский дизайнер мебели и архитектор Геррит Ритвельд (1888–1964). Ритвельд уже работал на переднем крае современного дизайна, воодушевленный угловатым архитектурным стилем американца Фрэнка Ллойда Райта и работами шотландского дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша. Именно знаменитый «Стул Макинтоша» (1903) с гипертрофированно-высокой, почти двухметровой решетчатой спинкой, больше похожей на лесенку, и вдохновил Ритвельда на создание своего «Кресла» (1918) – изделия гораздо более простого, но исторически не менее значимого.
Ван Дусбург с самого начала был большим поклонником строгой, экономной конструкции Ритвельда, состоящей из деревянной доски – спинки и укороченной доски-сиденья. Ритвельд скрепил две эти утилитарные части деревянной рамой, похожей на клетку. Кресло не выглядит привлекательным местом для отдыха после тяжелого трудового дня. Но удобства и комфорт не значились в списке приоритетов ван Дусбурга, когда он представил кресло во втором номере журнала «Де Стиль». Он описал его как скульптуру, исследующую пространственные отношения: объект «реальной абстракции».
Пять лет спустя, уже полностью погрузившись в эстетику «Де Стиль», Ритвельд сделал еще одну версию кресла, на этот раз используя основные цвета и черные линии неопластицизма Мондриана. «Красно-синее кресло» (ок. 1923) (репр. 19) выглядит как трехмерная живопись Мондриана: оно, возможно, не стало удобнее, но смотрится куда привлекательнее первого варианта. Спинка окрашена в гостеприимный красный цвет, сиденье – в эффектный темно-синий. А желтая краска на спилах придает черной лакированной раме некоторую игривость.
Ритвельд пошел еще дальше и на следующий год спроектировал по принципам «Де Стиль» целый дом. «Дом Шрёдер» (1924) в Утрехте, названный так по имени заказчицы, богатой вдовы Трюс Шрёдер, теперь входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Трюс Шрёдер поручила Ритвельду построить дом с фасадами, переходящими в интерьер, и без традиционного деления на комнаты. Женщина, как и Ритвельд, разделяла воззрения Мондриана.
Дом Шрёдер выделяется на фоне остальной застройки улицы, он заметен, как факел в пещере. Прямоугольные плоскости белых оштукатуренных бетонных стен исполняют радостное архитектурное па-де-де вокруг стеклянных окон, отчего соседние кирпичные дома выглядят похоронной процессией. Конструкция как бы скреплена двумя тонкими горизонтальными металлическими балками, одновременно служащими балюстрадой балконов второго этажа. С одной стороны дома длинная желтая вертикальная балка поднимается из земли, точно луч света. За ней рельефно выступают окна первого и второго этажа, крестовина каждого включает окрашенную перемычку, красную и синюю. Это – картина Мондриана, внутри которой можно жить.
Интерьер продолжает в том же стиле неопластицизма. Стены раздвигаются, чтобы явить огромные пространства, освещенные естественным светом, струящимся через множество огромных окон с цветными фанерными щитами вместо гардин: синими, красными и – вы удивитесь! – желтыми. Мебель (включая красно-синее кресло) состоит из плоских поверхностей, закрепленных на рамах под прямым углом. Даже деревянные перила построены с использованием горизонтальных и вертикальных деревянных брусков, окрашенных, разумеется, в черный цвет. В Доме Шрёдер нет ничего спроектированного без помощи угольника.
Сила эстетического видения Мондриана продолжала расширять свое влияние на мир архитектуры и дизайна. В 1965 году французский модельер Ив Сен-Лоран создал шерстяное платье без рукавов, в котором присутствовали и базовые цвета, и черные прямые линии «Композиции с красным, синим и желтым» Мондриана (1930). Оно появилось на обложке сентябрьского номера французского журнала «Вог» и вызвало моду (не прошедшую по сей день) на предметы, оформленные в стиле Мондриана, от магнитов на холодильники до чехлов для «айфонов». Такая популярность как ничто другое свидетельствует об успехе художественных принципов голландца. Он исповедовал философию «ничего лишнего» и хотел, чтобы его искусство было несокрушимым, предельно безупречным, чистым и благородным. Он стремился победить «превосходство индивидуального» объединяющей концепцией, доступной для всех.
Ив Сен-Лоран приобрел четыре работы Мондриана и повесил их в своей шикарной парижской квартире. В их числе оказалась и «Композиция № 1» (1920), написанная в преддверии того экономного стиля, развитием которого художник станет заниматься в ходе всего дальнейшего творчества. В отличие от более поздних, «классических» полотен Мондриана в «Композиции № 1» отсутствуют и белый фон, и чувство пространства, присущее его зрелым работам. По мне, так она больше напоминает дизайн витража – группа «Де Стиль» занималась и этим (ван Дусбург создал много эскизов для витражей, и обоих художников привлекала их скрытая духовность). Эта композиция слишком перегружена по сравнению с его более поздними работами. Все прямоугольники – цветные: синие, красные, желтые, а какие-то окрашены в серые тона либо просто черные. Большинство прямых линий обрывается, не дойдя до края холста, а блоки основных цветов громоздятся в центре. Между тем в последующих работах Мондриан станет размещать эти блоки ближе к краю, откуда те могли бы бросать свои отсветы в бесконечность.
Этот код Мондриан подобрал всего через несколько месяцев. «Композиция с красным, черным, синим и желтым» (1921) сразу идентифицируется как «Мондриан». Все элементы налицо: асимметричная композиция, большие участки пустого грунтованного белым холста, блоки основных цветов, наплывающие с краев картины, уравновешивают друг друга на строгой решетке из черных вертикалей и горизонталей разной длины. Как сказал Ив Сен-Лоран, Мондриан достиг «чистейшей живописи: тут больше уже ничего не добавить».
Амбициозный ван Дусбург оказался не согласен. Неплохо, полагал он, было бы вставить какую-нибудь диагональ для большей динамики. Мондриан категорически возражал: в его картинах движения и так достаточно. Наконец в 1925 году, после неоднократных споров и стычек, основатель неопластицизма покинул проект «Де Стиль». Ван Дусбург, впрочем, был уже готов к переменам и жаловался, что «невозможно вдохнуть в Голландию новую жизнь». Он отправился в турне по Европе проповедовать Евангелие от «Де Стиль». Он намеревался объяснить, что геометрическая решетка из черных линий символизирует «неизменность» мира, а основные цвета – «интериоризацию» внешнего. Он определил беспредметное искусство «Де Стиль», конструктивизм и супрематизм как «рациональную абстракцию», в то время как более символические работы Кандинского, по его словам, есть «импульсивная абстракция» (аналогичное размежевание произойдет в 1950-х XX века между двумя подходами к абстрактному экспрессионизму: инстинктивной «живописью действия» и концептуальной «живописью цветового поля»).
Исчерпывающая оценка ван Дусбурга стала кульминационным пунктом одного из ярчайших десятилетий в истории искусства. Художники Европы двигались разными путями, но прибыли к одному и тому же: к абстракции. Их объединяло стремление помочь создать и обозначить начало нового, лучшего мира. И вот, когда век вступил в свое третье десятилетие, многие из этих художников и их единомышленников собрались в немецком Веймаре, чтобы стать участниками легендарного Баухауса Вальтера Гропиуса. Василий Кандинский и Пауль Клее из группы «Синий всадник» получили преподавательские должности в знаменитой архитектурной школе. Другие, как Эль Лисицкий, внесли идейный вклад, делясь опытом русского конструктивизма и супрематизма. Тут же оказался и ван Дусбург, в равной мере их сторонник и оппонент. Не сумев убедить Гропиуса взять его на работу, предприимчивый голландец создал собственные независимые курсы обучения принципам «Де Стиль», открытые в том числе и для студентов Баухауса. Курсы оказались популярными, судя по рапорту ван Дусбурга: «У меня огромный успех с курсами «Де Стиль». Уже двадцать пять слушателей: в большинстве своем из Баухауса».
На короткий период, в промежутке между двумя мировыми войнами, эту часть сельской Германии охватила атмосфера оптимизма и творческого поиска; художники, архитекторы и дизайнеры работали бок о бок, визуально упрощая картину мира.
Глава 12 Баухаус: встреча однокашников, 1919-1933
Когда-то, в пору моего недолгого проживания в сельской местности, у меня появилась самоходная газонокосилка. Она была ярко-желтая, заводилась с первого раза и могла стричь даже переросшую траву, длинную и узловатую, как дреды. Сзади на корпусе этого зверя красовалось: «С гордостью сделано в Америке» в окружении звезд и полосок. Помню, как меня смешили хвастливость и пафосность этого заявления: надо же, какая пошлость! Вот британская компания никогда себе подобного не позволит.
Что правда. Главным образом потому, что в Великобритании сегодня особо ничего не производится. Некогда сердце индустриального мира, страна больше не создает продукт; все делается на аутсорсинге либо импортируется. Как считает сэр Теренс Конран, авторитетный британский дизайнер мебели и товаров для дома, такая политика ставит крест на творчестве британцев и приближает их финансовый крах.
В конце XIX века все было иначе: главными промышленными державами Европы были Германия и Великобритания. Немецкие политические лидеры с завистью поглядывали на британцев и видели нацию, уверенную в завтрашнем дне, страну, создающую свои богатства благодаря творческой изобретательности и ее коммерческому применению. Немцы решили потихоньку заняться шпионажем. В 1896 году архитектор и чиновник по имени Герман Мутезиус (1861–1927) был направлен в Лондон в качестве культурного атташе немецкого посольства с заданием выяснить причины такого успеха британской промышленности. Со временем Мутезиус изложил свои наблюдения в многочисленных отчетах, вошедших впоследствии в трехтомник под названием «Английский дом» (1904). В них он назвал тот удивительный «магический элемент», который и обеспечил Британии экономический бум. Элементом оказался недавно скончавшийся дизайнер Уильям Моррис (1834–1896), основатель Движения искусств и ремесел и отпетый социалист.
В 1861 году он создал одноименную дизайнерскую компанию совместно с архитектором Филиппом Уэббом и худож-никами-прерафаэлитами Эдвардом Берн-Джонсом, Фордом Мэдоксом Брауном и Данте Габриэлем Россетти. Они хотели соединить достижения изобразительного искусства с ремесленным производством, чтобы бытовые предметы ручной работы делались с такой же любовью, вниманием и мастерством, что и пейзажная живопись или мраморная скульптура.
Фирма специализировалась на дизайне интерьеров, изготовлении витражей, мебели, фурнитуры, обоев и ковров – и все это гармонировало с природой и ее отражало. Такой подход предложил Джон Рёскин, британский историк искусства и интеллектуал из «левых», которого индустриальная эпоха повергала в ужас. Он заявлял о «ненависти к современной цивилизации», говорил о разъединяющей природе капитализма и его стремлении к прибыли любой ценой. Рёскин считал индустриализацию злом, которое ведет ремесленника к деградации, превращает его в орудие: чумазого раба сверкающей бездушной машины.
Рёскин продвигал теорию социальной справедливости и подкреплял эти тезисы щедрыми пожертвованиями. В 1862 году он опубликовал подборку своих полемических очерков в книге «Последнему что и первому» (1862). В ней он требовал честной торговли и соблюдения прав трудящихся; предлагал общенациональный проект устойчивого развития промышленности и меры по охране окружающей среды. Рёскин высказал глубокие соображения, которые принесли ему поддержку многих знаменитостей. Мохандас («Махатма») Ганди настолько впечатлился, что перевел сборник на гуджаратский язык, заявив, что «в этой великой книге отразились его глубочайшие убеждения».
По мнению Рёскина и Морриса, у прошлого все еще есть чему поучиться, а многое в средневековом образе жизни на самом деле достойно восхищения. Моррису виделось братство трудящихся на основе традиций средневековых ремесленных гильдий, где новичок мог бы начать как ученик, вырасти в подмастерье и в итоге (при наличии таланта) стать мастером. Моррис исповедовал философию процветания: людям надо создать гуманные, безопасные условия труда, уважать их и справедливо оплачивать работу. Красота и мысль должны стать доступными всем – англичанин верил в «искусство для всех», создаваемое людьми и для людей. Эти призывы будут повторяться вновь и вновь на протяжении всего XX века; звучат они и поныне благодаря ребятам вроде британских художников Гилберта и Джорджа.
Герр Мутезиус взял за основу идеологию британского Движения искусств и ремесел, но повернул ее по-своему. Что, если применить принципы Уильяма Морриса в промышленных масштабах? Вернувшись на родину, он поделился этими соображениями с руководством, и вскоре ремесленные мастерские появляются по всей Германии как грибы после дождя. Одновременно идет капитальный пересмотр немецкого художественного образования. А затем, в 1907 году, создается Германский художественно-промышленный союз – объединение художников, архитекторов, ремесленников, предпринимателей и торговцев, иначе Веркбунд. Это был жесткий рыночный ход: появился откровенно националистический проект по разработке стилистики для немецкой промышленности на основе идей Морриса. Таким образом предполагалось помочь продвигать изделия ремесленников и художников страны, стимулировать спрос и развивать потребительский вкус. В совет учредителей Веркбунда вошли ведущие представители искусства и бизнеса.
Среди них и берлинский архитектор Петер Беренс (1868–1940), разделявший дизайнерские принципы Морриса и его уважение к индивидуальному мастерству. Беренс и сам был мастер на все руки; так же как Моррис, он спроектировал свой дом со всей «начинкой». В 1907 году – как раз когда Беренс вошел в Совет директоров Веркбунда – немецкий электрический концерн AEG нанял его на должность «художественного руководителя». В обязанности Беренса входил контроль надо всем, что касалось эстетики компании: от фирменного стиля и рекламы до дизайна лампочек и фабрик. Беренс стал, по сути, первым в мире бренд-менеджером.
Он объяснил руководству, что в своей работе будет стремиться не к простому украшательству, а попытается выразить «внутреннюю сущность» продукции через ее внешний вид. Сказано лихо – но не вполне оригинально. Еще в 1896 году авторитетный американский архитектор Луис Г. Салливен (1856–1924) изложил ту же идею в статье «Высотное конторское здание с художественной точки зрения». Согласен, название малость занудное, зато само эссе – на редкость яркое, написанное человеком, стоящим на пороге современного мира. Салливен работал в Чикаго; город расширялся так быстро, что архитектору пришлось задуматься о зрительном восприятии проектируемых зданий и сооружений в жестком индустриальном ландшафте. Его особенно беспокоило, какое социальное и эмоциональное воздействие оказывают на жителей города небоскребы, эти маяки экономического прогресса, высящиеся над чикагскими улицами, словно Гулливер над страной лилипутов.
Небоскребы были специальностью Салливена. Собственно, он и прославился как «изобретатель небоскреба», разработав новаторскую технологию для строительства высотных зданий – с использованием стальных конструкций. Высота здания, понимал Салливен, ограничивается весом и плотностью самого кирпича: каждый новый этаж все больше давит на уже имеющиеся. Проблему решила внутренняя стальная опорная конструкция, и здания пошли расти вверх.
Салливен радовался, что внес свой вклад в этот высотный бум. Но понимал и то, что небоскребы строятся на века и будут определять облик городов и стран. Между тем об эстетической стороне дела никто не задумывался и не разрабатывал новых форм, соответствующих технологии высотной архитектуры. Салливен настаивал: нужны новые стилистические решения, иначе безликие и уродливые громадины попросту изуродуют всю Америку. Облик здания должен следовать за его предназначением, или, как чеканно выразил эту мысль Салливен, «форму определяет функция». Беренс пришел к тому же.
Салливен задался вопросом: «Как нам с головокружительной высоты этой странной, причудливой современной крыши проповедовать евангелие добра, красоты и возвышенной жизни?» Так экспрессионизм проник в архитектуру: проектировщик домов загорелся идеями Ван Гога. Салливен полагал, что в небоскребе следует акцентировать высотное начало, то есть вертикаль, а не горизонталь. «Здание должно быть высоким, – писал он, – каждым своим дюймом оно должно выражать высоту. Силу и мощь вертикали, ее ликующее торжество и гордость». В этом духе он разработал простой трехчастный проект высотного здания: мощный цоколь, удлиненный основной объем и плоский фронтон. В сущности, Салливен взял древнегреческую колонну и преобразил ее в ультрасовременное здание.
В 1890–1892 годах архитектурная фирма «Адлер и Салливен» завершила строительство офисного здания для богатого пивовара в Сент-Луисе, штат Миссури. Девятиэтажное здание
Уэйнрайт-билдинг стало одним из первых в мире небоскребов, воплотивших дизайнерские идеи Салливена, и послужило образцом для высотных зданий во всем мире: ровный и цельный параллелограмм, эдакий вертикально поставленный спичечный коробок. Салливен облицевал Уэйнрайт-билдинг терракотовой плиткой и песчаником, а ряды подчеркивающих высоту пилястров вытянулись вдоль фасада, как солдаты в парадном строю. Этот пример элегантной и сдержанной офисной архитектуры – вежливый поклон прошлому и распахнутые объятия высокотехнологичному, стремительному будущему. Форму действительно определила функция.
Точно так же, как у Беренса в его монументальном проекте турбинного завода AEG (1909): современное сооружение, напоминающее огромный поезд метро, с каменными стенами и гигантскими окнами в стальных рамах. Здание было чисто утилитарным, но Беренс ставил перед собой более сложную задачу. Он хотел, чтобы архитектура положительно действовала на рабочих, вселяя в них чувство собственного достоинства, подбадривала и вдохновляла. В то же время любой прохожий, глядя на здание, должен ощутить уверенность и амбициозность германской промышленности. Турбинный завод AEG явился той самой художественной пропагандой, ради которой и создавался немецкий Веркбунд.
Растущая известность Беренса привлекала к нему лучших молодых архитекторов. Юные дизайнеры с горящими глазами выстраивались в очередь, чтобы работать и учиться у Великого Мастера. Перечень этих юнцов не просто впечатляет; все это – сплошь имена гигантов современной архитектуры. У Беренса работали Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье. А еще – Адольф Мейер, ушедший от учителя вскоре после завершения проекта AEG, чтобы открыть новую фирму с Вальтером Гропиусом (1883–1969), еще одним протеже Беренса, которому было суждено стать основателем самой известной художественной школы в мире.
Гропиус и Мейер, наблюдая за успехами Беренса, чувствовали, что им пора открывать собственную практику Это был правильный ход, и с моментом они угадали, так что их карьера быстро пошла в гору В начале 1911 года владелец компании Fagus, производящей обувные колодки, заказал им проект здания новой фабрики в Альфельде-на-Лайне, примерно в шестидесяти километрах южнее Ганновера. Молодые архитекторы взялись за работу, держа в уме проект Беренса для AEG. К зиме большая часть «Фагус Верк» уже была построена.
Дизайн, придуманный двумя новичками, поражает своей современностью. Они подвесили стеклянную стену на прямоугольные колонны из желтого кирпича: получился прозрачный занавес двойного назначения: он пропускал много света в цеха и служил сверкающей рекламой, обращенной к миру (здание располагалось так, что его было видно из окон пассажирских поездов, идущих в Ганновер). Само здание стало заявкой на новую миссию Германии, символом страны, способной объединить современное искусство и современные машины для производства товаров, которые не только нужны, но и желанны. Уже в 1912 году Гропиус был зачислен в немецкий Веркбунд и стал частью художественной элиты, создающей национальный имидж страны.
А потом началась война.
Баухаус
Поначалу некоторые немецкие художники, как и другие представители интеллигенции, приняли Первую мировую войну с воодушевлением, видя в ней шанс для страны начать с нового старта. Вальтер Гропиус вступил в армию и сражался на Западном фронте, но увиденная им массовая бойня ужаснула его. Чудовищный опыт войны требовал сделать хоть что-то, чтобы страшные события, происходившие на полях сражений Европы с 1914 по 1918 год, больше не повторились.
К тому же в Германии наступили новые времена. Непопулярный кайзер Вильгельм II отрекся от престола, положив конец монархическому правлению и открыв дорогу демократической Германии, существовавшей с 1919 по 1933 год и известной как Веймарская республика. Гропиус хотел внести свой вклад в возрождение истерзанной войной страны, создав организацию, которая, как он надеялся, принесет пользу не только Германии, но и всему миру.
Из опыта работы в Веркбунде Гропиус уже понял, насколько искусства и ремесла способны поднять настроение людям и оживить финансовую жизнь страны. И сформулировал принципы художественной школы нового типа для обучения молодого поколения практическим и интеллектуальным навыкам, необходимым для построения более цивилизованного и менее эгоистического общества. Это была бы школа искусства и дизайна и одновременно инициатор реформ социальной жизни.
Учебное заведение предполагалось демократичное, с совместным обучением юношей и девушек и нестандартной либеральной учебной программой, стимулирующей студентов к творческому поиску и самораскрытию. Возможность воплотить идею в жизнь появилась у Гропиуса 1919 году, когда он приехал искать работу в Веймар – город, где недавно была подписана демократическая конституция страны. Архитектор получил предложение возглавить учебный комплекс, созданный на базе двух прежних: Саксонско-Веймарской высшей школы изобразительных искусств и Саксонско-Веймарской школы прикладного искусства. Гропиус согласился и назвал объединенный институт Staatliches Bauhaus in Weimar — «Государственный строительный дом в Веймаре».
Так родился Баухаус. Гропиус объявил, что это будет «базовый институт художественного образования с использованием современных идей», который объединит «теоретический курс академии искусств» с «практическим обучением прикладным искусствам», обеспечивая «всестороннюю подготовку одаренных студентов». Он отказался от проводимой Веркбундом идеологии массового промышленного производства, усматривая в ней принижение роли личности: такой подход, по его мнению, и привел к войне.
Он также настаивал на том, чтобы будущие художники вышли из своей башни из слоновой кости и перестали бояться грязной и пыльной ремесленной работы. Гропиус уверял, что «нет такой профессии – художник; он просто одухотворенный ремесленник. Давайте снесем этот высокомерный барьер между ремеслом и искусством! Давайте… вместе создадим новое здание будущего. Оно соединит архитектуру, скульптуру и живопись в единую форму». Это эхо Gesamtkunstwerk Вагнера, синкретического произведения, где все виды искусства сходятся вместе, воплощая единую, прекрасную и жизнеутверждающую сущность.
Великий композитор высшей формой творчества считал музыку, а стало быть, она и есть та стихия, внутри которой возможно создание Gesamtkunstwerk. Гропиус думал иначе. Для него важнейшим из искусств оставалась архитектура, и он говорил, что «конечная цель всякой творческой деятельности – это здание». Отсюда и название «Баухаус» – «строительный дом», или «дом для строительства».
Гропиус разработал образовательную программу по образцу средневековых ремесленных гильдий, которыми так восхищался Уильям Моррис. Студенты Баухауса начинали в качестве учеников, постепенно переходили в подмастерья и наконец, если показывали хорошие результаты, становились мастерами. Все студенты проходили обучение у мастеров – признанных специалистов, работающих в той или иной художественной области. Гропиус рассматривал Баухаус как «республику интеллектуалов», которую однажды «поднимут к небесам руки миллионов рабочих как чистейший символ грядущей новой веры».
В каком-то смысле эти мечты сбылись. Правда, «грядущая новая вера» XX века оказалась ненасытным потребительством, подстегиваемым техническим прогрессом, зачастую облаченным в крутой прикид родом из Баухауса – эстетику простоты и вкуса, известную как модернизм. «Фольксваген Жук», настольные лампы «Энглпойз», ранние обложки книг издательства «Пингвин», юбки-карандаши 1960-х; огромные белые пространства МоМА, музея Гуггенхайма и лондонской галереи Тейт Модерн; обтекаемые линии космической эры – все это отвечает требованиям модернизма.
Эстетические достижения Гропиуса распространились и на архитектуру, где «чистейший символ» по-своему объединил мир. От коммунистического Востока до капиталистического Запада печать вдохновленного Баухаусом модернизма лежит на этих строгих, по линеечке, гигантских геометрических конструкциях из бетона, ставших в XX веке доминантой городского пейзажа. От Линкольн-центра в Нью-Йорке до десяти великих зданий, обрамляющих площадь Тяньаньмэнь в Пекине, угловатый модернизм Гропиуса угадывается безошибочно.
Что поразительно – с учетом того, что Баухаус просуществовал всего четырнадцать лет. И тем более удивительно, если принять во внимание, что строгий, умеренный, элегантный дизайн, с которым школа всегда будет ассоциироваться, вовсе не соответствует творческому духу, царившему там в момент ее создания. Об этом красноречиво свидетельствует обложка первой программы, изданной в 1919 году. Ее украшает ксилография Лионеля Фейнингера (1871–1965), участника группы «Синий всадник» Василия Кандинского, которого Гропиус назначил старшим мастером цеха графических работ. Композиция Фейнингера выполнена в кубофутуристическом стиле и изображает готический собор с тремя шпилями; вокруг каждого из них искрят зубчатые молнии, посылая в мир мощные заряды электричества. Эта иллюстрация в высшей степени символична.
Гропиус задумывал Баухаус как собор идей, который будет заряжать энергией и жизнью депрессивный и унылый мир. Молния означает активность и творческий потенциал студентов и мастеров. Мощная церковь – это Gesamtkunstwerk: здание, объединившее в себе духовное и материальное, с любовью созданное художниками и ремесленниками, где собираются люди, играет музыка, поет хор. Таков романтический образ школы в годы ее становления – полной студентов-идеалистов и мастеров, готовых и жаждущих внести свою лепту в создание современной утопии. На этой ранней стадии школа больше походила на коммуну хиппи, чем на профессиональный институт функционального дизайна, каким станет позже.
Обучение студентов в Баухаусе начиналось с шестимесячного подготовительного курса, известного как Vorkurs, который был разработан и внедрен швейцарским художником и теоретиком Иоганнесом Иттеном (1888–1967). Человек в высшей степени незаурядный, он к тому же был опытным педагогом, что редко встречалось среди мастеров Баухауса. Он принадлежал к духовному движению маздазнан, проповедующему вегетарианство, здоровый образ жизни, физические упражнения и голодание. Учебники Иттена были пропитаны схожей философией нового века, он пытался помочь студентам интуитивно найти собственный художественный голос. Пока они грызли гранит его науки и ждали вдохновения, Иттен расхаживал по аудитории – или по Веймару – одетый в темный китель, предшественник знаменитого френча Председателя Мао. Образ дополняли наголо обритая голова и круглые очки – не то злодей из «бондианы», не то глава секты. Примерно так к нему студенты и относились: кто-то преклонялся, видя в нем чуть ли не гуру, а кого-то тошнило от этой лысой башки и жеманных манер. Гропиус терпел его… поначалу.
Иттен вписывался в изначальную философию Баухауса с ее устремленностью «назад к природе». В то время как другие художественные школы заставляли студентов рабски копировать старых мастеров, Иттен строил свои занятия вокруг основных цветов и первичных форм. Он учил ваять эти формы из различных материалов, наглядно показывая, что такое линия, баланс и субстанция. Потом студенты продолжали работу воплощая уже собственные идеи, будь то гипсовый рельеф из квадратов и прямоугольников или лоскутное одеяло в красно-коричневой гамме, демонстрирующее понимание тональных переходов.
В те дни в Баухаусе все было и по-домашнему, и по-средневековому. В дополнение к теоретическому курсу Иттена студенты обучались ремеслам в мастерских, от переплетных до ткацких. Основным строительным материалом было дерево: Гропиус планировал построить целый поселок из деревянных домиков на территории школы, чтобы студенты и мастера могли жить и работать в гармонии все вместе. В школе царил антиматериализм с примесью готического духа немецкого экспрессионизма. Что не так уж удивительно, учитывая преподавательский состав. За плечами обоих – и Иоганнеса Иттена, и Лионеля Фейнингера – был опыт экспрессионизма, возникшего в довоенной Германии.
Немецкий экспрессионизм начался в 1905 году, с дрезденской группы «Мост», за которой спустя несколько лет последовал «Синий всадник» Кандинского. Источниками вдохновения для обеих групп стал экспрессионизм Ван Гога и Мунка, примитивизм Гогена и не существующие в природе цвета фовистов плюс толика немецкой готической традиции. Большим мастером смешивать подобные «коктейли» был участник «Моста» художник Эрнст Людвиг Кирхнер (1880–1938). До войны он и его соратники писали беззаботные картины с обнаженными дамами на фоне психоделических пейзажей. После войны живопись Кирхнера стала куда мрачнее. Его «Автопортрет в солдатской форме» (1915) – одно из самых мрачных и горестных полотен немецкого экспрессионизма. Взамен богемного веселья «Моста» явились искаженные фигуры, острые как бритва линии и смертельная бледность палитры. Кирхнер изобразил себя инвалидом в военной форме; взгляд потухший, окровавленный обрубок правой руки поднят как доказательство бесполезности художника, искалеченного войной. Голая женщина у него за спиной написана со схематизмом наскального рисунка. Она стоит рядом, но как будто находится в другом мире. Смысл очевиден: война кастрировала солдата; он никогда не полюбит снова.
Вот из такого депрессивного мира вышли Гропиус, Иттен, Фейнингер и Баухаус. Искореженные образы, мистическая духовность, либертарианство и готическая угрюмость немецкого экспрессионизма – все это составляло характер раннего Баухауса. Так что когда пару лет спустя туда прибыли учительствовать Василий Кандинский и Пауль Клее, они сразу почувствовали себя как дома.
Фейнингер пришел в восторг, воссоединившись с давними коллегами, в то время как Гропиус видел в этом большую удачу для Баухауса. Представляете себе такое в наши дни? Два самых почитаемых в мире художника приезжают в какой-то художественный колледж и готовы жить в кампусе и работать на полную ставку. Фантастика! Но магия этого места и стремление художников попытаться построить лучшее будущее оказались столь мощными, что Кандинский с радостью возглавил мастерскую настенной живописи, а Пауль Клее принял цех витражей. Жизнь в Баухаусе была хороша и с каждым днем становилась все лучше. Вот только за пределами кампуса она была плоха и становилась все хуже.
Германия с трудом пыталась выполнять свои обязательства по Версальскому договору: прежде всего выплачивать репарации странам Антанты. Эта тяжелейшая задача еще больше усложнялась нехваткой сырьевых ресурсов (отчасти по этой причине Гропиус так тяготел к дереву): поначалу все они шли на военные цели, а потом попросту были экспроприированы победителями. С политической точки зрения Германия тоже находилась в плачевном состоянии. Новая республика была раздроблена, обстановка накалялась, политические партии боролись за власть. Правые фракции в земельном правительстве, которое финансировало Баухаус, стали рассматривать школу как явление политическое – рассадник социалистов и большевиков, которые ничего не дали стране. Давление на Гропиуса возрастало, он был вынужден доказывать, что Баухаус – это не богемный пансион, взращивающий левых радикалов, а солидное финансовое вложение в индустриальное будущее страны. Чутье подсказывало Гропиусу, что настало время перемен.
Было покончено с антикоммерческой, интуитивистской, направленной на самосовершенствование философией, которую проповедовал Иоганнес Иттен, ее сменил новый лозунг Гропиуса: «Искусство и технологии – новый союз». Со стороны основателя и лидера движения это был поворот на 180 градусов, ведь ранее он заявлял, что немецкий Веркбунд, действовавший под таким же лозунгом, «мертв и похоронен».
На место Иттена Гропиус решил не брать очередного мастера с экспрессионистским прошлым. Его выбор пал на венгерского художника-конструктивиста – так он надеялся внести элемент дисциплины и рационализма в работу преподавательского состава. В 1923 году Ласло Мохой-Надь (1895–1946) занял пост мастера формы и слесарного дела и согласился разделить подготовительный курс Иттена с Йозефом Альберсом (1888–1976), который первым из учеников Баухауса дослужился до мастера.
Альберсу и Мохой-Надю как раз и предстояло сделать Баухаус легендарной колыбелью модернизма. В этом им помог неугомонный художник, издатель, теоретик и дизайнер, который слушал только собственный голос и находил наивысшее удовольствие в том, чтобы подчинять своим идеям других. Основатель «Де Стиль» снова был в строю.
Тео ван Дусбург приехал из Нидерландов обучать принципам «Де Стиль» юную поросль Баухауса. Пришло время избавиться от «экспрессионистского застоя», с ходу заявил он. И хотя Гропиус фактически не нанимал ван Дусбурга на работу, присутствие голландца в Баухаусе вскоре стало ощутимым. Факультативный курс «Де Стиль» как магнитом притягивал студентов, и они валом валили на его лекции. Учение ван Дусбурга было антитезой творческой школе Иттена. «Дисциплина и точность» – вот что предлагал «Де Стиль»: минимальный набор инструментов, максимальный эффект. Иными словами, выразить больше с меньшими затратами.
Со временем Гропиус собрал в Веймаре представителей всех направлений абстрактного искусства: Кандинский, Клее и Фейнингер пришли из «Синего всадника», ван Дусбург представлял «Де Стиль» и неопластицизм, Мохой-Надь и Альберс пропагандировали русское беспредметное искусство. В небольшое, скудно финансируемое учебное заведение стекались художественные таланты, как во Флоренцию эпохи Возрождения или в Париж конца XIX века.
Новая команда добилась быстрого успеха. «Технарь» Мохой-Надь поощрял своих студентов-дизайнеров к использованию современных материалов и аллюзиям на композиции Малевича, Родченко, Поповой и Лисицкого. Через несколько недель ученики прекратили лепить вручную бесформенные глиняные горшки и вместо этого встали к станкам, чтобы изготавливать совершенные изделия машинным способом. Марианна Брандт (1893–1983), всемирно известный дизайнер, чьи работы будут признаны эталоном стиля Баухаус, была одной из студенток Мохой-Надя.
В 1924 году, еще юной ученицей, она создала почти безупречный серебряный чайный набор, исполненный поразительного изящества. Идеально округлый чайник напоминает распиленный пополам серебряный шар. Он стоит на специальной подставке из двух перекрещенных металлических брусков. Блестящий носик естественно вырастает из сферической стенки, вытягивая кончик вровень с крышкой. Дужка, смещенная относительно центра, зеркально повторяет полукруглый контур чайника и одновременно оттеняет круглую крышку с элегантной ручкой – полукруглая мелаллическая пластинка застыла напряженно, словно балерина.
Марианна Брандт была не единственной, кто так изысканно откликнулся на призыв Мохой-Надя использовать современные промышленные материалы. Вильгельм Вагенфельд и Карл Юкер создали потрясающую настольную лампу из стекла и металла, ныне известную как «Лампа Вагенфельда» (1924). Плафон в форме матовой стеклянной полусферы на ножке из прозрачного стекла придает ей внешнее сходство с грибом. Простая геометрическая форма усиливается тонкими деталями дизайна, которые превращают ее из обыкновенного светильника в предмет вожделения. Стеклянный плафон оторочен хромированным металлическим краем; чуть ниже торчит короткий шнур-выключатель, придающий объекту элегантную асимметрию. Прозрачная стеклянная ножка, плафон-полусфера, круглая основа – все очень пропорционально, и в целом лампа смотрится лаконично и невероятно стильно.
«Лампа Вагенфельда» стала классикой и рассматривается как один из первых блистательных примеров промышленного дизайна. Но, строго говоря, это не совсем так. Пусть Баухаус к тому времени и стал разработчиком прикладной художественной технологии, но студенты по-прежнему мастерили свои изделия вручную. Когда Гропиус послал Вагенфельда на промышленную выставку продавать лампу, производители подняли юношу на смех и даже не подумали открывать свои книги заказов. Дизайн изделия, которое выглядит как объект массового производства, и дизайн изделия для массового производства – две совершенно разные вещи.
В свободное от преподавательской работы время Альберс и Мохой-Надь разрабатывали эстетику Баухауса. Мохой-Надь создавал абстрактные полотна, такие как «Телефонная картина. ЕМУ» (1922) – полупустое полотно, в котором доминирует одна толстая, во всю длину холста, черная вертикальная линия. Только на полпути вверх, справа от черной полосы, появляется маленький желто-черный крест, а под ним еще один – перевернутый красный, похожий на распятие. В общем, смесь конструктивизма с Мондрианом.
Йозеф Альберс работал над «Набором из четырех столиков» (ок. 1927). Все четыре имеют простой прямоугольный деревянный каркас, куда заподлицо вставлена стеклянная столешница. Каждая столешница окрашена в один из трех основных цветов, а четвертый, самый большой стол, – зеленый. Каждый стол меньше предыдущего, так что их счастливый обладатель может аккуратно задвинуть их один под другой по принципу матрешки. Столики Альберса вы и сегодня можете купить в дизайнерском магазине МоМА.
Альберс был не единственным учеником Баухауса, ставшим мастером. И не единственным мастером, которому удалось создать коммерчески успешный продукт, пользующийся спросом и поныне. Марсель Брейер (1902–1981), молодой венгерский дизайнер, следом за Альберсом успел пройти путь от ученика до мастера, когда в 1925 году Гропиус поставил его во главе мебельного цеха. Однажды, когда Брейер ехал на велосипеде на работу, он взглянул на руль, и его осенило. Можно ли найти другое применение полой стальной трубке, в ручки которой он вцепился? В конце концов, это современный материал, относительно недорогой и доступный для массового производства. В нем определенно есть потенциал, и почему бы не использовать его… скажем, для изготовления стула?
С помощью местного сантехника и после пары пробных образцов Брейер создал свой «Стул ВЗ» (ил. 18): каркас из хромированных стальных трубок, изогнутых под прямым углом, сиденья, подлокотники и спинка – из полосок парусины. Брейер считал его своей «самой экстремальной работой… наименее художественной, наиболее логичной, наименее домашней и наиболее механистической» и ожидал, что критики разнесут его в пух и прах. Его опасения не подтвердились. Стул сразу оценили по достоинству, отметив тот утонченный современный стиль, который и сегодня принят в конференц-залах и офисах всего земного шара. Одним из первых, кто похвалил Брейера за новаторство, был его коллега Василий Кандинский. В благодарность за добрые слова Брейер назвал свой стул «Василий».
Ил. 18. Марсель Брейер. «Стул ВЗ/Василий» (1925)
Жизнь Баухауса вроде бы вернулась в привычное русло, когда в нее снова вторглись внешние события. В 1923 году Германия объявила дефолт по военным репарациям. Французские и бельгийские войска вошли в страну, последовала гиперинфляция, началась массовая безработица. Обедневшая и униженная Германия взяла крен вправо. Финансирование Баухауса было урезано; Гропиуса предупредили о прекращении его контракта и политической поддержки; художники и интеллигенция всего мира с трудом могли поверить в происходящее. Но к тому времени, как начало действовать спешно созданное «Общество друзей Баухауса» (его членами были Арнольд Шёнберг и Альберт Эйнштейн), Баухаус в Веймаре уже дышал на ладан.
И тут фортуна вдруг повернулась лицом и к Баухаусу, и к Германии. Американцы пошли навстречу германскому правительству, предоставив финансовую помощь, чтобы страна могла встать на ноги. Безработица пошла на убыль, деловая активность заметно возросла. Вернулась уверенность, и промышленные центры по всей стране вновь бросились к Гропиусу, предлагая открыть Баухаус у них. Города и городишки мечтали оживить свои предприятия, привлечь новые производства, но для этого нужно было продемонстрировать, что у них есть готовый высококвалифицированный персонал и современное жилье. Архитектурная практика Баухауса и Вальтера Гропиуса могла предоставить и то и другое. В 1925 году преподаватели и студенты самой известной в мире школы дизайна обосновались в городе Дессау, чуть к северу от Веймара.
Ил. 19. Вальтер Гропиус. Баухаус, Дессау (1926)
К их приезду Вальтер Гропиус спроектировал одно из самых знаковых произведений модернистской архитектуры: настоящий Баухаус. Комплекс, включавший в себя мастерские, студенческие общежития, театр, общую зону и дома преподавателей, был открыт в декабре 1926 года (ил. 19). Наконец-то воплотилась мечта Гропиуса. Это был поистине Gesamtkunstwerk – произведение «синтетического искусства», созданное сотрудниками и студентами школы. Фурнитура, мебель, таблички, указатели, настенные росписи и здания были частью единого гармоничного образа. Главный учебный корпус сверкал огромным прямоугольным остекленным фасадом – эдаким грандиозным прозрачным занавесом, зажатым двумя тонкими горизонталями из белого бетона: одна служила цоколем, другая была плосковерхим фронтоном. С птичьего полета учебный комплекс напоминал картину Мондриана: асимметричную решетку из вертикальных и горизонтальных линий, сбалансированную композицией из прямоугольников.
Дома для преподавателей стояли в леске неподалеку от нового Баухауса. Всего их было четыре: один – персональная резиденция Гропиуса, а каждый из трех остальных подразделялся на шесть секций. Все они обладали единой стилистикой – конечно же безоговорочно модернистской. Гропиус оформил их по тем же прямолинейным принципам «Де Стиль», которые воплотил Геррит Ритвельд в доме Шрёдер. Разве что обошелся без раскраски плоскостей в основные цвета. Плоские вертикальные стены преподавательских домов оштукатурены и окрашены в чисто белый цвет. В эти строгие стены врезаны прямоугольные и квадратные окна с цельными стеклами без переплета – дабы дополнительно подчеркнуть резкость линий.
Этот агрессивный геометризм дополнительно усиливают плоские крыши и нависающие бетонные козырьки, которые упираются в кривые стволы деревьев и их бесформенные лиственные и хвойные кроны. Есть что-то пуритански-жесткое в домах мастеров Баухауса: они суровы и бескомпромиссны, как механический агрегат. В менее талантливых руках они могли бы легко превратиться в брутальные чудовища, зловещие и холодные, как бездушные бетонные коробки, десятилетиями возводившиеся во имя модернизма. Но Гропиус был слишком чувствителен к линии, форме и равновесию, чтобы попасть в такую ловушку. При взгляде на его комплекс преподавательских домов нам видна их естественная красота (правда, дом Гропиуса был разрушен во время войны); впрочем, Кандинскому ее оказалось мало, и он расписал свой дом изнутри.
Гропиус подал в отставку в 1928 году чтобы продолжить свою архитектурную карьеру в Берлине. Возникший с его уходом идейный вакуум сразу же заполнила разделяемая многими студентами радикальная идеология коммунистической направленности. Финансировавших школу политиков из Дессау такой оборот совсем не устраивал. Они попросили Гропиуса помочь найти нового директора, достаточно известного и авторитетного, чтобы навести в школе порядок. Гропиус предложил Людвига Миса ван дер Роэ (1886–1969), авангардного немецкого архитектора, с которым работал у Петера Беренса в 1908 году.
Мис ван дер Роэ предложение принял и в 1930 году стал директором. Его международная репутация ведущего практика современной архитектуры получила очередное подтверждение, когда на Всемирной выставке в Барселоне 1929 года был открыт спроектированный им павильон Германии, явивший собой архитектурный синтез всех направлений абстрактного искусства.
Большая плоская низкая крыша нависает над одноэтажным павильоном, похожим на космический корабль; снизу она белоснежная и ровная, как стена в художественной галерее. Под ней Мис ван дер Роэ выложил решетчатую структуру в стиле Мондриана, используя материалы, которые пришлись бы по душе Татлину. Стальной каркас поддерживают отдельно стоящие прямоугольники из стекла, оникса и мрамора, дробящие, но не разделяющие общий объем. Наоборот, их произвольное размещение создает свободную планировку, словно приглашающую полюбоваться и экстерьером, и интерьером, тщательно спланированным Мисом ван дер Роэ. Архитектор словно показывает новый, менее агрессивный образ Германии: передовой, открытой, предприимчивой, рациональной и элегантной республики.
Архитектора предупредили, что немецкое руководство намерено принять в его павильоне короля и королеву Испании во время открытия выставки. Раз такое дело, подумал Мис ван дер Роэ, надо бы сочинить какие-нибудь особенные кресла для высоких гостей, и, вооружившись карандашом и бумагой, сел за работу. В результате получилась конструкция, напоминающая шезлонг, зафиксированный в вертикальном положении. Сбоку видны лишь две полосы из хромированной стали, пересекающиеся в виде буквы «X». Более длинная из них – та, что служит передней ножкой кресла – продолжается вверх мягким полукруглым изгибом, формирующим спинку. Более короткая задняя ножка слегка S-образно изгибается, а затем переходит в консольную раму сиденья. Простой, элегантный дизайн довершали две кожаные подушки кремового цвета: сиденье и спинка.
В итоге король с королевой предпочли не садиться в кресло «Барселона», как и на его одноименную спутницу-табурет-ку, – чего нельзя сказать про миллионы других землян. Ни один манхэттенский лофт или дизайнерское архитектурное бюро не обходится без знаменитой «двойки» «Барселона» от Миса ван дер Роэ. То, что он идеально подходил на роль руководителя Баухауса, не вызывает никаких сомнений. Как и то, что не в его силах оказалось предотвратить кончину школы. У Гропиуса хватало врагов, но не было врага сильнее и отвратительнее, чем Адольф Гитлер. Несостоявшийся художник и автор книги «Майн Кампф» ненавидел модернизм и интеллигенцию. И это означало, что он люто ненавидел Баухаус. В 1933 году, укрепившись во власти, он вынудил закрыться крупнейший в мировой истории колледж искусств и дизайна. А чтобы никто не смел забыть о том, как страстно он ненавидит это учреждение и всех, кто был с ним связан, бесноватый фюрер спустя четыре года, в 1937-м, устроил выставку Entartete Kunst («Дегенеративное искусство»).
Гитлер приказал своим приспешникам обшарить все музеи страны и изъять произведения современного искусства, созданные после 1910 года. Работы Пауля Клее, Василия Кандинского, Лионеля Фейнингера и Эрнста Людвига Кирхнера (и многих других) были развешаны в хаотичном беспорядке и сопровождались глумливыми текстами, призывающими публику от души посмеяться над «дегенератами». Трудно сказать, понимали ли посетители выставки, к чему все это, но художники-то понимали прекрасно.
Новая война становилась неизбежностью. В Первую мировую художники либо шли в армию добровольцами, либо возвращались на родину. На этот раз многие не выбрали ни того, ни другого. Они массово устремились в страну, где строились красивые города в духе модернизма, – страну, которой они со временем помогут стать центром современного искусства. Вальтер Гропиус, Мис ван дер Роэ, Василий Кандинский, Ласло Мохой-Надь, Йозеф Альберс, Марсель Брейер, Лионель Фейнингер, Пит Мондриан и многие, многие другие отправились на Запад – в страну свободных людей, в Америку.
Глава 13 Дадаизм: анархия рулит, 1916-1923
У Маурицио Каттелана (род. 1960) большой нос. Не сочтите за грубость, ничего личного, просто это первое, что бросается в глаза при встрече с ним: так сказать, его визитная карточка. Но поскольку Маурицио высокий и стройный, итальянец и симпатяга, его солидный румпель тоже выглядит привлекательно: милый и вполне подходит человеку, профессионально занимающемуся комическим и абсурдным.
Каттелан – художник. Его «фишка», принесшая ему признание критиков и коммерческий успех, – беззлобные визуальные приколы с оттенком грусти, что придает им более глубокий смысл. Он – Чарли Чаплин современного искусства: его клоунада обнажает суровые реальности жизни.
Я встретился с ним несколько лет назад, чтобы обсудить его возможное участие в уикенде перформанса, который я помогал организовать в галерее Тейт Модерн. Он предложил свое творение Jolly Rotten Punk\ или Панки для краткости. Панки оказался миниатюрной сквернословящей марионеткой в шотландском
Доел. «Веселый тухлый панк» (англ.).
килте – мини-клоном Джона Лайдона (также известного под псевдонимом Джонни Роттен), солиста культовой панк-рок группы 1970-х Sex Pistols. Кукольник, прятавшийся в огромном рюкзаке за спиной у Панки, руководил действиями маленького паршивца.
По замыслу Каттелана, Панки должен был приставать к посетителям галереи, как водится, осыпая их потоками брани. Ну, знаете, чтобы встряхнуть клиента, вырвать из уютной самоуспокоенности. Идея показалась мне забавной, но я подумал – не лучше ли кукле ходить по улице у входа в галерею и «приветствовать» посетителей? «Нет», – твердо сказал художник. Я был озадачен. «Почему же?» – спросил я. «Потому что Панки не работает вне музейного контекста, – объяснил Каттелан. – Это уже будет не искусство». В этот момент он, должно быть, перехватил мой скептический взгляд.
Он сказал, что все его работы сделаны в расчете на атмосферу музея или художественной галереи; иначе не будет того эффекта. И напомнил La Nona Ora («Девятый час») (1999), один из своих шедевров, который представляет собой выполненную в натуральную величину восковую фигуру Папы Римского Иоанна Павла II, прижатого к полу упавшим метеоритом и отчаянно вцепившегося в свой посох с распятием в поисках физической и духовной поддержки. Комичная скульптура: жестокая и до смешного глупая, как мультик «Том и Джерри». Но название работы показывает ее скрытый смысл. Девятый час – традиционная служба в христианской церкви (около 3 часов пополудни), отсылающая нас к Библии. В Евангелии от Марка (15:34) так говорится о крестной смерти Христа: «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?» Поверженный Папа Каттелана, видимо, задается тем же мучительным вопросом.
Эпатажность этой работы и ее медийная популярность проистекают из того, что она классифицируется как искусство: это скульптура. Если бы такой же объект, из того же материала, присутствовал как бутафория в кино или в витрине магазина, мало кто захотел бы взглянуть на него еще раз. Но поскольку La Nona Ora выставили в арт-галерее как произведение искусства, некто заплатил в 2006 году за подбитого Папу аж 3 миллиона фунтов и тысячи газетных колонок наперебой обсуждали художественную ценность инсталляции. Что, конечно, смешно и нелепо. И вызывает острую полемику вокруг искусства Каттелана. Итальянец, можно сказать, спекулирует на высоком статусе музеев современного искусства и галерей, которым их наделило общество.
Что ж, это его право как художника. Галереи для художника – как театр для драматурга и актеров: особая среда, внутри нее публика готова отказаться от привычного скепсиса и позволяет говорить и показывать вещи, которые в любом другом контексте были бы признаны неприемлемыми или остались без внимания. Что ставит сегодняшних художников в привилегированное положение: им доверяют, а доверие, как и во всех сферах жизни, открывает возможность для злоупотреблений. И нам, зрителям, стремящимся принять современное искусство, приходится постоянно оставаться начеку, ведь нас могут бессовестным образом облапошить.
В La Nona Ora Каттелан обыгрывает веру в Бога и в то, что Папа к Нему ближе, чем прочие, – как когда-то Иисус. Но вместе с тем он задается вопросом о вере людей в искусство, удивляясь тому, что оно стало формой религии в светском обществе, и ставит под сомнение нашу новообретенную веру. Его метеорит одним ударом крушит и старую, и новую веру.
Каттелан высмеивает мир, в котором хулиганит, и тех, кто ему за это щедро платит. Как его марионетка Панки и панк-движение в целом, его мятежные, дерзкие и провокационные работы воздействуют на публику, лишь когда представлены в декорациях истеблишмента. Что делает итальянца современным наследником дадаизма – художественного направления начала XX века, основанного группой немецкоговорящих анархистов-интеллектуалов, стремившихся не подразнить художественный мир, а уничтожить его.
Первых дадаистов переполняла ярость, вызванная отвратительной бойней Первой мировой войны. Их переполняли сарказм и презрение к виновнику этого варварства: правящему классу с его приверженностью к благоразумию, логике, нормам и правилам. Дадаизм предложил альтернативу – безрассудную, алогичную и беззаконную.
Ничто не предвещало грозы, когда во время Первой мировой Хуго Балль (1886–1927), молодой немецкий писатель, отказался идти в армию по идейным соображениям и бежал в нейтральную Швейцарию, в Цюрих. Обосновавшись на чужбине, театрал и пианист Балль открыл арт-клуб для «независимых мужчин, противников войны и национализма», где те могли бы «жить ради своих идеалов». Он арендовал маленькую комнату на заднем дворе таверны, стоявшей по странному стечению обстоятельств на той же самой улочке Цюриха, где жил и вынашивал планы создания совсем другого клуба Владимир Ленин.
Балль назвал свое предприятие именем Вольтера, писателя – сатирика эпохи Просвещения, чье слово идейно подготовило Французскую революцию. В феврале 1916 года Балль опубликовал следующее заявление:
«Кабаре Вольтер». Под этим именем объединилась группа молодых художников и писателей, дабы создать точку культурного притяжения. Мы намерены приглашать в кабаре гостей для проведения музыкальных выступлений и литературных чтений. Здесь рады молодым художникам Цюриха, независимо от их творческих пристрастий, равно как их предложениям и участию в любой возможной форме.
Наиболее заметной фигурой из тех, кто откликнулся на приглашение Балля, оказался румынский поэт Тристан Тцара (1896–1963) – впечатлительный и сердитый молодой человек с задатками оратора и отчаянным желанием быть услышанным. Тцара выступал в «Кабаре Вольтер» и подружился там с Баллем: классический случай, когда противоположности сходятся. Балль был тихим подстрекателем, Тцара – шумным нигилистом: получилась гремучая смесь. Созданное этой парочкой (не без некоторой помощи общих друзей) анархическое художественное направление в дальнейшем привело к сюрреализму, повлияло на поп-арт, вдохновило битников и панков и заложило основы концептуализма.
Подобно трудным подросткам, эти ребята бросили вызов всему: существующему порядку, обществу, религии, а главное – искусству. Они отрицали и презирали модернистские движения, в том числе и футуризм, из которого сами вышли. Но при всей воинственной риторике дадаисты не добились бы известности и влиятельности, если бы не заняли позицию внутри так поносимой ими художественной среды. Как Маурицио Каттелан настаивает, чтобы его работы выставлялись в галереях, так и дадаистам необходимо было находиться внутри художественного мира, чтобы на них обратили внимание. Эти мятежники знали правила игры.
Тогда, в 1916 году, правила требовали заявить о рождении нового художественного направления манифестом: так делали все. И вот 14 июля 1916 года (день взятия Бастилии) в цюрихском Вааг Холле Хуго Балль зачитал следующее:
– Дада – новая тенденция в искусстве. Хотя бы потому, что до сих пор никто ничего не знал о ней, а завтра все в Цюрихе только об этом и будут говорить. Слово «дада» взято из словаря. Все очень просто. По-французски это «деревянная лошадка», по-немецки – «до свидания», по-румынски и по-русски означает утвердительный ответ… в общем, международное слово. Как достигнуть вечного блаженства? Говорите «дада». Как стать знаменитым? Говорите «дада»… пока кто-нибудь не сойдет с ума [и] не потеряет сознание. Как избавиться от журналистики, червей, от всего хорошего и правильного, от ограниченности, морализаторства, европеизма и немощи? Говорите «дада»!
У Тцара стоял перед глазами пример Филиппо Маринетти, своими пламенными речами привлекающего внимание публики и прессы к футуризму. Итальянец разносил в пух и прах всю историю искусства, неистово восхваляя современные технологии. Стало быть, секрет успеха – побольше страсти и извращения фактов. Тцара избрал мишенью для своих яростных нападок войну, а объектом продвижения – абсурдистские идеи парижского литературного авангарда.
Абсурдизм начался во второй половине XIX века с парижских поэтов-символистов – вначале как антирационализм. Во главе движения встали Поль Верлен, Стефан Малларме и Артюр Рембо – юный рано ушедший гений ратовал за «дезорганизацию всех чувств» ради обретения «подлинного видения». Символисты считали интуицию и образность языка способом открыть миру великую правду жизни.
Следом пришел Альфред Жарри (1873–1907). Еще школьником он придумывал смешные истории про своего толстого учителя математики, месье Эбера. Вместе с двумя одноклассниками он переделал эти истории в комическую кукольную пьесу, которую троица показывала с марионетками. После окончания школы Жарри переехал в Париж, где продолжал совершенствовать свою пьесу. Обладая сатирическим даром и острым умом, Жарри успешно зарабатывал литераторством и на этой почве сошелся с компанией Аполлинера и Пикассо. Тем временем после бесконечных доработок Жарри дописал свою пьесу – теперь она называлась «Король Убю» по имени главного антигероя – обжоры, ничтожества и дурака, задуманного как олицетворение самодовольной парижской буржуазии. Премьера, состоявшаяся в декабре 1896 года, началась с протестов зрителей, а закончилась беспорядками. Первым со сцены прозвучало слово «Merde!»[20]; оценка пьесы большинством зрителей сводилась примерно к нему же. Никто еще не видел ничего подобного. Стремительные диалоги казались оскорбительными, нелепыми, грубыми и зачастую непонятными. Публика разошлась по домам обиженная.
И только несколько не столь зашоренных зрителей восприняли пьесу в полном соответствии с замыслом автора: как авангардный театр. Жарри создал абсурдистскую драму, которая положила начало новому жанру, позже названному театром абсурда. Пьеса «Король Убю» не просто высмеивала французское общество; она горестно констатировала бессмысленность жизни. Приемы Жарри найдут дальнейшее развитие в пьесах Сэмюэля Беккета (прежде всего «В ожидании Годо») и романах Франца Кафки. Но еще раньше драматург вдохновил цюрихских дадаистов.
Тцара со своими агитаторами заявлялся в «Кабаре Вольтер» в чудных костюмах и африканских масках, под аккомпанемент барабанного боя и бренчание Хуго Балля на пианино. Эта орава начинала не в лад вопить на разных языках ругательства в адрес всего мира – и своей публики. Опьяненные смесью нигилизма и страха, они устраивали сумасшедшие представления, сопровождаемые диким шумом и неожиданными выходками.
Впрочем, это была не истерика избалованного ребенка, а праздник непослушания. Взрослые перевернули все с ног на голову; хуже того, они солгали. Обещанная мировыми лидерами стабильность на основе политического сотрудничества, иерархии и устойчивого общественного уклада оказалась миражом, обманом. Дадаисты хотели нового, детского мирового порядка, когда эгоизм простителен, а индивидуальность приветствуется. Дада хоть и выглядело по-дурацки, но на самом деле было самым интеллектуальным движением за всю историю искусства. И, подобно пьесе Жарри, за кажущейся бессмысленностью таился глубокий смысл.
Декламировать три разных стихотворения на разных языках одновременно – на первый взгляд безумие. Но на самом деле акция была исполнена ядовитой антивоенной символики. По мере чтения перед зрителями разворачивались ужасы Вердена, где погибли сотни тысяч людей. Симультанность дадаистов заставляла задуматься о загубленных в бою людях разных национальностей, воюющих по разные стороны фронта, но умирающих одновременно, под жуткий аккомпанемент военной канонады. Как сказал Хуго Балль, «это одновременно буффонада и реквием».
Дадаисты выдвинули новую художественную систему, основанную на случайности. Ее литературным воплощением стали стихи дада. Делались они так: из газетных статей вырезали случайные слова и фразы, насыпали в мешок и хорошенько встряхивали. После этого один за другим доставали фрагменты и выкладывали на лист бумаги в том порядке, в каком они вынулись из мешка. Получалась белиберда – цель и сверхзадача дадаистов. Традиционная поэзия (и романтический статус поэта), утверждали они, – это фикция, упорядоченная структура с понятным смыслом. Между тем жизнь – это череда случайностей, она непредсказуема.
Одним из художников, взявшихся отобразить эту сумятицу в живописи, стал Жан Арп (1886–1966), один из основателей дадаизма. Пожалуй, среди дадаистов первого призыва он был единственным состоявшимся и признанным художником. До того как, подобно Хуго Баллю, сбежать в Цюрих от войны, он состоял в группе Кандинского «Синий всадник». Арп считал, что художнику надо максимально освободиться от какого бы то ни было контроля: только тогда он сможет передать в своих произведениях стихийность природы и противостоять всем поползновениям человека навязать ей свой собственный порядок.
Арпа вдохновили увиденные в Париже коллажи Пикассо и Брака. В соединении обыденного, «низкого» материала с высоким искусством было нечто созвучное дадаизму. Арп сообразил, как превратить papier colle в живопись дада: достаточно изменить способ производства. Вместо того чтобы кропотливо выкладывать «низкий» материал на холст, как это делали Брак и Пикассо, достаточно попросту насыпать кусочки этого материала на полотно, предоставив композицию на усмотрение случаю.
Один из первых коллажей Арпа в такой спонтанной технике – его «Квадраты, размещенные согласно законам вероятности» (1916–1917). Он порвал лист синей бумаги на неровные прямоугольники разных размеров, затем повторил это с бумагой кремового цвета. После чего высыпал клочки на лист картона и наклеил там, где они приземлились. Ну, во всяком случае, так он сам говорил. Хотя, если вы посмотрите на готовую работу, то увидите россыпь прямоугольников и квадратов, которые нигде не соприкасаются, зато образуют подозрительно сбалансированную и приятную глазу композицию. Надо думать, Арп все-таки приложил к ней руку. Или он просто уникально одаренный «сеятель».
Когда война закончилась, Арп отправился в путешествие по Европе, чтобы встретиться со своими старыми друзьями из французского и немецкого авангарда. Попутно познакомился с тогда еще непризнанным художником по имени Курт Швиттерс (1887–1948) и приобщил его к философии дада. Для последнего это стало звездным часом. Прежде Швиттерс работал в фигуративном стиле и особого успеха не имел. А после встречи с Арпом увидел творческий потенциал в том, что остальной мир выбрасывал в мусорное ведро. Зимой 1918–1919 года Швиттерс сделал первый из своих коллажей (известных как ассамбляжи) из случайного хлама.
Если Пикассо и Брак мастерили papier colle из того, что находили в мастерской, то Швиттерс устраивал рейды за материалами по местным помойкам. Трамвайные билеты, пуговицы, проволока, деревяшки, изношенные ботинки, тряпки, окурки и старые газеты – все шло в дело. «Вращение» (1919) – типичное полотно того периода. Эта абстрактная картина сделана из щепок, металлической стружки, обрывков кабеля, клочков кожи и разномастных картонок, выложенных на холсте. Результат получился на удивление элегантный и изысканный, особенно с учетом скудости и случайности выбора материала. На зеленокоричневом фоне художник выложил из мусора пересекающиеся круги, поверх которых начертил две прямые линии, соединяющиеся под острым углом. «Мусорная» композиция обладает геометрической утонченностью конструктивистской живописи.
Барахло с помойки было для Швиттерса таким же стилистическим приемом, как современные строительные материалы – для политически ангажированного Татлина. Швиттерс считал мусор носителем информации, вполне подобающем эпохе. Дело тут не столько в послевоенных перебоях в магазинах художественных принадлежностей – в отличие от никогда не пустующих помоек, мусор у Швиттерса служил метафорой того, что разбито, как Шалтай-Болтай, уже не подлежит ремонту.
Швиттерс сделал сотни подобных коллажей и дал им общее название «Мерц» – вполне в духе дада. Эти буквы – все, что осталось от рекламы банка Commerz und Privatbank на журнальной страничке, вырванной художником для очередного коллажа. Идея Швиттерса была проста: использование мусора – готового объекта, как теперь выражаются, – позволит соединить изящные искусства с реальным миром. Искусство, полагал художник, можно творить из чего угодно, и что угодно может стать искусством. Это он и хотел доказать, когда отошел от своих ассамбляжей – которые, пусть их и не назовешь картинами в традиционном смысле, все-таки можно повесить в рамочке на стенку, – и переключился на конструкции. Или, точнее, на Мерцбау, иными словами, сооружения из мусора.
Ил. 20. Курт Швиттерс. Мерцбау (1933)
Первый Мерцбау (ил. 20) Швиттерс построил у себя дома в Ганновере. Это фантастический гибрид скульптуры, отчасти коллажа и здания. Сегодня его назвали бы инсталляцией, но тогда, в 1923 году, таких терминов еще не знали. Тогда это была пещера-свалка, полная всевозможных остатков и останков, собранных бог знает где и у кого, иногда и без ведома владельцев. Своего рода Gesamtkunstwerk, в котором деревяшки свисали с потолка, как сталактиты в пещере, создавая узкие проходы между парами старых носков и металлическими листами, нарезанными на геометрические фигуры. Швиттерс считал дом кульминацией своего творчества и продолжал строить новые комнаты, добавлять «детали» из выброшенных и похищенных материалов, и так вплоть до середины 1930-х годов, когда ему пришлось бежать от нацистов.
Мерцбау был разрушен во время Второй мировой войны, но наследие его живет по сей день. Будь Швиттерс жив в 2011 году, имей он шанс заскочить на Венецианскую биеннале того года – Олимпиаду современного арт-мира, – он бы воочию убедился в том, что его «мусорные» труды не пошли прахом. По крайней мере три национальных павильона там были выполнены в стиле Мерцбау – инсталляции величиной с дом, построенные из отходов, собранных художниками разных стран как дань уважения эксцентричному немецкому мастеру.
Как мы знаем, Швиттерс не первым додумался превращать ненужный хлам в произведения искусства. Это делали и Брак с Пикассо, и тот же Арп. Но дальше всех продвинулся в этом направлении Марсель Дюшан, когда в 1917 году превратил писсуар в «реди-мейд» скульптуру «Фонтан», даже не попытавшись хоть как-то изменить ее внешний вид или включить в более масштабную композицию (по примеру Швиттерса, Брака, Пикассо и Арпа). То было мощное «да-да!» дада-движению, о существовании которого француз поначалу даже не догадывался.
Когда в 1915 году немецкоговорящий авангард нашел убежище в Цюрихе, Дюшан отправился в противоположную сторону: через Атлантику в Нью-Йорк. Именно там в 1916 году он сидел в своей квартире и обдумывал очередной шахматный ход, когда вдруг его соперник, французский художник Франсис Пикабиа (1879–1953), разразился хохотом. Дюшан поднял глаза и увидел, что вызвало такой приступ веселья у приятеля. Пикабиа протянул ему иностранный художественный журнал, напечатавший приколы и комические воззвания тусовки из «Кабаре Вольтер». Дюшан прочитал и, заговорщически улыбнувшись, вернул журнал Пикабиа. Манифест дада воодушевил этих двух ребят, как пьяниц радует ключ от винного погреба. Оба слыли анархистами и прикольщиками.
Они познакомились в Париже на выставке осенью 1911 года по счастливому стечению обстоятельств. Как позднее заметил Дюшан: «Мы тут же подружились». Подобно Баллю и Тцара, Дюшан с Пикабиа были антиподами: Пикабиа – общительный весельчак, Дюшан – замкнутый интеллектуал. Но и тот и другой увлекались абсурдом, любили шокировать общественное мнение, питали слабость к женщинам и обожали Нью-Йорк.
Идеалы дада оказались созвучны обоим художникам, но в большей степени, пожалуй, Дюшану: он и сам одно время рассуждал как Балль и Тцара. И в своей недавней работе «Три остановки эталона» (1913–1914) строго следовал законам вероятности. Для этого Дюшан выкрасил прямоугольный холст в голубой цвет и положил его на стол. Затем натянул метровой длины белую нитку точно в метре над холстом, строго параллельно ему, а потом выпустил нить из рук и приклеил на холст так, как она легла (очень сходные вещи три года спустя будет делать Арп в своих «Законах вероятности»). Дюшан повторил опыт с ниткой еще дважды. А затем разрезал полотно вдоль каждой из нитей. Получилось три криволинейных «лекала», каждое из которых являло собой оригинальную единицу измерения.
Произведение ехидно обыгрывает французскую метрическую систему. Дюшан поставил под сомнение общепризнанную догму и расхожую мудрость. Важный момент – что у эталона есть одновременно три версии. Существуй он в единственном варианте, можно было бы решить, что художник предлагает новый способ измерения. Но три разные «стандартные длины» делают неприменимой саму систему мер. Как и многие произведения Дюшана, «Три остановки эталона» – это не столько эстетика, сколько идея. Дюшан апеллирует не к глазу, а к сознанию. Свое искусство он определил как «антиретинальное» – то есть бросающее вызов сетчатке. Два года спустя Тцара и Балль предложат то же самое под названием «дада», а будущие поколения станут пользоваться понятием концептуального искусства.
В 1919 году, после четырех лет в Нью-Йорке, Дюшан отправился на полгода в Париж. Он встречался со старыми друзьями, навещал родственников, бродил по улицам города, который некогда был его домом. Во время одной из таких прогулок он случайно наткнулся на дешевую почтовую открытку с репродукцией «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Позже за чашечкой кофе он достал открытку из кармана и подрисовал на загадочном лице Джоконды усы и козлиную бородку. Потом поставил автограф, дату и написал L.H.O.O.Q. на белом поле внизу открытки. Чистое хулиганство, немудрящая забава человека, не чуждого искусству.
Но, как и многие затеи Марселя Дюшана, этот экспромт был не лишен подтекста. Тогда, как и сейчас, «Мону Лизу» почитали как признанный шедевр кисти величайшего гения. Такого безоговорочного благоговения перед искусством и художниками Дюшан не понимал и не принимал, потому и «осквернил святыню». Как истый комик, он умел с помощью легкой шутки емко выразить глубокую мысль: в данном случае о том, что не стоит так уж серьезно относиться к искусству.
Сам он уж точно не относился к искусству всерьез. Буквы L.H.O.O.Q. не имеют смысла, пока не произнесешь их названия по-французски, тогда на слух они прозвучат как: Elle а chaud au cul — «У нее зудит в одном месте». Школьный каламбур – но художнику такие всю жизнь нравились. Но к чему эта растительность на лице? Почему Дюшан превратил Джоконду в мужчину? Может, он намекал на гомосексуализм да Винчи? Или на собственную склонность к трансвестизму? Француз был последовательным разрушителем социальных барьеров, так что одной из мишеней вполне могло оказаться и собственное сексуальное поведение. Например, в 1920 году Дюшан выступил в женском платье под псевдонимом Rrose Selavy (Рроз Селяви), который тоже было каламбуром. При произнесении вслух оно звучит как Eros, c’est la vie («Эрос – это жизнь»).
Дюшан отправился в студию к своему нью-йоркскому другу и соратнику – дадаисту, американскому художнику и фотографу Ману Рэю (1890–1976), чтобы тот сделал снимок Рроз. Ман Рэй радостно сфотографировал Рроз/Дюшана во всем ее/его великолепии. Затем Дюшан вырезал лицо Рроз из фотографии Мана Рэя и вставил ее в другой арт-объект. И снова отправной точкой стал готовый предмет, в данном случае пустой флакон из-под духов «Риго», с которого Дюшан отодрал оригинальную этикетку и заменил ее своей.
В верхней части этикетки Дюшана – лицо Рроз Селяви с фотографии Мана Рэя, обрамленное копной темных волос. Ниже – придуманное Дюшаном фирменное название BELLE HALEINE («благое дыхание»). Под ним изящным курсивом набрано Eau de Voilette (вместо привычного eau de toilette[21]), to есть «вуалетная вода» (иными словами, вуалирующая соблазнительное обещание или тайну – ну скажем, сексуальных пристрастий самого Дюшана). Согласно надписи в самом низу этикетки изготовлен парфюм в Нью-Йорке и Париже – родных городах Рроз и Дюшана.
Belle Haleine (1921) – типичный образец дадаистского антиискусства Дюшана. Здесь нет ничего реального, все обещания – эфемерны. Нет и парфюма в пузырьке. И никакого благого дыхания вы не обретете, даже если ощутите обаяние «вуалетной воды» и ее религиозного подтекста. Дюшан, возможно, намекал на благодать, а то и на благовещение Деве Марии и якобы целебную святую воду, а может, на «таинственную вуаль» искусства. Так или иначе, это ничего не стоящий хлам, пустой флакон с поддельной этикеткой. Его смысл – критика материализма, тщеславия, религии и искусства – по мнению Дюшана, ложных кумиров, невежественной, неумной и трусливой публики.
Маи Рэй сделал фотографию дюшановского флакона, и друзья-художники поместили ее на обложку первого и единственного номера своего журнала «Нью-Йорк дада». Вскоре журнал приказал долго жить (Ман Рэй покинул Нью-Йорк, переехав в Париж), но дадаистский дух Belle Haleine не выветрился. По иронии судьбы, которая вызвала бы у Дюшана улыбку, его произведение приобрел знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, ценитель дорогого парфюма. После смерти модельера в 2008 году большая часть его коллекции была продана, в том числе и флакон Belle Haleine, – аукционный дом Christie's предварительно оценил его в какие-то 2 миллиона долларов. Тут бы Дюшан уже захихикал. И уж точно расхохотался бы, когда удар молотка возвестил о продаже «шедевра» за рекордные 11 489 968 долларов.
Иными словами, несмотря на все успехи дада как международного антиарт-движения с форпостами в Нью-Йорке, Берлине и Париже, своей цели оно так и не добилось. Дело в том, что мы живем в гораздо более алчном обществе, чем то, которое пытались изменить Балль, Тцара, Дюшан и Пикабиа. А сегодняшнее искусство – квинтэссенция этого мира, оно коммер-циализовано как никогда: в XXI веке художники не голодают на чердаках, они стали мультимиллионерами и летают по всему миру, продвигая себя и свои работы на всевозможных биеннале в окружении пресс-секретарей и пиар-агентов. Искусство сегодня – это бизнес. Что, впрочем, не значит, будто больше некому бить в дадаистские барабаны – есть тот же Маурицио Каттелан, например, – но такими художниками движет не яростный протест против братоубийства, а скорее отстраненное любопытство наблюдателя, бодлеровского фланёра.
Для полноценного существования дада необходим конфликт: Тцара бунтовал против буржуазии, Sex Pistols — против затхлости британского истеблишмента. Перестав быть протестным, направление неминуемо становится чем-то иным, менее радикальным, более утонченным. В 1924 году дада переросло в сюрреализм.
Глава 14 Сюрреализм: жизнь есть сон, 1924-1945
Из всех направлений современного искусства сюрреализм кажется нам одним из самых знакомых, так что мы даже чувствуем себя достаточно подкованными по этой части. В самом деле, большинство вспомнит стекающие часы Дали («Постоянство памяти», 1931) или его телефон с трубкой-лобстером («Телефон-омар», 1936). Или черно-белые фотографии Мана Рэя с двойным экспонированием, призрачные и сексуальные. Сюрреализм – это точка перехода между сном и явью. Искаженные метафоры и нелепые сочетания, странные хэппенинги и экстравагантные выходки, зловещая атмосфера и таинственные видения – да, конечно, мы знаем о сюрреализме.
Дело в том, что дух этого направления (в отличие от всех остальных) остался неизменен. Поколения художников, писателей, режиссеров и комедиографов подхватили знамя Дали и Мана Рэя. Мы не называем сегодняшнего кинорежиссера конструктивистом или писателя – импрессионистом. Мы не обсуждаем, что за художник перед нами – кубист или фовист. Но сюрреалиста опознаем и определим сразу. Мы говорим, что Тим Бертон, Дэвид Линч, Дэвид Кроненберг с их поющими марионетками, цветными снами и превращениями человека в муху – режиссеры-сюрреалисты. Черная фантастика Томаса Пинчона, юмор «Монти Пайтон» (чего стоит скетч о возврате мертвого попугая в зоомагазин), даже песни The Beatles («Я – морж») – всюду мы уловим налет сюрреализма.
Ил. 21. Луиза Буржуа. «Мамам» (1999)
Но почему это движение, закончившись практически вместе со Второй мировой войной, сохранило свое место в общественном сознании? Начать с того, что нам хорошо знакомо само слово «сюрреализм». Оно вошло в повседневный лексикон и превратилось в оценочное «сюр». Дети так называют, например, полеты Гомера Симпсона (знаю по собственному опыту). Они имеют в виду некую странность, возникающую при встрече двух кажущихся несовместимыми элементов (в случае Гомера это, например, жевание пончика во время участия в конкурсе красоты). Когда речь заходит об искусстве, «сюром» мы назовем произведение, которое кажется жутковатым, странным или эксцентричным, – ну, вариантов масса. На ум сразу приходят десятиметровая металлическая паучиха Луизы Буржуа («Мамай», 1999) (ил. 21) – ода скульптора своей матери-ткачихе», или покрытый живыми цветами щенок Джеффа Кунса («Щенок», 1992) (ил. 22).
Ил. 22. Джефф Кунс. «Щенок» (1992)
Слово «сюрреализм» придумал французский поэт и любитель всего современного Гийом Аполлинер. И уже в 1917 году употребил дважды: сначала была его пьеса «Сосцы Тиресия» (1917), которую он представил как drame surréaliste[22].
Подзаголовок вполне соответствовал содержанию. Героиня пьесы лишена материнского инстинкта и предпочитает стать солдатом, а не матерью, она заявляет, что у нее уже растут усы и борода, а груди стали съемными. Муж лишь пожимает плечами, говорит, что сам будет рожать детей, и не обманывает, наплодив за день 40 049 младенцев. Вот уж воистину сюрреалистическая драма.
Второй раз Аполлинер упомянул сюрреализм в преамбуле к программке «Парада» – нового балета Сергея Дягилева. Поэт охарактеризовал эту постановку как une sorte de sur-réalisme – «своего рода сюрреализм», то есть «сверхреализм», то, что уже за гранью реализма. Хотя большинство зрителей сочло, что новый балет – «за гранью приличия». Премьера шокировала даже записных парижских театралов, считавших себя людьми широких взглядов. Парижане обожали русского импресарио Дягилева, который в начале XX века стал для балета тем же, чем Харви Вайнштейн – для кинематографа XXI столетия. Знаменитые «Русские сезоны» захватили все ведущие сцены, Дягилев приглашал лучших танцоров (скажем, Вацлава Нижинского), хореографов (в том числе Джорджа Баланчина) и композиторов (Дебюсси и Стравинского). Декорации и костюмы придумывали такие художники, как Матисс и Миро. Все это Дягилев устраивал с максимальным размахом и минимальными затратами.
Но брал он стильностью и энергетикой своих спектаклей, а вовсе не их авангардными сюжетами. Все изменил «Парад», ставший для Дягилева и его парижских друзей поворотным пунктом. Балет был задуман как кубистский: история, увиденная с нескольких точек зрения, охватывающая разные периоды времени. Великий импресарио собрал поистине звездную команду. Либретто сочинил писатель и драматург Жан Кокто, музыку – эксцентричный и блистательный композитор Эрик Сати, а декорации и костюмы разрабатывал близкий друг Аполлинера Пабло Пикассо.
Создатели балета взяли за основу мир цирка – легкого развлекательного жанра, которым все они увлекались. В основе либретто – история трех предприимчивых цирковых антрепренеров, зазывающих зрителей в свои шапито. В одном выступает китайский фокусник, в другом – акробаты и, наконец, в третьем – поющая танцовщица, маленькая американка (вероятно, «списанная» с Мэри Пикфорд).
В самом сюжете ничего необычного не было; экстравагантной казалось музыка Сати с интонациями джаза и регтайма; кроме того, шум гудящих аэропланов и стрекот телеграфной ленты задавали танцорам необычный ритм. Танцевали, правда, не все. К неудовольствию зрителей – которые раскошелились, чтобы увидеть великий русский балет, – некоторые его звезды выступали как жонглеры, акробаты и – стараниями Пикассо – изображали лошадь. Неразбериха, какофония, стремительное действие – все это символизировало жизнь современного города. Но, видимо, не убедило и не впечатлило публику, и к шумовым эффектам, предусмотренным Сати, добавились свист и шиканье зала, хотя некоторые все-таки аплодировали и кричали «браво». Подозреваю, что если бы кто-нибудь из зрителей внимательно прочитал вступительное слово Аполлинера, то сразу понял бы значение слова «сюрреализм».
Несколько лет спустя парижанин Андре Бретон (1896–1966), напористый молодой поэт, ощутил растущее разочарование в поэтике дада, которую когда-то страстно поддерживал. Он чувствовал: дада выдыхается, хотя по-прежнему поддерживал его основную цель – разрушение системы ценностей и стереотипов капиталистического общества. Амбициозный литератор искал новые формы художественного выражения, позволяющие соединить дадаизм и некоторые психоаналитические идеи Зигмунда Фрейда. Особенно Бретона занимало бессознательное, являющее нам себя в снах и так называемом автоматическом письме.
К концу 1923 года Бретон вплотную подошел к созданию нового художественного направления, выросшего из дада, – осталось только подобрать подходящее название. Решив ничего не выдумывать, он обратился к творчеству своего литературного наставника еще с 1916 года – Гийома Аполлинера. Аполлинер, получив на фронте тяжелое ранение в голову, был комиссован из армии и, вернувшись домой, вновь поднял оставленное им когда-то знамя парижского авангарда. С тех пор молодой Бретон регулярно виделся со своим кумиром, пока измотанный войной Аполлинер не умер от «испанки» в 1918 году. И вот в 1924 году, сочиняя манифест для нового направления в искусстве, Бретон перечитал тексты Аполлинера и наткнулся на слово «surrealisme». И тут же понял: название найдено. «В знак уважения к Гийому Аполлинеру, – написал он впоследствии в своем первом манифесте сюрреализма (1924), – я обозначил новый способ чистого выражения… словом «сюрреализм».
Как водится, все началось с яростной атаки на общество. «Левый» Бретон рассчитывал одолеть современную цивилизацию, приведя буржуазный класс в замешательство. Его новая идея состояла в том, чтобы пробиться в подсознание буржуа и обнажить неприглядные тайны, спрятанные там в угоду приличиям. После этого предполагалось поместить «благоразумную» реальность рядом с ее куда более мерзкой (и правдивой, по Бретону) версией, чтобы людям стало не по себе. Такая диверсия – через сюрреалистическую мысль, слово и дело – вызовет массовую дезориентацию. Что, как любил повторять Бретон, просто чудесно.
Он часто цитировал безумную поэму в прозе французского поэта XIX века графа де Лотреамона, «Песни Мальдорора» (1868–1869). Поэма буквально пропитана цинизмом и изобилует абсурдными метафорами типа: «он прекрасен, как… соседство на анатомическом столе швейной машины с зонтиком». Странный образ, но это и манило Бретона. Он хотел внести сумятицу в умы, представив яркие картины безумия как норму Во время Первой мировой войны Бретон служил санитаром в психиатрической больнице, где и заинтересовался извращениями и психозами. Он сам однажды сказал: «Я мог бы потратить всю свою жизнь на то, чтобы проникнуть в тайны сумасшедшего. Эти люди честны в своем пороке». И назвал сюрреализм «новым злом», которое изменит мир.
Мы знаем, что такие художники, как Казимир Малевич, Василий Кандинский и Пит Мондриан, уже исследовали роль бессознательного в искусстве. Но если они надеялись своими абстрактными картинами пробудить подсознательную грезу об утопии, то сюрреализм Бретона обрушивается на нас своими шокирующими словами и образами, изобличая испорченность человеческой души.
Если дадаисты утверждали, что никаких предшественников у них нет, то Бретон находил склонность к сюрреализму у многих великих умов прошлого. Новое движение он намеревался начать так же, как и дадаисты, – с литературы. Для чего включил в линейку сюрреалистов громкие имена: Данте (за его «Божественную комедию», эпическую поэму о загробной жизни) и Шекспира (полагаю, за тему фей и эльфов в комедии «Сон в летнюю ночь»). Заполучив этих двух корифеев, Бретон перешел к более современным литературным звездам, зачислив в свою когорту поэтов-символистов Малларме, Бодлера и Рембо, которых назвал протосюрреалистами, наряду с англичанином Льюисом Кэрроллом, создателем «поэзии абсурда», и американцем Эдгаром Алланом По с его тревожно-зловещими новеллами.
Так же бесцеремонно Бретон обошелся и с художниками, записав в сюрреалисты Марселя Дюшана и Пабло Пикассо, хотя ни тот, ни другой такого желания не высказывали. Правда, поддерживали детище Бретона – Пикассо поначалу активнее, чем Дюшан. Уже через год после того, как молодой французский поэт основал свое движение, Пикассо написал картину «Три танцора» (1925) (ил. 23) и разрешил Бретону опубликовать репродукцию в его сюрреалистическом трактате о живописи. Поэт уже включил примитивистский мистицизм «Авиньонских девиц» Пикассо в свой канон сюрреализма и обрадовался возможности добавить туда еще один мрачный шедевр испанца.
Ил. 23. Пабло Пикассо. «Три танцора» (1925)
Броская полуабстрактная картина изображает трех человек: возможно, двух мужчин и женщину, – сказать с уверенностью нельзя. Пикассо собрал этих развинченных гибких персонажей из двумерных геометрических фигур в духе той примитивистско-кубистской манеры, в которой он написал проституток в «Авиньонских девицах». Танцоры – написанные блоками розовых, коричневых и белых тонов, – держась за руки, резвятся в танце в комнате с высоким потолком, перед стеклянной балконной дверью. За дверью – погожий день с безоблачным голубым небом. Казалось бы, они радуются. Но это не так. Их танец – это пляска смерти.
Пикассо погрузился в мир танца в 1917 году, когда создавал декорации и костюмы для балета «Парад». Тогда же, во время работы над балетом, он встретился со своей будущей женой Ольгой Хохловой, русской балериной из дягилевской труппы. Но к весне 1925 года страсть Пикассо к балету улетучилась, как и интерес к Ольге. Пара постоянно ругалась, и Пикассо хотел уйти. И без того тревожное состояние души усугубилось, когда художник узнал о внезапной смерти Рамона Пишо, своего близкого друга еще со времен Барселоны.
Пикассо был глубоко подавлен. Именно в таком эмоциональном состоянии он и писал «Трех танцоров» – картину, которую, по его собственному признанию, следовало бы назвать «Смерть Пишо». «Три танцора», как и шедевр Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» (1934), обнажает отчаяние и трагедию, скрывающуюся под внешним благополучием беззаботных, красивых и талантливых молодых людей. Через танец Пикассо рассказывает печальную историю неразделенной любви – отголосок личных переживаний самого художника.
Еще в 1900 году, когда Пикассо только искал себя в искусстве, он отправился в Париж с Карлосом Касагемасом, другом-художником из Барселоны. Как-то вечером они вышли прогуляться с веселыми девицами, рассчитывая вкусить греховных радостей. Но Касагемас страстно влюбился в свою спутницу, роковую женщину по имени Жермена. Она не ответила взаимностью, оставив Касагемаса в расстроенных чувствах. Чтобы отвлечь друга от любовных переживаний, Пикассо повез его в Малагу, проветриться. Но Касагемас твердо решил вернуться в
Париж. В 1901 году он так и сделал, и однажды отправился на ужин с компанией друзей, среди которых была и Жермена. Как только все расселись в ресторане, Касагемас встал из-за стола. Он вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в бессердечную Жермену. Но промахнулся. Он снова выстрелил, на этот раз в другую мишень, которую поразил с невероятной точностью прямо в голову: Касагемас умер практически мгновенно от собственного выстрела. Жермена осталась невозмутима; Пикассо, когда услышал новость, впал в отчаяние. Такое, что оно, как говорят, привело художника к «голубому периоду» (1901–1904), в течение которого он написал несколько картин с изображением недавно умершего Касагемаса. И вот четверть века спустя смерть Пишо, еще одного близкого друга, пробудила в памяти Пикассо ужасные воспоминания о том роковом ужине.
Дело в том, что Пишо женился на Жермене. Его решение в свое время огорчило Пикассо, и об этом он тоже вспомнил, работая над «Тремя танцорами». Картину вполне можно истолковать как историю обреченного любовного треугольника. Бело-шоколадно-коричневый танцор в правой части картины – это Рамон Пишо; его призрачно-черная, как у египетской мумии, голова доминирует над туловищем. Слева – Жермена, безумная и изломанная. Она – порочная нимфоманка, истаскавшая и изломавшая свое тело, так что оно стало отталкивающим. Посередине вытянулась фигура Карлоса Касагемаса. Он распят и умирает под палящими лучами солнца, розовое тело теряет кровь и постепенно белеет.
Неизвестно, верно ли такое прочтение картины (Пикассо имел привычку говорить уклончиво, обсуждая свои работы), но мы точно знаем, что Андре Бретон ее очень любил. И вы сами можете догадаться почему: в ней явственно проступают сюрреалистические штрихи – взять хотя бы изображение Жермены. Но картина все-таки слишком буквальная, чтобы считаться по-настоящему сюрреалистической. Для этого лучше обратиться к другому испанскому художнику, который приехал в Париж из Барселоны и сразу привлек внимание Бретона: в июле 1925 года тот написал хвалебную статью у себя в журнале «Сюрреалистическая революция».
Хуан Миро (1893–1983) впервые побывал в Париже в 1920 году когда посетил фестиваль дада и навестил Пикассо в его мастерской. На следующий год он вернулся и снял студию. К 1923 году когда Бретон готовился объявить о создании нового движения, Миро уже стал признанным участником парижского авангарда. И вот в ноябре 1925 года, на первой выставке сюрреалистов в галерее Пьера в Париже, его работа уже висела рядом с картинами земляка, Пабло Пикассо. Звезда Хуана Миро взошла.
Картина «Карнавал Арлекина» (1924–1925) (репр. 20) стала самой обсуждаемой на выставке и помогла молодому художнику сделать себе имя. В ней присутствуют многие элементы, характерные для живописи Миро. Есть биоморфные формы, волнистые линии, много черного, красного, зеленого и синего – все, что ассоциируется с детской наивностью. Бретон сказал о Миро, что тот «самый сюрреалистический из нас всех». Взглянув на «Карнавал Арлекина», с этим трудно не согласиться.
Картина выглядит скоплением ползающих существ, музыкальных нот, случайных форм, рыб, животных, среди которых иногда проступает немигающий глаз. Все это зависает в воздухе, как будто комнату заполнили самыми странными воздушными шарами со всего света. Происходит некое празднество, возможно, масленичный карнавал, когда каждый стремится набить брюхо перед Великим постом. Пресловутый Арлекин изображен в виде мяча с усами чуть левее центра картины: половина круглого лица синяя, половина красная. Вытянутая белая шея переходит в плотное гитарообразное туловище, украшенное гаерскими ромбиками.
«Карнавал Арлекина» явно написан человеком, который думает по-другому, не как все. Или вообще не думает. Бретон описывал сюрреализм как «психический автоматизм в чистом виде», подразумевая полную спонтанность, свободу от любых осознанных ассоциаций, предубеждений или намерений. Суть в том, чтобы взять бумагу и карандаш и начать записывать или рисовать первое, что пришло на ум, ни с того ни с сего. Причем в идеале – в состоянии транса, когда сознание отключено и можно заглянуть в глубины подсознания, чтобы раскрыть темную и опасную правду о том, что мозг переполнен грезами о сексуальных извращениях и кровожадными желаниями.
Что в некоторой степени объясняет отсутствие очевидной структуры в картине Миро: он, наверное, и не задумывался о ней. Композицию картины определяют случайные фигуры, проникшие на холст с задворков рассудка, превращая «Карнавал Арлекина» в некую визуализацию подсознательного. Попытаемся его расшифровать. Возьмем, к примеру, большой зеленый шар справа. Он может означать мир, который Миро решил завоевать. Лестница с глазом и ухом как бы намекает на страх художника быть «застуканным» и в то же время символизирует практическую возможность побега. Черный треугольник в окне напоминает Эйфелеву башню – эмблему города-мечты Миро. А насекомые, цвета и формы наводят на мысль об испанских корнях художника. Что до музыкальных нот – ну какой же праздник без музыки?
Обосновавшись в студии на Монмартре, Миро оказался близким соседом немецкого художника Макса Эрнста (1891–1976), ставшего одним из столпов сюрреализма. Эрнст вырос в маленьком городке в Германии под жесткой опекой строгого отца, тяготившей любознательного и строптивого мальчишку. Скучая в провинции, молодой Макс находился в постоянном поиске идей и приключений. Спасение пришло вместе с книгой Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» – школьник накинулся на нее, как голодный на хлеб.
Вскоре после этого он познакомился и завязал дружбу с художником Жаном Арпом. После войны их дружба стала только крепче, так что Эрнсту досталась ведущая роль в набирающем обороты дадаистском движении Арпа. Вскоре немец подружился с Тристаном Тцара и Андре Бретоном; они восхищались его работами и стилем, который хорошо просматривается в картине «Слон Целебес» (1921). Название картины происходит от грубого немецкого стишка о том, что слон с острова Целебес (прежнее название индонезийского острова Сулавеси) – «липкая, желтая жирная задница», а слон с соседней Суматры «постоянно трахает свою бабушку».
Все пространство холста занимает серый слон-цилиндр, напоминающий старомодный бойлер или промышленный пылесос. Вместо хвоста у него два бивня, а вместо хобота – шланг, заканчивающийся рогами и дамским белым кружевным воротничком. Голову слона венчает шляпа из синих, красных и зеленых металлических пластин геометрической формы, с одной из них смотрит всевидящий глаз. Своими механическими и физическими характеристиками животное напоминает военный танк; ассоциацию подкрепляет фон, смахивающий на аэродром, а клубы дыма наводят на мысль о сбитом самолете. Правда, сам я никогда не бывал на аэродроме, над которым в небе плавают две рыбины. И где на переднем плане стоит голый обезглавленный женский торс с произрастающим из шеи разветвленным металлическим столбом. Безголовая фигура подносит правую руку к хоботу слона и сексуально его поглаживает.
Странная картина. Однако Бретон нашел ее выдающейся. В 1921 году, когда Эрнст создал «Слона Целебеса», Бретон все еще оттачивал идеологию будущего художественного направления. Тем не менее он уже многое успел осмыслить и оценил, как Эрнст сумел объединить несовместимые объекты и антураж, написав будоражащую картину во фрейдистском духе. Бретону вообще нравилось всякое случайное смешение объектов, он даже придумал для своих друзей игру, в ходе которой возникали абсурдные сочетания фраз. Суть состояла в следующем: первый игрок писал в верхней части листа прозаическую строку, а потом загибал бумагу, чтобы не было видно написанное. Лист переходил в руки игрока номер два, тот писал свою строчку и, проделав аналогичную манипуляцию, отдавал лист следующему И так далее, пока лист не оказывался исписан полностью. Наконец бумагу разворачивали, и разрозненные строчки зачитывали как цельное произведение. Затем следовал серьезный анализ полученного текста, сопровождаемый легким хихиканьем и внезапными озарениями, раскрывающими истинную натуру каждого из игроков. Сюрреалисты назвали игру «Изысканный труп», после того как однажды первая строчка оказалась такая: «Изысканный труп будет пить молодое вино».
Эрнст разработал собственный способ создания «автоматического искусства» – фроттаж. Это техника позволяет перевести текстуру материала – деревянной доски, коры, рыбьей чешуи и т. п. – на положенную сверху бумагу, растирая ее грифелем или карандашом. Затем Эрнст вглядывался в полученный результат и вскоре начинал различать в нем «странности». Уже через несколько минут пристального созерцания сложных и непонятных форм начинались аберрации зрения, и тогда воображению Эрнста являлись доисторические существа или схематические, состоящие из палочек дикари. В картине «Лес и голубь» (1927) фроттаж позволил художнику изобразить зловещий лес вроде того, куда отправились Гензель и Гретель. В центре картины – зажатая со всех сторон безжалостными деревьями клетка с голубем. Это детское воспоминание Эрнста: художник запечатлел собственный повторяющийся кошмарный сон, когда со всех сторон обступают страшные, мрачные существа. Изначально ничего такого он рисовать не собирался, образ пришел сам в результате разглядывания очередного фроттажа.
В то время как Эрнст и Миро искали «автоматические» образы, Сальвадор Дали (1904–1989) решил задать сюрреализму иной вектор. Забудьте эпатаж, карикатурные усы, подчеркнутый меркантилизм и все прочее, чем испанский художник делал себе имя и разрушал репутацию. Вглядитесь лучше в его работы – они говорят сами за себя.
В понимании Дали задача сюрреализма состояла в том, чтобы «найти в хаосе систему и таким образом окончательно дискредитировать мир реальности» с помощью «пейзажей сна». Чтобы увидеть их, он не пользовался техникой спонтанных ассоциаций Миро и Эрнста, а вводил себя в транс, чтобы достичь состояния «критической паранойи» и получить «фотографии сна, раскрашенные вручную». Он полагал, что чем более реалистичной будет эта иная реальность, тем сильнее она выбьет зрителя из колеи. Андре Бретон был фанатом Дали (пока они не разругались). Оба следовали заповеди Фрейда о «высшей реальности снов», утверждая, что только сюжеты сновидений могут открыть высшую правду о человеческой жизни.
При всей их сегодняшней затасканности картины Дали – мощные, запоминающиеся и технически безупречные. Взять хотя бы наиболее известную, «Постоянство памяти» (1931); Дали писал ее в течение двух лет после вступления в ряды сюрреалистов. Многие из нас знают эту картину по репродукциям, но они сослужили плохую службу оригиналу, который на самом деле довольно маленький (24 х 33 см) и очень яркий. Если смотреть на картину вблизи, мы увидим сложное, мастерски выписанное изображение, по технике соединения красок не уступающее ренессансным полотнам.
Кроме того, при виде ее зритель поневоле испытывает непонятную тревогу. Поначалу он видит обычный средиземноморский пейзаж, изображение скалистого северо-восточного побережья Испании, неподалеку от дома художника. Но темная тень наползает на берег, распространяя свое грозное присутствие, словно вирус смерти. Все, что она накрывает собой, увядает и распадается. Некогда прочные карманные часы стекают, аморфные, как расплавленный сыр. Это конец времени, конец жизни. Армия черных муравьев кишит на трупе другого хронометра, а третий облепил собой гротескное медузообразное существо. Это сам Дали. Или по крайней мере нечто похожее на профиль художника. Оно тоже окутано удушливой тенью смерти, обмякшее, безжизненное и отвратительное, с внутренностями, сочащимися из ноздрей.
«Постоянство памяти» – картина о половом бессилии (великий страх Дали), беспощадности времени и унизительности смерти. Дали написал картину в декорациях узнаваемого рая на земле в попытке испортить нам удовольствие от посещения таких мест, навечно впечатав омерзительный образ в наше сознание. Она не красива, но она умна. Как и ее создатель.
У Рене Магритта (1898–1967) подход оказался несколько иной. Магритт настолько же традиционен, насколько эксцентричен Дали, но, возможно, его мир еще более странен – в своей повседневной обыденности, где заурядное необычайно – причем в зловещем смысле. У Магритта сосед – серийный убийца, а милые детки, прогуливающие школу, на самом деле злостные преступники, которые травят свою учительницу ртутью. У этого бельгийского художника все совсем не так, как кажется; атмосфера его картин всегда пронизана жуткими предзнаменованиями, от которых перехватывает дыхание. На их фоне фильмы Дэвида Линча выглядят невинными шалостями. Магритт был князем паранойи, королем ужаса.
Он доказал это в самом начале своей сюрреалистической карьеры, когда написал «Убийцу под угрозой» (1927) (ил. 24) – картину, исполненную жути в духе какого-нибудь скандинавского триллера. Магритт заставляет нас смотреть прямо через две смежные комнаты в незастекленный балконный проем, за которым открывается вид на далекие горные вершины. Комнаты скудно обставлены, с серыми стенами и голыми половицами. На переднем плане двое мужчин в котелках, притаившиеся по обе стороны двери, ведущей в соседнюю комнату. Мужчины похожи на бухгалтеров, но на самом деле они головорезы и готовят нападение, – судя по тому, что вооружены рыбацкой сетью и дубинкой. В комнате щеголеватый молодой человек в строгом костюме непринужденно стоит перед граммофоном и с интересом заглядывает в его трубу. Справа от него – коричневый кожаный чемодан, шляпа и пальто: похоже, он собирается уходить. Он выглядит счастливым и умиротворенным. Между тем за его спиной на кровати лежит труп обнаженной молодой женщины, только что убитой. Кровь сочится из ее рта; горло перерезано. С улицы через балкон заглядывают трое мужчин с аккуратными стрижками. Они стоят рядком, видны только их головы, напоминающие растения в балконном ящике.
Ил. 24. Рене Магритт. «Убийца под угрозой» (1927)
Загадочная картина – местами банальная, местами тревожная и пугающая. На первый взгляд она выглядит реалистично, но чем дольше вы на нее смотрите, тем более театральной она делается, уходя все дальше за пределы реализма, sur-realisme, как выразился бы Аполлинер. Магритт когда-то работал в рекламе и все знал о том, как зрительные образы проникают в сознание. Он усвоил, что эффективная реклама строится на реалистическом изображении мечты. Повседневность и греза – это инструменты рекламщика, а в руках художника они оказываются мощными метафорами «магического реализма». Магритт говорит нам: жизнь – иллюзия; все – обман, включая кажущуюся нормальность вашего соседа.
Вдохновение он черпал из поп-культуры: кино, плакатов, журналов и бульварного чтива. И, как большинство сюрреалистов, из работ итальянского художника Джорджо де Кирико (1888–1978), создававшего свои диковинные, совершенно сюрреалистические картины, когда Андре Бретон еще в школу ходил. Поскольку слова «сюрреалистический» в ту пору не существовало, он называл свои странные картины «метафизическими». И, пожалуй, нет у де Кирико более «метафизической» картины, чем «Песня о любви» (1914). Каменная голова от греческой статуи свисает с гигантской бетонной стены, которая граничит с изящными арками итальянского монастыря. Рядом с головой к стене приколота огромная красная резиновая перчатка – кнопкой, точно не к бетону, а пробковой доске объявлений. Перед стеной – непонятный зеленый шар; за ним – силуэт паровоза на фоне чистого голубого неба. Де Кирико вставляет элементы из различных времен и мест (фрагмент искусства классической древности, медицинская перчатка из современной жизни, картины ночи и дня, образцы новой и старой архитектуры) и сводит их вместе в одном месте и в одно время, изменяя смыслы и взаимоотношения, создавая непривычные ассоциации.
За причудливой игрой фантазии де Кирико в «сочетании несочетаемого» таятся глубочайшее одиночество и тревога. Стилизованные изображения, нелогичная перспектива, резкие тени вызывают ощущение жути, которое усугубляется полным отсутствием людей. В то же время многое указывает на человеческое существование – мяч и поезд предполагают некие недавние события, но вокруг никого нет: место безлюдно. Небо ярко-голубое, но в воздухе явственно висит угроза.
Напряженная атмосфера этой картины напоминает мне работы американского художника-реалиста Эдварда Хоппера (1882–1967). Он тоже умел вовлечь зрителя в мир надвигающегося мрака и обреченности, изображая одинокие и беззащитные фигуры в пустых и заброшенных пространствах. Он даже Нью-Йорк – город, который никогда не спит, – представил городом-призраком в своей знаменитой картине «Полуночники» (1942), – на ней изображены ночные посетители закусочной, погруженные в собственные мысли. Сквозь большой стеклянный фасад мы видим три разбитые и подавленные души: это окно в их внутренний ад. Молодой бармен с жалостью смотрит на них, понимая, что не в силах помочь своим несчастным клиентам.
Перед нами вневременной образ неистребимого страха, таящегося в подсознании каждого из нас, страха, который мы всю жизнь пытаемся заглушить и пересилить. За дружелюбной и беспечной застольной болтовней каждый из нас прячет одиночество и ранимость; но эта правда настигает нас, когда мы оказываемся одни, наедине с собственным ужасом. Хоппер в своих картинах сумел объективировать эти страшные мысли. Сюрреализмом он заинтересовался в 1936 году после посещения выставки «Фантастическое искусство, дада и сюрреализм» в МоМА. В экспозиции были представлены работы другого американского художника, который, как и Хоппер, мастерски манипулировал световыми эффектами для создания странных образов, – художника, почитаемого от Манхэттена до Монмартра.
Ман Рэй переехал в Париж 22 июля 1921 года и оставался там до 1940 года. Именно в это время он решил сосредоточить свою творческую энергию на фотографии, заявив: «Я наконец освободился от посредства липкой краски и теперь работаю непосредственно со светом». От краски он, может, и отказался, но не утратил восприимчивости живописца, которую с успехом использовал для работы уже при посредстве фотографической техники.
Он постоянно экспериментировал с фотографическим процессом в попытке получить изображения, не уступающие живописи по яркости и выразительности. Упорные поиски живописного потенциала фотографии привели Рэя к созданию техники, которую он назвал «рэйографией». Это было нечто вроде фотограммы (фотографии, полученной без камеры), которую он открыл, когда случайно уронил лист непроявленной фотобумаги в лоток с проявителем, где уже лежал проявленный снимок. Он обнаружил, что если поместить физический объект на фотобумагу (например, ключ, карандаш, да что угодно) и на мгновение включить свет, то на бумаге остается негативное изображение объекта, призрачно-бледная тень, словно фотография сна. Вскоре он уже делал рэйографии с пюпитрами («Без названия», 1927), сигаретами и спичками («Без названия», 1923), раскрытыми ножницами («Без названия», 1927), превращая все эти предметы в бестелесные сущности. Ман Рэй называл свой метод создания подобных квазирентгеновских изображений «живописью светом».
Андре Бретон был очарован призрачными рэйографиями и объявил их великими произведениями сюрреалистического искусства. И повторил это позже, когда Ман Рэй открыл еще одну инновационную фотографическую технику. Как-то в 1929 году Ман Рэй работал у себя в мастерской вместе со своей ассистенткой и любовницей, американским фотографом Ли Миллер (1907–1977), когда открыл «соляризацию». Миллер нечаянно включила в темной комнате свет, когда фотографии еще находились в проявке. Ман Рэй заорал, погасил свет и опустил свои негативы в фиксаж в надежде спасти снимки.
Ему не повезло. Негативы были испорчены. Но, как он быстро понял, испорчены высокохудожественно. На каждом негативе объект – обнаженная модель – начал «подтаивать» по краям, как мороженое на солнце. Это было открытием: Ман Рэй понял, как изобразить реальность, переходящую в грезу. Рассмотрим его «Примат материи над мыслью» (1929) (ил. 25). Здесь и название, и изображение – классика сюрреализма. Большую часть фотографии занимает обычная композиция «ню»: модель лежит на полу студии, закрыв глаза, как будто спит, положив одну руку за голову, а другой прикрывая грудь. Ее левая нога вытянута; правая согнута в колене и слегка приподнята. Это – «примат материи». Но контуры ее тела и головы размыты с помощью «соляризации». Это уже «мысль», внутри которой физическое присутствие модели превращается в лужу расплавленного серебра. Бретон отмечал странную чувственность таких изображений, их сексуальный подтекст и неземную музыкальность.
Ил. 25. Ман Рэй. «Примат материи над мыслью» (1929)
«Примат материи над мыслью» воплощает многое из того, что занимало сюрреалистов: секс, сны и страхи. Эти темы так или иначе пронизывают всю историю современного искусства, от «Олимпии» Мане до «Убийцы под угрозой» Магритта. Но вам не кажется, что тут чего-то не хватает?
Ведь мы на пороге 1930 года, когда современное искусство, как мы знаем, уже отшагало полстолетия своего мятежного пути. Мы побывали в Европе; заглянули в Африку, Азию и на Восток, познакомились с архитектурой, дизайном и философией. Отгремела мировая война, Америка уже начала становиться сверхдержавой искусства. Мы встретились с множеством поэтов, коллекционеров и художников всех мастей. Мы видели, как у каждого поколения рождались все более радикальные, авантюрные и анархические, чем у предшественников, идеи. Мы коснулись политики, стали свидетелями социальных волнений. На нас обрушивался поток манифестов, зазывающих во всевозможные арт-тусовки. И все же, несмотря на всю риторику о создании новых утопических обществ и крушении старых элит, кое-чего мы так и не услышали.
А именно – где женщины-художницы?
Если бы вы были художницей в период с 1850-й по 1930 год, вас, может, и терпели бы, но уж славы вам вряд ли досталось бы. Среди импрессионистов были признанные и уважаемые художницы, такие как Берта Моризо и Мэри Кассат (1844–1926). А русские футуристы и конструктивисты могли похвастать такими исключительными талантами, как Соня Делоне, Любовь Попова, Александра Экстер и Наталья Гончарова. Но дело в том, что эти женщины были исключением, а не правилом.
Все направления современного искусства были основаны мужчинами, они же и доминировали, что, в сущности, отражало ситуацию в обществе. 19-я поправка к Конституции, наделившая женщин по всей Америке правом голоса, была принята только в 1920 году. В Великобритании женщинам пришлось ждать до 1928-го – только тогда им было предоставлено избирательное право. А во Франции и того дольше – до 1944 года. Это был мужской мир. Но разве не было в нем пионеров-художников и движений, которые бросали вызов обществу и его устоям? Со временем, конечно, ситуация с женским участием в искусстве изменилась к лучшему Слегка. Но и по сей день на белых стенах и девственно чистых полах музеев экспонируются произведения искусства, большинство из которых создано мужчинами. И не случайно руководят этими художественными учреждениями, как правило, тоже мужчины. Три кита мирового современного искусства – МоМА, Центр Помпиду и Галерея Тейт – никогда не жили под руководством директора-женщины. Ни разу за всю свою историю.
Почему я заговорил об этом? Да просто, пока я работал над книгой, мне не раз приходила в голову мысль: в числе главных авторитетов современного искусства женщин-художников нет (полагаю, вас эта мысль посещала тоже). Все дело в том, что «официальный канон» современного искусства – музеи и их коллекции, научные статьи историков искусства (в основном мужчин), университетские курсы по современному искусству – определяется истеблишментом. А значит, истеблишмент несет ответственность и за установление одномерного взгляда на мир: жизнь и искусство глазами белого мужчины-европейца. Тогда, в 1936 году, проблема мало кого волновала. Одним из этих немногих был ниспровергатель основ Марсель Дюшан.
В конце 1942 года он попросил Пегги Гуггенхайм – богатую американскую галеристку, коллекционировавшую современное искусство и понемножку меценатствовавшую, – организовать выставку в ее новой галерее «Искусство этого века» в Нью-Йорке. Дюшан выступил с неожиданным предложением: почему бы не сделать экспозицию исключительно женских работ? Сегодня такую идею сочли бы прогрессивной, но тогда это казалось почти святотатством – и потому идея отлично подходила Пегги. Ее галерея попала бы в центр внимания, но никто не посмел бы критиковать хозяйку, потому что идея принадлежала Дюшану – художнику, давно уже возведенному манхэттенскими художественными авторитетами в ранг божества.
«Выставка 31 женщины» открылась в начале 1943 года, и одна из представленных работ с тех пор считается иконой сюрреализма. «Объект» («Завтрак в меху»), сделанный в 1936 году швейцарской художницей Мерет Оппенгейм (1913–1985), представляет собой обтянутые мехом чайную чашку, блюдце и ложку Мерет было всего двадцать два, когда она создала «Объект», а вдохновил ее на это Пабло Пикассо, обронив случайную фразу за столиком парижского кафе. Он сделал комплимент молодой художнице по поводу ее шубы и игриво заметил, что многие штучки ему нравятся гораздо больше, когда на них мех. Оппенгейм откликнулась вопросом: «Даже эта чашка с блюдцем?»
Несмотря на молодость, Оппенгейм стала любимицей парижского авангарда. Она была ассистенткой у Ман Рэя, выполняя работу, традиционно требующую «ню» (если не больше), если помощник – молодая красивая женщина. Она послушно исполняла свои обязанности – и свидетельством тому незабываемая серия сюрреалистических фотографий Ман Рэя «Завуалированная эротика» (1933), в которой Оппенгейм позирует обнаженной, с рукой, по локоть вымазанной чернилами, у печатного пресса: одновременно соблазнительная и отталкивающая. Андре Бретон и его сюрреалистическая тусовка не заморачивались проблемой равных возможностей; роль молодой женщины в искусстве для них сводилась к одному: быть музой. По-мальчишески красивая Оппенгейм была совершенной инженю, как будто из другого мира, и, по мнению мужчин-сюрреалистов, это обеспечивало ей прямой доступ к подсознанию. Никто из них не ожидал, что такое юное существо – и вдобавок женского пола! – сможет создать композицию, столь мощную по своему воздействию.
Сексуальный подтекст «Завтрака в меху» очевиден: пить из мохнатой чашки – откровенно сексуальный намек на оральный секс. Но дерзкой шуткой дело не ограничивается. Образ меховых чашки и ложки появляется в первой же главе любой книги о всяческих кошмарах, в которых все попытки самоконтроля разрушаются чередой зловещих событий. В нашем случае чашка и ложка обрастают волосами – и из объектов удовольствия превращаются в нечто агрессивное, неприятное, даже омерзительное. Читаются здесь и отголоски обывательского чувства вины за потраченное на болтовню в кафе время и за истребление прекрасных животных (на изготовление «Объекта» пошла шкурка китайской газели). Но, помимо всего прочего, «Завтрак в меху» – это еще и кофейная пара, порождающая безумие. Два несовместимых материала соединились в странном сосуде. Мех приятен на ощупь, но противен, когда представишь, что его надо взять в рот. Вы хотите пить из чашки и есть ложечкой – для этого они, собственно, и предназначены, – но мех вам отвратителен. Этот замкнутый круг способен довести до безумия.
Оппенгейм была не единственной возмутительницей спокойствия сюрреалистов. Фрида Кало (1907–1954), не по годам развитая мексиканская интеллектуалка, прилежно изучала медицину, пока однажды осенью 1925 года, возвращаясь из колледжа на автобусе, не попала в страшную аварию – автобус столкнулся с трамваем. Спасатели посчитали тяжелораненую Кало мертвой, но ее уцелевший спутник, Алехандро Гомес Ариас, уговорил их отвезти девушку в больницу. Много месяцев Кало провела на больничной койке, пока медленно срастались страшные переломы – позвоночника, ребер, ключицы, грудной клетки и ног. Именно тогда она решила стать художницей, а не врачом, и вскоре начала рисовать то, что станет главной темой ее живописи: самое себя.
Андре Бретон назвал ее сюрреалистом, но сама Фрида так не считала. «Я никогда не рисую сны или кошмары, я рисую собственную реальность», – сказала она однажды. Тем не менее Кало разрешила показать свои работы на выставке сюрреалистов и даже сочинила пьесу для этого шоу. Но будем справедливы к Бретону – хотя он, как известно, готов был записать в свою сюрреалистическую семью любого, кто вызывал у него интерес (с согласия кандидата или без такового), – но, глядя на живопись Фриды Кало, понимаешь, что двигало французом, когда он приписал неистовую мексиканскую художницу к сюрреалистам.
В картине «Сон» (1940) (репр.21) мы видим мирно спящую Фриду; кажется, вокруг нее – словно плющ вокруг дерева – растет куст. Ветки куста усыпаны шипами, и это метафора постоянных болей, от которых художница страдала после автокатастрофы. Другая фигура, изображенная на картине, делает тему боли еще более явной. Призрак-скелет спит над ней, словно на двухъярусной кровати, сжимая в руке букет цветов, – возможно, со своей могилы. К его ногам и телу привязаны шашки динамита. Кровать плывет по небу: смерть витает в воздухе.
Символизм Кало свидетельствует о значимости народного искусства в ее творчестве. Гордая мексиканка выросла во времена, когда великие герои революции – Панчо Вилья и Эмилиано Сапата – сражались за обновление страны. Куст, изображенный во «Сне», это tripa de Judas («кишки Иуды»), распространенное в Мексике растение. Фигура над героиней – тоже Иуда, списанный с выполненных в натуральную величину из папье-маше и обвязанных петардами кукол, которые мексиканцы взрывают во время пасхальных праздников. И то и другое – аллегорическое напоминание о самоубийстве Иуды, когда «кишки его выпали наружу»[23]. В живописи мексиканская традиция взрывать куклу Иуды – метафора избавления страны от коррупции. Одновременно это картина о предательстве.
Пока Фрида спала в одиночестве и боли, ее муж, известный мексиканский художник-монументалист Диего Ривера (1886–1957), кутил по-холостяцки и спал с другими женщинами. Ривера был на двадцать лет старше Фриды, с душой огромной, как его эпические фрески. Отец Фриды назвал этот союз «браком между слоном и голубкой». Отношения оказались бурными, с бесконечными изменами с обеих сторон – Фрида тоже не отставала, крутила романы, в том числе и с обосновавшимся в Мексике Львом Троцким. Ее даже подозревали в причастности к убийству Троцкого в 1940 году, как, впрочем, и Риверу (с которым она развелась в 1939-м – впрочем, только затем, чтобы через год снова выйти за него замуж).
Кало стала первым мексиканским художником XX века, чью работу приобрел Лувр. Это был «Автопортрет “Рама”» (1937–1938). Дюшан поспешил поздравить Фриду с успехом. Марсель ей очень нравился, в отличие от прочих сюрреалистов, и Фрида со свойственной ей прямотой говорила про Дюшана, что «он единственный, кто дружит с головой из всего этого сброда чокнутых сукиных сынов-сюрреалистов».
Участие Дюшана в организации женской выставки – одна из причин, по которой Кало приняла приглашение, ну и отчасти она согласилась на это из женской солидарности. Сегодня Фриду Кало считают художницей-феминисткой, своими автобиографическими картинами не только проторившей дорогу Луизе Буржуа и Трейси Эмин, но и предвосхитившей феминистский лозунг 1960-х годов «Личное есть политическое». При всем том не далее как в 1990 году Фрида Кало – художница, признанная всем миром еще при жизни, – не удостоилась персональной статьи в оксфордском «Путеводителе по искусству». Она упомянута лишь в последнем предложении биографии Диего Риверы. Думаю, мы с вами догадываемся, в каких словах она отозвалась бы о редакторах издания.
Подруга Кало, британский сюрреалист Леонора Каррингтон (1917–2011), даже такого упоминания в «Путеводителе» не удостоилась – та самая Леонора Каррингтон, которую Сальвадор Дали называл «самой значимой женщиной-художницей». Ко времени «Выставки 31 одной женщины» Леонора переехала в Мексику, где и познакомилась с Фридой Кало. История Каррингтон по сложности и драматизму почти не уступает истории Кало. Когда Леоноре было двадцать лет, она уехала из Англии в
Париж вслед за художником-сюрреалистом Максом Эрнстом, которого встретила на вечеринке в Лондоне. Эрнст, старше ее на двадцать шесть лет, был женат. Но для экстравагантной и богемной Каррингтон это обстоятельство роли не играло. Она нашла своего мужчину и позже говорила: «Макс дал мне образование». Он представил ее парижским сюрреалистам, которые обожали его музу, femme-enfantx. Но Каррингтон почувствовала себя слишком outree[24] [25], чтобы стать игрушкой. Когда властный Миро протянул ей мелочь и послал за сигаретами, она прожгла его взглядом и заявила испанцу, что тот и сам прекрасно может сбегать.
Как и Оппенгейм, свою первую значительную сюрреалистическую работу – «Автопортрет: Постоялый двор лошади Утренняя Заря» (ок. 1937–1938; принадлежит нью-йоркскому музею Метрополитен) – Леонора написала, когда ей было чуть за двадцать. Безучастно сидящая на стуле Каррингтон выглядит как поп-певица 1980-х: растрепанные волосы, мужской костюм наездника. Самка гиены – зеркальное отражение героини, ее всклокоченная шерсть напоминает шевелюру художницы. Аналогия ясна: в своих снах Леонора превращается в ночного охотника. Окно, обрамленное театральным занавесом, позволяет зрителю увидеть белую лошадь, галопом скачущую через лес. Движениями и цветом лошадь в окне перекликается с белой деревянной лошадкой, замершей в прыжке над головой Каррингтон. Это сюрреалистическая смесь реального увлечения художницы лошадьми и ее странных грез с отголосками прочитанных в юности кельтских сказаний. Леонора отдала картину Эрнсту, который вскоре, в 1939-м, когда началась война, был арестован как подданный вражеской державы. Максу удалось бежать, и он добрался до дома под Авиньоном, где они жили с Леонорой. Но ее там не оказалось, она совсем обезумела после его ареста – нервный срыв привел ее в Испанию, где женщина заточила себя в лечебнице для душевнобольных.
Тем временем Эрнст отправился в Марсель, приютивший немало художников: в городе остановились Андре Бретон и многие другие из славной компании сюрреалистов. Где-то поблизости была и Пегги Гуггенхайм: она собиралась возвращаться в Америку после путешествия по Франции и готовилась к отъезду. Любвеобильная Пегги, встретив в Марселе одинокого и несчастного художника, воспылала к нему страстью. Макс ответил взаимностью, Пегги помогла ему перебраться в Америку, где они и поженились в 1942-м.
Но вечного союза, на который надеялась Пегги, не случилось. И виной тому отчасти стала ее же «Выставка 31 женщины». Позже она с горечью признавалась, что участниц оказалось на одну больше, чем нужно. Однако Макс Эрнст так не считал. Он пришел на открытие, и увиденное ему, конечно, понравилось, но не так сильно, как одна из участниц: он безнадежно влюбился. Пленила его темноволосая американская сюрреалистка Доротея Таннинг (1910–2012). Они поженились в 1946 году, устроив совместную церемонию бракосочетания с Ман Рэем и его новой избранницей Джульетт Браунер: отличный сюрреалистический междусобойчик.
Пегги была расстроена, но вскоре отдалась другому увлечению. Европейские сюрреалисты и дадаисты объединились в Америке с выходцами из Баухауса, «Де Стиль» и русского конструктивизма.
Эти художники, бежавшие от войны, интеллектуалы и искатели приключений, сумели вписаться в американский авангард. Нью-Йорк был просто обречен стать новым центром мирового современного искусства, а Пегги Гуггенхайм – его главной вдохновительницей.
Глава 15 Абстрактный экспрессионизм: широкий жест, 1943-1970
Пегги Гуггенхайм была женщиной страстной, и страстей в ее жизни было три: деньги, мужчины и современное искусство. Любовь к деньгам перешла к ней по наследству вместе с солидным отцовским состоянием (папаша был крупным промышленником и погиб на «Титанике»). Ненасытность в любви появилась позднее, в списке ее любовников были сотни, если не тысячи имен. Когда у Пегги как-то поинтересовались, сколько у нее было мужей, она уточнила: «своих или чужих?» Ну а что касается любви к современному искусству, то ею Пегги обязана пытливому уму и страсти к приключениям: сочетание, побудившее ее в двадцать два года покинуть консервативный Нью-Йорк и перебраться в богемный Париж.
Там Пегги Гуггенхайм познакомилась с авангардистами: работы этих мужчин, их стиль жизни – и их тела – она просто обожала. Спустя несколько лет Пегги переехала в Лондон и начала инвестировать доставшиеся ей по наследству деньги в современные произведения искусства, английские и французские. В этом Пегги быстро преуспела, но к арт-рынку и собственной небольшой художественной галерее скоро охладела: ее стремление быть в центре внимания и властвовать осталось неудовлетворенным. Пегги Гуггенхайм хотела, чтобы ее воспринимали всерьез. У нее родилась другая идея: что, если создать музей современного искусства в Лондоне, чтобы соперничать с Музеем современного искусства в Нью-Йорке МоМА, пользовавшимся колоссальным успехом со дня открытия в ноябре 1929-го, – то есть на тот момент добрый десяток лет?
Из своей штаб-квартиры в британской столице Пегги обратилась за помощью к Марселю Дюшану и британскому историку искусств Герберту Риду (последнего она назначила директором будущего музея). Им предстояло составить список произведений, которые лягут в основу коллекции. Но только она приступила к осуществлению проекта, как Гитлер спутал ей все карты – Европа снова была охвачена войной. И даже амбициозная и решительная мисс Гуггенхайм – женщина, привыкшая добиваться своего, – поняла: не стоит начинать строительство империи в стране, которая пребывает в состоянии войны и занята спасением собственных владений. Пегги покинула Лондон, а ее мечте о музее современного искусства суждено было оставаться мечтой еще шестьдесят один год (в начале нового тысячелетия мечта все-таки стала реальностью, и имя этой реальности – Тейт Модерн). После столь сокрушительной неудачи многие, наверное, признали бы поражение и поспешили взять обратный билет первого класса в Нью-Йорк. Многие – но не Пегги.
Она направилась в Европу через Париж, пока нацистский смерч двигался на восток. По прибытии в колыбель современного искусства, вооружившись чековой книжкой, Пегги начала скрупулезно прорабатывать список произведений, составленный Дюшаном и Ридом. «Ни дня без покупки» – таков был ее девиз, ее мантра. То, что творилось в те дни на арт-рынке, изрядно напоминало опустошение супермаркетов перед закрытием. Большинство парижских художников и арт-дилеров либо готовились к отъезду, либо закрывали свои магазины и были более чем счастливы продать товар богатой американке (кроме Пикассо, который резко отчитал мисс Гуггенхайм и выставил из своей студии). В число удачных покупок Пегги попали кубофутуристическая картина Фернана Леже «Люди в городе» (1919) и элегантная, похожая на торпеду скульптура Константина Бранкузи «Птица в космосе» (1932–1940). Считать ли этот покупательский бум проявлением беспринципности, стремлением заработать на чужом несчастье или смелой авантюрой по спасению от нацистов лучших образцов современного европейского искусства – вопрос спорный. Как бы то ни было, в 1941 году Пегги вернулась в Нью-Йорк с огромной коллекцией первоклассных вещей – в том числе произведений Брака, Мондриана и Дали, – которая обошлась ей меньше чем в 40 тысяч долларов.
Обустроившись на Манхэттене, Пегги Гуггенхайм решила вместо большого музея открыть на 57-й улице галерею современного искусства, которую она назвала «Искусство этого века». Здесь Пегги собиралась продемонстрировать свой великолепный улов наряду с новыми работами, предложенными для продажи ее европейскими друзьями-художниками (многие из них бежали от войны – кто-то и с ее помощью – и нашли приют на Манхэттене). Проектировать интерьеры галереи поручили модному австрийскому архитектору, который отнесся к этому заданию как к возможности создать собственное сюрреалистическое произведение искусства. Изогнутые деревянные стены, пульсирующая темнота, синие полотнища парусов, картины, которые возникают, если нажать на кнопку, звук приближающегося экспресса – все это было частью замысла Кислера. Пегги пришла в восторг: тематический парк эффектно сочетался с художественной галереей.
Ее восторги разделяли интеллигенция и художественное сообщество Манхэттена. Художники emigres[26] из Европы, в том числе многие сюрреалисты, с удовольствием приходили в галерею, где могли расслабиться и встретиться с новым поколением американских художников, входивших в модную манхэттенскую группу (ее со временем стали называть Нью-Йоркской школой). Принадлежавшие к ней пытливые молодые ребята отчаянно искали новые способы выражения. Выразить они хотели странную смесь надежды и тревоги, вызванную Великой депрессией, Второй мировой войной и растущими амбициями Америки, претендующей на роль сверхдержавы. Именно в галерее Пегги встретились два мира искусства, Европы и Америки, и пробежала та искра, из которой разгорелось пламя – новое движение в современном искусстве.
«Девушка из богатой семьи» не просто угощала молодых художников дорогим вином и изысканными закусками – она сделала для создания нового художественного движения неизмеримо больше. Ее высокое положение в обществе, богатство и обширные связи помогали привлекать лучшие умы в созданный Пегги бизнес. И ни у кого не было более острого ума и более наметанного глаза, чем у Марселя Дюшана – он уже вернулся в Америку и успел помочь мисс Гуггенхайм с организацией «женской» выставки. Теперь Пегги понадобились его знания и опыт для следующего шоу, Весеннего салона молодых художников, который призван был поддержать новые американские таланты. Наряду с Дюшаном членами влиятельного отборочного комитета стали Пит Мондриан (тоже осевший в Нью-Йорке) и Альфред Барр, первый директор МоМА.
Накануне открытия выставки Пегги пришла в галерею посмотреть, как идет подготовка. К ее ужасу, многие картины все еще лежали на полу или стояли вдоль стен в ожидании развески. Она огляделась по сторонам и увидела, как Пит Мондриан, съежившись в углу, пристально разглядывает одну из картин. Пегги подошла к авторитетному голландцу, опустилась на колени рядом с ним и проследила за его взглядом. Объектом его пристального внимания было большое полотно под названием «Стенографическая фигура» (ок. 1942) работы неизвестного молодого американского художника.
Пегги покачала головой. «Ужасно, не правда ли?» – сказала она, испытывая неловкость от того, что такая безнадежная картина прошла через отборочный фильтр. Если выставить такое позорище, это погубит ее репутацию в мире искусства, заставив всех усомниться в ее здравомыслии. Мондриан продолжал изучать полотно. Пегги позволила себе раскритиковать технику автора, заметив, что картине не хватает порядка и структуры. «Разве это можно сравнить с тем, как пишешь ты?» – польстила она Мондриану, надеясь отвлечь его внимание от кричаще пестрого месива. Голландец медленно поднял голову и посмотрел на встревоженную Пегги. «Это самая интересная работа из всего, что я видел до сих пор у американцев», – сказал он. Заметив смятение в ее глазах, он вернулся к роли художественного консультанта и добавил: «Тебе стоит присмотреться к этому парню».
Пегги была поражена. Но она умела слушать и знала, чьим советам стоит следовать. Позже, когда все экспонаты заняли свои места и частный просмотр был в самом разгаре, многие видели, как она, отлавливая в толпе лучших клиентов, заботливо подхватывала то одного, то другого под руку и шептала на ухо, что хочет показать им кое-что «очень, очень интересное». После чего подводила к «Стенографической фигуре» и объясняла с энтузиазмом евангельского проповедника, насколько это глубокая и интересная картина, подчеркивая, что ее автор – будущее американского искусства.
Она, спасибо Мондриану, оказалась права. «Стенографическая фигура» Джексона Поллока (1912–1956) – это не абстрактная работа, нет в ней ничего и от знаменитой «капельной живописи», которую он впоследствии будет развивать и сделает своим фирменным стилем. Картина многим обязана Пикассо, Матиссу и Миро – трем европейским художникам, которых Поллок ценил выше всех.
На полотне угадываются две тощие, как спагетти, фигуры, сидящие за столиком друг против друга. Они ведут жаркий спор, бурно жестикулируя своими красно-коричневыми руками, которые рубят красные края столешницы и голубой фон холста. То, как Поллок наклонил стол к зрителю и вытянул фигуры, выдает влияние Пикассо. Почтение к Миро американец передал каракулями (стенографическими) и случайными формами, разбросанными по холсту. Они копируют автоматизм Миро – его сюрреалистическую технику изображения потока сознания. Присутствие Матисса ощущается в яркой фовистской палитре.
Вскоре Пегги уже подписала контракт с Поллоком и выплачивала ему ежемесячную стипендию – 150 долларов. Немного, но достаточно для того, чтобы молодой художник отказался от своей постоянной работы – как выяснилось, в Нью-Йоркском музее беспредметной живописи ее дяди Соломона, заведении, со временем сменившем название на более броское: «Музей Гуггенхайма». Поллок по натуре не принадлежал к типичным музейным служащим: он разрывался между работой и искусством, а являться куда-то к девяти утра было для него сущей мукой. И все же время в Музее беспредметной живописи было потрачено не зря. Он подробно изучил абстрактные картины Василия Кандинского, благо у Соломона Гуггенхайма таковых имелась целая коллекция. Поллок разделял любовь Кандинского к природе, мифологии и примитивизму. Но Кандинский был холодным, спокойным интеллектуалом – а Поллок, дитя природы, отличался неустойчивой психикой и часто оказывался не в состоянии контролировать свои чувства. Его эмоциональный мотор, слишком мощный для одного человека, закипал в считанные минуты и взрывался; эти вспышки он пытался гасить алкоголем.
Алкоголь, конечно, лишь усугублял ситуацию, но так уж получилось, что именно он помог Джексону Поллоку обрести свой голос в живописи. Алкогольная зависимость настолько обострилась, что в 26 лет Поллок был вынужден обратиться за помощью. Он встретил психиатра, работавшего по методу Юнга (когда терапевт пытается привести сознание пациента в гармонию с коллективным бессознательным, исходя из того, что существуют универсальные, но неосознаваемые чувства, общие для всех нас, которые могут проявляться как образы, обычно всплывающие в снах).
Сеансы не помогли Поллоку излечиться от пьянства, но они фантастически повлияли на его искусство. Он вступил в мир фрейдистских (сюрреалистических) представлений о бессознательном как идей о том, что в бессознательном стоит искать «внутреннее я», которое, с точки зрения Юнга, есть общий ресурс всех людей, а не заданный набор мыслей и чувств одного конкретного человека. Что ж, для Поллока это была хорошая новость: он чувствовал себя гораздо комфортнее, изображая универсальную правду, чем создавая интроспективные образы автобиографического свойства. Темы его работ начали меняться от задумчивых пейзажей Америки к мифическим, архаическим мотивам, навеянным искусством американских индейцев. Он начал экспериментировать с автоматизмом, спонтанно изображая все, что приходило в голову, нанося краски на холст в гораздо более свободной и выразительной манере.
В нем проснулся интерес к масштабным работам; его вдохновителем был мексиканский муралист Диего Ривера (как вы помните, муж Фриды Кало), которого уже наперебой приглашали американские города для создания гигантских, во всю стену, фресок. В Америке такая настенная живопись вошла в моду, и все больше штатов хотели иметь собственные высокохудожественные образцы уличного дизайна. Поллок нашел работу через проект президента Рузвельта по содействию художникам – программу «возвращения к жизни» после Великой депрессии – и участвовал в создании настенных росписей. Тогда он и пришел к выводу, что размер все-таки имеет значение. Словом, когда в 1943 году Пегги заказала ему панно для своего нью-йоркского таунхауса, Поллок уже был опытным муралистом.
Первоначальный замысел предполагал роспись прямо по внутренней стене дома, но Пегги передумала, прислушавшись к Дюшану, который, сказал, что панно на холсте будет легче перемещать. Поллок, с восторгом принявший заказ, понятия не имел, что ему изобразить. У него случился творческий кризис. Месяц проходил за месяцем, а он лишь таращился на гигантское шестиметровое чистое полотно и ждал вдохновения. Ждал, ждал и ждал. Минуло полгода, но на холсте не появилось ни мазка краски. У Пегги лопнуло терпение, и она сказала Поллоку, что картина должна быть написана сейчас или никогда. Поллок выбрал первое. И вот в одну неистовую ночь живописи и страсти он принялся за дело. К следующему дню он закончил картину, и, сам того не сознавая, дал старт новому течению, которое назовут «абстрактным экспрессионизмом».
«Фреска» (1943) обладает многими признаками раннего абстрактного экспрессионизма, который на том этапе был пронизан исключительно грубой физикой, «жестом» нанесения краски на холст. Более спокойный, созерцательный стиль придет позже, но началось все с «живописи действия» Поллока. Она рождалась вулканическим извержением его инстинктивной силы, которая выплескивалась красками и застывала картиной, подобной «Фреске». Она и абстрактна, и экспрессивна. Пенная масса густой белой краски обрушивается на холст волной прибоя. Ее разбавляют яркие желтые пятна, пронизанные небрежно прорисованными, но равномерно расположенными вертикальными черными и зелеными линиями. Нет центрального пятна, привлекающего взгляд: перед нами композиционное решение «сплошного покрытия», превращающее всю картину в красочное поле. Представьте, что сотню сырых яиц бросили в бетонную стену, исписанную граффити, – и вы увидите «Фреску» Поллока.
Впрочем, работа создает ощущение согласованности и ритма, ощущение вдвойне удивительное, если учесть скорость ее исполнения и инстинктивный подход Поллока к живописи. Встроенные пятна белого и желтого разделены как будто на музыкальные такты повторением волнистых черных вертикальных линий, в то время как равномерно распыленная цветовая палитра привносит в композицию равновесие и гармонию. Это не анархия, это импровизация: джазовая, если хотите, которая растянулась на всю ночь и слегка вышла из-под контроля. Размеры композиции усиливают впечатление грандиозности события. В самом деле, это гигантское панно, 2,5 х 6 метров; безумное и подавляющее. Безусловно, это результат огромных физических усилий – как если бы человек вступил в схватку с медведем и повалил его на землю. Поллок всю ночь упорно боролся с этой картиной, пока она наконец не подчинилась его воле.
Он описал картину как «паническое бегство животных Дикого Запада – коров, лошадей, антилоп и буйволов, которые несутся по этой чертовой поверхности». Животные неразличимы, но энергия стада сокрушительна. «Фреска» динамична, как «Крик» Мунка, и экспрессивна, как «Звездная ночь» Ван Гога. Это мятежный крик Поллока из глубины его измученной души. «Дьявольски будоражит, – как заметил о ней Поллок, добавив при этом: – Природа – это я».
Когда Клемент Гринберг, ведущий американский арт-критик того времени, увидел «Фреску» в доме Пегги, он сразу понял, что это шедевр, и впоследствии объявил Поллока величайшим художником в истории Америки. Гринберг разглядел, что молодой живописец впитал идеи сюрреализма, формы Пикассо и даже Эль Греко, американскую пейзажную живопись и свел их вместе в цельной композиции. Но Джексон Поллок сделал больше, чем просто объединил искусство прошлого: своей картиной он заявил о будущем. Поллок полагал, что со станковой живописью покончено, художник должен идти вперед и рисовать прямо на стенах, как Диего Ривера. Работу на гигантском холсте, повешенном на стену или разложенном на полу, он считал вехой на пути к настенной живописи будущего.
В ноябре 1943 года Пегги устроила Поллоку первую персональную выставку в галерее «Искусство этого века». Художник сделал несколько новых картин для выставки, в том числе и ряд рисунков на бумаге. Пегги составила прейскурант на его работы: 25 долларов за рисунок и 750 – за картину. Все работы с табличками «Продается» так и остались висеть на своих местах. Но кое-кто из потенциальных покупателей все-таки клюнул. И среди них был влиятельный Альфред Барр, директор МоМА. Особенно его заинтересовала картина Поллока «Волчица» (1943).
Это произведение опирается на миф о Ромуле и Реме, близнецах – основателях Рима, вскормленных волчицей. Поллок написал свою версию привычного образа древней капитолийской волчицы с младенцами. Оригинал мудреным не назовешь, но Поллок усилил его примитивность намеренно грубым исполнением. Профиль волчицы, который занимает весь холст, обведен белым и подчеркнут черной линией. Фон – голубовато-серый, с пятнами желтого, черного и красного, небрежно разбросанными по холсту. Волчица больше похожа на старую корову – такой ее увидел бы пещерный человек, и это, возможно, попытка Поллока, вдохновленного Юнгом, пробиться в коллективное бессознательное и создать образ, который воссоединит нас с первобытным прошлым.
Вскоре после закрытия выставки Альфред Барр обратился к Пегги с предложением купить картину, правда, он готов был заплатить чуть меньше запрошенного. Пегги отказалась. И это был смелый поступок, ведь приобретение картины музеем МоМА значительно повысило бы котировки Поллока (и соответственно ее акций). Но при всех ее недостатках, включая скупость, никто не мог упрекнуть Пегги Гуггенхайм в недальновидности и непрофессионализме. В момент предложения Барра она уже знала, что в модном журнале Harper's Bazaar вот-вот выйдет статья «Пять американских художников», иллюстрированная цветной репродукцией «Волчицы» Поллока.
Несколько недель спустя Барр снова напомнил о себе, предлагая заплатить объявленную цену Пегги согласилась, и так МоМ А первым из музеев мира стал обладателем произведения Джексона Поллока.
Продвижение Поллока, заказ на «Фреску», продажа «Волчицы» и организация персональной выставки 1943 года – все это можно назвать главными достижениями Пегги Гуггенхайм. Тем более что они закрепили и ведущую роль Америки в мировом современном искусстве. Пегги организовала для Поллока еще две персональные выставки и открыла миру других молодых американских художников, таких как Клиффорд Стилл, Марк Ротко, Роберт Мазервелл и проживающий в Америке голландский живописец Виллем де Кунинг; каждый из них сыграл заметную роль в развитии абстрактного экспрессионизма. По иронии судьбы, несмотря на все, что сделала Пегги Гуггенхайм, помогая Америке создать собственное движение в современном искусстве, абстрактный экспрессионизм начал набирать обороты только после того, как она закрыла нью-йоркскую галерею и вместе с коллекцией переехала в Венецию (где и провела остаток жизни). Было это в 1947 году.
Именно в тот год Джексон Поллок сделал первую серию «капельной живописи». Он переехал из Нью-Йорка со своей женой художницей Ли Краснер (1908–1984) в небольшое поместье в Ист-Хэмптоне на Лонг-Айленде. Пегги (скрепя сердце) одолжила им денег, чтобы они могли начать новую жизнь ближе к природе, но ждать, когда у них все сложится, чтобы пожинать плоды, не стала. После отъезда Пегги Поллок принес свои новые работы ее давней подруге, галеристке Бетти Парсонс. Бетти все понравилось, и в 1948 году в своей нью-йоркской галерее она представила миру грандиозные новаторские работы Джексона Поллока: огромные полотна, забрызганные краской. В них не угадывалось даже намека на работу кисти – потому что кисти там и в помине не было. Художник раскладывал холст на полу и принимался лить и разбрызгивать на него краску. Поллок атаковал холст со всех четырех сторон: ходил по нему останавливался посередине – и это тоже становилось частью картины. Он подправлял и размазывал мокрую краску мастихинами, ножами и щепками, добавлял песок, стекло или окурки – перемешивал все, перетирал, короче, создавал хаос.
«Полная Морская сажень Пять» (1947), одна из самых ранних «капельных» картин, была включена в экспозицию. Ныне принадлежащая МоМА, подаренная музею Пегги Гуггенхайм, она описана как «Холст, масло с гвоздями, кнопками, пуговицами, ключом, монетами, спичками и пр.». Реверанс Поллока в сторону Брака и Пикассо с их коллажами и Швиттерса с его «Мерц» очевиден. Воспользовался он и дадаистской техникой «спонтанности» Арпа. (Поллок говорил: «Когда я работаю над картиной, я сам не знаю, что делаю».) Однако заимствование старых идей не помешало Поллоку создать поразительно свежее и оригинальное произведение. «Полная Морская сажень» – название, навеянное песней Ариэля из шекспировской «Бури», – картина такая же плотная, как «Водяные лилии» Моне, и страстная, как «Герника» Пикассо.
Темно-зеленый фон заметно пузырится – такую фактуру создает мелкий мусор, которым Поллок загрунтовал холст. На этот грубый ландшафт он нанес густые капли белой краски, пронизав их паутиной тонких, слегка пританцовывающих черных линий. Редкие вкрапления розового, желтого или оранжевого появляются неожиданно, как лоскутки порванной одежды в гуще живой изгороди. Всплески и брызги украшают неровную поверхность холста, которую Поллок поскреб мастихином и кистью. Это в высшей степени абстрактная вещь и безусловно экспрессивная: ярость, выплеснутая на холст.
Критики реагировали скептически, находя картину беспорядочной, непонятной и бессмысленной. И были неправы по всем статьям. Внимательно посмотрите на «Полную Морскую сажень» – и вы увидите, что работа вовсе не беспорядочная, в ней есть и стать, и форма, и движение. Непонятной или бессмысленной ее тоже не назовешь. Мало найдется более честных и откровенных произведений, выражающих человеческие эмоции: картина пульсирует злостью, беспокойством и энергией. Она ближе к познанию жизненной силы, чем любая другая картина, книга, фильм или музыка: в ней нет никакой сентиментальности, она беспощадна.
Поллок знал, что идея «капельной живописи» не нова. Он черпал вдохновение в творчестве племен американских индейцев юго-западных штатов, рисовальщиков на песке. Что-то перенимал и у Макса Эрнста (теперь уже бывшего мужа Пегги), который проводил эксперименты в той же манере, пробивая дырку в полной банке с краской и разливая ее по холсту (после «Трех остановок эталона» Дюшана). Поллок и сам, еще в середине 1930-х, швырял банки с эмалью об стену, «отрабатывая спонтанность», как его учили художники-муралисты. Но, как всегда бывает с великими художественными открытиями, Джексон Поллок позаимствовал все эти идеи и переосмыслил их для своего времени. Правда, никого это не впечатлило. Разве что Клемент Гринберг продолжал восторгаться, мало кто, даже из числа коллекционеров, разделял его восторги. Пегги взяла несколько работ – вместо контракта с Поллоком, – и он подписал другой, со скульптором, но дела шли ни шатко ни валко, даже при том, что можно было купить его новые «капельные» картины всего за 150 долларов.
Как же меняются вкусы! Покупка «Полной Морской сажени» была равноценна инвестиции в «Гугл» на стадии стартапа. 150 баксов за оригинал «капельной» картины Поллока?! Да за него сейчас дают 140 миллионов. Как же это произошло?
Восхождение Джексона Поллока, нью-йоркского бунтаря от искусства, на мировой Олимп ускорил фотограф немецкого происхождения Ганс Намут (1915–1990). Он, как и многие другие, находил работы Поллока не слишком убедительными, но его приятель, считавший американца гениальным, уговорил Ганса встретиться с художником. Намут попросил у Поллока разрешения сфотографировать его за работой в мастерской. Поллок согласился (и не только на фотографию, но и на то, чтобы Намут снял о нем фильм). Черно-белые снимки (ил. 26) впервые запечатлели технику «капельной живописи» и ее инстинктивную хореографию (став предтечей искусства перформанса).
Ил. 26. Джексон Поллок за работой над картиной «Осенний ритм (номер 30)», фото Ганса Мамута (1950)
И помогли создать вокруг Джексона Поллока романтический ореол. На этих меланхолических снимках Поллок предстает страстным и вдумчивым художником и мастером на все руки. В джинсах и черной футболке, с напряженными руками и сигаретой в уголке рта, он больше напоминает кинозвезду вроде Джеймса Дина, чем независимого художника-интеллектуала. Он показан героической фигурой: работает в своей, ни на кого не похожей манере, отчаянно пытаясь выразить свои чувства, выплеснуть их краской на холст под ногами. Люди увидели, как он изливает душу в живописи, и почувствовали его боль.
Публика и пресса были очарованы этими фотографиями, как и самим художником. Увидев, как Поллок создает свои работы, люди начали пересматривать отношение к его живописи, разглядев в ней нечто большее, чем капли на холсте. Они оценили его мастерство, честность, мощную энергетику. Сперва робкая симпатия, потом безудержная страсть – мир влюбился в Джексона Поллока.
Художник вознесся на вершину славы. Он одним из первых стал селебрити мирового уровня, «лицом» абстрактного экспрессионизма. Популярность и успех сопутствовали ему в течение нескольких лет, но на главное они повлиять не могли: Поллок по-прежнему оставался человеком с неустойчивой психикой. Поздно вечером 11 августа 1956 года в хорошем подпитии он решил покататься на машине и врезался в дерево неподалеку от дома. Поллок погиб мгновенно, вместе с одним из своих пассажиров.
Блестящая карьера Джексона Поллока безвременно оборвалась, когда ему шел лишь сорок пятый год. Столько же было и другому художнику, которым Поллок восхищался и которому завидовал, только его карьера к этому возрасту еще даже не начала складываться. Он, так же как и Поллок, работал в федеральном проекте содействия художникам, занимался настенной живописью, обладал такой же привлекательной внешностью кинозвезды и – увы! – так же питал слабость к алкоголю. Его так же превозносил Клемент Гринберг (что сильно раздражало Поллока), и ему было суждено наряду с Поллоком войти в историю одним из основателей абстрактного экспрессионизма. Надо отдать должное Виллему де Кунингу (1904–1997): на похоронах Джексона он сказал, что «Поллок сломал лед и открыл дорогу абстрактному экспрессионизму».
Де Кунинг покинул родной Роттердам в 1926 году, взяв билет в один конец до Нью-Йорка – города своих романтических грез. Даже спустя два десятилетия, в течение которых Виллем перебивался случайными заработками разнорабочего и внештатного художника по рекламе, город не утратил для него очарования и сохранил власть над ним. В конце концов Нью-Йорк ответил взаимностью на любовь де Кунинга. В 1948 году галерея Чарльза Игэна на Манхэттене устроила ему первую персональную выставку, на которой де Кунинг представил десять своих черно-белых абстрактных картин. Гринберг авторитетно прошелся вдоль полотен и в ближайшей статье объявил сорокачетырехлетнего голландца «одним из четырех-пяти самых выдающихся художников страны». Столь высокая оценка уважаемого арт-критика сделала свое дело: народ валом повалил на выставку. Но ни одна из картин продана не была. Однако вскоре в дело вмешался МоМА: музей приобрел «Картину» (1948) – черно-белую абстракцию, выполненную эмалью и масляной краской. Она похожа на старую школьную доску, разрисованную мелом, как граффити. Но это первое впечатление: присмотревшись, вы увидите, как белая краска, которой де Кунинг очертил переплетающиеся черные фигуры – некоторые могут быть буквами, – плавно переходит в серый цвет. Зрелище завораживает. И вольно или невольно вы попадаете под гипноз этой композиционной гармонии. Поэзия, ощущающаяся в картинах де Кунинга, в какой-то степени – хотя она все же несколько иная – созвучна работам Пита Мондриана. Возможно, это чисто голландское – так или иначе, оба художника создают такие идеально сбалансированные, насыщенные образами картины, что от них невозможно оторваться. Они вызывают вздох восхищения – как самый благозвучный аккорд или вкус превосходного вина. Но если стиль Мондриана отличала холодная точность, то де Кунинг тяготел к рваным ритмам регги.
Все это наглядно демонстрируют его «Раскопки» (1950) – полотно в стиле абстрактного экспрессионизма, показанное на Венецианской биеннале летом того же года. На этот раз художник представил слегка окрашенные наплывающие друг на друга формы, с каллиграфической точностью обведенные черной краской. Непонятные формы сталкиваются в толчее переполненного танцпола, где в эйфории извиваются тела, изредка разделенные вспышками голубой, красной или желтой краски. Вроде бы радостная сцена, если, конечно, вы не страдаете клаустрофобией. Но стоит вам внимательнее вглядеться в изображение, ощущение веселья проходит, сменяясь мрачным предчувствием. Так часто бывает с абстрактным экспрессионизмом: рассчитываешь на быстрый эффект, а получается медленное погружение с неожиданными поворотами. «Раскопки» выдают европейские корни де Кунинга, познавшего темную драму Рембрандта, болезненную выразительность Ван Гога и послевоенный экзистенциальный страх немецкого экспрессионизма Кирхнера. Сквозь лирические образы проступает зловещий подтекст. Некоторые фигуры нарисованы с зубами; многие напоминают оторванные конечности. Можно ли считать «Раскопки» антивоенной живописью? Не изобразил ли художник массовое захоронение человеческих останков?
Это ощущение темной стороны жизни – часть творчества де Кунинга, противовес его гармоничной красоте. «Мне всегда казалось, что я увяз в мелодраме пошлости», – как-то сказал он.
И подтверждением тому стала его самая знаменитая серия из шести картин, написанных в период между 1950 и 1953 годами, – «Женщины». Все они яркие, выразительные, выполнены более свободными и грубыми мазками, чем «Раскопки» или «Картина». «Женщины» примечательны и тем, что это не абстракция в чистом виде. Все картины – портреты, так сказать, на одну тему: женщина сидит или стоит анфас, ее тяжелые груди и широкие плечи подчеркнуты густо нанесенными слоями краски. «Плоть, – говорил Виллем де Кунинг, – это то, ради чего была изобретена масляная краска».
Начинал он всегда со рта – своей опорной точки. Виллем листал глянцевые журналы, выискивая рекламные фотографии молодых женщин с красивыми ртами, подробно изучал их и вырезал как исходный материал. Создать серию «Женщины» художника подтолкнуло желание пересмотреть и обновить идею женской наготы – темы, красной нитью проходящей через всю историю искусства. Он хотел сделать картину в духе абстрактного экспрессионизма, которая была бы созвучна классическим произведениям прошлого, таким как «Туалет Венеры» Веласкеса (1647–1651) или «Олимпия» Мане. Кстати, обе картины в свое время удостоились весьма нелестных отзывов: де Кунингу суждено было продолжить эту традицию.
Когда серия «Женщины» была показана в нью-йоркской галерее Сидни Дженис в 1953 году, нападки на де Кунинга посыпались со всех сторон. Одни – коллеги по абстрактному экспрессионизму – не могли поверить, что один из лидеров движения вернулся к фигуративной живописи. Другие приняли примитивный стиль де Кунинга за техническую неудачу. Но самую яростную критику заслужила эстетика женского образа. Фигура в картине «Женщина I» (1950–1952) (репр. 22) пугает зрителя зубастым оскалом голодного людоеда. Огромные черные глаза и демонический взгляд усиливают впечатление кровожадности. Женщина сидит, окруженная густыми мазками несмешанных красок, из которых выглядывают ее ноги – розово-оранжевые. Ноги слегка расставлены, как-то по-мужски, в то время как белый торс с доминантой могучих грудей откровенно обнажен: все это выдает отсутствие саморефлексии. Она – дикарка и нарисована так же дико. «Женщина I» не просто отвратительна: хочется повернуться и бежать от нее.
Де Кунинга обвинили в женоненавистничестве, а заодно и в том, что он оказал медвежью услугу современной американской женщине. Как мог он, почитаемый художник, вписавший
Америку в историю современного искусства, продемонстрировать такую недоброжелательность к женскому полу? Да еще с такой экспрессивной жестокостью? Де Кунинг в ответ на все нападки говорил о месопотамских статуэтках из музея Метрополитен, о вызове устоявшемуся западному образу идеализированной женщины, о собственной трактовке истории искусства и о месте в ней понятия гротеска.
Как бы вы ни относились к серии «Женщины» (вокруг нее до сих пор ведутся ожесточенные споры), эти картины нельзя упрекнуть в импульсивности. Если Поллок создал свою «Фреску» в ночном приступе живописной страсти, то де Кунинг бесконечно долго и трепетно трудился над «Женщиной I». После полутора лет упорной работы сдался, снял картину с мольберта и убрал полотно в хранилище – незавершенным.
Тем не менее физические усилия и темперамент художника ощущаются и в «Женщинах» де Кунинга, и в гигантских «капельных» картинах Поллока. Такой уж у них был подход к живописи: заявить о себе смелыми живописными жестами и агрессивными мазками. Подобная безудержность и снискала им славу мастеров «живописи действия». Но это только одна сторона абстрактного экспрессионизма. По другую сторону оказались живописцы, работавшие в прямо противоположной манере. Это были так называемые художники цветового поля, которые создавали полотна настолько же гладкие и спокойные, насколько шершавыми и неистовыми выглядели работы Поллока и де Кунинга. Если поверхность «капельных» картин Поллока напоминала грязную колею, то обширные пространства равномерно нанесенной монохромной краски придавали полотнам живописцев цветового поля сходство с атласной простыней.
Барнетт Ньюман (1905–1970) был одним из лидеров группы цветового поля: интеллектуал, чьи интересы простирались от орнитологии и ботаники до политики и философии. Он долгие годы находился в эпицентре нью-йоркского искусства, его уважали не только как искусствоведа, но и как куратора и лектора галереи Бетти Парсонс. Его звездный час пробил, когда Ньюману исполнилось сорок три и он написал картину с непереводимым названием OnementI[27] (1948). Это маленький красный прямоугольник, посередине которого Ньюмен вертикально поместил полоску клейкой ленты (так художники обычно закрывают те поверхности холста, на которые не надо наносить краску). Он сделал оба края ленты темно-бордовыми. Отступил на шаг назад. И вдруг решил, не снимая ленту, а прямо поверх нее наложить мастихином светло-красный кадмий.
Барнетт снова отступил на шаг и посмотрел на результат. А потом стал думать, «что же он сделал». И думал целых восемь месяцев.
Ньюман пришел к выводу, что наконец создал картину, которая как нельзя лучше отражала его личность («это я, целиком и полностью»). Он чувствовал, что вертикальная линия посередине вовсе не делит картину, а сводит изображенное в одно целое. «Этот штрих дал ей жизнь», – сказал Барнетт. Он нашел свою «фишку», которая сделала его знаменитым. У Поллока была капля, у Ньюмана теперь появилась застежка-молния – вертикальная линия, по его собственным словам, «полоска света».
Ньюман видел в ней выражение настроения и чувства, мифологическую одухотворенность первобытного искусства. Критики считали иначе и, как обычно, в свойственной им ядовитой манере заметили, что все это напоминает им плод фантазии маляра, развлекающегося в обеденный перерыв. Один самый яростный и саркастичный обличитель признался, что когда пришел в галерею Бетти Парсонс посмотреть картины «на молнии», то, к своему разочарованию, увидел лишь голые стены. Пока до него не дошло («О нет, не может быть!»), что на самом деле он рассматривает полотна Ньюмана, которые, справедливости ради стоит заметить, были огромными.
Vir Heroicus Sublimis (1950–1951) была одной из картин, экспонировавшихся на выставке 1951 года в галерее Бетти Парсонс. Это монохромное полотно 5,5 х 2,5 метра, окрашенное красным цветом с пятью «молниями» в разных частях холста. Посетителям галереи Ньюман дал инструкции, написав их на листке бумаги и прикрепив возле полотна, приглашая подойти ближе: «Большие картины принято смотреть на расстоянии. На этой выставке большие картины следует рассматривать вблизи». Барнетт хотел, чтобы гладкая красная поверхность с неразличимыми мазками кисти потрясла душу зрителя: эдакий квазирелигиозный опыт. Автор надеялся, что, приблизившись к картине, зритель сможет почувствовать насыщенность и масштаб, созданные бесчисленными слоями красной краски. Vir Heroicus Sublimis в переводе с латыни – «Муж героический и возвышенный». Это и есть тема картины: полотно призвано вызвать эмоциональную реакцию на ошеломляющий своим величием трансцендентальный пейзаж.
Пока зритель погружался в красные поля Ньюмана, его «молнии» работали на решение двух задач. Прежде всего они, по замыслу художника, изображали свет: упрощенное видение жизни, которое впоследствии повлияет на минималистов 1960-х. Помимо этого «молнии» у Ньюмана выполняли и практическую функцию: они служили его подписью. Потому что если вы участвуете в игре абстрактного экспрессионизма, покрывая полотна монохромным цветом, вам действительно нужно чем-то обозначить, что это именно ваша картина. Такой фирменной меткой для Ньюмана и стали «молнии»: они помогали отличить его красные полотна от тех, что создавал Марк Ротко (1903–1970).
Ротко – самый известный из художников цветового поля. Это его картины, став постерами, завоевали и спальни, и учебные аудитории художественных школ по всему миру. Он родился в Российской империи, но в 1913 году семья (тогда они
звались Ротковичами) покинула Россию, опасаясь еврейских погромов: в стране процветал антисемитизм. Ротковичи эмигрировали в Америку, где в положенное время Марк поступил в художественный колледж, сократил фамилию до Ротко и начал строить карьеру художника. Он, как и Ньюман, поздно нашел себя в абстрактном экспрессионизме – это случилось в конце 1940-х, когда художнику было уж за сорок. В 1949 году Ротко создал ранний образец того, что впоследствии станет его фирменным стилем, – картину «Без названия» («Фиолетовое, черное, оранжевое, желтое на белом и красном»). На полотне изображены горизонтальные прямоугольники разных оттенков; прямоугольники слегка сливаются друг с другом, и этот почерк станет потом таким же узнаваемым, как «молнии» Ньюмана.
Обращение Ротко с геометрической формой в абстрактной живописи заметно отличается от того, что делали русские конструктивисты и супрематисты. Если у тех линии были острыми и угловатыми, то у Ротко они мягкие и расплывчатые. Не стремился он и к созданию напряжения между формами, для него важнее гармония цвета, палитра которого гораздо богаче, чем у конструктивистов с их опорой на первичные цвета.
«Без названия (Фиолетовое, черное, оранжевое, желтое на белом и красном)» – большая прямоугольная картина, около двух метров в высоту и полутора в ширину. В верхней половине доминирует прямоугольник красного цвета, далее проходит толстая черная линия, обозначающая центральную часть композиции. Нижняя половина начинается с оранжевого прямоугольника, который затем переходит в желтый. Белая рамка окантовывает формы, и все это помещено на кремово-желтом фоне. Края форм расплывчатые, поэтому они свободно смешиваются друг с другом. Смелые цвета напоминают палитру фовистов, а свечение, исходящее от поверхности картины, отсылает к импрессионистам.
Но для Ротко этот образ – попытка исследовать не форму или цвет, но основные человеческие эмоции. Он говорил, что его картины – о «трагедии, экстазе, обреченности и так далее». Я думаю, что это полотно ярких красок ближе к «экстазу» по шкале Ротко. Так же, как «Охра» («Охра, красное на красном», 1954) (репр. 23) в сравнении с картиной 1949 года являет куда более утонченное воплощение той же идеи. Прямоугольная панель охристого цвета занимает верхние две трети полотна. Панель обрамлена тонкой красной каймой, которая продолжается прямоугольником – это нижняя треть картины. Края прямоугольников слегка размыты в местах соприкосновения, чтобы смягчить контраст между двумя цветами и сохранить общую гармоничность картины.
«Охра, красное на красном» – гигантское полотно, более двух метров в высоту и полутора в ширину. Такой масштаб, настаивал Ротко, не призван тешить его самолюбие, поражая помпезностью и величием, подобно выдающимся картинам прошлого; все с точностью до наоборот. Он хотел, чтобы его произведения воспринимались как «очень доверительные и человечные». Художник видел в зрителе собеседника своих картин, перед которым полотна могли раскрыть душу. И он настолько уверовал в способность своих цветовых полей находить отклик в душе зрителя, что начал составлять строгие правила относительно того, как экспонировать его картины и кого допускать к просмотру (тех, кто не верил в искусство Ротко, не жаловали). «Охру, красное на красном» приобрели супруги Марджори и Дункан Филлипс – коллекционеры, одобренные Ротко. Впоследствии они выделили целую комнату, где повесили картину вместе с двумя другими работами художника. Ротко пришел в гости и был приятно удивлен: комнату его работам отвели относительно небольшую, и выяснилось, что его картины хорошо смотрятся в домашних интерьерах. Конечно, придирчивый художник не мог упустить возможности подправить кое-что в освещении, а заодно предложил убрать из комнаты всю мебель, кроме одной-единственной скамейки, чтоб было куда присесть. От Филлипсов Марк Ротко возвращался счастливый, в восторге от новых возможностей восприятия его работ.
После этого визита Ротко сказал, что испытал «глубокое чувство ответственности за жизнь [своих] картин в мире». С тех пор художник стал отказываться от участия в групповых выставках или от экспозиции своих полотен в помещениях, которые считал неподходящими (он принял заказ на картины для ресторана Four Seasons в Сигрем-билдинг в Нью-Йорке, но потом передумал, посчитав, что среда не благоприятствует восприятию его искусства). Вскоре Марк Ротко начал мыслить в ином масштабе – стал не просто писать картины, но и создавать «пространства».
В 1964 году Ротко выпала возможность осуществить свою мечту, когда супруги Доминик и Джон де Менил, коллекционеры из Техаса, решили построить в Хьюстоне часовню для представителей всех конфессий. Они приехали к Ротко в Нью-Йорк и предложили ему написать картины для часовни, предоставив полный карт-бланш. Ротко принял предложение, перебрался в большую студию, где установил систему передвижения вокруг своих огромных полотен, и взялся за дело. Он собирался написать 14 картин (плюс четыре варианта для временного экспонирования) для стен восьмиугольной часовни. К лету 1967 года художник выполнил задачу и доставил картины де Менилам, которые поместили их на хранение до завершения строительства часовни.
К тому времени искусство Ротко претерпело изменения. Нет, стиль так и остался абстракцией окрашенных в гармонирующие цвета прямоугольников на больших полотнах – но тональность поменялась. Теперь Марк Ротко работал в спектре «мрака и трагедии» придуманной им шкалы человеческих эмоций. Со второй половины 1950-х годов его палитра приобрела более темный, даже скорбный вид: глубокий пурпур, смешанный с кроваво-красным; унылый коричневый, сливающийся с мрачным серым. Если начинал он с жизнеутверждающих красок Матисса, то теперь его цвета больше соответствовали настроениям Grim Reaper[28].
Картины, которые он написал для часовни де Менилов, как нельзя лучше соответствовали атмосфере религиозного сооружения. Все 14 панно закрывали стены полностью, от пола до потолка, укутывая посетителя мрачным саваном. Семь картин с черной каймой, на темно-коричневом фоне; остальные семь – тональные переходы через несколько глубоких фиолетовых. Почти невозможно разглядеть в этих темных и насыщенных цветных полях характерные для Ротко плывущие по холсту прямоугольники. Мрачности добавляет и то, что часовня освещается только естественным светом через отверстие в потолке – таково было настойчивое желание художника.
Часовня Ротко была открыта в 1971 году, и все ее восемь стен, завешанные скорбными картинами, создавали странную и даже жутковатую атмосферу. И усугубляло мрачность сознание того, что Ротко так никогда и не увидел своих великих работ в этом интерьере: художник покончил с собой в 1970-м. Он долго страдал от болезни и депрессии, а тут еще и брак распался, да и мир вырвался за пределы его любимого абстрактного экспрессионизма и увлекся поп-артом, который Ротко ненавидел. Марк Ротко говорил, что его искусство представляет собой «простое выражение сложной мысли», и, пожалуй, абстрактный экспрессионизм лучше не объяснишь.
Во всяком случае, если в двухмерный абстрактный экспрессионизм добавить третье измерение, то простая мысль может оказаться довольно сложной. «Австралия» (1951) Дэвида Смита (1906–1965) – скульптура из стальных прутьев: точно каракули в воздухе. Обычно при слове «скульптура» мы представляем тяжелые глыбы камня или бронзы; с «Австралией» Смита все иначе. Она выглядит легкой, как соломинка, и это впечатление художник усиливает, установив изваяние на маленький квадратный постамент из шлакоблока, что добавляет композиции ощущение невесомости. Своими изогнутыми металлическими линиями и примитивистской формой она чем-то походит на кенгуру или овцу в прыжке – образы, подсмотренные Смитом в журнале, который прислал ему Клемент Гринберг. По-видимому, арт-критик просматривал издание и обратил внимание на иллюстрации к статье о наскальных рисунках аборигенов; он сразу же подумал о Смите и отправил ему журнал с запиской: «Рисунок с воином напоминает мне некоторые ваши скульптуры».
«Австралия» – этакий трехмерный Джексон Поллок; ее непредсказуемые линии пронзают воздух, как капли черной краски Поллока простреливают холст. Абстрактный экспрессионизм, конечно, привлекал Смита, который был тесно связан с де Кунингом и разделял страсть Поллока к Пикассо. Как и они, Смит был «живописцем действия», начав свою трудовую жизнь (как выяснилось, с пользой для будущего) сварщиком по металлу. Его абстрактные коллажи из спаянной стали и железа были, наверное, самыми оригинальными скульптурами эпохи, а «Австралия» доказала его желание бросить вызов фигуративной традиции, связанной понятием посредничества. Дэвид Смит как-то сказал, что «не знает, где та грань, за которой заканчивается картина и начинается скульптура», – сложная мысль, выраженная в его сложных работах.
Эту идею он передал в 1960 году своему протеже, британцу Энтони Каро (род. 1924), который был очень впечатлен работами и советами Смита. Когда Каро вернулся из Штатов в Великобританию, он перестал делать фигуративные пластические скульптуры, чему учился у Генри Мура, работая его ассистентом, и обратился к абстрактному экспрессионизму. Двумя годами позже появилась его первая работа в этом жанре – «Однажды рано утром» (1962): угловатая, напоминающая каркас конструкция из металлических реек и кронштейнов – словно маленький ребенок смастерил непонятную поделку из проволоки и картона. Но присмотритесь повнимательнее – вы будете поражены.
Арт-объект занимает внушительное пространство: три метра в высоту три в диаметре и более шести в длину. Ярко-красная конструкция невероятно тяжела – и при этом кажется невесомой. Пройдитесь вокруг, загляните внутрь сквозь «раскинутые руки» на плоские панели, и у вас возникнет стойкое ощущение, что перед вами краска, застывшая во времени, а вовсе не стальная громада. Конструкция обладает изяществом и осанкой балерины, звучностью гимна и нежностью поцелуя. Это одно из тех произведений искусства, от которых мурашки по спине бегут, – эффект, усиленный тем, что Каро предпринял радикальный шаг, поставив свою работу не на постамент, а прямо на пол. Он хотел устроить что-то вроде интерактивной игры со зрителем – примерно того же добивались художники абстрактного экспрессионизма своими огромными полотнами.
Как и живопись Ротко, скульптура «Однажды рано утром» – об интимном и чувственном, она стремится пробиться к нам и установить духовную связь самыми простыми и в то же время универсальными средствами выражения. То, что ей это удается, – удивляет и восхищает, как это всегда происходит, когда сталкиваешься с образцом абстрактного экспрессионизма.
Глава 16 Поп-арт: шопинг-терапия, 1956-1970
Эдуардо сидел за столом и наблюдал за отцом. Синьор Паолоцци из кучи деталей – ими был усыпан весь пол комнаты в жилой половине магазина – пытался собрать транзистор. Мальчик знал, что отец в конце концов сделает свою хитроумную штуковину, – папа любил решать технические задачки; просто времени на них уходило больше, чем он планировал. Вот и сейчас, пока он возился с транзистором, в торговом зале становилось все шумнее, и делалось ясно, что жене скоро понадобится его помощь: в одиночку ей не справиться с наплывом посетителей. Синьор Паолоцци вздохнул и поднял глаза, впервые заметив, что сын все это время молча наблюдает за ним. Он тепло улыбнулся.
– Послушай, Эдуардо, помог бы ты матери, а то она там с ног сбилась.
Эдуардо резко и шумно отодвинул стул – чтобы мать услышала, что он идет, – после чего вышел через смежную дверь в торговый зал семейного кафе-мороженого. Он был крупным для своих десяти лет: рослый и широкоплечий.
Стояла необычная для Эдинбурга жара, и портовые рабочие выстроились в очередь за вкуснейшим домашним мороженым от мамы Паолоцци. Эдуардо прошел за спиной у матери к дальнему углу прилавка, где продавались кондитерские изделия и сигареты. Эдуардо, хотя и был грузноват, не особо интересовался конфетами, равно как и сверстниками, которые толкались у витрины, часами размышляя, прежде чем истратить свои жалкие пенсы на маленький кулечек. Мальчику нравились мужчины, которые приходили купить пачку сигарет. И они его любили.
– Ну что, сынок, все свои картинки из «Плейерз» собрал? – спросил рабочий с изрезанным морщинами лицом.
– Еще нет, – ответил Эдуардо с надеждой.
– Понимаю, – сказал мужчина. – Тогда я возьму пачку «Плейерз»; мне – сигареты, тебе – картинку.
Эдуардо просиял и протянул покупателю пачку сигарет, предварительно выудив честно заработанную картинку. Пока следующий клиент не сделал заказ, парнишка украдкой взглянул на свою добычу. Это был серебристый Airspeed Courier, тупорылый аэроплан с черным пропеллером, известный своей быстротой и исключительной надежностью. Ярко-красное кольцо краски очерчивало винт и плавно переходило в щеголеватую полосу, тянувшуюся по всему фюзеляжу. Не самолет, а фантастика. За этим вкладышем охотились многие. Когда поток покупателей схлынул, Эдуардо поднялся наверх, к себе в комнату, крепко сжимая в руке драгоценность.
Комнатка была маленькая, в ней царила идеальная чистота – мать не жалела сил. Когда они покинули Италию, подавшись в Шотландию в поисках лучшей доли, мать решила, что необходимо навести порядок в их жизни, и воплощением этого порядка стала аккуратность во всем. Эдуардо не возражал, у них с матерью был договор – комната остается ее вотчиной, за исключением шкафа, который стоял у дальней стены и был в полном его распоряжении. Впрочем, и там был безукоризненный порядок. Но если, распахнув дверцы пошире, вы заглянули бы внутрь, зрелище вас изумило бы. На стенках живого места не было: все оклеено вроде бы без всякой системы сигаретными вкладышами, вырезками из комиксов, фантиками от конфет, рекламными объявлениями из газет. Такое впечатление, что на деревянные панели попросту высыпали содержимое мусорной корзины. Но то, что стороннему наблюдателю могло показаться нелепостью, для Эдуардо имело глубокий смысл. Это был его мир, коллаж из его любимых картинок, и сейчас он добавил к ним изображение серебристого «эрспида». Эдуардо Паолоцци не мог этого знать, так же как Малевич, когда писал свой «Черный квадрат» как театральную декорацию, – но именно здесь, в эдинбургском квартале Лейт, в 1934 году в комнатушке итало-шотландского мальчишки взошел первый росток поп-арта.
Через шесть лет, в 1940-м, семья сидела возле радиоприемника, собранного-таки папашей Паолоцци, вслушиваясь в прорывающийся через треск и помехи голос диктора, который сообщал им, что Италия вступила в войну на стороне немцев. В течение нескольких часов жители Эдинбурга ополчились против местных итальянцев, которые верой и правдой служили общине, и начали громить их заведения. Какие-то люди пришли и арестовали отца Эдуардо, а чуть позже вернулись и за несчастным шестнадцатилетним парнишкой, чтобы забрать его в лагерь для интернированных. А мать увезли вглубь страны, чтобы она не могла шпионить за британскими военными моряками. Унизительный инцидент разрушил семью и напугал Эдуардо. В тот день он видел отца в последний раз. Вскоре папа Паолоцци погиб: корабль, перевозивший интернированных в канадскую тюрьму, подбила торпеда.
Здесь уже ничего нельзя было изменить, но отец Эдуардо успел научить его многому. Да, пусть он отправлял сына в фашистские летние лагеря отдыха в Италии, где у мальчика появился интерес к самолетам и значкам, но он передал Эдуардо страсть к конструкторскому делу, дух первопроходца и любовь к технике. А работа в семейном кафе определила тягу мальчика к красочной упаковке и рекламе. Все это способствовало его решению стать художником.
В 1947 году двадцатитрехлетний Эдуардо Паолоцци (1924–2005) отправился в Париж, чтобы осуществить свою мечту. Там он встретил многих видных деятелей современного искусства, в том числе Тристана Тцара, Альберто Джакометти и Жоржа Брака. Он увлекся идеями дадаизма и сюрреализма, смотрел все выставки без разбору, в том числе и экспозицию коллажей Макса Эрнста, и комнату Марселя Дюшана, оклеенную журнальными обложками.
В том же году Паолоцци сделал коллаж «Я была игрушкой богача» (1947) (ил. 27). Картинки, вырезанные из глянцевых журналов, которыми его снабжали американские солдаты в Париже, Паолоцци наклеил на ободранный кусок картона. Обложка журнала «Интимные признания» занимает три четверти изображения. Название журнала говорит о многом: неудивительно, что на обложке позирует темноволосая красотка 1940-х годов, сидящая на синей бархатной подушке, в туфлях на высоком каблуке и коротком красном платье с глубоким декольте. Как и полагается, на губах у нее алая помада, глаза густо подведены черным; она кокетливо склонила голову, прижимая длинные ноги к груди и выставляя напоказ резинки чулок и полоску бедра между чулком и платьем. Прямо ей в лицо стреляет из пистолета чья-то рука, прикрывая строчку из другого журнала, «Правдивые истории».
Правее набраны броские заголовки основных статей журнала: «Я была игрушкой богача», «Да, я бывшая любовница», «Дочери греха» – ну и тому подобное. Последнюю строчку Паолоцци заклеил куском фотографии вишневого пирога, а рядом поместил логотип Real Gold, популярной марки апельсинового сока. Завершают коллаж открытка с боевым самолетом времен Второй мировой со словами «Пусть летают» и реклама «Кока-колы».
Ил. 27. Эдуардо Паолоцци. «Я была игрушкой богача» (1947)
Коллаж небрежный во всех отношениях: вырезки из журналов и открытки держатся на честном слове. По тональности же работа нахальная и провокационная: кусок вишневого пирога намекает на женские гениталии, а рука с пистолетом, который целится в улыбающееся лицо несостоявшейся кинозвезды, имеет очевидную фаллическую окраску (именно эту окраску подчеркивает облако белого дыма от выстрела). Коллаж не заслуживал бы упоминания, если бы не ряд важных для истории обстоятельств.
В пузыре белого дыма, извергающегося из дула пистолета, ярко-красные буквы: «Поп!», передающие хлопок выстрела. Пожалуй, впервые это слово было использовано в контексте произведения изобразительного искусства, и учитывая, так сказать, потребительский характер сюжета, само произведение может рассматриваться как первый образец поп-арта. Коллаж имеет все признаки направления, которое официально оформилось только через десять лет: пикантный журнал и «Поп!», набранное как реплика героя комикса – в речевом пузыре, указывают на тяготение поп-арта к молодежной, модной и популярной культуре, случайному сексу и масс-медиа. Открытка с военным самолетом символизирует интерес к передовым технологиям и связывает коммерцию с политикой. Паолоцци подчеркивает власть славы, брендов и рекламы в эпоху консюмеризма. Все это и есть опиум для народа, вернее крэк-кокаин капитализма.
Сквозящее в коллаже восхищение американской культурой станет основной темой поп-арта, а бутылка «Кока-колы» – повторяющимся мотивом. Для художников она станет символом растиражированного рынком обещания настоящего удовольствия. Коллаж Паолоцци передал дух поп-арта, для которого нет различий между высокой и низкой культурой; он попытался сказать, что вырезки из журналов и бутылки с газировкой имеют такое же право называться произведением искусства, как картины маслом и бронзовые скульптуры, выставленные в музеях. Поп-арт был призван стереть грань между ними.
Коллаж «Я была игрушкой богача» наряду с несколькими другими Паолоцци использовал в качестве иллюстрации своей лекции в лондонском Институте современного искусства в 1952 году. Эдуардо назвал лекцию «ЕРУНДА!», цитируя Генри Форда, который в интервью газете Chicago Tribune сказал: «История – это, в общем, ерунда. Традиция. А мы не хотим традиций. Мы хотим жить в настоящем». Заявление явно с привкусом манифеста футуризма Маринетти – возможно, этим оно и привлекло Паолоцци, итальянца по крови. Он был не одинок в своем восхищении потребительской культурой; этот интерес разделяли и некоторые из его британских друзей – дружная компания поселившихся в Лондоне художников, архитекторов и ученых, известная как «Независимая группа».
В нее входил и Ричард Хэмильтон (1922–2011), кроткий человек, ставший генератором идей раннего британского поп-арта. Хэмильтон был активным участником выставки 1956 года «Это – завтра» в лондонской галерее Уайтчепел в Ист-Энде. Выставка приглашала двигаться вперед, к жизни после аскетичных послевоенных лет. Хэмильтон сделал коллаж, который стал плакатом к выставке и иллюстрацией выставочного каталога. Но волей случая (очень попсового по своей природе) эта работа вошла в историю не как коммерческий дизайн-проект, а как одно из самых знаковых произведений искусства конца 1950-х годов.
Коллаж «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» (1956) выполнен примерно в той же манере, что и ранняя работа Паолоцци: Хэмильтон тоже наклеил вырезки из журналов на картон. Но если у Паолоцци получившееся больше напоминало альбом для газетных и журнальных вырезок, всевозможных картинок, фотографий, то Хэмильтон из подручного материала (в основном вырезок из журналов о красивых интерьерах) создал цельный образ гостиной будущего. На пороге этой новой жизни нас встречают накачанный культурист в плавках, эффектно позирующий у подножия лестницы, и его «безупречная» обнаженная жена, которая запечатлена в рискованной позе на шикарном диване в стиле Баухаус, с абажуром на голове вместо шляпы. Парочку окружают атрибуты современного комфорта: телевизор, пылесос (с горничной в придачу), банка консервированной ветчины и чудо техники – магнитофон, стоящий на полу.
Хэмильтон объяснил, что в основе его теперь уже знаменитого коллажа лежит история Адама и Евы, перенесенных из Эдема в новый и волнующий рай послевоенной легкой жизни.
И это местечко повеселее скучных библейских кущ, где можно на все смотреть, но руками трогать запрещено. В мире красивых вещей Хэмильтона искушению НЕЛЬЗЯ сопротивляться, ваша обязанность – потреблять и баловать себя благами. Захотели яблоко – берите два, одно на сейчас и одно на потом. И ветчины прихватите. И почему бы не пососать леденец этого Адама, – вот он, гигантский леденец, вызывающе прикрывает пах культуриста, с хвастливым паолоцциевским «Поп»[29] на фантике – Хэмильтон разделяет оптимизм общества в отношении высокотехнологичного будущего, в котором каждому (по крайней мере на Западе) доведется жить в изобилии и свободного времени будет достаточно, чтобы этим изобилием насладиться. Жизнь менялась – от сурового выживания к приятным развлечениям. Будущее сулило много фильмов и поп-музыки, быстрые машины (в коллаже на них намекает логотип компании Ford на абажуре торшера) и свободные нравы, гаджеты и веселье, еду в консервных банках и кино по телевизору.
В 1957 году Ричард Хэмильтон с удивительной прозорливостью определил поп-культуру как «популярное (предназначенное для массовой аудитории), преходящее (недолговечное), одноразовое (легко забывающееся), дешевое, массовое, молодое (адресованное молодежи), шуточное, сексуальное, затейливое, шикарное, бизнес-ориентированное направление современного искусства». Совершенно очевидно, что эпоха поп-арт была вовсе не дурашливой фазой, этапом развития искусства, временем художников, клепающих легковесные произведения на потеху публике, а политизированным движением: его участники остро осознавали пороки общества, которое изображали. Художники поп-арта, как и импрессионисты в 1870-х, смотрели по сторонам и запечатлевали на своих полотнах то, что видели.
В Америке двое молодых художников оказались единомышленниками. Они уже вкусили потребительской культуры Нью-Йорка и познали как ее прелести, так и темные стороны. Поэтому неудивительно, что их подход к поп-арту был не таким романтизированным. Поначалу Джаспер Джонс (род. 1930) и Роберт Раушенберг (1925–2008) намеревались всего лишь предложить альтернативу слишком мощному, «тестостероновому» абстрактному экспрессионизму. Если искусство Хэмильтона и Паолоцци было ответом на аскетизм послевоенной Британии, то Джонс и Раушенберг бросили вызов помпезности Ротко и де Кунинга.
Оба – и Джонс, и Раушенберг – чувствовали, что абстрактные экспрессионисты утратили связь с действительностью, замкнулись в себе и ушли от вещественного мира, предпочитая выражать собственные чувства. Двое молодых американцев, будучи чуть менее эгоцентричными, стремились отразить и вынести на обсуждение реалии будничной жизни Америки 1950 – х. В нью-йоркской студии они работали вместе, обменивались идеями, критиковали то, что делали. Это было партнерство друзей, которые помогали друг другу покорять вершины в творчестве, искать новые направления индивидуального стиля. Работы Джонса и Раушенберга проложили дорогу Энди Уорхолу (в 1961 году Уорхол купил рисунок лампочки Джонса) и Рою Лихтенштейну, двум корифеям американского поп-арта. Но тогда – в Нью-Йорке середины 1950-х – Раушенберг и Джонс были известны как неодадаисты.
И неспроста. Знаменитая ранняя картина Джонса, «Флаг» (1954–1955), повседневностью и универсальностью своей темы – а это американский флаг, во многом обязана Дюшану. Беглый взгляд на «Флаг», и нам кажется: да, мы действительно смотрим на «звезды и полосы», но подойдите ближе и посмотрите внимательно (это обязательно нужно сделать в МоМА, поскольку невозможно воспроизвести эффект на репродукции), и вы увидите, что Джонс написал картину не на холсте. Это пэчворк из слоев краски, наложенных на куски фанеры, из обрывков газет и холста, окрашенных в старинной технике энкаустики, когда расплавленный воск смешивается с чистым пигментом. Сочетание разных материалов и текстурной краски создает бугристую, неровную, пузырящуюся поверхность, и этот эффект Джонс усиливает, позволяя краске стекать по полотну, как воск со свечи.
Картина с явным креном в дадаизм. Закрасив всю поверхность, не оставляя ни границ, ни рамки, Джонс предлагает головоломку, заставляя гадать, то ли это на самом деле флаг, то ли его изображение. В конце концов, флаг – всего лишь кусок окрашенной ткани, так почему же работа Джонса – та же тряпка с добавлением красок, не может быть эмблемой Америки? Этот философский вопрос – в какой момент искусство становится товаром, а товар искусством – красной нитью проходит через весь поп-арт.
Джаспер Джонс часто выбирает повседневные предметы: карты, цифры и буквы – настолько хорошо знакомые, что мы их даже не замечаем. Его картины заставляют пересмотреть будничное, вглядеться в мир, в котором мы существуем. Джонс выводит на первый план то, что невидимо, и своим тщательным наложением краски требует внимания к объекту. В этом смысле его искусство обращено к внешним формам и является полной противоположностью абстрактному экспрессионизму, сосредоточенному на внутренних переживаниях.
Так же как и творчество Роберта Раушенберга, который в ответ на то, что он считал псевдогероизмом и болезненно скучной серьезностью Ротко и Ко., создавал произведения искусства, не только вдохновленные отходами американского общества потребления, но и в прямом смысле сделанные из них.
«Мне жаль людей, – говорил он, – которые находят уродливыми мыльницы или бутылки из-под “колы”, потому что они живут в окружении всех этих предметов и несчастны из-за этого». Глубокое почтение Раушенберга к столь «низкой» продукции ширпотреба помогло ему найти свой стиль и громко заявить о себе такими произведениями, как «Монограмма» (1955–1959) (репр. 24). Это одна из серии работ, созданных в период с 1953-го по 1964 год, где художник соединяет масляную живопись со скульптурой и коллажем: то, что он назвал «комбинациями». Раушенберг говорил, что хотел бы работать «между искусством и жизнью», чтобы найти точку, где они либо встретятся, либо сольются в единое целое. Никто не выразил суть поп-арта более сжато и точно. Отправной точкой для Раушенберга были «реди-мейды» Дюшана и концепция «Мерц» Швиттерса – высокое искусство, сделанное из низкой культуры. Художник бродил по нью-йоркским кварталам в поисках «сырья» – обрывков, фрагментов и странных вещиц, которые можно было бы превратить в произведение искусства. Для Роберта Раушенберга улица была палитрой, а пол его мастерской – мольбертом.
Маршрут его прогулок часто пролегал мимо комиссионного магазина канцелярских товаров, где в витрине стояло чучело ангорской козы. Раушенберг пожалел несчастную – она выглядела такой жалкой и грязной под толстым слоем пыли, навечно застывшая за этим мутным стеклом. Он решил, что коза может ему пригодиться, и зашел в магазин с предложением купить чучело. Владелец магазина хотел 35 долларов, но у художника было только 15. Они договорились, что Раушенберг заберет козу за 15 долларов, а остальное заплатит позже, как только заработает (когда он явился с доплатой через несколько месяцев, магазина уже не было – закрылся).
Вернувшись в студию, Роберт попытался приложить козу к стенной панели, представив ее в виде картины. Не понравилось – коза была «слишком велика» – не в смысле размера, но, как сказал Раушенберг, «по характеру». Он бесконечно экспериментировал, пытаясь придумать, как же представить козу, но не мог найти ничего подходящего, объясняя это так: «Начать с того, что она [коза] отказывалась становиться предметом искусства – получался попросту объект с козой». Муки творчества грозили стать бесконечными, пока художник не притащил из подвала старую автомобильную шину подобранную на городской свалке. Он приспособил покрышку вместо седла – и вуаля! В глазах Раушенберга коза стала произведением искусства.
Затем он соорудил низкую квадратную деревянную платформу с колесиками по углам и поставил козу в центре. «Гарниром» стали окрашенные кусочки бумаги, холста, теннисный мяч, пластмассовый каблук, рукав рубашки и рисунок с изображением канатоходца. Козе был сделан макияж: Раушенберг разрисовал ее морду густыми мазками разноцветной масляной краски. И в итоге получился арт-объект, настолько далекий от абстрактных раздумий Ротко, Поллока и де Кунинга, насколько это было возможно. Получилось уродливое (как сказал бы Дюшан, «антиретинальное»), но забавное произведение искусства, которое в плане зрелищности и привлекательности для публики могло сравниться с гигантским полотном абстрактного экспрессионизма.
Первая встреча с «Монограммой» Раушенберга может привести в замешательство. Это странный опыт – как в первый раз попробовать односолодовое виски или острое карри, хотя потом привыкаешь. Но усилия того стоят. Арт-объект исполнен символизма и анекдотичности, начиная с его названия. Монограммой принято считать знак, составленный из соединенных между собой или переплетенных одна с другой начальных букв имени и фамилии, который ставят на чем угодно – от канцелярских товаров до рубашки. Эта «Монограмма» – своеобразный манифест художника. Первое, что приходит в голову: так выражена любовь Раушенберга к животным, так он сумел вдохнуть новую жизнь в божью тварь. Из шерсти ангорской козы прядут мохер, и это, возможно, отсылает к годам службы художника в армии США: при изготовлении формы использовался мохер. Коза указывает и на интерес Раушенберга к прошлому: это древнее существо, которое почиталось во все времена, а сейчас слегка подзабыто; отсюда и покрышка на туловище (машина переехала козу?), представляющая новый, более бессердечный, век.
Шина – тоже своего рода автобиографический мотив, отсыл к детству художника: Роберт жил по соседству с шинным заводом. Вот вам и сочетание двух элементов (козы и шины) – что, собственно, и являет собой монограмма. Что же до густой краски на козьей морде – в этом можно усмотреть критику абстрактного экспрессионизма: смелые мазки уничтожают естественную выразительность, оставляя ложный образ, скрывающий правду.
Не менее значимы и другие объекты, встроенные в «Монограмму». Рукав рубашки снова отсылает нас к прошедшему в атмосфере экономии детству Раушенберга. Мать старалась пореже покупать новую одежду, перешивала воротнички на старых рубашках: бережливость передалась художнику, и он выразил ее в своей работе. Каблук может служить намеком на стоптанную обувь, учитывая, сколько Раушенбергу пришлось помотаться по городу в поисках «сырья»; теннисный мяч – намек на физические усилия, которых потребовало создание произведения. Можно часами разгадывать эти автобиографические ребусы, но ясно одно: это был радикальный отход от того искусства, которому Роберта Раушенберга обучали в колледже.
Раушенберг учился в колледже Блэк-Маунтин в Северной Каролине – пожалуй, самой прогрессивной на тот момент школе искусств. С этим колледжем связаны имена Виллема де Кунинга и Альберта Эйнштейна[30], так же как и легендарных представителей Баухауса Вальтера Гропиуса и Йозефа Альберса, который был одним из наставников Раушенберга. Мятежный американец и дисциплинированный немец не очень-то ладили – Раушенберг описывал Альберса как «потрясающего учителя и несносного человека». В какой-то момент студент начал ставить под сомнение модернизм своего преподавателя (хотя настойчивые призывы Альберса ценить материал оказались услышаны).
В ответ на недовольство Альберса вызывающими манипуляциями ученика с красками и формами Раушенберг взял и написал серию монохромных, в черном цвете, картин, которые назвал «визуальным опытом… не искусством». Помимо этого он сделал серию «Белых картин» (1951) – пародию на абстрактный экспрессионизм, реверанс в сторону знаменитой супрематистской картины Малевича «Белое на белом» (1918) и эксперимент самого Раушенберга: «насколько далеко можно уйти от объекта, чтобы он по-прежнему что-то значил». «Белые картины» представляли собой одинаковые прямоугольные или квадратные холсты, равномерно выкрашенные белой краской, висящие в ряд на стене бок о бок, как стоят солдаты на параде. Они были задуманы не как пробуждающие беспокойство экспрессионистские полотна, а как объекты, оживающие под влиянием каких-то внешних случайностей, – скажем, упавшей на холст пылинки, или тени зрителя, или луча света.
Роберт называл их «иконами эксцентричности»; у кого-то они вызывали аплодисменты, у кого-то – насмешки, но в одном зрители были единодушны: Раушенберга признали необычным художником. Он в полной мере подтвердил эту репутацию, когда в 1953-м обратился к Виллему де Кунингу с дерзким вопросом. Здесь стоит иметь в виду, что в то время де Кунинг был одним из самых уважаемых художников в мире – одно его присутствие вызывало у окружающих благоговейный трепет. Раушенберг же был выскочкой – на тот момент никто, ничто и звать никак.
Итак, вооружившись бутылкой виски Jack Daniel's, Раушенберг подошел к мастерской именитого художника и постучал в дверь. Каждая клеточка его тела молила о том, чтобы де Кунинга не оказалось дома. Не сработало. Хозяин открыл дверь и пригласил молодого человека зайти. Едва перешагнув порог, кипящий адреналином Раушенберг выпалил свой вопрос. Не соблаговолит ли маэстро дать ему один из своих рисунков, чтобы он, Раушенберг, мог испортить его, стерев изображение ластиком?
Де Кунинг выслушал странную просьбу потом снял картину с мольберта и поставил ее прямо перед дверью, тем самым отрезав Раушенбергу все пути к бегству Де Кунинг, прищурившись, глядел на наглеца, которого уже заметно трясло. Некоторое время хозяин молчал, и лишь когда прошла, казалось, вечность, заговорил. Он сказал, что понимает просьбу Раушенберга, но не находит его идею привлекательной. Тем не менее он готов пойти навстречу и поддержать амбиции коллеги-художника. Но, заявил де Кунинг, это будет картина, которая ему особенно дорога, и стереть ее будет очень трудно.
Виллем де Кунинг выбрал небольшой рисунок на бумаге, сделанный мелком, карандашом и углем, со следами масляной краски. Протянув его Раушенбергу, он ехидно заметил, что тому придется изрядно постараться, чтобы избавиться от изображения. Де Кунинг, конечно, оказался прав; Раушенберг трудился больше месяца, кропотливо стирая ластиком рисунок, пока наконец не добился успеха: изображение исчезло. Тогда он попросил своего друга Джаспера Джонса изготовить типографскую табличку с названием работы – «Стертый рисунок де Кунинга» (1953) – и объявил новое произведение искусства готовым. Смысл этого эксперимента, как сказал Раушенберг, не в дадаистском акте разрушения, а в том, чтобы посмотреть, можно ли сделать рисунок частью его «белой серии».
Смелость Раушенберга, дерзнувшего мыслить и действовать всем наперекор, когда критики и коллекционеры упивались абстрактными экспрессионистами, достойна восхищения. Особо стоит отметить и влияние его работы на дальнейший ход истории искусства. «Стертый рисунок де Кунинга» можно рассматривать как ранний пример искусства перформанса, вдохновивший целое поколение художников 1960-х. «Белые картины» стали предтечей минимализма, а заодно и толчком для написания Джоном Кейджем – композитором и большим другом Раушенберга – его знаменитой композиции «4'33”»: четыре минуты тридцать три секунды… тишины. Звука, который Кейдж, по его словам, предпочитал всем остальным. И несомненно, те же «Белые картины» были перед глазами Ричарда Хэмильтона, когда битлы попросили его сделать дизайн обложки для их «Белого альбома» (1968) – простой белый конверт для грампластинки, на котором едва заметно проступало тисненое название группы. Что же до «Монограммы» и других «Комбинаций» Роберта Раушенберга, то их воздействие ощущается и сегодня. Чучело козы привело к заформалиненным акулам и разобранным постелям, а еще раньше, в середине 1960-х, к арт-движению «флюксус» (о нем речь пойдет в следующей главе).
Раушенберг и Джонс – друзья и любовники – добились цели, которую поставили в своей нью-йоркской студии в 1950-х. Они освободили американское современное искусство из цепких лап абстрактного экспрессионизма. Представленные ими образы поп-культуры, в том числе и позаимствованные из нее, перестали восприниматься как шутка, к ним стали относиться серьезно. Влиятельные кураторы из МоМА спешили на Манхэттен, в ведущие художественные галереи Бетти Парсонс и Лео Кастелли, чтобы первыми увидеть новые работы двух молодых американцев и отобрать лучшее для своей внушительной коллекции современного искусства. Приходили, впрочем, не только они: сюда слеталась манхэттенская интеллигенция, коллекционеры и художники. Среди завсегдатаев был один парень с чудинкой, лет тридцати с небольшим, который уже сделал себе имя как модный иллюстратор, но теперь отчаянно хотел прорваться в мир искусства.
Энди Уорхол (1928–1987) смотрел на работы Раушенберга и Джонса, и его захлестывало отчаяние. Что мог сделать он – коммерческий художник, работающий в рекламе, – чтобы сравняться с этими смельчаками в силе воздействия на умы? Он добился известности, рисуя пером и чернилами модели обуви для журналов, зарабатывал хорошие деньги оформлением заманчивых витрин магазинов. Но все это было мелко. В течение многих лет Энди экспериментировал с поп-мотивами. Он создал очень простой рисунок погибшего Джеймса Дина (1955) на фоне его перевернутой машины; карандашный портрет писателя Трумэна Капоте (1954); сюрреалистическую картину с шахматистом (под влиянием Марселя Дюшана, которого очень почитал). И тем не менее к концу 1950-х Уорхол так еще и не нашел собственную тему или стиль, на чем можно было бы построить карьеру художника. У него были только иллюстрации или убогие стилизации чужих работ: он оставался аутсайдером, робко заглядывающим в дверь большого искусства.
В 1960 году следом за Паолоцци, Хэмильтоном и Раушенбергом Уорхол создал арт-объект с бутылкой кока-колы, правда, к теме он подошел с другой стороны. В то время как все остальные использовали бренд и бутылку как часть своих композиций, Энди Уорхол по примеру Джонса сделал ее единственным мотивом.
В картине «Кока-кола» (1960) Уорхол представил бутылку в упрощенной, графической форме и рядом поместил знаменитый логотип бренда. Было такое впечатление, что он вырезал картинки из журнала и увеличил изображение. Эффект был неожиданный и мощный – такой способна произвести картина, а не просто коллаж. Но работа оставалась субъективной. Уорхол не удержался и добавил живописные мазки, пытаясь соответствовать эмоциональной драматургии абстрактного экспрессионизма, что ослабило потенциал изображения. Проблема в том, что в картине оказалось слишком много Энди Уорхола, чтобы ее можно было назвать картиной работы Энди Уорхола. Однако он был в шаге от того, чтобы найти свой фирменный стиль. И Энди сделал этот необходимый шаг, добавив черно-белые картинки рекламных газетных объявлений. «Водонагреватель» (1961) старательно имитирует рекламу оборудования, но Уорхол опять приукрасил изображение, добавив потеки краски в некоторые буквы. И вот в 1962 году свершилось чудо.
Расспросив всех, кто пожелал его выслушать, о том, что же ему нарисовать, он наконец нащупал золотую жилу. Кто-то предложил ему взяться за самый характерный и распространенный элемент поп-культуры – такой как долларовая банкнота или пластинка жвачки. Идея ему понравилась. В то время как Джонс выбирал предметы настолько обыденные, что их попросту не замечали, Уорхол решил взяться за образы суперпопулярные, рождающие ажиотажный спрос. В общем, он задумал стать таким же смелым и дерзким, как реклама и продукты, окружавшие его на Манхэттене. Он подумал, что можно интерпретировать культовые объекты потребительского бума двояко. Представить идеализированные образы безупречных людей и продуктов можно и как клише, и как классику – ведь женщину с накрашенными губами можно показать и как образец пошлости и жертву эксплуатации, и как идеал совершенства, как поступали греки. Внутренний конфликт нарастал. Уорхол зашел к матери пообедать и поразмышлять о поисках «низкого» мотива. Сев за стол, он принялся за свой привычный обед, который оставался неизменным вот уже двадцать лет: кусок хлеба и банка супа «Кэмпбелл».
…Он так и не смог найти галерею в Нью-Йорке, чтобы показать свои работы, но ему повезло в Лос-Анджелесе. В июле 1962 года в галерее «Ферус» Ирвинга Блума были выставлены 32 картины Энди Уорхола «Банки супа “Кэмпбелл”» (1962). Они были представлены на 32 отдельных полотнах, каждое с изображением банки определенного вкуса из линейки «Кэмпбелл». Остроумие Блуму не изменило: он разместил работы в одну горизонтальную линию, поддерживаемую узкой белой полкой, как если бы они стояли в продовольственном магазине. Каждый холст планировали продавать отдельно, по 100 долларов, но к концу выставки покупателей оказалось всего пятеро, одним из них была кинозвезда Деннис Хоппер. К этому времени Блум «распробовал» банки Уорхола и начал подумывать о том, что лучше бы выставлять их как единое произведение, а не поодиночке: целое, рассудил он, лучше, чем его части.
Блум предложил Уорхолу несколько изменить замысел, представив одно полотно вместо 32. Художник согласился. Так Ирвинг Блум стал соавтором одного из самых известных произведений искусства XX века. И членом стремительно разрастающегося «клуба советчиков Энди» – разношерстной компании, в которую Блум с радостью влился. Уорхол обладал редким даром – умением слушать других и внимать стоящим советам. Он часто обращался за идеями, вежливо игнорировал предложения, которые считал неинтересными, но быстро делал стойку, если что-то его цепляло.
Так вышло и с рекомендацией Ирвинга Блума. С согласия Уорхола арт-дилер выкупил обратно пять ранее проданных полотен, которые оставались в галерее до окончания выставки. По слухам, ему это далось нелегко – Хоппер упирался до последнего. Но дело того стоило. Как единая композиция «Банки супа “Кэмпбелл”» определила не только Уорхола как художника, но и весь поп-арт как движение, отражающее идею массового производства и культуры потребления.
Уорхол сумел полностью удалить следы своего присутствия в картинах; в них нет ни стилистических меток, ни намеков на личное отношение к сюжету. Сила его работы – в ее бесстрастной холодности, в отсутствии руки художника. Повторяющийся мотив пародирует современные методы рекламы, которая стремится проникнуть в общественное сознание, чтобы внушать и убеждать, бомбардируя нас бесконечными повторами одного и того же кадра. Умышленным однообразием банок Уорхол бросает вызов общепринятому суждению о том, что искусство должно быть оригинальным. Их одинаковость противоречит традиции арт-рынка, который ставит ценность работы – финансовую и художественную – в зависимость от редкости и уникальности. Решение Уорхола не создавать собственный графический стиль, но имитировать стиль банки супа «Кэмпбелл» имеет социальный и политический подтекст. Это дюшановский упрек арт-сообществу, которое превозносит художника как всевидящего гения, и уорхоловское недовольство понижением статуса рабочего человека в усредненном мире массового производства (эту обеспокоенность высказывали еще Джон Рескин и Уильям Моррис в XIX веке).
Уорхол подчеркивает эту мысль техникой исполнения работы. Хотя 32 полотна с банками супа на первый взгляд одинаковы, на самом деле они все разные. Подойдите поближе, и вы увидите, что манера письма ни разу не повторяется. Присмотритесь еще внимательнее, и вы заметите, что кое-где изменен дизайн этикетки. За кажущейся бездушностью однообразного мотива – замысел художника. Так же как за банкой супа «Кэмпбелл» стоят усилия рабочих, неизвестных и непризнанных.
Китайский художник Ай Вэйвэй попытался воплотить ту же идею, когда в 2010 году усыпал пол Турбинного зала лондонского музея Тейт Модерн 100 миллионами фарфоровых семян подсолнечника. В целом они создавали тусклый серый пейзаж, но если бы вы взяли в руки несколько штучек, то увидели бы, что каждая семечка расписана вручную и заметно отличается от других. Художник намекал на огромное население Китая и напоминал миру, что его соотечественники не сплошная серая масса, которую можно бездумно топтать ногами, но страна личностей, и каждая – со своими надеждами и чаяниями.
Уорхол был заинтригован тем, как работают крупный бизнес и масс-медиа, а равно и тем, как мы реагируем на их сигналы. Он находил парадокс в том, что образы банки супа, долларовой банкноты или бутылки «кока-колы» могут стать настолько знакомыми, чтобы их хотели, – стать визуальным призывом «приди и возьми меня» в переполненном супермаркете. И в то же время изображение чего-то ужасного – скажем, авиакатастрофы или электрического стула – теряет силу воздействия, по мере того как его повторяют по телевизору или в газетах. Ни один художник не понял и не ухватил противоречивую природу потребительства лучше, чем Энди Уорхол.
И пожалуй, только ему удалось с такой страстью передать двойственность знаменитости. Эту комбинацию звездности и обреченности он представил в своем полотне «Диптих Мэрилин» (1962) (репр. 25). Уорхол создал его в 1962-м – в год взлета своей карьеры и заката кинозвезды. Перед нами ранний пример шелкографии Уорхола, широко используемой техники репродукции, которую он ввел в мир изобразительного искусства. Это был последний, триумфальный шаг Уорхола на трудном пути поисков собственного художественного стиля. Он уже заявил своими работами, что его искусство будет основываться на имитации образов американского консюмеризма – так почему бы еще раз не воспользоваться благами этого мира? Ему хотелось найти что-то вроде «конвейера», который поможет ликвидировать разрыв между его образами, их производством и теми, кого они воссоздают. Печать шелкографией помогала добиться этого, как и многого другого. Она позволила Уорхолу привлечь кислотные искусственные цвета, так щедро используемые в рекламе и коммерции. Он не стремился выразить с их помощью свои чувства к объекту, как делали фовисты, любители ярких красок, – Уорхолу просто хотелось скопировать палитру поп-культуры.
«Диптих Мэрилин» начался с рекламной фотографии актрисы, сделанной во время съемок фильма «Ниагара» (1953). Уорхол приобрел фотоснимок и приступил к шелкографии (трафаретной печати на шелке), после чего пропитывал изображение красками, получая один и тот же образ, но каждый раз слегка измененный. Процесс доставлял ему несказанное удовольствие: «Все так просто и неожиданно. Я в восторге», – говорил он. Этот элемент стихийности и случайности отдает идеями Дюшана, дадаизма и сюрреализма, только Уорхол добавил к нему свою фирменную склонность к повторам и звездность «объекта».
Работа состоит из двух панелей, на каждой – шелкография оригинального изображения, которое Уорхол повторил 25 раз, располагая по пять в ряд, как почтовые марки на листе. С левой панели, имеющей оранжевый фон, зрителю улыбается Мэрилин Монро с лицом цвета фуксии и желтыми волосами, полуоткрытыми красными губами. Это сама суть великой иллюзии знаменитости, созданной киномагнатами и редакторами глянцевых журналов: особый мир, в котором сосуществуют идеальная красота и беззаботное счастье. И насколько же резкий контраст с правой панелью, которую Уорхол напечатал черно-белой.
25 Мэрилин на этой стороне, хотя и с той же фотографии, настолько угрюмые и затравленные, насколько веселы и радостны те, что слева. Эти Мэрилин как будто стерты и размыты: блеклые и едва различимые. Здесь аллюзия на смерть актрисы, случившуюся всего несколькими неделями раньше, как и раздумье о цене славы, этой опасной игры, в которой в конечном итоге теряешь личность, самоощущение, а в случае Монро – и волю к жизни. В «Диптихе Мэрилин» есть что-то от «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда. С одной стороны, образ Мэрилин никогда не стареет – она молодая и красивая, чувственная и живая. А совсем рядом – пылится на чердаке, можно сказать, – картина ее безобразного превращения из шелковой экранной дивы в призрак, лишенный какой бы то ни было привлекательности.
Это одна из наиболее значимых работ Уорхола и опять же не совсем продукт его гениального ума. Коллекционер Бартон Тремейн с женой заглянули как-то в нью-йоркскую студию Уорхола посмотреть, над чем работает художник. Уорхол показал им свои работы, среди которых были две шелкографии Мэрилин Монро: одна в цвете, другая – черно-белая. Миссис Тремейн предложила художнику объединить их в «диптих», на что Уорхол воскликнул: «Черт возьми, конечно же!» И так живо он отреагировал, что Тремейнам ничего не оставалось, кроме как купить обе картины – что они и сделали.
Слово «диптих» пришлось как нельзя кстати, поскольку, ассоциируемое с церковным алтарем, оно увековечивало образ обожаемой кинодивы, отныне достойной поклонения. С другой стороны, картина несет отпечаток паразитического оппортунизма Уорхола. Он спекулирует на репутации недавно скончавшейся кинозвезды и теплых чувствах публики, воспылавшей к ней особенной любовью после смертельной передозировки. Художник превратил Мэрилин Монро в товар – для Уорхола это было самое оно, поскольку соответствовало его цели показать мир рынка товаров массового производства во всех подробностях. Да, он превратил актрису в продукт, но то же самое делали распространители и потребители поп-культуры. Уорхол восхищался деньгами и отношением к ним его страны. Он как-то обронил печально знаменитую фразу: «Хороший бизнес – лучшее искусство». Понятно, что эта реплика имела целью дразнить и провоцировать, но в контексте работы самого художника она не лишена смысла.
Энди Уорхол был удивительный художник, который выбрал общество потребления темой своего творчества, а потом эксплуатировал ее методами этого же общества. Он и себя самого превратил в бренд, став олицетворением всего, что пытался сказать о жадном и тщеславном мире, в котором жил. Должно быть, Энди забавляло, когда он слышал, как люди говорят о «покупке Уорхола». Не той или иной картины работы Энди Уорхола, но «Уорхола». Подразумевая, что произведение искусства ничего собой не представляет ни в интеллектуальном, ни в эстетическом плане; важно только то, что это фирменный и статусный продукт, а потому хорошая покупка. То, что, возможно, вовсе и не Уорхол его сделал, тоже не имело значения – главное, чтобы художник признал свое авторство и подтвердил, что работа выпущена из его мастерской, которую он не без иронии грубовато окрестил «Фабрикой»: прямой отсыл к его коммерческому подходу к производству.
Прежде чем остановиться на использовании образов, растиражированных масс-медиа, Уорхол долго экспериментировал с рисунками персонажей из комиксов. Такие картины, как «Супермен» (1961), были увеличенными копиями сценок, которые он подглядел в комиксах и воспроизвел, имитируя их графический стиль. Его подход к комическим рисункам не слишком отличался от техники, которая вскоре привела его к славе и богатству Вполне возможно, что он преуспел бы гораздо раньше и именно с комиксами, если бы не другой художник, который делал то же самое в том же городе в то же самое время… но лучше.
Рой Лихтенштейн (1923–1997) довольно долго занимался живописью. Он изучал изобразительное искусство, преподавал изобразительное искусство и создавал изобразительное искусство – произведения разных форм и качества – в течение многих лет. Но, как и Уорхол, никак не мог найти свой стиль – узнаваемый для зрителей и комфортный для него самого. Рой продолжал искать себя, пока в 1961 году не наткнулся на мультяшные комиксы. Он пошел по такому пути: находил в комиксе драматическую сценку, вырезал ее, делал точно такой же цветной рисунок, увеличивал, проецируя на холсте, снова рисовал его, уже в увеличенном формате, подправлял композицию, а потом раскрашивал. В результате появлялась масштабная картина, которая выглядела почти идентичной оригинальному изображению из комикса.
Комиксы были благодатной почвой для набирающего обороты поп-арта, вот почему он и Уорхол (как и еще один художник, Джеймс Розенквист) пришли к одной и той же идее почти одновременно. Только техника у Лихтенштейна была своя, неповторимая. Да, он имитировал графический стиль, надписи и облачка с репликами героев комиксов, но он также копировал и технологию их печати.
В 1960-х цветные комиксы печатали точечным способом Бена Дэя[31]. Он основан на тех же принципах, что и пуантилизм
Жоржа Сера, – когда краска наносится не соприкасающимися точками на белую поверхность загрунтованного холста. Человеческий глаз фиксирует «сияние» цвета вокруг каждой точки и смешивает его с соседними цветными пятнышками. Это было выгодно и для печатников, и для заказчиков комиксов. Если не закатывать всю поверхность типографской краской, а ограничиться цветными точками, можно очень прилично сэкономить.
Копируя эту систему, Лихтенштейн открыл стиль, который сделал его картины мгновенно узнаваемыми. Осенью 1961 года он пошел показывать свою новую работу Лео Кастелли, влиятельному нью-йоркскому галеристу. Проницательному Кастелли увиденное понравилось. Он знал, что Уорхол тоже работает в этом направлении, а потому в разговоре с Энди не преминул обмолвиться, что видел «точечные» картины Лихтенштейна. Уорхол тотчас отправился взглянуть на полотна Лихтенштейна, внимательно их изучил и решил навсегда покончить с комиксами.
Как правило, для успеха достаточно одной по-настоящему хорошей идеи – взять хотя бы Фейсбук, Гугл или Джеймса Бонда, – и Лихтенштейн придумал свою. Он уничтожил и забыл все свои предыдущие работы и сосредоточился на производстве узнаваемых реинкарнаций комиксов в стиле «Бен Дэй». Через несколько недель после встречи с Лео Кастелли он принес артдилеру первую партию своих картин, навеянных комиксами.
Лихтенштейн сразу же вознесся на вершину славы, подобно героям поп-арта, которых он изображал. Кастелли быстро распродал первую партию. На следующий год он реализовал все картины, представленные Лихтенштейном для своей первой персональной выставки, еще до открытия экспозиции. Может, люди покупали его работы из-за их глубокого философского подтекста? Может, богатые коллекционеры Манхэттена задумывались о том, как художник видит их мир, намеренно гиперболизируя современный идеал совершенства? Стали бы они покупать эти картины, если бы знали, что они высмеивают бездумный, праздный образ жизни; что картины Лихтенштейна всегда изображают драму и героизм, но никогда – их последствия? Не приходило им в голову, что они заплатили большие деньги за копию никчемного ширпотреба? Или же люди бежали за картинами Лихтенштейна, потому что они были смешными и от них становилось светлее в комнате?
Работы Лихтенштейна (репр. 26) были очень далеки от абстрактного экспрессионизма. Если искусство Поллока и Ротко говорило о чувствах, то Лихтенштейн и Уорхол сосредоточились исключительно на материальном объекте, стерев все следы своего участия в процессе. Лихтенштейн даже написал картину «Мазок кисти» (1965) – пародию на абстрактный экспрессионизм, – где превратил символ самовыражения художника, широкий живописный мазок, в безликий объект массового производства. Америка была для них главной темой, как в свое время для Паолоцци и Хэмильтона, а потом и для следующего поколения британского поп-арта.
Питер Блейк (род. 1932) прославил поп-арт не картиной и не скульптурой и даже не реди-мейдом или ассамбляжем. В 1967 году самая известная поп-группа планеты обратилась к британскому художнику с просьбой придумать дизайн их будущего альбома. Блейк согласился, «битлы» были в восторге, а обложка для альбома «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» вмиг стала иконой XX века. Получилось этакое групповое фото с кинозвездами и писателями, философами и поэтами, спортсменами и путешественниками, где на первом плане конечно же знаменитая четверка. Яркие краски, мрачный юмор, заимствование образов знаменитостей со всего света – все это стиль поп-арта Блейка. Да и всего поп-арта, который пародировал мир искусства и бизнеса, талантливо перемешав то и другое.
Концепцию размывания границ между искусством и коммерцией гениально воплотил американский художник шведского происхождения Клас Ольденбург (род. 1929). Он вырос и учился в Чикаго (с перерывом на учебу в Йельском университете), в середине 1950-х годов переехал в Нью-Йорк и влился в ряды сценического авангарда. В 1961-м он на месяц арендовал помещение в Нижнем Ист-Сайде, где разместил «Магазин» (1961). В глубине помещения он изготавливал «продукты» для своего предприятия, которое стало настоящей торговой точкой. В магазине Ольденбурга продавались головные уборы, платья, нижнее белье, рубашки и всякая всячина, включая пирожные: все, что можно было приобрести и у других розничных торговцев.
Впрочем, ни одна торговая точка не могла конкурировать с уникальным предложением Ольденбурга: все его товары были несъедобными и непригодными для носки и использования. Эти муляжи были сделаны не из тонкого хлопка или другого качественного сырья, но из мелкой проволочной сетки, гипса, муслина и капель застывшей краски. Его грубые поделки свисали с потолка, подпирали стены или стояли посреди торгового зала, который производил впечатление святилища сатанистов, где совершенно бесполезные, вызывающего вида предметы продаются в качестве вожделенных. Что, конечно, и было замыслом художника, который переделывал на свой вкус товары из «нормальных» магазинов. Цены на свои изделия – возможно, правильнее назвать их «скульптурами» – он заламывал просто несусветные. «Платье» могло стоить 349,99 доллара, а как вам «пирожное» за 199,99?
Это была форма поп-арта, которая довела философию данного направления до логического конца. Ольденбург соединил реальную торговлю реальными товарами с настоящим искусством. И это сработало. Предприятие Ольденбурга оказалось очень успешным, судя по тому, что кураторы музеев, коллекционеры и художники валом валили в его магазин, чтобы внимательно рассмотреть и – разумеется – купить товар. В конце концов, здесь были сплошь подлинники, созданные руками уважаемого художника, и это обстоятельство делало заоблачные цены фактически бросовыми. А люди искусства, как и все прочие, не могут удержаться от выгодной сделки.
Годом позже, в 1962-м – как раз когда на авансцену вышли Уорхол и Лихтенштейн, превратившие поп-арт в мейнстрим, – Ольденбург придумал объект «Два чизбургера со всякой всячиной» («Дуэль гамбургеров»). Это квинтэссенция поп-арта. Смешная, банальная, она возводит вредную еду в статус высокого искусства – и это воплощение культуры потребления (обратите внимание на уточнение: «со всякой всячиной»). Здесь море иронии: и в том, сколько времени потрачено на приготовление блюда, которое потребляется за пару секунд; и в том, что муляж выглядит совершенно съедобным, но съесть его нельзя – это все-таки муляж, из гипса и эмали. «Два чизбургера» атакуют и воспевают торжество материализма, обнажая все безумие жизни общества потребления, – и одновременно усиливают притягательность этой жизни. Перед нами не еда, а иллюзия: удовлетворение гарантировано, но в конечном счете недостижимо; однако как произведение искусства скульптура выполняет свое обещание развлекать и питать.
«Магазин» был театральной площадкой, где и происходило то, что на языке кураторов называется «энвайромент», или «инсталляция», в которой каждый становится звездой шоу. Идея воссоздания человеческой драмы в реальном времени как произведения искусства восходит к артистической жизни Ольденбурга конца 1950-х годов, когда он участвовал в экспериментальной группе, представлявшей хэппенинги – выступления артистов, игра которых была и событием, и искусством. Хэппенинги произросли из футуристических тирад Маринетти, безумного поэтического бреда дадаистов и стремления сюрреалистов с помощью наглости и странности проникнуть в бессознательное. Хэппенинги, в которых участвовал Ольденбург, были событиями, выходящими за рамки привычного; зачастую их рекламировали как инсталляции, злободневные, как и сам поп-арт. Радикальные по своей природе – или безумные, в зависимости от того, как расценивать странности в человеческом поведении, – они явились огромным шагом вперед на пути осмысления, что есть искусство. Роберт Раушенберг участвовал в этом зарождавшемся движении вместе с Ольденбургом, но его душой был Аллан Капроу (1927–2006). Именно Капроу, не слишком известный, но весьма просвещенный художник, сказал Рою Лихтенштейну, когда тот колебался, стоит ли идти по пути «Бен Дэй», что «искусство не обязательно должно выглядеть как искусство, чтобы быть искусством».
Это был хороший совет, которым воспользовался сам Капроу, что и привело к созданию принципиально нового арт-движения.
Глава 17 Концептуализм/ Флюксус/Арте повера/ Искусство перформанса: интеллектуальные игры, 1952 и далее
Концептуализм – как раз та область современного искусства, где мы включаем скепсис на полную мощность. Ну сами подумайте: собирается толпа людей, чтобы орать во всю глотку, сколько сил хватит (Паола Пиви «1000», исполнение в Тейт Модерн в 2009 году); или представьте себе темную комнату, заполненную тальком, освещенную одинокой свечой, куда вас приглашают зайти побродить (инсталляция бразильского художника Сильдо Мейрелеша под названием «Летучая»). Такие работы вполне могут быть развлекательными, иногда даже наводят на размышления, но можно ли считать их искусством?
Да, именно так. Они и создаются для того, чтобы мы оценивали их как произведения искусства. Разница лишь в том, что они «работают» в области современного искусства, которое сосредоточено не столько на создании физического объекта, сколько на идеях: потому его и называют концептуальным. Но это не дает авторам таких работ права подсовывать нам всякий старый хлам. Как справедливо заметил в 1967 году американский художник Сол Левитт в своей статье для журнала «Артфорум», «концептуальное искусство хорошо только тогда, когда хороша идея».
Отец концептуального искусства – Марсель Дюшан, чьи «реди-мейды» – прежде всего писсуар 1917 года – провозгласили решительный разрыв с традицией и заставили сделать переоценку того, что можно и нужно считать искусством. До провокационного вмешательства Дюшана искусство было продуктом человеческого труда; как правило, обладающим эстетической, технической и интеллектуальной ценностью. Его можно было заключить в рамку и повесить на стену или водрузить на постамент, чтобы выглядело красиво. Дюшан настаивал на том, чтобы художников не ограничивали таким набором средств выражения мыслей и эмоций. Он отстаивал приоритет концепции, которая и должна определять, в какой форме ее лучше представить публике. Своим писсуаром он заявил: произведение искусства может существовать не только в виде картины или скульптуры, но и в той форме, в какой его утвердил художник. Теперь искусство сводилось не столько к красоте, сколько к идее, а ее художник вправе передать любыми средствами – от тысячной толпы орущих людей до комнаты, заполненной тальком. Или, как вариант, при посредстве собственного тела, в субжанре концептуального искусства, который стал известен как искусство перформанса.
Весной 2010 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась ретроспектива работ Марины Абрамович (род. 1946), охватывающая более четырех десятилетий творчества художницы. Интересное шоу, но с привкусом элитарности, подумаете вы. Этакая выставка для узкого круга посвященных, из тех, что мировые галереи уровня МоМА проводят, уравновешивая свою программу популистских и прибыльных мероприятий вроде показа хитов Пикассо или шедевров Моне. Для МоМА это был первый опыт подобных проектов, что, учитывая характер искусства перформанса, неудивительно.
«И не забудьте покормить художника на рабочем месте!»
Этот тип искусства более уместен в камерных выставочных пространствах, представленный как озорная вылазка в большой мир, но, во всяком случае, не как главное событие в одном из крупнейших мировых музеев современного искусства. Перформанс-арт – партизанский отряд на фронте изобразительного искусства; он выскакивает неожиданно, впечатляет своей странностью, а потом растворяется в море слухов и легенд. Только недавно музеи начали включать перформанс в свое расписание, но полные ретроспективы, такие как выставка Абрамович, еще крайне редки. Отчасти потому, что возникает немало сложностей с их показом. Чем, например, заполнить километры белых стен галереи, если это искусство подразумевает постоянное присутствие художника? Какой бы талантливой ни была Абрамович, она физически не может находиться в нескольких залах одновременно. И как монтировать ретроспективу эфемерных работ, которые были задуманы как разовые спектакли, рассчитанные на определенное время и пространство? Весь смысл и прелесть таких событий в том, что вы должны при них присутствовать.
Но тогда, если художники и их промоутеры позволят руководить процессом логике, современное искусство, каким мы его знаем, перестанет существовать. МоМА решил следовать заветам своих учредителей: отринул условности и традиции – и организовал шоу Марины Абрамович. Художница остроумно решила проблему личного присутствия: наняла группу дублеров представлять ее предыдущие работы, и они разбрелись по всему музею. Тем временем сама Абрамович сосредоточила свои усилия на новой работе под названием «В присутствии художника» (2010). Она сидела на деревянном стуле посреди огромного атриума МоМА, перед ней был небольшой столик. На противоположной стороне стола, лицом к ней, стоял свободный деревянный стул.
Она просидела на своем стуле в атриуме все семь с половиной часов работы музея, без движения (даже не отлучаясь в туалет). Более того, она выдержала это испытание в течение всех трех месяцев работы выставки. Посетители при желании могли присесть на стул напротив Абрамович (отстояв очередь), смотреть на художницу, исполняющую свой ежедневный ритуал неподвижности, и ощущать себя участником этого перформанса. Сидеть можно было сколько угодно – нельзя было только разговаривать или двигаться. Сколько нашлось нарушителей спокойствия, никто не знает, но вряд ли их оказалось особенно много.
Все-таки искусство способно удивлять. «В присутствии художника» Марины Абрамович стало самым обсуждаемым событием: о нем говорил весь Нью-Йорк, люди выстраивались в огромную очередь, чтобы посидеть в тишине с художником. Некоторые посетители задерживались на минуту-другую, один или двое просидели все семь с половиной часов – к страшному неудовольствию тех, кто томился в очереди. Абрамович же не сходила с места, в своем длинном летящем платье, молчаливая и непроницаемая, как одна из музейных статуй. Те, кому посчастливилось посидеть напротив нее, говорили о глубоком духовном насыщении; или, уходя, рыдали, открыв в себе то, о чем никогда даже не подозревали.
Оказалось, что ретроспектива Марины Абрамович вовсе не элитарное зрелище; это была одна из самых успешных выставок манхэттенского храма современного искусства за всю его историю. Экспозиция пополнила список мегаблокбастеров, встав в один ряд с ретроспективами Пикассо, Уорхола и Ван Гога. И это тем более значимо, что имя художницы до выставки в МоМА отнюдь не входило в число всем известных, а перформанс обычно считался чудачеством, рассчитанным исключительно на фанатов современного искусства. В самом деле, если бы вы лет десять назад спросили у большинства директоров музеев современного искусства о Марине Абрамович, ответом вам был бы недоумевающий взгляд. Ее звезда попала в орбиту мейнстрима мирового искусства лишь в последние несколько лет.
Сам собой напрашивается вопрос: почему? Что заставило публику принять Марину Абрамович в частности и перформанс-арт в целом? И почему столько людей (включая звезд первой величины) повалило в МоМА, чтобы увидеть ее шоу?
Мода – это сила. Перформанс сегодня в авангарде сферы развлечений. Бьорк, Леди Гага, Энтони Хегарти, Виллем Дефо и Кейт Бланшетт – все в один голос говорят о его влиянии на их творчество. На чуть менее хипповом конце спектра – пантомимы актера-комика Саши Барона Коэна. В облике одного из своих альтер-эго – Бората, Али Джи или Бруно – Барон Коэн бросает людям вызов и провоцирует их в надежде вызвать мощную эмоциональную реакцию. Этот перформативный подход опробовали еще в 1960-е годы пионеры перформанса. Даже сегодняшние дефиле моделей, фланирующих по подиуму с безумными прическами и демонстрирующих достижения высокой моды, в чем-то перекликаются с работами Абрамович и ее сподвижников.
Следом за тружениками поп-культуры в орбиту перформанса втягивались крупнейшие мировые музеи современного искусства. В начале 2000-х годов такие учреждения, как галерея Тейт в Лондоне, стали набирать молодых кураторов специально для исследования, разработки и представления перформансных программ. Похоже, музейщики проглядели эту область художественной практики, а теперь спохватились и пытаются успеть поймать модную волну массовых мероприятий и среагировать на бум фестивального рынка. Культурные события стали большим бизнесом, будь то фестиваль поп-музыки или книжная ярмарка, на которые выстраиваются в очереди и стар, и млад, жаждущие «АРТертеймента».
На этой благодатной почве крупные музеи в последнее десятилетие или два преобразились из холодных и пыльных академических заведений в светлые, просторные аттракционы для семейного отдыха. Перформанс позволил им резко увеличить количество посетителей: в развлекательном мероприятии хотят поучаствовать многие. Потребители, которые долго гадали, чем бы еще заняться в свободное время, наконец-то обнаружили искомое в ближайшем к их дому музее современного искусства. Все это стало частью «эмпирического маркетинга» – быстро развивающегося направления индустрии развлечений, включающего сегодня интерактивный театр, флэшмобы, фестивали под открытым небом, когда ночевка в грязном поле – тоже «жизненный опыт». Так или иначе, в музеи, преодолевая всевозможные препятствия, хлынули потоки желающих поучаствовать в «интерактивном» действе – все во имя искусства перформанса.
Какой же долгий путь проделало это движение, зародившееся в эксцентричных хэппенингах в колледже Блэк-Маунтин в начале 1950-х! А начиналось все со спонтанных бессюжетных театральных представлений, совместного творчества студентов и преподавателей с приглашением именитых участников. Главными зачинщиками хэппенингов были художник Роберт Раушенберг и его друг, музыкант и композитор Джон Кейдж со своим любовником, хореографом Мерсом Каннингемом, – он тогда преподавал в колледже. В 1952 году они пригласили зрителей на «вечер мероприятий и событий». Были танцы от Каннингема; выставка картин Раушенберга, который вдобавок притащил «Виктролу», один из первых фонографов; Джон Кейдж с лестницы читал лекцию, которая, в его стиле, перемежалась периодами полной тишины.
Сегодня это представляется обычным студенческим «капустником», но к той троице понятие «обычный» неприменимо в принципе. Они построили представление вокруг лекции Джона Кейджа, задававшей «кадрировку» всех прочих событий, которые, по замыслу авторов, должны были происходить во время ее прочтения. Для усложнения постановки ни один из многочисленных исполнителей не получил конкретных указаний, когда вступать в действие; они должны были полагаться на случай и интуицию. Возник хаос, мероприятие переросло в шумное веселое сборище – так перформанс сделал свой первый осторожный шаг на авансцену.
После успеха мероприятия Кейдж, Каннингем и Раушенберг стали сообща работать над другими проектами. Каннингем танцевал под музыку Кейджа на фоне декораций, разработанных Раушенбергом. Кейдж, проникнувшись настроениями времени, в том же 1952 году представил один из самых выдающихся концертов в истории музыки. Это легендарное событие произошло в концертном зале Мэверик-холл, в нью-йоркском Вудстоке. Все началось с того, что пианист Дэвид Тюдор вышел на сцену и сел за фортепиано. Публика, затаив дыхание, приготовилась слушать последнюю работу Кейджа, независимого композитора, уже успевшего заявить о себе. Но даже эта тусовка свободомыслящих нью-йоркских хипстеров осталась в недоумении, сменившемся злостью, когда услышала (вернее, не услышала) новую композицию Кейджа «4'33"», в которой… не прозвучало ни звука. Тюдор так и просидел за роялем, как обдолбанный зомби, все четыре минуты и тридцать три секунды. Он не пошевелил пальцем – даже клавиш не коснулся. Правда, кое-какие признаки жизни он все же подал: по истечении вышеуказанного времени поднялся со стула и ушел со сцены.
Зал негодовал. Как у этого Кейджа хватило наглости представить заплатившей за билеты публике – которая ему еще и симпатизировала, – музыку, состоящую из тишины? Что за неуважение? В ответ на нападки Кейдж возразил, что «4'33"» – это вовсе не тишина; тишины в природе не существует. Он сказал, что в первом «такте» услышал, как за окном пронесся ветер, а потом капли дождя забарабанили по крыше. Идея его работы, объяснил композитор, не молчание, а умение слушать. Много позже я присутствовал при исполнении этой «пьесы» с участием Мерса Каннингема, давнего соратника и партнера Кейджа. Каннингем к тому времени был одним из главных авторитетов в мире современного танца – исполнитель, известный радикальной хореографией и порывистыми движениями. И лишь «4'33"» он исполнял, сидя неподвижно в удобном красном кресле.
Слухи о выходке Кейджа распространились быстро, и композитор нежданно-негаданно обзавелся преданным фан-клубом богемных личностей, по достоинству оценивших оригинальный голос. Среди его поклонников был Аллан Капроу: американский художник и интеллектуал посещал лекции Кейджа по композиции в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Капроу привлекли интерес музыканта к дзен-буддизму и его готовность использовать случайность как организующий принцип создания произведений искусства. Он восхищался и верой Кейджа в творческий потенциал спонтанности, и его стремлением черпать вдохновение в повседневной жизни. Капроу загорелся идеей отправиться в свободное плавание и открыть новую эпоху в искусстве.
Свои мысли Аллан изложил в статье «Наследие Джексона Поллока», которую написал в 1958 году, через два года после смерти героя публикации. Капроу учился живописной технике абстрактного экспрессионизма и выделял Джексона Поллока как единственного художника этого направления, отмеченного печатью гения. Капроу высоко ценил Поллока за его видение и «непревзойденную свежесть». «[Когда Поллок умер], что-то в нас тоже умерло. Мы были частью его…», – сказал он. И сопроводил эти слова утверждением, что «Поллок уничтожил живопись». Когда Поллок расплескивал, капал и швырял краску прямо на холст у себя под ногами, все называли это «живописью действия». Капроу спорил, заявляя, что Поллок был художником перформанса, который просто использовал краску.
Проблема, как видел ее Капроу, была в том, что «сплошные» картины Поллока оставляли зрителя в некотором недоумении – полотна требовали большего драматизма, но их физически ограничивали рамки холста. Потому Капроу предлагал вовсе убрать холст, а вместо этого «озаботиться и восхититься пространством и объектами нашей повседневной жизни, или же нашими телами, одеждами [или] жилищами…» Капроу заменил холст и краску палитрой осязаемых образов, включая звук, движение, запахи и прикосновения. И добавил широчайший ассортимент рекомендуемых для творчества материалов: стулья, продукты питания, электрический и неоновый свет, дым, воду, старые носки, собак и кинофильмы. В будущем, говорил Капроу, никому не придется называть себя художником, поэтом или танцором; достаточно будет сказать: «я – творец».
Осенью 1959 года в нью-йоркской галерее Ройбен Аллан Капроу представил действо, в котором воплотил многие свои идеи. Он разделил пространство галереи на три части при помощи полупрозрачных перегородок. Перформанс «18 хэппенингов в 6 частях» (1959) был разделен на полдюжины актов, по три хэппенинга в каждом. Всем участникам (из публики и артистов) Капроу написал четкие инструкции на карточках, которые назвал «партитурой». Чтобы внести элемент случайности, он перетасовал карточки, прежде чем раздать их, так, чтобы никто не знал заранее, что кому предстоит делать. Затем участники перемещались в пространстве, следуя полученным инструкциям, до тех пор, пока звонок не возвестит об окончании мероприятия.
Действия, предписанные участникам, должны были отражать «ситуации из реальной жизни», а не надуманную истерию театра, оперы или балета. Никаких изысков, все просто: подняться по лестнице, посидеть на стуле или выжать апельсин.
Капроу экспериментировал в то самое время, когда Джонс и Раушенберг начинали американский поп-арт. Их художественные цели были во многом схожи: преодолеть пропасть между искусством и жизнью. Джонс и Раушенберг делали это, преобразуя товар в искусство, – Капроу добивался аналогичного результата, превращая в высокое искусство обычных людей. Раушенберг выбирал ассортимент обыденных предметов, которые в определенной комбинации раскрывались с неожиданной стороны и представляли целую историю, Капроу проделывал то же самое в хэппенингах с участием живых людей. И пока Раушенберг слонялся в окрестностях своей нью-йоркской студии, выискивая всякую всячину для будущих произведений, Капроу бродил по тем же улицам, думая, что они и есть искусство. «Прогулка по 14-й улице изумляет больше, чем любой шедевр живописи», – сказал он однажды.
Новый реализм
Интеллектуальное любопытство Капроу постоянно давало ему новые источники вдохновения, и одним из них стал французский художник Ив Кляйн (1928–1962). Кляйна особенно интересовало то, что он называл вакуумом, – бесконечное пространство неба над головой, моря у ног. Он выражал свои мистические и философские чувства к «вакууму» через большие абстрактные монохромные картины, которые со временем стали появляться лишь в одном цвете: ультрамарине. Привязанность художника именно к этому оттенку синего, который он придумал и изготовил сам, была настолько сильной, что он назвал краску своим именем и запатентовал как International Klein Blue (IKB), «международный синий Кляйна».
Ив Кляйн был участником французского художественного движения «Новый реализм». Его последователи разделяли стремление других концептуалистов того времени выйти за пределы станковой живописи, которая, как провозгласил их манифест, «отжила свой век». Кляйн поддержал эту идею, обратившись к перформансу серией постановок под названием «Антропометрии» (да-да, от слова «антропометрия», означающего измерение человеческого тела). Вместо того чтобы окрашивать полотна в свой фирменный синий цвет, он пригласил трех обнаженных молодых девушек-моделей и, облив их этой краской, превратил в «живые кисти». После этого Кляйн подвел «кисти» к стоявшим на полу большим белым доскам, покрытым огромными листами бумаги. Девушки должны были прижаться к доскам раскрашенными IKB телами. Получившиеся отпечатки напоминали нечто между доисторической наскальной живописью и стеной спальни эксцентричной студентки-художницы.
Кляйн добавил ощущения перформанса, угостив собравшихся гостей синими коктейлями, а приглашенные музыканты исполнили музыкальную композицию его сочинения «Монотонная симфония» (1947–1948), которая состояла из одного аккорда, непрерывно повторяющегося на протяжении двадцати минут. Со смертью Кляйна (он скончался от сердечного приступа в 1962 году, не дожив и до тридцати пяти) оборвалось оригинальнейшее художественное дарование, задавшее тон будущему концептуализму и искусству перформанса.
Итальянский художник Лючио Фонтана (1899–1968) в конце 1950-х купил одну из ранних монохромных картин «синего периода» Кляйна. Его тоже привлекала идея пространства и пустоты, и он разделял стремление Кляйна испытать холст на прочность и бросить вызов его ограниченным возможностям. Кляйн упорно закрашивал свои полотна одним цветом – Фонтана обрушился на них с бритвенным лезвием. Он назвал это «спациализмом»[32], утверждая, что это искусство ближе всего к науке и технологии. Его изрезанные полотна – а их было много – вошли в серию «Пространственные концепции».
Они являют пример концептуального искусства, которое раздражает людей. Я стоял со многими своими друзьями и знакомыми перед изрезанными полотнами Фонтаны, и они, негодующе тыча в эти картины, задавали мне вопрос: «Скажи, как ТАКОЕ может быть искусством?!» Что ж, даже если не может, я думаю, работы Фонтаны как минимум достойны рассмотрения и оценки.
Возьмем, к примеру, «Пространственную концепцию. Ожидание» (1960). Посмотрите, как диагональный порез вскрывает светло-коричневый холст, обнажая внутреннюю черноту, – это не работа дилетанта или шарлатана, это рука опытного и искусного мастера. Иллюзия глубокой черной пустоты (отсыл к космическому веку) была создана с помощью черной марлевой подложки с обратной стороны холста. Порез (или рана) – с очевидным жестоким, хирургическим и сексуальным подтекстом – настолько тщательно выполнен Фонтаной, что на поверхности не осталось никаких рваных краев, и ничто не мешает нам заглянуть в черную бездну.
Художник представил в этой картине немало интересных идей. Прежде всего это деколлаж – техника создания произведения искусства удалением, а не добавлением элементов. В каком-то смысле вмешательство Фонтаны разрушило прекрасный холст. Но, с другой стороны, это акт созидания: он сотворил произведение искусства. И в процессе сотворения превратил двухмерный объект в трехмерный. А материал, который традиционно служит поверхностью для нанесения краски, трансформировался в скульптуру. Функция холста изменилась: мы не просто смотрим на него – мы в него еще и заглядываем.
Арте повера
Лючио Фонтана, который, обходясь минимумом материалов, достигал максимального эффекта, вдохновил целое поколение итальянских художников на создание нового движения, арте повера, что в переводе означает «бедное искусство». Не в смысле убогое, а создаваемое с использованием простых и дешевых материалов, таких как веники, тряпки и газеты, – все это уже было в ходу у многих других современных мастеров, от Пикассо до Поллока.
Художники арте повера своим творчеством ответили на коллапс итальянской экономики, последовавший за коротким бумом после окончания Второй мировой войны. В отличие от футуристов – прародителей итальянского современного искусства – эти художники хотели восстановить связь современности с прошлым. Их беспокоила тяга общества потребления ко всему новому, которая сочеталась с усугубляющимся невежеством и безразличием к истории. Художники арте повера хотели попытаться не только снять барьер между искусством и жизнью (к этому стремились многие арт-движения), но и стереть границы между разными художественными жанрами: подобную идею в свое время продвигал и Роберт Раушенберг. В том, что со временем получило название «мультимедиа», художник, по мнению итальянцев, должен был стать «мастером на все руки», совместив в своем творчестве живопись, скульптуру, коллаж, перформанс и инсталляцию.
Одним из основателей движения стал Микеланджело Пистолетто (род. 1933). Он хотел вытащить искусство из святилища музея и галереи в реальный мир. В середине 1960-х Пистолетто воплотил свою идею, слепив из газет двухметровый шар, который так и назвал – «Газетный шар» (1966), и выкатив его на прогулку по улицам Турина в компании подоспевших зевак. Это был развлекательный перформанс «Шагающая скульптура» (1967). В тот же год он сделал скульптуру «Венера тряпичная»(1967) (ил. 28) – гора тряпья перед скульптурой Венеры, – объяснив свои намерения желанием «соединить красоту прошлого с катастрофой настоящего». Этот акцент на убожестве и недолговечности культуры потребления усиливается тем, что идеализированная античная богиня, контрастирующая с грудой современных поношенных шмоток, на самом деле дешевая копия статуи, которую Пистолетто отыскал в садовом центре.
Ил. 28. Микеланджело Пистолетто. «Венера тряпичная» (1967)
Его товарищ по арте повера, художник Яннис Кунеллис (род. 1936), поднял антикапиталистическую направленность движения с его «подручными материалами» до высот Швиттерса и Раушенберга. Он создавал искусство из старых кроватей, мешков с углем и зерном, вешалок, камней, ваты и даже живых животных. В 1969 году Кунеллис представил свою инсталляцию «Без названия (12 лошадей)» в одной из римских галерей. Она состояла из 12 живых, фыркающих и ржущих лошадей, которых он привязал к стене галереи на несколько дней. Своей эфемерной работой Кунеллис выразил протест против коммерциализации искусства – продаже произведение не подлежало, зато могло испачкать девственно чистые белые стены современного арт-пространства, на взгляд художника, мало чем отличающегося от автосалона.
Флюксус
Немного нашлось бы автосалонов, рискнувших выставить на обозрение транспортное средство Йозефа Бойса (1921–1986). Немецкий художник и политический активист, родившийся в Германии, сделал арт-объектом микроавтобус «Фольксваген», из которого вываливались санки, 24 штуки, и на каждых – неприкосновенный запас, включающий кусок топленого нутряного сала, фонарик и войлочное одеяло. Он назвал эту работу «Стая» (1969), ассоциируя санки с собачьей упряжкой, и описал произведение так: «аварийный объект… автобус “Фольксваген” имеет ограниченную полезность, и, чтобы выжить, необходимо прибегнуть к более примитивным, зато надежным средствам спасения». Сегодня «Фольксваген» – это классика автомобиля, а «Стая» – классика Бойса. Когда-то многие считали его сумасшедшим – сегодня Бойс стал иконой современного авангарда, и его называют одним из самых значительных художников второй половины XX века. И я, пожалуй, с такой оценкой соглашусь.
В «Стае» много символов, которые появляются в работах Бойса на протяжении всей его карьеры: войлок, жир, выживание и ощущение сырости. Истоки всех этих мотивов следует искать в его боевом прошлом (возможно, выдуманном). Впрочем, во время Второй мировой войны он в самом деле служил в люфтваффе. Бойс рассказывал, что его самолет разбился в Крыму и он выжил только благодаря татарам-кочевникам, которые растирали его жиром и укутывали войлоком.
Нет никаких сомнений в том, что Йозеф Бойс действительно был ранен на войне, но более глубокой (как говорил он сам) оказалась душевная рана от растущего чувства вины за военные преступления – свои и Германии. Первые послевоенные годы были трудными для немецкого художника, глубоко привязанного к своей стране с ее традициями и фольклором. Ответом Бойса стала его активная просветительская деятельность и политическая активность (он участвовал в создании Партии зеленых). Его работы были антитезой стерильному единообразию и монументальности нацистов. Бойс создавал произведения искусства из мертвых животных, грязных тряпок и причудливых идей.
Он нашел родственную душу – Джорджа Мачюнаса (1931–1978), американского художника литовского происхождения, который жил в Германии и как графический дизайнер выполнял заказы для ВВС США. В конце 1950-х – начале 1960-х Мачюнас часто бывал в Нью-Йорке, где встречался со многими ведущими деятелями культуры, в том числе с Джоном Кейджем, который произвел на него глубокое впечатление. Особый интерес вызвали у Мачюнаса Марсель Дюшан, хэппенинги Капроу, новый реализм и цюрихские дадаисты. Все это привело Джорджа к разработке собственной концепции неодадаизма – Мачюнас назвал его «флюксус» (от латинского «fluxus» – течение, поток). Он написал «Манифест флюксуса» (1963), в котором потребовал очистить мир «от буржуазной тошноты, интеллектуальной, профессиональной и коммерческой культуры». Джордж Мачюнас обещал, что флюксус будет «развивать живое искусство. И сделает так, что культурные, социальные и политические революции сольются в единую акцию». Под этим подписался и Йозеф Бойс.
Бойс любил сливать все и вся во имя искусства и для укрепления потенциала флюксуса сам влился в ряды нового движения. Перформанс продемонстрировал, что художник может быть средой для своего искусства; Бойс пошел еще дальше и сам стал произведением искусства. Его «я» – как на сцене, так и вне ее – оставалось неизменным. И поскольку его работы не имели четко узнаваемого стиля (в отличие от Уорхола, чьи попытки проникнуть в тайны мира консюмеризма закончились, как известно, тем, что он сам превратился в бренд), Бойс сам стал объединяющим фактором как персонаж.
А персонажем Йозеф Бойс был тем что надо. Его эксцентричные лекции, дебаты и перформансы получили признание у критиков и людей искусства: во всем, что он делал, чувствовалась энергетика, сила воображения – и хаос. В одном из своих перформансов под названием «Я люблю Америку, и Америка любит меня» (1974) Бойс на неделю заточил себя в клетке с койотом. Довольно странно. Но, согласитесь, не более странно, чем другой его перформанс, который у всех на слуху: «Как объяснять картины мертвому зайцу» (1965) – одно из тех событий, за участие в котором я бы многое отдал.
Бойс спокойно сидел на стуле в углу галереи Альфреда Шмелы в Дюссельдорфе; его голова была залита медом и щедро осыпана золотыми листьями. В руках он держал мертвого зайца и смотрел на него в упор. Потом встал и прошелся по залу, разглядывая картины на стене. Время от времени Бойс поднимал мертвого зайца повыше, чтобы показать ему картину, и что-то шептал ему на ухо. Иногда умолкал и снова садился, при этом совершенно не замечая собравшихся вокруг. Так продолжалось три часа.
Зрители стояли как завороженные. Бойс позже пояснил, как захватил их воображение: «Это, должно быть, оттого, что все… признают проблему объяснения смысла вещей, особенно если это касается искусства и творчества». Может быть. Я бы подумал, что публика просто недоумевала и веселилась. Бойс любил животных и считал, что даже у мертвых зверьков «интуиции больше, чем у некоторых людей с их упрямой рациональностью». Объясняя мертвому зайцу картины, Бойс, по его словам, «передавал ощущение тайны мира». Перформанс
Бойса – я имею в виду все его работы в этом жанре – не сводился к его акциям и идеям, он охватывал и ответную реакцию аудитории. «Интервенции» Бойса вызывали у зрителей неловкость, ведь они принуждали переходить из привычной индифферентности в состояние обостренного восприятия и самоосмысления. Можно сказать, что его искусство перформанса было совместным предприятием.
Эту концепцию поддержала и другая представительница флюксуса, Йоко Оно (род. 1933), одной из своих первых работ в жанре перформанса. «Отрежь кусок» (1964) – тревожная и мощная акция, которая демонстрирует (с неутешительными последствиями), как публика может стать неотъемлемым элементом искусства. «Отрежь кусок» начинается с того, что Оно сидит в одиночестве, безучастная и молчаливая, на полу сцены, поджав под себя ноги. На ней простое черное платье. В двух шагах от нее ножницы. Как только зрители расселись, их пригласили подходить по одному, брать в руки ножницы и отрезать по кусочку от платья Оно. Первая реакция публики была робкой и осторожной. Но постепенно люди все увереннее и смелее подходили и кромсали платье художницы.
Если сегодня вы посмотрите в Интернете запись этого события, то станете свидетелями ужасающего зрелища, атмосферой напоминающего сексуальное насилие. Оно обнажает истинную природу человека и отношений, правду о насильниках и жертвах, о садизме и мазохизме. Такого поразительного эффекта не в силах добиться ни одна картина или скульптура. Это не театр – здесь нет вымышленной истории с предопределенным финалом, как нет и расписанных ролей участников действа. Но, как и в любом произведении искусства перформанса, в нем есть сюжет: разговор художника со зрителями, поведение которых непредсказуемо, как и то, во что все это выльется. Если искусство призвано пробудить наши чувства, бросить нам вызов, помочь нам понять себя, по-новому взглянуть на себя и на мир, то «Отрежь кусок» Оно можно считать шедевром.
Концептуальное искусство
«Порой мне хочется поменьше концептуализма и побольше локализации»
Художники-концептуалисты, которые, как правило, не работают перед аудиторией, тем не менее тоже используют перформанс и собственное тело как средство выражения. Такие мастера, как Брюс Науман (род. 1941), сделали карьеру, документируя свои акции, а затем демонстрируя публике фотографии и видеоролики. Такой подход к концептуальному искусству Науман принял для себя вскоре после того, как в 1966 году получил дипломом магистра искусств – именно тогда он задумался, чем бы ему заняться, какое искусство создавать.
Позже Науман вспоминал этот момент: «Если я художник и я в мастерской, то все, что я там делаю, это искусство». Но почему, задался он вопросом, искусством должен быть продукт, а не действие? И Науман стал всерьез заниматься самим процессом создания произведения – действием не менее ценным, чем конечный результат. Плодом его усилий стала фотографическая работа «Не сумев воспарить в мастерской» (1966): художник запечатлел свою неудачную попытку левитации между двух стульев. Фотография представляет Наумана в двух состояниях: когда он лежит на стульях – голова на одном, ноги на другом – и когда сидит ссутулившись на полу уже после приземления. Так он задокументировал тщетные попытки совершить невозможное: это его жизнь, а может, и жизнь каждого из нас. Перед нами абсурдистское произведение, в котором за перевернутыми стульями и ушибленной задницей художника сквозит наглая ухмылка Марселя Дюшана.
В следующем, 1967 году Науман снял на видео «Танец, или Хождение по периметру квадрата» – десятиминутный фильм в циклической записи. Брюс босиком, в черной футболке и джинсах. На полу метровый квадрат из белой клейкой ленты. На каждой стороне квадрата кусочек ленты маркирует середину. Науман начинает танец в одном из углов и делает шаг к середине, таким образом отмечая половину длины. Он повторяет движение снова и снова, двигаясь кругом по всему периметру квадрата в заданном метрономом частом ритме.
Цель достигнута. Перед нами – жизнь. Науман – объект, представляющий человечество, которое не совершенствуется, не двигается вперед, но бесконечно повторяет само себя. Метроном символизирует неумолимость времени, задающего ритм нашей жизни. Мастерская – пространство, в котором обитают время и объект. Науман превратил идею съемки простых, повседневных движений – шаг за шагом – в интригующее произведение искусства. Повторение – важный компонент: оно говорит об одержимости, о процессе и в конечном счете о состоянии души. Это история без начала и конца – жизнь просто продолжается. Науман хочет, чтобы кажущаяся бессмысленность произведения затянула нас, заставила замедлить шаг, остановиться на полпути и оглядеться по сторонам, подумать… может, тогда мы что-то начнем понимать?
Мы все грешим тем, что бываем в художественных галереях наскоком, в спешке: глянуть на картины Ван Гога, наткнуться на скульптуры Барбары Хепворт, проглотить чашечку кофе, схватить открытку. С Науманом такое не пройдет. Если пролететь мимо «Танца по периметру квадрата», никакого впечатления не останется; зато если не пожалеть немного времени, усилия окупятся. Искусство Наумана о многом, но прежде всего – об осознании.
К этой теме художники обращались не раз, по мере того как крепли позиции концептуального искусства. Франсис Алюс (род. 1959) придумал серию «акций», в центре которых его прогулки по Мехико – городу, где Франсис сейчас живет. Их цель – показать нашу вечную занятость, не позволяющую замечать то, что нас окружает.
В своем фильме «Собиратель» (1990–1992) Алюс везет по улице игрушечную собачку на магнитных колесах, к которым липнут кнопки, монеты, металлическая фольга. Это работа «археолога сегодняшнего дня»: он изучает современную культуру, собирая артефакты и останки нашей суматошной жизни. В перформансе «Воспроизведение действия» (2000) представлена другая история: Алюс заходит в магазин оружия в Мехико, покупает 9-миллиметровую беретту, заряжает и отправляется гулять по улицам, держа пистолет в правой руке, у всех на виду. Так он задокументировал отношение города к насилию и оружию. Художнику было интересно выяснить, проигнорируют его выходку, вовсе не заметят или же его немедленно схватят? В общем, он спокойно бродил по улицам целых одиннадцать минут, пока полиция не опомнилась и не провела задержание в свойственной ей брутальной манере. Это была часть первая.
Часть вторая воспроизводила хронику следующего дня, когда полицейские, что удивительно, не только разрешили продолжить съемки, но и согласились принять участие в фильме. События разворачивались по тому же сценарию, только теперь арест в конце был постановочный. На этот раз цель состояла не в том, чтобы прокомментировать отношение жителей Мехико к преступности или бдительность полиции. Смысл воспроизведения действия в том, чтобы показать фальшь документального кино в целом и сцен с захватом в частности. Алюс заставляет нас осознать, что и в его сюрреалистических выходках, за которыми мы наблюдаем в галереях, и в любом документальном фильме, который смотрим по телевизору, всегда присутствует элемент посредничества, субъективности и постановочности.
Завуалированную правду обнажает своим концептуальным искусством скульптор Ричард Лонг (род. 1945). Лонг, как и Алюс, любит прогуливаться по улицам, отмечая последствия нашего вмешательства в окружающий мир. Но если Алюс документирует реакцию других на его работы, то Ричард Лонг фотографирует собственные композиции. Это не репортажная фотосъемка, а тщательно спланированное и подготовленное событие. Лонгу было всего двадцать два, когда он создал «Протоптанную линию» (1967). Возвращаясь домой с занятий в Лондонской школе искусств, он остановился на полпути и решил походить взад-вперед по лужайке, пока не протопчется тропинка, которую он потом и сфотографировал. Получилась простая, но трогательная работа о существовании Человека на Земле. Она в высшей степени оригинальна и в то же время перекликается с работами предшественников: от Джексона Поллока с его энергичной живописью ногами до Барнетта Ньюмана с картинами-«молниями» и аскетического дизайна Баухауса.
Это один из первых опытов лэнд-арта, движения внутри концептуального искусства, заявившего о себе в конце 1960-х – начале 1970-х. Наиболее известной работой в этом направлении можно назвать «Спиральную дамбу» (1970) Роберта Смитсона (1938–1973). Эта монументальная земляная скульптура на берегу Большого Соленого озера в штате Юта построена из глины, земли, воды, кристаллов соли и обломков базальта. «Дамба» уходит в озеро закрученной против часовой стрелки спиралью длиной 460 метров, шириной – 4,6. Эта дорога в никуда внешне напоминает и человеческое ухо, и скрипичный ключ, и раковину улитки. Спираль обладает мистическими и символическими свойствами; в ней соединились античность и современность, абстракция и буквальность. Смитсон полагал, что выставки в музеях исчерпали себя, и, как и Ричард Лонг, решил делать искусство из природы и на природе.
Вдохновение Смитсон черпал в своих разнообразных занятиях. Антропология, лингвистика, естествознание, картография, кино, термодинамика, научная фантастика и философия – все слилось в его работе, существующей как будто вне времени, но при этом оригинальной и мрачно пророческой. Смитсон говорил, что «художник ищет… ту фантастику, которой рано или поздно обернется реальность». В 1973 году крушение самолета, откуда художник фотографировал очередной объект лэнд-арта, не позволило Смитсону увидеть, как сбывается его пророчество. Такая возможность есть у нас. «Спиральная дамба» – о взаимоотношениях человека с окружающей средой. Большую часть из тех сорока с лишним лет, что прошли со времени создания монументальной земляной скульптуры Смитсона, она оставалась практически невидимой, погруженная в воду. Только в засуху ее инкрустированные солью гребни могут прорваться сквозь поверхность воды, и тогда она, как священное чудовище, поднимается из глубины. Художник работал над скульптурой, когда уровень воды в озере был низким – и оставался таким в течение многих лет. Но вот уже три десятилетия дамба скрывается под водой.
«Спиральная дамба» стала самым большим в мире барометром: она измеряет состояние наших отношений с природой, определяет степень влияния консюмеризма и глобализации на поведение человека. «Концептуальное искусство хорошо только тогда, когда хороша идея», – заметил как-то Сол Левитт. Так вот, «Спиральная дамба» Роберта Смитсона – это очень хорошая идея.
Глава 18 Минимализм: без названия, 1960-1975
Все мы видели их, находились рядом с ними – этими спокойными и задумчивыми молчунами. Они обладают мощной внутренней силой, им никогда не нужно прогибаться, идти на компромисс; они окружены особой аурой, требующей уважения. Они не вульгарны, в них есть свой шик и стиль, они держатся с достоинством, заставляя всех вокруг чувствовать себя идиотами. Да, еще в них есть некоторая холодность, загадочность.
О чем это я? Конечно, о минималистских скульптурах. Об этих лаконичных, строгих трехмерных кубах и прямоугольниках, сделанных из промышленных материалов; немые стражи, они занимают выгодные позиции и доминируют в пространстве галереи. Они – продукт 1960-х годов наряду со студенческими протестами и свободной любовью. Разве что эти молчащие произведения искусства рассчитаны не на эмоции, а скорее на вдумчивое созерцание. В них есть некая сдержанная прозаичность – антитеза пафосной болтовне окружающего мира.
Минимализм появился под влиянием самых разных факторов – начиная от Пенсильванской железной дороги и заканчивая сюрреализмом Андре Бретона. В нем очень много модернистской эстетики Баухауса, щедро приправленной русским конструктивизмом. И, при всей своей очевидной пассивности, эти скульптуры на самом деле тесно связаны с искусством перформанса, где зритель выступает в качестве исполнителя. Потому что в сознании скульпторов-минималистов их работы по-настоящему «оживают» только среди людей. Тогда они выполняют задачу, ради которой и были созданы: повлиять на то место, где они установлены, и, самое главное, на тех, кто в нем находится. Речь не о том, чтобы мы просто полюбовались их угловатой элегантностью; мы должны осознать, как их присутствие изменило нас и окружающее пространство.
Я с опаской использую слово «скульптура» для описания трехмерных минималистских работ, поскольку художники-минималисты давно отказались от этого термина, связанного с искусством иллюзии, иначе говоря, с традиционной скульптурой из материала, который скульптор обработал, чтобы придать ему сходство с каким-то существом или предметом (скажем, кусок мрамора, преобразованный в человеческую фигуру). Для минималистов это было неприемлемо, они все понимали буквально. Если уж делали объект из дерева, стали или пластика, так и получался объект из дерева, стали или пластика, и не более того. Для описания своих произведений они придумали альтернативный словарь. Одним из первых в нем появилось словечко «объект». Не бессмысленно, хотя и не слишком образно; в конце концов, скульптура действительно является объектом. Следующие два определения страдали той же проблемой чрезмерной буквальности: «трехмерная работа» и «структура». Наконец (не иначе как от отчаяния) было введено слово «предложение». Мало того что несколько унизительное, да и вообще двусмысленное, оно представлялось совершенно неуместным, когда речь заходила о металлическом кубе, занимающем площадь в два с половиной квадратных метра. Это, я бы сказал, не предложение – это заявление. Так что из чисто рациональных соображений я пойду наперекор воле скульпторов-минималистов и все же назову их объемные творения все тем же словом: скульптуры.
Искусство минималистов в каком-то смысле ничем не отличается от искусства любого другого времени. В конце концов, искусство всегда стремилось создать из хаоса некоторый порядок. Принципами упорядочения могут быть решетки «Де Стиль» или пересекающиеся плоскости кубизма. Даже анархический нигилизм дада ставил своей задачей избавить мир от разложения и упадка и установить новый мировой порядок. В общем, цель всегда была одна: поставить жизнь под контроль. Просто минималисты работали над этим чуть активнее, чем все их предшественники. В списке «активистов» – сплошь американцы, все мужчины, все белые, и это тоже в какой-то степени отражение природы минимализма.
Итак, перед нами еще один джентльменский клуб современного искусства. Посмотрите на работы его участников – все, как одна, с мужским характером. Художники этого направления тяготели к серьезному искусству, с холодным механистическим качеством и маниакальным вниманием к деталям. Рука художника и его присутствие здесь почти незаметны – произведение искусства больше напоминает продукт промышленной сборки. В минималистских скульптурах нет той романтики, которая передается физическими усилиями ваятеля, работающего, например, с камнем. У минималистов процесс обходится без кровавых мозолей и взмокшего от пота лба. Возможно, все это присуще труду сварщика, плотника или монтажника – но только не художника.
Минималисты больше напоминают архитекторов, которые составляют планы, отдают распоряжения и контролируют процесс производства. В этом нет ничего плохого; всем известно, что великий фламандец Питер Пауль Рубенс привлекал помощников, чтобы те писали для него картины. Но он это делал лишь с целью повысить производительность труда (иными словами, авторство идеи «художник-бизнесмен» принадлежит вовсе не Уорхолу, Кунсу или Херсту), а заодно учил подмастерий имитировать его стиль. Минималисты же стремились действовать наоборот. Как и художники американского поп-арта, они хотели обезличить произведения, удалить из них все следы своего присутствия и авторскую субъективность.
Их задачей было заставить зрителя взаимодействовать непосредственно с физическим объектом, не отвлекаясь на личность творца. Некоторые, как Дональд Джадд (1928–1994), даже перестали давать своим произведениям названия. В результате мы видим огромное количество работ Джадда, гордо носящих одно и то же имя – «Без названия», и лишь дата работы помогает сузить поиск. Может показаться странным, но Джадд, как и другие минималисты, верил в необходимость удаления всех лишних деталей: «Чем больше в работе элементов, тем быстрее их упорядоченность становится главным в произведении и, таким образом, уводит от формы».
Дональд Джадд начинал как абстрактный экспрессионист – огромными полотнами с преобладанием кроваво-красного цвета – красного кадмия. Впоследствии он отказался от абстрактного экспрессионизма и станковой живописи, но сохранил верность красному кадмию. Отказаться от холста Джадда заставила его минималистская философия. Проблему живописи Джадд видел в том, что зритель не воспринимает холст и изображение как единое целое. Когда мы смотрим на картину – даже если это плоская монохромная абстракция, – то думаем только об образе и не пытаемся выяснить, на чем все это нарисовано. Зачем, ведь смысл не в этом? Но, с другой стороны, утром, надевая рубашку или вытираясь полотенцем, мы почему-то думаем о материале и о том, что на нем написано или нарисовано, воспринимая этот объект уже как единое целое. Именно к такой целостности стремился Джадд в своем творчестве. Он нашел ее в скульптуре.
«Без названия» (1972) (репр. 27) представляет собой открытый полированный медный ящик чуть меньше метра высотой и чуть более полутора метров шириной. Дно Джадд окрасил своим любимым красным кадмием. И… э-э… собственно, все. «Без названия» ничего не символизирует и ни на что не намекает. Это всего-навсего медный ящик с красным дном. Но как же так – ведь это произведение искусства? В чем же его смысл? Ответ простой: в том, чтобы просто увидеть и оценить предмет с точки зрения эстетической и физической: как он выглядит, какие чувства вызывает. Никто не требует от вас интерпретировать работу и уж тем более искать в ней скрытый смысл, которого нет. И это, на мой взгляд, облегчает зрителю задачу. На сей раз от него не ждут никаких специальных знаний, ему просто нужно принять решение: нравится или нет.
Мне – нравится.
Я нахожу эту простоту завораживающей, текстурированная поверхность медного ящика кажется мне теплой и звонкой, а элегантные острые углы рассекают окружающее пространство с точностью лазера. Подойдите на шаг ближе, и вы увидите, как из чрева ящика поднимается красный вулканический пар, оттеняя бритвенную остроту краев. Если вы наклонитесь и заглянете внутрь, то увидите, что эффект дымки, создаваемый красным кадмием, вызывает воспоминания о позднем летнем закате. Внутренние стенки из меди как будто тонут в красном вине. Вы тоже ощутите его пьянящее действие, когда, постояв подольше, различите два куба, затем три, а потом и целое множество, по мере того как блестящая медная поверхность будет творить свою оптическую магию.
В этот момент вам, наверное, захочется отойти и присмотреться к тому, как это было сделано (рабочими по техническому заданию Джадда). И вы увидите все мелкие погрешности, неровную текстуру меди, вмятины и царапины. А еще вы наверняка заметите, что бока не идеально ровные, а пара болтов вкручена слишком глубоко. Это несовершенства жизни, их не скроешь, как ни старайся. Сделайте шаг назад и обойдите ящик кругом – вы будете поражены тем, как медь усиливает ваше внимание к переменчивому дневному освещению, что в свою очередь повышает общую восприимчивость к физической среде. А потом, уже по пути в другой зал, вы обязательно обернетесь и бросите прощальный взгляд на объект – гарантирую. И медный ящик с ярко-красным дном врежется вам в память навсегда, потому что он попросту красив.
Джадд отказывался от всего, что могло бы помешать раскрыть природу материала или отвлечь зрителя от чистого созерцания. Медная коробка, как, собственно, и в той или иной степени все скульптуры Джадда, позволяет зрителю застыть в настоящем времени. В его работах нет ни истории, ни аллегории, так что голову ни над чем ломать не нужно. Ничто не отвлекает. Джадд считал, что идея спонтанности уже полностью воплощена Поллоком в капельной живописи. Он принимал как должное, что «мир на девяносто процентов состоит из вероятности и случая». Эта мысль стала для Джадда отправной точкой. Вот зачем он и упростил свою работу – чтобы исключить случайность.
Правда, художник все-таки положился на волю случая, когда затеял серию «стопок» – таких как «Без названия (Стопка)» (1967), которая напоминает дюжину торчащих из стены, одна над другой, полок. Сделать фрагментированную скульптуру, когда твоя основная цель – представить единый и несложный объект, – затея рискованная. Но Джадд в себе уверен. Каждая полка, или шаг, произведена из оцинкованной стали и покрашена зеленой краской. 12 единиц, изготовленных в металлическом цехе в Нью-Джерси, абсолютно идентичны. Пожалуй, Джадд при всем желании не смог бы сделать больше, чтобы дистанцироваться от живописной техники абстрактных экспрессионистов.
Он протестовал против романтического мифа о том, что взмахом кисти художник может передать какую-то мистическую внутреннюю правду. Джадд был рационалистом до мозга костей. С помощью монотонного повторения он развенчивает идею, будто каждое живописное движение несет свой особый смысл и заслуживает внимания. По его мнению, смысл можно найти только в абстрактном единстве. Скульптурой «Без названия (Стопка)» Джадд добился того, что 12 отдельных элементов выступают как единое целое. На самом деле в этой работе 23 отдельных элемента. Это 12 полок и 11 пространств между ними. Каждый «шаг» глубиной 22,8 сантиметра, расстояние между полками тоже 22,8 сантиметра. В отличие от традиционной скульптуры в этой работе нет никакой иерархии; нижняя ступенька (цоколь) имеет такую же ценность, как верхняя (венец творения). Всю конструкцию удерживает вместе – и в этом гений Джадда – нечто невидимое. Автор назвал это поляризацией; мне больше по душе слово «напряжение».
Похожую идею можно разглядеть в картинах Фрэнка Стеллы (род. 1936). Он был почти на десять лет моложе Дональда Джадда, но прошел почти такой же путь, начав с абстрактного экспрессионизма и разделяя недовольство Джадда ограниченными возможностями искусства своего времени. Когда ему было двадцать три, Стелла остановился на упрощенной версии абстрактного экспрессионизма и уже в ней состоялся как крупный художник. Дороти Каннинг, всеми уважаемый куратор МоМА, заметила «Черные картины» молодого Фрэнка в нью-йоркской студии в 1959 году и была поражена их простотой и оригинальностью.
Одна из этих картин, «Союз разума и нищеты, II» (1959), содержит две идентичные черно-белые фигуры, изображенные бок о бок. В середине каждой фигуры оставлена тонкая полоска незакрашенного холста, опускающаяся на две трети высоты полотна. Полоска обведена толстой черной линией в форме буквы П. И далее мотив повторяется: вокруг П остается тонкая линия холста, в свою очередь обрамленная черной каймой. В результате получилась картина, заставляющая вспомнить костюмную ткань.
Каннинг решила включить работы Стеллы в экспозицию выставки американского авангарда. Для этой выставки она отобрала «Комбинации» Раушенберга, «Мишени» и «Флаги» Джаспера Джонса (источники вдохновения для Стеллы) и работы ряда других художников. Выставка «Шестнадцать американцев» (МоМА, декабрь 1959 – февраль 1960) должна была заявить о новых веяниях в художественном мире, возникших после того, как современное искусство вырвалась из-под контроля эмоциональной живописи первых абстрактных экспрессионистов. Критики встретили работы молодых – и прежде всего картины Стеллы – без особого энтузиазма. Кто-то назвал его работы «невыразимо скучными». Джадд так не думал. Он точно знал, чего добивался Стелла, потому что сам пытался достичь того же, только в скульптуре. Это была буквальность, прямота; или, как ответил Стелла на просьбу объяснить его картины: «То, что вы видите, – это то, что вы видите». Джадд пришел к исключению всех лишних элементов ради упрощения. Стелла выбрал симметрию как бесконечный повтор одного и того же изображения. Это был минималистский подход.
Стелла, как и Джадд, хотел убрать из своих работ любой намек на иллюзию. Он делал это и своими черно-белыми картинами, и цветными – такими как Hyena Stomp (1962). Здесь Фрэнк использовал 11 цветов (оттенки желтого, красного, зеленого и синего), из которых сложил узор наподобие лабиринта, по спирали закручивая его из центра в конечную точку в правом верхнем углу, что слегка нарушает симметрию композиции. Стелла играет с идеей синкопы, неожиданно меняя ритм. Картина названа по композиции джазового музыканта Джелли Ролла Мортона. Это полотно также демонстрирует, насколько далеко Стелла ушел от первоисточников абстрактного экспрессионизма. Хотя его картины в высшей степени абстрактны и экспрессивны, очевидно, что они заранее продуманы. Поллок в своих спонтанных порывах был верен автоматизму сюрреалистов. Стелла в этом смысле ближе к концептуализму – он ничего не делал просто так. Для Фрэнка главной была мысль; живописью, как он считал, может заниматься любой человек.
Влияние Фрэнка Стеллы на минимализм трудно переоценить. Он дал интеллектуальный стимул Джадду а замечание, которое он сделал Карлу Андре (род. 1935), в корне изменило жизнь скульптора.
Это произошло, когда Стелла и Андре вместе снимали студию в Нью-Йорке в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Андре был в восторге от симметричных концентрических картин Стеллы, с другой стороны, он оставался преданным поклонником Константина Бранкузи и работал над деревянным тотемным столбом в примитивном стиле румынского скульптора. Андре деловито вырезал по дереву какие-то современные геометрические фигуры, когда подошел Стелла и сказал, что получается «чертовски хорошо». Потом обошел столб, остановился с обратной стороны, которой еще не коснулась рука Андре, и проронил: «Знаешь, а это тоже хорошая скульптура». Кто-то, наверное, и рассердился бы, услышав после долгих часов кропотливой работы над одним фрагментом, что нетронутая часть не хуже. Но только не Андре – он согласился, ответив: «Да, она действительно намного лучше, чем выпиленная». Поразмыслив, Карл понял, что его усилия умалили значимость объекта как произведения искусства. Позже он вспоминал то мгновение: «И тогда я решил, что больше не буду выпиливать деревяшки… я буду представлять их в пространстве».
Что он и сделал. Для Андре скульптуры были больше похожи на то, что мы сегодня называем инсталляцией; то есть произведениями искусства, призванными физически реагировать и влиять на пространство, в котором они установлены, и на тех, кто в этом пространстве присутствует. Когда это возможно, Карл предпочитает участвовать в установке своих скульптур для экспозиции в галерее. Точное расположение скульптуры и то, как она включена в пространство, чрезвычайно важно для Андре, ведь от этого зависит вся композиция. Потому удивительно, что его скульптуры, созданные в расчете на взаимодействие с окружением, так легко пропустить, когда смотришь экспозицию. Как и другие скульпторы-минималисты, Андре отказался от постамента – он ставил свои произведения прямо на пол. Это, по его замыслу, добавляет «прямоты» и дистанцирует его работы от фигуративной скульптуры прошлого. В принципе нормально, но для автора, создающего скульптуру из небольших и плоских кусков промышленных материалов, это создает некоторые проблемы. Его скульптуры поневоле становятся частью пола; это, конечно, новаторский подход, но в результате зритель может их попросту не заметить. Я сам не раз был свидетелем того, как посетители спокойно перешагивали через напольную скульптуру – как через коврик у двери.
Пожалуй, наибольшую известность принесла Карлу Андре скульптура «Эквивалент VIII» (1966) – 120 огнеупорных кирпичей, уложенных в два слоя в форме прямоугольника; это за нее Тейт досталось от СМИ в 1976 году. Скульптура как нельзя лучше отражает минималистский стиль Андре, поскольку она сделана из промышленного материала, в ней отсутствует иерархия элементов, и в ее основе лежит имперская система мер. Она в высшей степени абстрактна, лаконична, симметрична, тщательно выстроена и лишена даже намека на художественные излишества. Скульптор сделал «Эквивалент VIII» максимально обезличенным, чтобы у зрителя не было ни малейшего интереса к автору – как и возможности «прочитать» работу. Он не хочет, чтобы мы думали, будто «Эквивалент VIII» может быть чем-то другим, кроме того, чем он является: прямоугольником, выложенным из 120 огнеупоров.
В отличие от других минималистов, да и вообще от почти любого мастера творящего, Андре не использовал болты, клей, краски, чтобы связать воедино отдельные элементы своей композиции, они остаются свободными. Но в то же время они сцеплены; не физически, а в том же смысле, что и «стопки» Джадда. Оба стремились к тому, чтобы их работу воспринимали как единое целое. Не скрепляя кирпичи (он попросту клал их рядом или друг над другом), Андре, по сути, создавал то же напряжение между ними, как и Джадд, оставивший пространство между окрашенными «шагами» своих «Стопок». Щели между кирпичами как раз и создают впечатление прочной связанности.
Такой подход Андре к целостности был чреват определенными проблемами. Известно немало случаев, когда посетители утаскивали «кусочек Андре», припрятывая кирпичи и другие стройматериалы из его скульптур под свитерами и куртками. Для них забава, для Андре (как и для музейщиков) – головная боль. Особенно в 1960-х, когда он только начинал и с деньгами было туго, а материалы стоили дорого. Безденежье вынудило Карла Андре пополнять свой скромный бюджет, подрабатывая кондуктором на Пенсильванской железной дороге. Эта работа в конечном счете помогла ему прийти к славе и, если не к богатству, то во всяком случае к комфортной жизни.
У нас скульптура обычно ассоциируется с вертикалью. Андре видит ее иначе. Как известно, он был человеком горизонтали: сказались годы работы на «железке». Наблюдая за дорогой из кабины машиниста, он видел в ней – в милях ржавых рельсов с равномерными горизонталями деревянных шпал – потенциал для скульптуры, то, что потом станет основой его творчества. Взять, к примеру, скульптуру «144 квадрата магния» (1969), которая состоит из 12 рядов по 12 квадратных магниевых пластин (он сделал еще пять версий – с алюминием, медью, свинцом, сталью и цинком) – всего 144 штуки. Все пластины одинакового размера – по 12 дюймов (30 см) – выложены в один большой квадрат размером 3,6 метра. Ну вот мы и вернулись на территорию эквивалентов Карла Андре. За исключением того, что на этот раз он обращается к посетителю с приглашением пройтись по его напольной скульптуре, «оставив на ней свой след». Впрочем, истинный мотив у Андре был посложнее. Художник рассчитывал, что опыт хождения по магниевым пластинам поможет посетителю прочувствовать физические свойства материала.
Эта идея восходит к русским конструктивистам, и прежде всего к Владимиру Татлину, чьим поклонником был Карл Андре. Свой «Угловой контррельеф» Татлин тоже очистил от всех символических значений, чтобы побудить зрителя рассмотреть материалы, из которых сделан объект, и почувствовать эффект его воздействия на окружающее пространство. Этот подход к искусству был близок к тому, к чему пришли американские минималисты через полвека. И за что они были очень благодарны русскому конструктивисту. Но никто из них не расстарался так, как Дэн Флавин (1933–1996), посвятивший 39 скульптур основоположнику конструктивизма.
В то время как Татлин конструировал свои работы из материалов, используемых для строительства современных ему зданий начала XX века (алюминий, стекло и сталь), Флавин в духе времени предпочел люминесцентные лампы. У Татлина выбор материалов был выражением его поддержки революционных идей новой России. У Флавина он продиктован стремлением объединить историю искусства и современность. Свет всегда был неотъемлемой частью художественной практики. Собственно, художник может видеть и творить, только когда есть свет. Караваджо и Рембрандт писали свои великие картины, используя технику кьяроскуро, подчеркивая контраст между светом и тенью. Классики – от Тернера до импрессионистов – постоянно пытались передать мимолетные эффекты света. Ман Рэй описывал рэйограммы и соляризацию как «живопись светом». Наконец, не будем забывать про религиозный и духовный подтекст света, вспомним Библию: «И сказал Бог: да будет свет», «И назвал Бог свет днем» или «Я свет миру».
Флавин считал флуоресцентный свет «анонимным и безразличным»: символом века, который приносит лишь «ограниченный свет». Он и любил его за безликость, этот продукт массового производства, видел в нем материал, соединяющий искусство с «повседневной жизнью». Но, как и коллеги по цеху минималистов, художник настаивал на том, что в его работах нет никакого скрытого смысла: «Это то, что есть, и ничего больше». Неоновые трубки были для Флавина способом «игры с пространством», возможностью изменить помещение и поведение людей, в нем находящихся, так что с 1963 года эти трубки становятся для него главным инструментом творчества. Многочисленные посвящения Татлину, созданные в течение двух с половиной десятилетий, стали самыми известными сериями Дэна Флавина; первая скульптура появилась на свет в 1964 году, а последняя – в 1990-м. Все они имели одно название – «Монумент В. Татлину» – хотя в дизайне есть кое-какие различия.
«Монумент 1 В. Татлину» (1964) (ил. 29), первый в серии, состоит из семи флуоресцентных трубок, закрепленных на стене, и самая высокая (2,5 метра) служит центральной осью скульптуры. Остальные шесть располагаются симметрично, по три с каждой стороны центральной трубки в порядке убывания по высоте. Скульптура напоминает очертания манхэттенского небоскреба 1920-х годов или трубы церковного органа. А вот сходства со знаменитой непостроенной башней Татлина, «Памятником III Интернационалу» (1920), с которого, видимо, списывалась композиция, добиться не удалось. Впрочем, Флавина это ничуть не смущало. В непривычно веселой для серьезного минималиста манере он как-то сказал, что назвал скульптуру монументом шутки ради, поскольку эта вещь сделана из бросового сырья.
Ил. 29. Дэн Флавин. «Монумент 1 В. Татлину» (1964)
Несмотря на бедность материала, скульптура с ярко светящимися лампами производит желаемый эффект. Посетители галереи, заходя в зал, сразу же устремляются к ней. Это как если бы новелла Кафки «Превращение» стала реальностью, и люди, обращенные в насекомых, полетели бы на теплый и яркий свет. Словом, «Монумент» имеет несомненный успех. Флавин, как и Джадд с его глыбами, добивался того, чтобы неоновые скульптуры преображали пространство. В этом и состояла миссия минималистов.
Именно Дэн Флавин помог Солу Левитту (1928–2007) открыть для себя минималистскую философию, когда в начале 1960-х Левитт работал в книжном магазине МоМА. Там он и познакомился с несколькими начинающими художниками, которые подрабатывали в музее, и одним из них был Дэн Флавин. Флавин рассказывал Солу об искусстве и Нью-Йорке, об абстрактных экспрессионистах, которые были слишком эгоистичны и всегда «присутствовали» в своих работах. Он в буквальном смысле вывел Левитта на свет и показал направление, в котором надо двигаться, чтобы реализовать свои художественные амбиции.
Для Левитта идея имела первостепенное значение: произведением искусства была концепция, а способ ее выражения он рассматривал лишь как мимолетное наслаждение. Сол не стал бы возражать против того, чтобы созданный им арт-объект уничтожили, – он вполне мог прожить без него. Главное, что в столе лежал листок с написанной концепцией. В таком случае зачем нужен надзор за производством работ, на который тратили массу времени Джадд, Флавин и Андре? Можно просто отдать письменные распоряжения – а воплощают идею в жизнь пусть другие.
Ил. 30. Сол Левитт. «Серийный проект! (ABCD)» (1966)
Если художники и ремесленники, которых Сол Левитт привлекал для изготовления своих решеток и белых кубов, сомневались, что делать дальше ввиду туманности формулировок в инструкции (а эти формулировки часто включали такие многозначные комментарии, как «не касаясь» или «прямая линия»), Левитт с удовольствием разрешал интерпретировать свой замысел так, как исполнители его понимали. В сущности, он даже поощрял это – видя в таких вмешательствах часть творческого процесса. Сол настолько ценил художественный вклад помощников, что даже упоминал их как соавторов своих работ – и таким образом помогал им строить собственную художественную карьеру. И дело тут не только в великодушии Левитта – таковы были его взгляды на искусство.
Несмотря на присущие скульптору тепло и доброту, его работы настолько строги, что кажутся слишком засушенными. В 1966 году Левитт представил «Серийный проект I (ABCD)» (ил. 30) – скульптуру из нескольких белых прямоугольных блоков. Одни из них были монолитными, а другие представляли собой рамочную конструкцию, напоминающую подмостки. Кубы были разных размеров, но каждый «не выше колена». Все они стояли на полу, на квадратном сером ковре с нанесенной на него белой решеткой. Кубы, размещенные в пределах решетки, вместе напоминали Нью-Йорк с высоты птичьего полета.
Концепция Левитта заключалась в том, чтобы показать, как некие предметы могут выглядеть аккуратной организованной группой в одном контексте и полным хаосом – в другом. Что кажется странным для композиции, которая напоминает ландшафт из белых кубов. Впрочем, Левитт сделал важное пояснение, сказав, что целью было «не учить зрителя, но дать ему информацию», благодаря которой его мысли станут ясными и четкими, как эти открытые кубы. Манифест Сола Левитта провозглашал «воссоздание искусства, начиная с одного квадрата», и эту идею он воплотил в своем «Серийном проекте».
Левитт, как и обещал, начал работу над арт-объектом с квадрата. Нарисовал на листке бумаги один куб. Потом еще один, и еще, и еще, пока лист не был заполнен. Эта конструкция казалась ему организованной и связной. Но только до тех пор, пока нарисованные кубы не превратились в трехмерные объекты и не выстроились в виде скульптуры: тогда он увидел лишь беспорядок – и безмятежность сменилась беспокойством. Левитт оказался перед лицом непростой визуальной головоломки, которую сам же и создал. Тогда Сол решил медленно обойти вокруг скульптуры и посмотреть на нее с разных сторон и ракурсов. По мере того как его глаза приспосабливались к путанице, впитывая все больше информации, нагромождение случайных кубов постепенно выстраивалось в некую привлекательную систему. Левитт обнаружил, что открытые кубы наполняют комнату светом, и она кажется больше, чем есть на самом деле. А монолитные кубы выступают в качестве визуальных опор: возвращают взгляд и мысль к скульптуре.
«Серийный проект I (ABCD)» – типичное произведение минималистского искусства, которое с полным правом можно назвать искусством космического века: математическим, методичным и бесстрастным. Художники-минималисты исследовали некоторые из тех понятий, над которыми бились и ученые, разрабатывая ракеты для полета человека на Луну: материю, системы, объем, последовательности, восприятие и порядок. И самое главное, как это все относится к нам – обитателям этого диковинного шарика, называемого планетой Земля.
За внешним спокойствием минималистских работ скрывалось настойчивое желание авторов привнести в мир порядок и управляемость. Но не призыв к насилию и принуждению передали они следующему поколению художников, детям «детей цветов», в полной мере испытавшим влияние нефтяного кризиса 1970-х. Им предстояло двигать искусство в совершенно ином направлении.
Минимализм подвел черту под модернизмом. Искусство вступало в новую эпоху – эпоху постмодернизма.
Глава 19 Постмодернизм: подлинное и мнимое, 1970-1989
Постмодернизм замечателен тем, что он может быть чем угодно, в зависимости от вашего желания. Но это и досадно: ведь получается, что любой арт-объект дозволено выдавать за постмодернизм. Вот такой парадокс составляет основу этого направления, которое обладает уникальной способностью вызывать недоумение и раздражение даже у самых преданных поклонников современного искусства. Что, впрочем, весьма «постмодерново».
На первый взгляд суть постмодернизма предельно проста. Он пришел на смену модернизму (отсюда и «пост-»), который, по общему мнению, завершился в середине 1960-х минимализмом (хотя его наследие живет и поныне). Как и постимпрессионизм, постмодернизм можно считать развитием и критической оценкой предшественника. Французский философ Жан-Франсуа Лиотар описал постмодернизм как «недоверие к метанарративам», имея в виду, что постоянное стремление модернизма найти одно всеобъемлющее решение проблем человечества постмодернисты считают глупым, наивным бредом. Постмодернисты полагали, что любые новые Великие Идеи так же обречены на провал, как и все другие метанарративы XX века, включая коммунизм и капитализм.
В их представлении, если такое решение и существовало (что вряд ли), то искать его следует в прошлом: в коллекции «лучших образцов» предыдущих движений и идей. Из этих фрагментов постмодернисты намеревались создать новый визуальный язык, изобилующий ссылками на историю искусства и поп-культуру; полученную неудобоваримую смесь они сделали более приятной на вкус, приправив показной легкостью и иронией. Взять, к примеру, небоскреб AT&T (сейчас Башня корпорации Sony) Филипа Джонсона на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Проект 1978 года (завершенный в 1984-м) представляет собой типичный модернистский небоскреб в классическом стиле Луиса Салливана/Вальтера Гропиуса/Миса ван дер Роэ, но с постмодернистским уклоном. Вместо ожидаемой плоской квадратной крыши Джонсон завершил здание расколотым фронтоном; этакая эффектная завитушка, на манер шляпки, которую строгая мамаша осмелилась надеть на свадьбу дочери.
Критики были единодушны в том, что эта авторская выдумка слишком вычурна и выбивается из строгой эстетики плосковерхого модернистского Манхэттена. По их мнению, здание Джонсона было возвратом к архитектурным излишествам ар-деко и визуальной ссылкой на Крайслер-билдинг (1930). Джонсон поставил ряд длинных, близко расположенных вертикальных окон под самый фронтон, что, по мнению критиков, придало этому архитектурному шедевру сходство со старым автомобильным радиатором.
В столь же игривом настроении Джонсон придумывал и основание здания. Вместо строгого прямоугольника дверного проема, как у других небоскребов того времени, он спроектировал огромный сводчатый вход, который, по его словам, напоминал ренессансный купол базилики Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. К этому он добавил другие архитектурные прибамбасы, с намеком на романские колонны и книжные шкафы
XVIII века работы английского мастера кабинетной мебели Томаса Чиппендейла. И, наконец, облицевал здание неполированным розовым гранитом – новаторский, но немного безвкусный выбор.
Здание AT&T — классическое постмодернистское лоскутное одеяло из исторических реминисценций и современной культуры. Дискретность, ритмы хип-хопа, смешение жанров и четкое понимание ожиданий потребителя – все это вобрала в себя палитра постмодерна: рефлексирующая искушенность и едкая насмешка стали его лингва франка.
И словно напоминая: не бывает однозначного ответа, – постмодернизм говорит о том, что все заслуживает внимания и может быть включено в арт-объект на законных основаниях. Определения размыты: факты уже невозможно отличить от вымысла. В постмодернизме главенствует оболочка – но она вполне может оказаться обманкой.
Синди Шерман (род. 1954) со своей серией «Кадры из фильмов без названия» (1977–1980) {ил. 31) стала одним из первых представителей постмодернистского искусства пародии и подражания. Мишенью для насмешек она избрала мужской шовинизм Голливуда. В течение трех лет Синди сделала 69 чернобелых фотопортретов в стиле рекламных стоп-кадров, которые киностудии выпускают для продвижения ведущих актеров. Шерман всегда играет главную роль в этих «Кадрах из фильмов без названия», но автопортретами их не назовешь. В лучших традициях постмодернизма здесь царит двусмысленность. Художница хорошенько покопалась в своем гардеробе и создала галерею типичных женских образов из фильмов категории «Б». Тут вам и femme fatale, и проститутка, и сексуальная кошечка, и домохозяйка, и ледяная красавица. На каждой фотографии Шерман играет определенную роль, пародируя мимику и манеры своего персонажа. И героини получались такими узнаваемыми, что кинокритики моментально «называли» фильмы, хотя на самом деле никакой привязки к реальным кинокартинам не было. Шерман прекратила снимать свой сериал, как только «иссякли клише».
Ил. 31. Синди Шерман. «Кадр из фильма без названия № 21» (1978)
Шерман – квинтэссенция постмодернистского художника. Она мастерски пародирует чужую мимику и со знанием дела играет роли, заимствуя, как истинный постмодернист, методы других художественных течений. В ее случае это смесь перформанса и концептуального искусства. В серии «Кадров из фильмов без названия» Шерман выступает средством выражения собственных идей, так же как это проделывал десятью годами раньше концептуалист Брюс Науман в своем «Танце, или Хождении по периметру квадрата». Работа Наумана сильна тем, что при кажущейся несерьезности она на самом деле глубока и содержательна. То же можно сказать о «Кадрах из фильмов без названия» Шерман, которые сотканы из миражей и манипуляций в стиле Уорхола.
Фотопортреты Синди Шерман изображают вымышленных персонажей из несуществующих фильмов, но даже если бы эти герои на самом деле были сняты, все равно оказались бы лживыми, как и сами принаряженные звезды, заманивающие нас в кино. Фотографии Шерман отражают природу современной культуры, где постоянное тиражирование фальшивых образов, предназначенных для манипуляций потребителем, привело к тому, что общество уже не в состоянии отличить правду от обмана, подлинник от подделки.
Шерман делает это на постмодернистском языке тонких намеков и случайных предположений, избегая, насколько возможно, модернистской ясности и определенности. «Кадры из фильмов без названия», может, и представляют 69 разных фотографий Синди Шерман, но приблизились ли мы к ответу на вопрос, кто она такая, эта Синди Шерман? Изображая себя, она не спешит рассказывать о себе. Она вроде бы и звезда во всех образах, но ее в то же время не существует – своего рода экзистенциальное противоречие, которое обожают постмодернисты. Здесь есть перекличка с интеллектуальными играми сюрреалистов и философским символизмом сатирических романов 1960-х годов – таких как «Бойня номер пять» Курта Воннегута и «Уловка 22» Джозефа Келлера.
В фотографиях Шерман ее самой нет – и тут она близка к минималистам с их нежеланием присутствовать в своих работах. Джадд и Ко. стремились сосредоточить внимание зрителя исключительно на арт-объекте, не отвлекая его на личность автора. У Шерман были свои соображения на этот счет. Абстрагируясь от собственной индивидуальности, она получала возможность сыграть любую роль. Это давало ей полную свободу: зритель не видел ее настоящую, и у него не было в памяти знакомого образа. В этом смысле хамелеоновское искусство Шерман является отражением того, как знаменитости и СМИ манипулируют обществом, подсовывая ему образы, отражающие не истинный характер звезды, а лишь то, что хочет видеть публика.
Неудивительно, что единственным спонсором выставки Синди Шерман в МоМА в 1997 году оказалась Мадонна – икона постмодерна и королева эпатажа. Поп-звезда уже продемонстрировала знание творчества Шерман и выразила ей признательность в книге «Секс» (1992), которая своим появлением во многом обязана «Кадрам из фильмов без названия». Мадонна, переняв идею художницы, предстала звездой серии чернобелых фотографий, где она изображала актрис мягкого порно. Как и Шерман, Мадонна обратилась к золотому веку Голливуда, когда создавала свое альтер эго, назвавшись Дитой – именем старлетки из фильмов 1930-х годов. В результате получился постмодерн на постмодерн, причем весьма фривольного содержания…
Синди Шерман и Мадонна были не единственными, кому пришла в голову идея перевоплощаться и делать намеки посредством фотографии. Спустя год после того, как Шерман начала снимать свою серию «Кадров из фильмов без названия», канадский художник Джефф Уолл (род. 1946) создал «Разрушенную комнату» (1978) (ил. 32), свою первую крупноформатную работу по технологии, которая прежде применялась только в рекламе: фотоизображение, отпечатанное на прозрачной основе, помещается в подсвеченный пластиковый бокс. Если Шерман и Мадонна черпали вдохновение в истории Голливуда, то Уолл штудировал работы великих европейских художников XVII, XVIII и XIX веков, таких как Диего Веласкес, Эдуард Мане, Николя Пуссен и, применительно к «Разрушенной комнате», Эжен Делакруа.
Ил. 32. Джефф Уолл. «Разрушенная комната» (1978)
Уолл создал постмодернистскую версию картины Делакруа «Смерть Сарданапала» (1827), (ил. 33). Цветовая палитра, композиция и свет совпадают почти стопроцентно. Оба произведения концентрируют внимание на двуспальной кровати, оказавшейся в эпицентре хаоса. И обе работы имеют внушительные размеры – больше метра в ширину. Логично предположить, что и выглядеть они будут одинаково. Не тут-то было. Ни малейшего сходства. Картина Делакруа изображает ужасную сцену в будуаре, где голые женщины гибнут под ножом по приказу Сарданапала, ассирийского царя, который постановил, что его рабы, женщины и лошади должны быть убиты вместе с ним после унизительного военного поражения. Делакруа изобразил месиво извивающихся тел и вздыбленных лошадей, на которое бесстрастно смотрит царь из своей роскошной постели, зная, что и сам скоро погибнет в этой мясорубке.
Уолл изобразил сцену без участия людей. Более того, в его картине нет ни богатства, ни роскоши интерьеров Делакруа. Взамен он показывает дешевую современную безликую комнату проститутки, которая подверглась варварскому разграблению. Но именно этот образ современной бойни отсылает к великому полотну Делакруа. Посреди комнаты кровать, как и в оригинале у Делакруа. Правда, у Уолла это не царское ложе, а убогий вспоротый матрас, из которого клоками лезет набивка (очевидный намек на насилие в оригинале и повторение композиционной линии Делакруа). Бордовые стены и белый пластиковый стол на фотографии Уолла перекликаются с цветовой палитрой французского художника, так же как красная атласная простыня повторяет царское постельное белье. Маленькая статуэтка танцовщицы топлес, которую Уолл водрузил на комод, напоминает о нагих красавицах Делакруа, молящих о пощаде. Оба произведения можно назвать портретами некогда процветавшего героического общества в состоянии упадка и разложения.
Ил. 33. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала» (1827)
Разумеется, если знать отсылку к картине, то фотография Уолла становится гораздо понятнее. Но что, если вы не в курсе? Если вы пришли в галерею и случайно наткнулись на эту работу, не подозревая о ее взаимосвязи с полотном Делакруа? Не беда. «Разрушенная комната» все равно остается красноречивым комментарием к современной жизни, с интригующей композицией и техникой цвета. Дело, однако, в том, что постмодернистское искусство, как мудреный кроссворд, дает преимущество тому, кто обладает определенными знаниями, – тогда в процессе разрешения головоломки приходит понимание. Картину необходимо разобрать по косточкам, отгадать, из каких разных источников какие позаимствованы элементы: это облегчит проникновение в авторский замысел. И опять-таки, как в случае с кроссвордом: чем лучше вы знаете манеру мастера, тем быстрее разберетесь в его намеках.
Это не означает, что вы не можете наслаждаться творением Джеффа Уолла, не разгадав всех хитростей; просто в произведениях постмодернистского искусства всегда кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Взять хотя бы известную работу Уолла «Передразнивающий» (1982) (ил. 34). Типичная постановочная фотография: белая пара и азиат, идущие по улице североамериканского промышленного пригорода жарким летним днем. Уолл ухватил момент, когда парочка обгоняет попутчика и белый парень делает едва уловимый, но оскорбительный жест, изображая разрез глаз азиата. Тот боковым зрением замечает это; девушка отворачивается.
Ил. 34. Джефф Уолл. «Передразнивающий» (1982)
Уолл запечатлел жест, в основе которого – стереотип и подражание: отсюда и название. И это очень яркий и агрессивный образ. Особенно если учесть, что перед нами билборд размером 2 х 2,3 метра с подсветкой, и три персонажа предстают почти в натуральную величину. После минуты-другой созерцания большинство из нас, вероятно, заметит, что центр картины – область изображения, к которой художники традиционно стремятся привлечь взгляд зрителя, – является границей, что разделяет трех героев. Белая парочка оказывается по одну сторону от центра, а азиат на том же расстоянии, но с другой стороны. Это сделано преднамеренно: таким образом Уолл высказывается по поводу расовой дискриминации на Западе. Что ж, перед нами довольно несложный для расшифровки постмодернистский образ. Идем дальше.
Есть в фотографии еще один нюанс – ее название. Начнем с того, что это не документальный фоторепортаж, а искусная подделка. Герои картины – актеры, переодетые и загримированные, как для киносъемок. Фотография не была сделана спонтанно, ей предшествовали многочасовые репетиции. Уолл берет за основу правила кинематографа и применяет их к фотографии, а потом подсвечивает работу, как наружную рекламу (технологию он подсмотрел, путешествуя автобусом по Европе). Все в этом постмодернистском произведении держится на фрагментах, позаимствованных из разных источников: это коллаж техник и влияний.
Присмотритесь повнимательнее к «Передразнивающему». Задумайтесь над названием и еще раз оглядите троицу. Обратите внимание на их тела, особенно на форму и постановку ног азиата. Они фактически зеркальное отражение ног белого парня; их в свою очередь зеркально повторяют ноги девушки, а ноги азиата в результате оказываются их прямой проекцией. Так кто кого передразнивает? Ну, с Джеффом Уоллом все понятно: он определенно передразнивает Гюстава Кайботта (1848–1894) – художника, связанного с импрессионистами. Быстрый взгляд на Кайботтову «Парижскую улицу в дождливый день» (1877) вызовет улыбку узнавания. Обе картины обрамлены торговым зданием справа и исчезающей вдали дорогой слева. В обеих – три персонажа в перекликающихся позах. Фонарный столб и там, и там служит барьером, отделяющим героев от остального изображения. У Кайботта фоном выступают новые бульвары Парижа, построенные бароном Османом, и эта тема не прошла мимо Уолла. Кайботт был из поколения парижан конца XIX века, которое с оптимизмом воспринимало городскую жизнь. Уолл выбирает другие декорации – пустынную улицу североамериканского пригорода, где растут сорняки и умирают надежды, – саркастический взгляд постмодерниста на сбывшуюся модернистскую мечту. Которую, кстати, помогли осуществить рабочие-мигранты, за что и поплатились.
У модернизма были четкие границы; постмодернизм границ не знал. Модернизм отвергал традиции; постмодернизм не отвергал ничего. Модернизм был линейным и системным; постмодернизм приветствовал буйство во всем. Модернисты верили в будущее; постмодернисты практически ни во что не верили, предпочитая сомневаться. Модернисты были серьезными и отважными; постмодернисты ставили шуточные эксперименты, полные искусного издевательства и невозмутимого цинизма. Как сказал Мо Сизлак в «Симпсонах», «постмодернизм – глупость ради глупости». Возможно. Что вовсе не значит, что постмодернисты – это беззубые ребята, не имеющие ни собственного мнения, ни политических убеждений. Скорее их объединяет недоверие ко всем, кто обещает найти абсолютную истину и легкие решения. И это подтолкнуло их в том же направлении, куда отправились художники поп-арта четвертью века раньше: в мир рекламы и торговли. Тут уж постмодернистам с их ироничным взглядом на жизнь было где разгуляться.
Барбара Крюгер (род. 1945) работала графическим дизайнером в Conde Nast, издательстве, выпускающем самые глянцевые из глянцевых журналов. Это главный храм консюмеризма, где продвигается образ недостижимого идеала и создается далекая от жизненных проблем и реалий фантазия для читателей, на осуществление которой они потом тратят всю жизнь. От некоторых изображений и статей Крюгер становилось не по себе. Она начала вырезать картинки из рекламных объявлений в журналах, привлекших ее внимание. Потом воспроизводила их в черно-белом варианте и снабжала лозунгами вроде таких: «Я покупаю, значит, я существую» (1987) (перифраз изречения философа XVII века Рене Декарта: «Я мыслю, значит, я существую») или «Твое тело – поле битвы» (1989). Как и Уорхол, Крюгер использовала методы рекламы (слоганы, шрифтовые выделения, простые и запоминающиеся образы), чтобы донести свою мысль. Но в отличие от Уорхола была откровенно критически настроена против рекламной отрасли, торгующей ложными надеждами.
Крюгер использует личные местоимения – я, мы, вы, чтобы привлечь нас к своим рекламным лозунгам. Она печатает их в одной и той же упрямой манере, заглавными буквами, зачастую на однородном белом фоне (красным шрифтом) или на полутоновом изображении, придавая своим произведениям «узнаваемость бренда». Критика консюмеризма понятна, тут ничего объяснять не нужно. Но, будучи постмодернистом, Крюгер не может не вставить в свои работы множество отсылок. Красные буквы – это отголосок конструктивистских плакатов Родченко; использование рекламных образов – классический пример поп-арта. И даже шрифт выбран не случайно. Это «футура», геометрическая конструкция 1927 года, выполненная в строгих модернистских традициях Баухауса – школы, которая видела в СМИ объединяющую силу, а не средство коммерческих манипуляций и поощрения индивидуального эгоизма (шрифт «футура» используют для продвижения своих товаров Volkswagen, Hewlett Packard и Shell). Футуристы тоже не остались без внимания. Крюгер всегда использует курсивную версию «футуры», придавая своим лаконичным заявлениям толику настойчивости и динамизма Маринетти.
И наконец, ее произведения отличает ироничная словесная игра. Что возвращает нас – неизбежно – к Марселю Дюшану и дадаистам, которые мастерски пользовались возможностями языка, высмеивая власти и мир искусства. Нечто подобное изобразила Крюгер в 1982 году в своей работе «Без названия (Вы инвестируете в божественность шедевра)», где воспроизвела черно-белое изображение знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы. Поверх выложены слова «Вы инвестируете в божественность шедевра» – выделенные жирным шрифтом белые буквы на широких черных полосах. Крюгер имитирует методы рекламного плаката, побуждая задуматься об уместности торговли в мире искусства.
Работы Барбары Крюгер не подписаны, а типографский шрифт и вовсе безлик, но поднятые вопросы – авторства, подлинности и тиражируемой копии – сплошь из повестки дня постмодернизма. В ее произведениях, конечно, есть элемент провокации: хорошая встряска, побуждающая зрителя думать своей головой, прежде чем верить посулам рекламы и средств массовой информации. А еще работы Крюгер напоминают о силе слова в изобразительном искусстве, что лично мне весьма пригодилось, когда я работал в Галерее Тейт.
Для учреждения с мировой репутацией у Тейт неприлично затрапезные головные офисы. Большинство сотрудников размещаются в лондонском старом военном госпитале в Пимлико, где до сих пор не выветрился запах дезинфекции и гуляют сквозняки – спасибо разбитым окнам и призракам давно почивших воинов. Мой кабинет был на первом этаже, по соседству с бывшим моргом и с выходом в сад, где когда-то выгуливали туберкулезников, чтобы и они подышали свежим воздухом. Прямо скажем, не самое гламурное местечко.
Но кто бы ни заходил в мой офис, первым делом он озирался по сторонам, а потом останавливал взгляд на 2,5-метровом плакате на стене и взволнованно спрашивал, можно ли его сфотографировать. Это была копия произведения «Как работать лучше» (1991) цюрихских художников Питера Фишли (род. 1952) и Дэвида Вайса (1946–2012), известных как дуэт «Фишли & Вайс». Собственно, эти десять заповедей – список того, что нужно сделать, чтобы работать лучше: 1. ДЕЛАЙ ОДНО ДЕЛО ЗА РАЗ; 2. ЗНАЙ ПРОБЛЕМУ; 3. НАУЧИСЬ СЛУШАТЬ и так до десятой, которая просто говорит: УЛЫБАЙСЯ.
Я подозреваю, что мои гости попадались в расставленную художниками ловушку и видели в десяти заповедях Фишли & Вайс готовый план, который позволит им работать с максимальной эффективностью. Что, несомненно, позабавило бы художников. Потому что на самом деле их работа – стопроцентная ирония: Фишли & Вайс посмеиваются над мотивационной политикой крупных корпораций. Изначально они представили список в виде гигантской фрески на одном из офисных зданий Цюриха и разрешили мне обзавестись его копией при одном условии: если я повешу этот плакат в своем рабочем кабинете. Художники используют бизнес-пропаганду, пародируя то, как бизнесмены пытаются убедить сотрудников, будто успеха можно добиться, выполнив ряд простых правил: сыграв в игру.
Американский художник Джон Балдессари (род. 1931) делал очень похожие графическо-текстовые работы, такие как «Полезные советы художникам, которые хотят продаваться» (1966–1968): всего три предложения, адресованные живописцу, желающему найти покупателя на свою работу. Вот первое из них: ВООБЩЕ ГОВОРЯ, КАРТИНЫ В СВЕТЛЫХ ТОНАХ ПРОДАЮТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТЕМНЫЕ.
О своем стиле Балдессари говорит: «Я всегда воспринимаю слово как заменитель изображения. Я не понимаю, чем оно хуже». Впрочем, это не значит, что он застрял в текстовых произведениях искусства, просто он гибок в выборе средств выражения. В середине 1980-х годов Балдессари сделал «Пятку» (1986) – коллаж из десятка черно-белых кадров. Все фотографии так или иначе связаны с названием работы и либо изображают эту самую пятку, либо намекают на другие значения слова (в английском языке – и команда собаке и жаргонный синоним слова «негодяй»). Казалось бы, забавная игра в слова и картинки, придуманная для зрителя. Но вглядитесь в фотографии повнимательнее, и тут же начнут проступать самые разные темы. Есть боль (травмированная пятка), конфликт (студенческий протест, злобный пес) и личность (художник закрыл лицо мужчины желтым кружком). За внешней шутливостью скрывается постмодернистский сарказм. Как и в работе Финиш & Вайса «Ход вещей» (1987).
Этот шедевр постмодерна копировали многие; но превзойти не сумел никто. Мой вам совет – зайдите в Интернет и посмотрите этот тридцатиминутный фильм. Или еще лучше: идите в галерею, где работу показывают в сопровождении объяснений художников. Думаю, вы не будете разочарованы. В фильме представлена весьма маловероятная цепочка событий, спровоцированных автомобильной покрышкой, которая катится по полу студии и набирает скорость, подталкиваемая мешком с мусором. Дальше – тридцать минут «эффекта домино», – когда движущийся объект (чайник на роликовых коньках, лоток с расплавленным металлом) сталкивается с балансирующей конструкцией, собранной из различных предметов из тех, что можно найти в мастерской чудаковатого ученого-любителя, – стульев, стремянок, пластиковых бутылок, шин, опасных химикатов, банок с краской. Презабавное зрелище: смешное, остроумное, изобилующее опасностями (важный элемент развлекательного действа). Остается только дождаться, пока последовательность будет нарушена и один из объектов промахнется мимо цели и тем нарушит цепную реакцию.
Итак, это весело. Но возникает и некоторое чувство тревоги. События никуда не ведут, они бессмысленны. И хотя весь процесс выглядит случайностью и кустарщиной, на самом деле все совсем не так. Планирование серии таких сложных коллизий, должно быть, стоило многих месяцев проб и ошибок – так что это продуманный эксперимент, а не спонтанная выдумка. Нас обманывают, заставляя думать, будто мы наблюдаем проделки чокнутого профессора, а не тщательную работу мастеровитых художников. Обман кроется в каждой детали, в том числе и в иллюзии «домашнего видео», когда на самом деле фильм снят на профессиональной 16-миллиметровой пленке. Это кино, в котором все не так, как кажется. Художники сосредоточивают внимание на современных промышленных материалах, как это делали конструктивисты семьдесят лет назад. Но оптимизма куда меньше. Фишли & Вайс показывают, что происходит, когда материалы не используются по назначению: заброшенные и бесхозные, они сеют хаос в некогда стабильном пространстве. Этот фильм о последствиях, отношениях и подлинности – живой коллаж: «Комбинация» Раушенберга, эксцентричным способом вызванная к жизни.
Постмодернизм привлек внимание публики к работам именно таких художников. Они творили свое неоднозначное искусство, сомневаясь, подражая и присваивая чужие идеи. Как и их предшественники – концептуалисты и минималисты, – постмодернисты создавали вдумчивые работы, что вознаграждают тех, кто посвятит некоторое время их изучению, разберется в тонкостях. Как и Дюшан – так сильно повлиявший на их творчество, – они любили пошутить. И потому их искусство может показаться банальным, глупым и издевательским. Изредка это и в самом деле так, но в целом – нет. Лучшие образцы искусства постмодернизма подарены остроумным наблюдателем, который смотрит на мир и с восхищением, и с неприязнью. Собственно, как и все искусство.
Глава 20 Искусство сегодня: богатые и знаменитые, 1988–2008 – наши дни
Не существует общепринятого термина, который определил бы искусство последних двух десятилетий: конца XX века и начала XXL Если говорить об арт-движениях, то постмодернизм был последним официально признанным, но он выдохся к концу 1980-х. И вероятно, тут мне следовало бы закончить эту книгу, подведя итог парой коротких параграфов, в надежде вернуться к ней и обновить, когда авторитетный академик или критик придумает термин для обозначения искусства периода с конца 1980-х до наших дней.
Но это выглядело бы странно. Я хочу сказать, что последние двадцать пять лет были удивительными. Никогда прежде не создавалось и не покупалось так много произведений современного искусства. Никогда прежде общественность и СМИ не проявляли к нему такого интереса. И никогда прежде не существовало такого количества мест, куда можно было бы прийти, чтобы посмотреть на современное искусство. Потрясающие новые музеи и галереи построены по всему миру. В последние пятнадцать лет открылись Музей Гуггенхайма в Бильбао, Тейт в Лондоне и MAXXI (Национальный музей искусства XXI века) в Риме. Мы переживаем мировой бум современного искусства, подобного которому история не помнит. Было бы жаль оставить все это без внимания только потому, что не существует академического термина. Да и история современного искусства осталась бы удручающе незавершенной. Так что же делать?
Я, конечно, не собираюсь брать на себя ответственность и придумывать название новому арт-движению. В положенное время кто-нибудь явит миру официальный «изм». Ну а пока, чтобы довести свой рассказ до логического завершения, я все-таки рискну поставить себя под удар, предложив некий «общий знаменатель», который, думаю, объединит большую часть работ, и назову его новейшим авангардом.
Здесь наметились некоторые довольно очевидные тенденции. Первая из них – распространение монументальных, приковывающих внимание скульптурных композиций, которые вырастают повсюду как грибы после дождя. Эти гигантские образцы современного искусства (зачастую выполненные по заказу муниципальных властей, желающих украсить ландшафт) привлекают людей, будоража их воображение. Что в свою очередь привело к беспрецедентному всплеску интереса к современному искусству и ускорило появление искусства «эмпирического», – так сказать, искусства через опыт, и это еще одна тенденция последнего времени.
Как уже обсуждалось в главе о концептуализме, эти интерактивные объекты – одновременно и аттракцион, и художественная инсталляция. Кураторы музеев и галерей видят в них идеальный продукт «АРТертеймента», способный завоевать и удержать новых фанатов. К услугам желающих расширить свой музейный опыт всегда наготове коктейль из дорогого капучино и достойных образовательных программ. К тому же эти дружелюбные по отношению к зрителю произведения наглядно демонстрируют, насколько за последние десять-двадцать лет размылись границы между современным искусством для избранных и мейнстримом развлечений, как-то: кино, театром и осмотром достопримечательностей.
Для художников, работающих в этой области, таких как Карстен Хеллер (род. 1961), цель состоит в том, чтобы бросить вызов традиционному музейному укладу (с тихим, вдумчивым, серьезным осмотром экспозиций в одиночку), чего он и добивается своими инсталляциями в виде спиралевидных горок и вращающихся кроватей, создавая коммуникативную систему и вовлекая в нее зрителя. Некоторые кураторы обозначили такой подход к искусству солидным термином «эстетика отношений». По их теории, сегодняшнее искусство – «обменный пункт», где художник и зрители делятся идеями и ощущениями. В рамках эстетики отношений горки Хеллера – не что иное, как ответ на антисоциальный характер современного урбанизма, эпохи, когда автоматизация и технологии исключили из нашей повседневной жизни «случайную встречу». Горки и кровати, говорят, обеспечивают социальный контекст человеческого общения и представляют собой художественное и политическое заявление, необходимое сегодняшнему миру. Звучит убедительно. Но много лет наблюдая в Тейт, как сотни тысяч людей скатываются по горкам Хеллера, могу сказать, что на самом деле все куда прозаичнее. Подавляющее большинство посетителей, готовых отстоять очередь на такие «эмпирические» инсталляции, считают этот опыт не более чем темой для очередного твита; взаимодействовать с собратьями – потребителями искусства (не говоря уже об обмене идеями) им и в голову не приходит. Так или иначе, подобные произведения определенно преуспели в изменении природы музея, а уж к лучшему или к худшему – вопрос открытый.
Еще одна очевидная тенденция последних лет – стремление художников поставить под сомнение традиционные нормы вкуса и приличий. Именно это стремление отражают их провокационные и шокирующие произведения. 1960-е увидели закат века благопристойности, панк-движение 1970-х вышло с ухмылкой на лице и полной уверенностью в своем праве насмехаться над устоями. Но лишь в самом конце 1980-х был брошен настоящий вызов некоторым общественным условностям. До той поры жесткий секс и грубое насилие оставались прерогативой закрытых просмотров и фильмов категории «X»; любые другие упоминания об этом были возможны лишь в форме намеков и аллюзий. В конце 80-х в схватку вступило новое осмелевшее поколение, и маски были сброшены. Свет увидела пикантная и дерзкая работа «Сделано на небесах» (1989) Джеффа Кунса – серия картин, плакатов и скульптур, изображающих в различных позах его занятия любовью с тогдашней женой, итальянской порнозвездой Илоной Шталлер (известной как Чиччолина). А потом пришли кровь и жестокость британских художников, братьев Чепмен (Динос Чепмен, род. 1962, Джейк Чепмен, род. 1966). В их работах – таких как «Трагические анатомии» (1996) – фигурировали изувеченные тела и зияющие открытые раны. Эти сцены уровня второразрядных фильмов приобретали еще более зловещий оттенок, когда в композиции включались гротескные, сексуально деформированные куклы-тролли, ставшие визитной карточкой художников.
Все эти тренды определяли развитие искусства с конца 1980-х годов. Предпринимались попытки дать общее название происходящему. Монументализм, эмпиризм и сенсацио-нализм – чего только не придумывали в надежде определить век и арт-движение! Но эти названия никого не убедили. Шок и трепет могли бы стать объединяющим мотивом, однако нет общего принципа, вокруг которого художники сплотились бы, объединенные видением или техникой, чтобы обозначить себя как арт-движение.
И все-таки, на мой взгляд, можно выделить то, что отличает искусство последней четверти XX века. Есть слово, которое связывает такие разные художественные стили, идеи, подходы. Я всецело признаю, что никакая систематизация не бывает до конца объективной, здесь не обходится без упрощений, компромиссов и непоследовательности – именно поэтому многие художники дистанцировались от движений, к которым их причислили искусствоведы и критики. Но это не означает, что систематизация – даже если она не свободна от ошибок – вовсе не имеет смысла. Слово, которое я имею в виду, не предназначено для названия арт-движения нового времени, но мне кажется, что этот термин позволяет понять мотивы, стоящие за тем, что было создано во имя искусства.
Исключительно чтобы пояснить сказанное, я хочу обозначить некие временные рамки: период, о котором пойдет речь, охватывает два десятка лет, с 1988-го по 2008 год, и определяется двумя событиями, инициированными одним человеком – британским художником Дэмиеном Херстом (род. 1965). Первым событием стала выставка «Фриз» (Freeze), организованная при его активном участии в пустовавшем здании администрации Лондонского порта в июле 1988 года. В экспозиции были представлены работы 16 молодых британских художников, выпускников и студентов Голдсмитского колледжа в Лондоне, сокурсников Херста.
Среди участников были художник Гэри Хьюм (род. 1962), концептуальные художники и скульпторы Майкл Лэнди (род. 1963), Энгус Фэйрхерст (1968–2008) и Сара Лукас (род. 1962). И конечно же сам Херст, который впервые представил одну работу из своей ныне знаменитой серии «Точечные картины» (1986–2011; с тех пор он сделал сотни «точечных картин», все с аккуратными рядами равномерно расставленных цветных кружочков на белом фоне, которыми, по его словам, хотел «передать радость цвета»). Эта группа составила костяк художественного сообщества, получившего известность как «Молодые британские художники»[33], а выставка «Фриз» стала для них стартовой площадкой. Именно с нее началось стремительное превращение Лондона в мировой центр современного искусства, подобное тому, что пережил Париж в конце XIX – начале XX века.
Впрочем, изначально это была всего лишь очередная, хотя и заметная, летняя выставка художественного колледжа, разве что организованная и представленная – с достойными восхищения дерзостью и профессионализмом – никому не известным студентом из Северной Англии.
Спустя двадцать лет некогда безвестный студент, теперь уже самый богатый художник мира, затеял еще одну выставку – с целью продвижения и продажи своих новых работ. Конечно, на этот раз место проведения было куда более престижным, а выставка – персональной. Мероприятие состоялось в главном аукционном зале Sotheby’s в Лондоне осенью 2008 года – в день, который поставил мир на колени.
Так заведено, что художники продают свои новые работы через арт-дилеров – это первичный рынок. Позже, если коллекционер, купивший произведение у арт-дилера, хочет его продать, он обращается в аукционный дом, и тот выставляет лот уже от своего имени. Возникает вторичный рынок (секонд-хенд, если хотите). Но никогда еще не бывало, чтобы художник в обход арт-дилера продавал свои новые работы на аукционе. Так не принято; всегда есть посредник между художником и аукционным домом. Если только художник не Дэмиен Херст.
В сентябре 2008 года он сделал весьма оригинальный ход, исключив из процесса купли-продажи своих влиятельных дилеров – британского (Джея Джоплина) и американского (Ларри Гагосяна) – и самостоятельно доставил более двухсот новеньких работ прямо из мастерской в аукционный дом Sotheby’s. Это был смелый и рискованный шаг, не в последнюю очередь грозящий неприятностями со стороны Джоплина и Гагосяна, которые потратили время и деньги, помогая Херсту строить карьеру (но подождите переживать – все состоялось с их благословения).
Не исключалась и вероятность того, что новые работы не будут распроданы, и такой результат мог бы навредить имиджу Херста и снизить его рыночную стоимость. Публичное унижение могло перечеркнуть карьеру восходящей звезды (это, кстати, одна из причин, почему художники предпочитают конфиденциальные коммерческие сделки с арт-дилерами). Но Дэмиена, похоже, не слишком беспокоили возможные последствия, судя по названию, которое он выбрал для своего аукциона. Со свойственными ему самоуверенностью и бравадой Херст добавил мероприятию театральности: оно пафосно именовалось «Прекрасное в моей голове навсегда».
Через несколько дней после того, как Sotheby's выставил работы на обозрение заинтересованных сторон, открылись торги. Все началось в понедельник 15 сентября, а завершилось основным вечером продаж во вторник, 16-го. Пока зал заполнялся возбужденными коллекционерами и их представителями, по ту сторону Атлантики проходило другое мероприятие, повергшее весь Нью-Йорк в не менее взбудораженное состояние. Пока молоток аукциониста отбивал дробь, возвещая об очередной продаже дорогущего лота Херста, остальной мир с замиранием сердца следил за тем, как медленно, но верно правительство США собирается разрешить банкротство некогда могущественного банка Lehman Brothers, тем самым приближая мировую финансовую катастрофу.
Мир искусства, казалось, не замечал серьезности ситуации, продолжая сбывать по заоблачным ценам маринованных животных и ярко раскрашенные картины. На первый взгляд, аукцион обернулся триумфом. По данным Sotheby's, почти все лоты были проданы, и общая (умопомрачительная!) выручка превысила 100 миллионов фунтов стерлингов. Все ли смогли расплатиться (после краха Lehman Brothers) и был ли у тех, кто озвучивал эту цифру, свой интерес в раскрутке художника – обо всем этом спорят до сих пор. Но значимость аукциона и совпавшего с ним по времени финансового коллапса бесспорна. Эти два события ознаменовали конец целой эпохи капитализма и – если ближе к нашей теме – целой эпохи в современном искусстве. Они стали кульминацией двадцатилетнего периода, когда в отношениях между художниками, кураторами и арт-дилерами преобладали задорный энтузиазм, юношеский оптимизм и культура предпринимательства. Вот и придумалось слово, которым я собираюсь подытожить новейший период истории современного искусства. Слово это – предприниматизм.
Постмодернисты чувствовали, что предыдущие поколения художников оставили их плыть по течению. Они много обещали, но так и не смогли добиться утопического идеала, а их «великие нарративы» остались пустыми разговорами, не подкрепленными планом действий. Технологии и наука тоже доказали свою несостоятельность – в том смысле, что не предложили панацеи, о которой так много трубили. Постмодернисты были сыты попытками осмыслить мир, в котором единственной определенностью казалась неопределенность. Их век омрачала экзистенциальная тревога.
Чего нельзя сказать о напористом поколении, которое выходило из стен художественных институтов Европы и Америки в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Эти ребята были так же уверены в себе, как постмодернисты встревожены; их юмор был скорее черным, чем тонко-ироничным. И они не собирались устраняться из своих произведений и заниматься самокопанием. Как бы не так. Дерзкие, открытые, повернутые на саморекламе, они держались вызывающе – и действовали в соответствии с пробивной доктриной, которую с евангелическим рвением проповедовали Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, Гельмут Коль и Франсуа Миттеран. Им нравилось ощущать себя центром собственной вселенной. Жан-Поль Сартр, знаменитый философ-экзистенциалист, в свое время сказал: «Человек – это то, что он из себя делает»; правда, потом добавил: «Человек – прежде всего существо, которое осознанно проецирует себя в будущее». «Ну-ка, попробуй!» – так принимали вызов художники нового поколения. Британская поросль воспитывалась на заявлении, сделанном Маргарет Тэтчер в 1979 году: «Такого понятия, как общество, попросту не существует». В ее понимании человек должен был заботиться о себе сам.
Выбор предстоял и вправду жесткий: или пан, или пропал. Тинейджеров из рабочих семей, которых государство не потрудилось обеспечить достойным или по крайней мере соответствующим их амбициям и интеллектуальным способностям образованием, это и раздражало, и, как ни странно, подстегивало. Раз им предложили такую игру – что ж, они согласны в нее сыграть, но за счет истеблишмента. Им было плевать на правила, они готовы бросить вызов власти и заявить о себе миру всеми доступными средствами. Выставка «Фриз» 1988 года стала первым публичным заявлением молодых художников о том, что свою судьбу они будут определять сами. Имея в виду не только творчество, но и политические взгляды, и деньги, и эстетику. Они привнесли дух предпринимательства и в свое искусство, и в окружавший их мир.
И никто не воплотил этот дух лучше, чем Дэмиен Херст. Еще студентом он открыл для себя макабрические и тревожные картины Фрэнсиса Бэкона, британского художника-экспрессиони-ста. В те годы Херст стремился состояться как художник, но в конце концов сдался, обнаружив, что все его холсты напоминают «плохого Бэкона». Вместо этого он начал переделывать свои героические картины в трехмерные изображения, переосмысливая их как скульптуры. В 1990 году родилась инсталляция «Тысяча лет» (ил. 35) – блестяще задуманная и великолепно исполненная работа, одновременно зловещая и жизнеутверждающая.
Она представляет собой большой стеклянный параллелепипед – около четырех метров в длину, два в высоту и два в ширину – в черном стальном каркасе. Внутри параллелепипед разделен пополам стеклянной перегородкой, в которой просверлены четыре круглых отверстия размером с кулак. В одной секции стоит белый куб из ДВП, похожий на гигантскую игральную кость, с тем лишь отличием, что все грани отмечены только одной черной точкой. По другую сторону стеклянной перегородки на полу лежит гниющая голова коровы. Над ней висит электронная мухобойка из тех, что можно увидеть у мясников. В двух противоположных углах стоят миски с сахаром. Для завершения образа Херст добавил мух и личинок. В итоге получилось нечто напоминающее наглядное пособие по биологии – в помощь учителю, объясняющему мушиный жизненный цикл: муха откладывает яйца в коровью голову, яйцо превращается в личинку, которая питается разлагающейся плотью, пока не вылупится в муху; та будет лакомиться сахаром, спариваться с другой мухой, опять откладывать яйца на коровью голову, пока ее не прибьет мухобойка (в роли равнодушного Бога), после чего насекомое упадет на коровью голову – и теперь уже дохлая муха станет частью разлагающейся органической материи и обеспечит питанием только что вылупившихся личинок. Отвратительно? Да. Хорошо? Очень. Искусство? В высшей степени.
Ил. 35. Дэмиен Херст. «Тысяча лет» (1990), фото Роджера Вулдриджа
Дэмиен Херст, заметьте, не учитель естествознания, он художник, и это означает, что перед нами произведение искусства – или по крайней мере работа, требующая, чтобы ее оценивали как произведение искусства. «Тысяча лет» – или «Судьба мухи», как ее еще называют, – вписывается в художественно-исторический канон, который можно проследить за сотни лет. Тема жизни и смерти, рождения и смерти так же стара, как само искусство. Прямоугольный бокс и белый куб выглядят более или менее современными; это ссылки на минимализм: Сола Левитта (на две трети) и Дональда Джадда (на треть). Но есть во всем этом и что-то от Йозефа Бойса. Немецкий художник активно использовал витрины – стеклянные шкафы для экспозиции объектов, где выставлял всякие странные мелочи, включая батарейки, кости, сливочное масло и ногти. Разлагающаяся плоть коровы напоминает застывшую масляную краску багрово-красных оттенков, которые наделяли картины Бэкона зловещей магией. И Дюшан тоже здесь, дадаистское присутствие его «реди-мейдов» очевидно в сахарницах и мухобойке: это предметы из повседневной жизни. Есть что-то и от Швиттерса с его «Мерцами», и от «Комбинаций» Раушенберга, в немалой степени из-за включения в композицию мертвого животного. Эту работу можно определить и как произведение концептуального искусства – результат тщательно спланированной идеи, которая продиктовала материал и форму.
Список реминисценций можно продолжить. Но Херст не уподобляется постмодернистам, отбирая лакомые куски и иронически посмеиваясь. Глядя на «Тысячу лет», не скажешь, что ее создавал художник встревоженный и растерянный. В ней угадывается в высшей степени самоуверенный мастер, представитель поколения, которое, как он сам говорит, «не испытывает никакого стыда по поводу кражи чужих идей». Его подход к истории искусства вовсе не постмодернистский, Херст не выбирает несуразные диссонирующие комбинации в надежде на то, что они будут провоцировать зрителя на размышления о личности и мимолетности времени; он выхватывает из прошлого то, чему может придать новый поворот. Перед нами художник предприимчивый, прямолинейный, бесстрашный, и делает он то, что ему нравится.
Антрепренерские взгляды Херста разделяла целая когорта британских художников; эти сообразительные ребята понимали, что если хочешь добиться успеха и диктовать условия, то необходимо создать бренд – не только из собственного имени, но и из своих работ. И значит, надо выпить не раз и не два с теми, кого художники всех времен традиционно считали отродьем дьявола: с бизнесменами. Взяв на вооружение лозунг Энди Уорхола «Бизнес – лучшее искусство» (теперь уже очищенный от первоначальной иронии), они нашли коммерсанта, который взялся им помочь. Чарльз Саатчи сделал себе имя как рекламный агент. Вместе со своим братом Морисом он создал «Саатчи & Саатчи», одно из самых успешных и уважаемых в мире рекламных агентств. Эти братья-предприниматели были в широком смысле не столько детьми Тэтчер, сколько ее «группой поддержки»: серией своих броских плакатов они помогли партийному лидеру прийти к власти. Чарльз был творческим локомотивом дуэта; талантливый «упаковщик идей», он придумывал масштабные рекламные кампании, которые генерировали огромные финансовые потоки. Это сочетание прозорливости и чутья на хорошую прессу не могло не привести увлеченного коллекционера произведений искусства к компании молодых художников, ищущих теплых лучей славы.
В 1985 году Чарльз Саатчи открыл галерею в северном пригороде Лондона, чтобы выставлять и продвигать свою коллекцию современного искусства. Она быстро стала обязательной остановкой для любого начинающего художника, ищущего путь на лондонскую арт-сцену. Вскоре после выставки Херста «Фриз» Саатчи начал собирать работы выпускников колледжа, участвовавших в экспозиции. В 1992 году он выставил в галерее свой улов – недавно приобретенные работы группы «Молодых британских художников», в том числе и «Тысячу лет» Дэмиена Херста. И это была не единственная работа Херста, представленная на выставке Саатчи.
Еще там показали большую скульптурную композицию, которая состояла из огромной прямоугольной стеклянной витрины в белой стальной раме, где Херст выложил очередную мертвечину На этот раз туша была целая, а размер животного говорил о том, что при жизни оно могло проглотить любого зрителя. Экспонатом стала четырехметровая тигровая акула, которую Херст поместил в стеклянный аквариум, наполненный формальдегидом. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991), (ил. 36) – безумно амбициозная идея, воплощенная с самодовольной уверенностью и расчетом как на внимание публики, так и на рекламу. Британские таблоиды заглотнули наживку, и Sun среагировала хлестким заголовком: «£50 000 за рыбу без чипсов». Но смеялись в итоге Херст и Саатчи: их репутации в арт-мире уже ничто не угрожало.
Шесть лет спустя их имена были официально увековечены в истории искусства. Авторитетная Королевская академия на Пикадилли в Лондоне устроила выставку работ из коллекции Чарльза Саатчи. Это было правильное шоу – в правильное время, с правильным названием: «Сенсация». Наверное, в нем был намек на всплеск эмоций, который обещала выставка. Но после того как люди увидели экспозицию или узнали о ней, название можно было интерпретировать однозначно – как характеристику самого события. Шоу превзошло все ожидания.
Ил. 36. Дэмиен Херст. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991), фото Prudence Cuming Associates
Братья Чепмен представили сцены жестокой бойни; Марк Куинн (род. 1964) – скульптурное изображение своей головы под названием «Я» (1991), на которую потратил 4,5 литра собственной замороженной крови (оргинальное сорбе), набранной в течение пяти месяцев; Маркус Харви (род. 1963), старый друг Дэмиена Херста, показал картину «Майра» (1995). Переполох она вызвала знатный. Дело в том, что это был портрет детоубийцы Майры Хиндли, выполненный из отпечатков детских рук. Кто-то увидел в нем мощную отповедь жутким злодеяниям, кто-то счел картину недопустимой.
Дэмиен Херст, разумеется, тоже был представлен. Инсталляциями с мухами и акулой, многими другими заформалиненны-ми трупами животных из его знаменитой серии «Естественная история», а также «точечными картинами». Сегодня, спустя десять лет, можно сказать, что на той выставке демонстрировались главные хиты Херста, не хватало только одного, который он создал позднее, в 2007 году. «За любовь Господа» представляет собой платиновый слепок человеческого черепа в натуральную величину, инкрустированный более чем 8000 бриллиантов и дополненный человеческими зубами. Эта работа нелепа, вульгарна, носит откровенно коммерческий характер (аббревиатура ее названия – FLOG[34], что на сленге означает «продавать»), и выставлена она в нарочито театральных декорациях: единственный объект в центре затемненной комнаты, на черной ткани, специальная подсветка заставляет бриллианты сверкать. Но несмотря ни на что, даже на обвинения в плагиате, звучащие в некоторых кругах, это интересное произведение искусства. «За любовь Господа» можно истолковать как символ безжалостного и равнодушного века, в который богатство и тщеславие развратили и испортили западную цивилизацию.
На выставке «Сенсация» экспонировались работы еще восьми участников шоу «Фриз». Среди них была и Сара Лукас. Как прежде Уорхол и Лихтенштейн, она искала материал для творчества в самом дешевом сегменте потребительского рынка. Впрочем, Лукас не особо интересовали рекламные объявления или комиксы; она предпочитала скабрезные бульварные газеты, которые пестрят обнаженкой и разносят сенсационные сплетни и слухи. Вдохновившись этим великолепием, она сделала скульптуру «Два жареных яйца и кебаб» (1992) (репр. 28), после которой заговорили об извращенном юморе «Молодых британских художников». Скульптура состоит из стола, на котором выложены два жареных яйца с намеком на женские груди (в британском разговорном языке «глазунья» – метафора плоскогрудой женщины). Чуть ниже, под яичницами, раскрытый кебаб создает иллюзию вагины. Фотография этой композиции помещена в рамку и стоит в верхней части стола, изображая (в контексте) человеческую голову. Четыре ножки стола завершают символический образ (две руки, две ноги).
Через пару лет Лукас представила Au Naturel[35] (1994) – еще одну грубую (во всех смыслах этого слова) скульптуру из повседневных материалов. На этот раз старый матрас привален к стене. На левой половине матраса две дыни (груди), под ними ведро (снова вагина). Справа, параллельно ведру, вертикально поставленный огурец и два апельсина, выложенные по обе стороны от него (думаю, тут объяснять ничего не надо). Обе композиции – «Яичница из двух яиц и кебаб» и Au Naturel — участвовали в выставке «Сенсация».
Скульптуры Сары Лукас можно воспринимать и как шутку, и как глубокую критику принятого в обществе восприятия и изображения женщины и секса. Так или иначе, но оба произведения представляют свое время. Брутальный образ ладетки-пацанки уже покорил Британию. Группа Spice Girls с их манифестом женской силы уже была готова к завоеванию мира. Поколение девчонок-сорванцов выросло в энергичных девушек-оптимисток, которые действительно могли получить все, чего хотели. Хорошее время и достойная карьера – девушки добивались этого быстрее, чем юноши. Они могли позволить себе больше секса, наркотиков и алкоголя. Они могли быть грубее и наглее. Могли взобраться выше по карьерной лестнице, могли мечтать о большем. Тоскливая Англия стала Cool Britannia[36] – и ладетки пили за это.
Это были флюиды эпохи, и, сознательно или нет, Сара Лукас попала в струю. Она оказалась не одинока. В экспозицию выставки «Сенсация» вошли и работы ее подруги, убежденной ладетки Трейси Эмин (род. 1963). Это она, безумная Трейси из Маргейта (как она сама себя называет), появлялась пьяной в прямом телеэфире, вышивала на стенках палатки имена всех своих бывших любовников («Все, с кем я когда-либо спала с 1963 по 1995» (1995) (репр. 29), неоднократно обнажала тело и душу во имя искусства и рекламы. В 1993 году обе чудачки решили открыть магазин (так и назвали его: «Магазин») в лондонском Ист-Энде: коммерческое предприятие, которое, как они надеялись, поможет им оплачивать студию на первом этаже. Они выпустили линию футболок со скабрезными надписями – Complete Arsehole, Sperm Counts и I’m so Fucky. He сравнить с дюшановскими каламбурами, но времена как-никак пришли другие… Многие категорически отвергают Трейси Эмин; говорят, что она мошенница и самозванка. История оценит качество ее искусства, но что она не самозванка – это точно. Эмин с отличием окончила художественный колледж в Мейдстоне, получила диплом магистра Королевского колледжа искусств. Ее работы можно встретить в коллекциях самых престижных музеев современного искусства (МоМА, Помпиду, Галерея Тейт), и она была второй женщиной, которой доверили представлять Великобританию на Венецианской биеннале. Возможно, многие окажутся разочарованы, но она, несомненно, заслуживает того, чтобы ее оценивали как настоящего художника. И уж, конечно, ни про какое самозванство и речи нет. Ее работы можно узнать с первого взгляда – поверьте, вы не ошибетесь, – и это доказывает, что она блестяще владеет главным в профессии: рисунком. Забудьте ее выходки и саморекламу. Лучше оцените ее способность контактировать напрямую с большой аудиторией. Может быть, Эмин не в состоянии внятно артикулировать свои идеи, но у нее есть присущая поэтам чистота чувства.
Трейси Эмин, так же как Дэмиен Херст и многие другие участники YBA, родилась в рабочей семье. Она оставила родной город, как только представилась такая возможность, и отправилась в Лондон искать счастья. Работала в магазине, училась в колледже, время шло. Трейси начала писать. В 1992 году – под влиянием предпринимательского оптимизма Тэтчер – она пригласила от полусотни до сотни человек, готовых инвестировать в ее «творческий потенциал». За 10 фунтов инвестиций Трейси Эмин обязалась обеспечить любого подписчика четырьмя письмами, одно из которых – с пометкой «лично». Этот опыт выявил, продемонстрировал ее смекалку, фантазию, веру в себя. И в то же время подсказал, что станет основой ее творчества и успеха: «исповедальное искусство». Письма личного и интимного характера – идеальная среда для художницы, которой предстояло строить карьеру на полной открытости перед зрителем, по-экспрессионистски разрешая заглянуть в свою личную жизнь. С одной из таких работ Эмин блистательно провалилась на соискании премии Тернера в 1999 году. «Моя кровать» (1998) была именно кроватью Трейси Эмин: разобранная, со смятыми грязными простынями, разбросанными подушками. Пол вокруг кровати был усыпан осколками ее жизни: пустыми бутылками, сигаретными окурками, несвежим нижним бельем.
Неубранная постель «сделала» Трейси Эмин. Она получила внимание, любовь и ненависть средств массовой информации, которыми умело манипулировала, попутно обретая богатство и славу. Художница использовала свой шанс. Трейси из поколения, которое не ждет счастливого случая, а делает все, чтобы счастье случилось. Крутитесь сами, как сказал министр кабинета Тэтчер британским безработным, и выруливайте.
В то время в Лондоне обретался еще один амбициозный деятель, обладавший мощной предпринимательской жилкой, и он тоже стремился сделать себе имя. Человек совершенно другого происхождения, мировоззрение он имел такое же. Джей Джоплин – высокий красавец с хорошими манерами, выпускник Итона, сын богатого землевладельца, служившего в правительстве Маргарет Тэтчер. К современному искусству Джоплин пристрастился еще в школе (он как-то уговорил художницу Бриджет Райли сделать обложку для школьного журнала), пронес эту любовь через годы учебы в Шотландии и вернулся с нею в Лондон. Личная страсть переросла в профессиональное честолюбие: Джоплин хотел стать арт-дилером с собственной галереей, где он мог бы выставлять свои приобретения. Он уже завязал дружбу с Дэмиеном Херстом (оба они были с севера Англии, из Йоркшира), который познакомил его со многими художниками своего круга. Эта тропка вскоре привела Джоплина к Лукас, а затем, что было неизбежно, и к Эмин.
Джоплин заплатил Трейси Эмин десять фунтов и подписался на ее четыре письма. Вскоре он подыскал небольшое помещение для галереи, где начал строить свой бизнес. Это был крохотный закуток – всего четыре квадратных метра, – но идеально расположенный в самом престижном квартале Уэст-Энда. В отличие от местных довольно крутых арт-дилеров, которые специализировались на продаже произведений старых мастеров, Джей Джоплин не стал украшать вход в галерею собственным именем. Он предпочел ссылку на авторитетное эссе, написанное в 1976 году американским художником ирландского происхождения Брайаном О’Догерти (род. 1934) – «Внутри белого куба», где автор утверждает, что стерильно белые стены галереи современного искусства формируют вкус зрителя и управляют им больше, чем сами произведения, которые в этих стенах выставляются. Назвав свою галерею «Белый куб», Джоплин убил сразу двух зайцев; это было и буквальное описание помещения, и историко-искусствоведческая шутка о манипуляционном характере современного мира искусства. Каламбур произвел желаемый эффект еще и потому, что был придуман молодым арт-дилером.
Джоплин хотел выставлять и продавать искусство, созданное его поколением. В 1993-м, через шесть месяцев после открытия «Белого куба», он представил подборку автобиографических работ, выполненных его новой подругой, сочинительницей писем. Экспозиция называлась «Трейси Эмин: моя главная ретроспектива, 1963–1993». Отличное название: ироническая шутка никому не известной молодой художницы в адрес помпезных проводимых музейными грандами выставок именитых мастеров живописи и скульптуры. Здесь и намек на честолюбие автора, и заявка на то, что ее творчество будет целиком посвящено ей самой – Трейси Эмин. На выставке было представлено более 100 арт-объектов – от ее девичьих дневников до «Отель “Интернэшнл”» (1993) – одеяла в стиле applique[37], усыпанного фетровыми буквами, из которых сложены имена родных Трейси и ее собственные реплики. Орфографических ошибок было предостаточно (что не редкость в арт-объектах: взгляните на «Чайную картину в иллюзионистском стиле» (1961) Дэвида Хокни, где слово «tea» (чай) он пишет как ТАЕ); конечно, были и обезоруживающе откровенные признания. Звезда родилась.
На самом деле родились сразу две звезды. Одна – жаждущая славы художница, которая живет, как в реалити-шоу; другая – смышленый арт-дилер с фантастическим нюхом на талант. У Джоплина не было равных и в умении находить состоятельных клиентов и завязывать дружбу с ними – потенциальными покупателями работ его подопечных. С момента открытия в начале 1990-х «Белый куб» превратился в одного из крупнейших и наиболее влиятельных игроков на растущем британском арт-рынке и не прекратил своего агрессивного расширения, даже когда мир оказался на пороге финансового краха. Но бизнес-усилия Джоплина меркнут на фоне «Большого папочки» рынка современного искусства: всемогущего Ларри Гагосяна (род. в США, 1945).
Гагосян начинал в 1970-х с уличной торговли постерами в Лос-Анджелесе. Он покупал плакат за пару баксов, затем аккуратно вставлял его в алюминиевую рамку и перепродавал уже за пятнадцать. Вскоре Ларри начал зарабатывать – спасибо хорошему вкусу и деловой хватке. Он стал покупать более дорогие плакаты, потихоньку начал интересоваться искусством, и постепенно у него созрел план заняться рынком недвижимости и торговлей эксклюзивным товаром.
Тут нет никакого противоречия: на самом деле продажа произведений высокого искусства не так уж далека от торговли элитной недвижимостью. Арт-дилер – по сути, агент по продаже произведений искусства; художник – клиент, выставляющий свою интеллектуальную собственность. Оба бизнеса требуют офиса/галереи с престижным адресом, где и совершаются все сделки с заинтересованными сторонами. Чтобы погрузить грязный процесс продаж в атмосферу респектабельности, устраиваются показы (выставки), раздаются глянцевые брошюры с рекламой, вышколенный, хорошо одетый персонал офиса/ галереи – сплошь выпускники престижных частных школ – демонстрирует прекрасные манеры.
Недвижимость и искусство как товар схожи еще и тем, что покупатель доверяет опыту и квалификации агента, который должен правильно установить цену. И если в стоимости дома учитывается главный критерий: «место, место, место», в искусстве это однозначно «провенанс, провенанс и еще раз провенанс». То есть: кто автор (здесь нужны неопровержимые доказательства), кто продает и, самое главное, в каком из крупнейших музеев современного искусства эта работа (или другие работы художника) выставлялась. Коллекционерам необходимо все это знать, чтобы сопоставить с ценой и удостовериться в надежности своих инвестиций. Точно так же стоимость дома определяется престижностью адреса. Если признанный дилер-тяжеловес продает работу художника, которая выставлялась, скажем, в Нью-Йоркском музее современного искусства, МоМА, совершенно очевидно, что ее цена будет неизмеримо выше, чем если бы она продавалась на сайте Art-4-U.com, прибыла из небольшого провинциального городка и только однажды демонстрировалась публике, и то в местной начальной школе, где учатся дети художника. Причем работа может быть одна и та же! Говорят, что когда художник дезертирует из родной галереи и приносит свои картины в суперуспешную галерею Гагосяна (а так поступают очень многие), его картины дорожают десятикратно.
Само собой разумеется, наш ушлый американец поднял ставки в арт-дилерской до небес. Затеяв бизнес в 1970-х, он завершил десятилетие, устроив в своей лос-анджелесской галерее выставки-продажи работ всех крупных художников Восточного побережья, таких как Ричард Серра (род. 1939) и Фрэнк Стелла. Но это было только начало. В 1980-х Гагосян переехал в Нью-Йорк и подружился с Лео Кастелли, в то время грандом рынка современного искусства. Получив кредит доверия, помощь и благословение мудрого старца, Гагосян принялся строить свою империю. Холодный, жесткий, умный, с непомерными амбициями, к концу 1980-х он уже смог обосноваться в роскошном помещении на Мэдисон-авеню. Сегодня его галереи разбросаны по всему миру: Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Париж, Лондон, Гонконг, Рим и Женева. То есть во всех мировых центрах бизнеса, которые мы привыкли ассоциировать с ведущими домами высокой моды и сетями пятизвездочных отелей, – до Ларри Гагосяна ни одному арт-дилеру не удавалось завоевать этот мир.
Строя бизнес и наживая состояние, Гагосян провернул несколько спекулятивных сделок. В начале 1980-х дерзкий артдилер заявился без приглашения к весьма влиятельным супругам-коллекционерам. К концу разговора они согласились продать картину Пита Мондриана «Победа буги-вуги» (1942–1943) – навеянную джазом «решетку» (и одну из самых ценных картин в их коллекции) – издателю Саю Ньюхаусу, владельцу Conde Nast и клиенту Гагосяна. Картина перешла из рук в руки за 12 миллионов долларов – цена по тем временам заоблачная. Но это сущая мелочь в сравнении с аналогичной сделкой, которая состоялась под патронатом Гагосяна лет через двадцать. И опять это была картина одного из европейских emigres, другого голландского художника-абстракциониста, обосновавшегося в Нью-Йорке. При посредничестве Гагосяна магнат шоу-бизнеса, владевший «Женщиной III» Виллема де Кунинга, продал шедевр миллиардеру хедж-фонда, как говорят, за баснословные 137 миллионов долларов. Даже искушенный и проницательный Гагосян, должно быть, удивился тому, насколько большим бизнесом стало искусство и насколько крупными предприятиями — художники. Впрочем, ему ли этого не знать! Он не только является американским дилером Дэмиена Херста, но и представляет двух других коммерчески ориентированных художников: Джеффа Кунса и Такаси Мураками (род. 1962).
Мураками – король китча. Предприниматель до мозга костей, он не упускает ни одной коммерческой возможности и управляет своей мировой империей как блестящий выпускник бизнес-школы. Как и большинство современных художников, Мураками окружил себя целым аппаратом пиара: имидж и бренд сегодня важны для художников ничуть не меньше, чем для любой транснациональной корпорации. Он категоричен и последователен в стремлении представлять свои работы как товар: это часть его искусства.
Мураками для японской поп-культуры то же, что и оказавшие на него большое влияние Уорхол и Лихтенштейн для американской 1960-х. Ориентирами для Мураками стали аниме и комиксы манга, персонажи и стиль которых он использует в скульптурах, картинах – и маркетинге.
В конце 1990-х годов Мураками создал серию скульптур в натуральную величину, навеянных конфетными персонажами аниме, – как ответ на одержимость этими образами японских подростков. Все работы были откровенно сексуальными, в них воплотились фантазии и комплексы молодых мужчин, зависающих у компьютерных мониторов. «Мисс Ко» (1997) – пышногрудая официантка в мини-платье, «Хиропон» (1997) вообще голая (если не считать микроскопических трусиков-бикини), с грудями больше, чем голова, в кольце белой пушистой пены. Скульптура «Мой одинокий ковбой» (1998) (обыгрывается название фильма Энди Уорхола, секс-сатиры на вестерн) изображает мультипликационного персонажа в момент буйного сексуального облегчения: его фиолетовый пенис фонтанирует белой жидкостью, застывающей над головой в виде лассо.
Конечно, в каком-то смысле это примитив и пустышка – но так и было задумано. Но подобный «прикол» стоит целое состояние. В 2008 году «Мой одинокий ковбой» был выставлен на аукцион. Стартовая цена составляла ни много ни мало 4 миллиона долларов. Мураками – как истинный бизнесмен – присутствовал на торгах лично, чтобы служить физическим доказательством подлинности скульптуры. Гул в зале нарастал, по мере того как два коллекционера, вступившие в схватку за экспонат, взвинчивали цену. Через несколько минут весь зал (озадачен был и сам Мураками) вывели из замешательства бурные аплодисменты: удар молотка закрыл торги на отметке 13,5 миллионов долларов. Не многовато ли за мастурбирующего мультяшного персонажа из стекловолокна? Или в самый раз?
Японские образы сыграли огромную роль в развитии современного искусства. Импрессионисты, постимпрессионисты, фовисты и кубисты – все любовались изящными плоскими укиё-э XIX века, искали в них вдохновение и новые стилистические приемы. После двух мировых войн центр мирового искусства переместился на запад, в Америку: Японии в этом спектакле досталась роль зрителя, а не участника. Мураками работает, чтобы восстановить равновесие: он берет исконно японское изобразительное искусство и распространяет его по земному шару. Он задействует все инструменты глобализации: путешествия, масс-медиа, свободную торговлю – чтобы лишний раз заявить о культурной специфике своей родины. За внешне легкомысленными работами Мураками стоит трезвый политический расчет: художник пытается восстановить позиции японской культуры в мире. Он серьезно относится к китчу. Как и его более знаменитый сотоварищ по галерее Гагосяна.
Джефф Кунс – делец, который стал художником, женился на порнозвезде и создал некое подобие «Фабрики» Уорхола, где легионы ассистентов лепят скульптуры и картины по его «техзаданиям», а он лишь наблюдает за процессом, как креативный директор в рекламном агентстве, – типичный художник-предприниматель. Кунс не стремится к размыванию границ между искусством и жизнью – он пытается стереть их полностью. Он – художник, подхвативший эстафету Энди Уорхола. Правда, Уорхола привлекал звездный статус, и Энди с радостью на него работал, но когда дело доходило до искусства, стремился удалить себя из произведений. Другое дело Кунс.
Спекулируя на высоком статусе, которым общество наделяет художника, он превратил себя в икону, предвосхитив культ «мальчиковых» и «девичьих» групп середины 1990-х. Кунс создал серию плакатов «Реклама для художественного журнала» (1988–1989), где позирует в образе синти-поп солиста группы 1980-х. Эту тему Джефф продолжил, выпустив годом позже «Сделано на небесах» (1989) (ил. 37) – постер для якобы будущего фильма. И снова Кунс беззастенчиво выставляет себя в роли звезды, благосклонно принимающей восторги преданных зрителей. Этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы удостоиться нескольких колонок в газетах, но изображение разместили на гигантском билборде у входа в Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Столь откровенной саморекламы никто не видел с тех самых пор, когда Дали, приехав в Америку, продал там свою душу (впрочем, Кунс так не считал: он так восхищался Дали, что однажды сам напросился в гости к великому сюрреалисту).
«Тревога! Противник задействовал „Щенка“ Джеффа Кунса!»
«Сделано на небесах» гарантировало Кунсу внимание таблоидов. Он позирует, полулежа совершенно обнаженным. Перед ним слабая и беспомощная красавица блондинка в белом неглиже. Ее голова и руки запрокинуты – эротическая беззащитность, – в то время как Кунс склоняется над ней, глядя на нас встревоженно и в то же время невинно. Изображение отсылает к истории Адама и Евы, а поза и застывший взгляд Кунса заставляют вспомнить проститутку с картины Эдуарда Мане «Олимпия». Но все-таки в этом постере больше от «Ночного кошмара» (1781) Генри Фюзели, где инкуб сидит верхом на спящей красавице, готовясь овладеть ею (или уже сделав это).
Впрочем, у такого приверженца Дюшана, как Джефф Кунс, не все так просто. Женщина на картине не кто-нибудь, а Илона Шталлер, она же Чиччолина, итальянская порнозвезда. Они с Кунсом – «реди-мейд», союз искусства, политики и порно. Или же Кунс хочет сказать, что это уже одно и то же? Плакат, вероятно, доставил немало неудобств чопорным посетителям Музея Уитни. Ведь у них уже сложилась социальная иерархия: художники – боги; порнозвезды – творение дьявола. Кунс ставит под сомнение эти догмы, представляя произведение искусства, которое – по крайней мере для бульварной прессы – «сделано на небесах».
Предприимчивость помогла Джеффу Кунсу раскрутиться, когда в 1985 году он был замечен авантюрной нью-йоркской галереей International With Monument. Они решили устроить персональную выставку молодого художника. О ней заговорили в манхэттенских кругах, близких к современному искусству. В этой тусовке был и молодой художник из Китая, разделявший предпринимательский подход американца. Ай Вэйвэй (род. 1957) приехал из Пекина в Нью-Йорк в 1981 году с тридцатью долларами в кармане, не зная ни слова по-английски. Ай бежал из страны, которая затравила его отца-поэта, и он опасался, что окажется следующим в списке жертв коммунистического режима. Неудивительно, что мать была обеспокоена отъездом сына в неизвестность. Его же это нисколько не смущало. «Не переживай, – сказал он ей. – Я еду домой».
Ил. 37. Джефф Кунс. «Сделано на небесах» (1989)
Ай Вэйвэй – удивительный человек. Бесстрашный и решительный, он живет в центре своей собственной вселенной. Время, вынужденно проведенное в деревне на краю пустыни Гоби в северо-восточном Китае, без книг и школы, без каких бы то ни было развлечений, не пропало даром. Оно было потрачено на размышления. Пока его отец занимался унизительной работой, драя общественные туалеты – эту трудовую повинность назначили ему как наказание за поэзию, – Ай Вэйвэй сидел и думал. В конце концов семье было разрешено вернуться в Пекин. Отец сменил туалетный ершик на перо и снова стал писать стихи. Сын погрузился в среду городского авангарда, впервые в жизни увидел и начал читать книги по искусству. Он проглатывал тома об импрессионистах и постимпрессионистах, но выбросил книгу про Джаспера Джонса, не в силах понять, чем занимается этот американец. И все-таки интуиция подсказывала Ай Вэйвэю, что Нью-Йорк – город для него, поэтому когда власти заподозрили юношу в увлечении современным искусством, он уже знал, куда ему ехать.
Ай Вэйвэй – серьезный человек с отличным чувством юмора; благодаря этому сочетанию родилась одна из его самых известных работ: изначально она задумывалась как шутка, а не как произведение искусства. Ай использовал древние китайские керамические вазы эпохи неолита, раскрашивая эти почитаемые раритеты пестрыми современными орнаментами, или же рисовал на них логотип «Кока-колы». Однажды Ай подумал, что будет забавно сделать серию фотографий, уронив одну из ваз на бетонный пол и запечатлев момент, когда она рассыплется. Он так и сделал, но потом забыл об этих снимках, пока художественная галерея не начала собирать его работы для выставки.
Илл. 38. Ай Вэйвэй. «Падение урны династии Хань» (1995)
Куратор сообщил, что экспонатов не хватает, и поинтересовался, не найдется ли у художника чего-нибудь еще. Ай Вэйвэй порылся в своей студии и наткнулся на эти фотографии с вазами. Они потом были развешаны на стенах галереи под названием «Падение урны династии Хань» (1995) (ил. 38) я стали знаменитым произведением искусства, доказав правоту Ай Вэйвэя, считающего, что каждое его действие – это творчество.
Предпринимательская жилка заставила Вэйвэя стать архитектором (он – соавтор проекта олимпийского стадиона «Птичье гнездо» в Пекине), куратором, писателем, фотографом и художником. В бизнесе это называется диверсификацией, когда, отказавшись от полной занятости на одном месте, руководитель участвует в самых разных сферах экономической деятельности, от консалтинга до стратегических инвестиций. В арт-мире это «мультидисциплинарный подход», очень популярный у художников, ставших своеобразными брендами: они готовы освятить волшебной пылью с золотых букв своего имени множество проектов. Для кого-то это способ заработать еще больше денег, для кого-то мотивацией может быть интеллектуальное любопытство, а порой художник просто польщен, когда его просят сделать что-то необычное, тем более если просьба исходит от человека, которым он восхищается. Предприимчивость Ай Вэйвэя обусловлена единственным и страстным желанием: изменить Китай.
Творчество Ай Вэйвэя, проникнутое стойкими политическими убеждениями, пожалуй, скорее исключение, чем правило для искусства последнего времени. По большей части современное искусство лишено политического подтекста, разве что иногда случаются странные акции, больше напоминающие попытки вскочить на подножку уходящего поезда. В целом, даже когда художники-авангардисты нашего поколения выступают с агрессивными и вызывающими работами, в их творениях чаще видна нахальная усмешка, а не злобный оскал. Все-таки авторы больше склонны развлекать, а не устраивать кампании. Тектонические сдвиги в обществе, произошедшие за последние двадцать пять лет, не попали в круг их внимания. Эпоха торжествующего капитализма, когда превыше всего ценятся слава и богатство, прокомментирована была в общем-то слабо, а уж влияние глобализации и цифровых средств массовой информации и подавно не нашло отражения. Что же до проблем охраны окружающей среды, коррупции на разных уровнях, терроризма, религиозного фундаментализма, упадка сельской жизни, угрожающего расслоения в обществе, когда богатые становятся все богаче, а бедные – все беднее, жадности и бессердечности банкиров… Ну, всего этого как будто и нет, если судить по экспозициям в музеях современного искусства.
Может, взгляды и мысли художников сосредоточены на чем-то другом. Может быть, они почувствовали угрозу. Любой художник-предприниматель, наверное, осознает, что, ввязываясь в бизнес, он принимает философию целесообразности – понимая, что иногда сделки приходится совершать и с дьяволом. Если вы ступили на этот путь, избежать лицемерия очень сложно. Как, например, создать глубокое и искреннее антикапиталистическое произведение искусства, если накануне вы провели шикарный вечер – вас пригласили на ужин в музей и вы сидели за столом с главой какого-нибудь инвестиционного банка, который к тому же один из ваших постоянных покупателей-коллекционеров? Или как сделать работу о загрязнении окружающей среды, когда ваше собственное производство выбрасывает столько парниковых газов? Неужели возможно создать картину или скульптуру, призванную высветить несправедливость общества, от которого вы получаете очевидную выгоду? И как критиковать истеблишмент, если вы сами уже давно вошли в круг избранных? Ответ один: это невозможно.
Если, конечно, вы не работаете вне рынка – тогда вам нечего терять, как уличному художнику Однажды отвергнутые, как праздное развлечение криминализированного андеграунда, стрит-арт и граффити сегодня претендуют на то, чтобы их признали частью современного искусства. В 2008 году огромный северный фасад Тейт Модерн был отдан под шесть колоссальных произведений уличного искусства, созданных художниками со всего мира, среди которых был и молодой француз, известный только как JR (дата рождения неизвестна). Себя как автора черно-белых фотографий с политической подоплекой, которые он наклеивает на здания, JR определяет как photograffeur[38].
Большинство его работ выставлено без одобрения истеблишмента, они не были официально приняты на комиссию, не получили «добро» от богатого патрона. Они не для продажи. В 2008 годуJR украсил ими одну из фавел (городских трущоб, где процветает преступность) Рио-де-Жанейро, оклеив лачуги множеством черно-белых фотографий с изображением пристально глядящих людских глаз. Таков был его ответ на серию случившихся здесь убийств. И это имеет смысл. Искусство JR ориентировано на конкретную местность и отражает проблемы ее жителей. От такого подхода его работы, конечно, выигрывают. Инсталляции в фавелах, наверное, не имели бы такого международного резонанса, будь они представлены на белых стенах картинной галереи. Ведь эти работы – полная противоположность коммерческому музейному искусству, зависимому от щедрых спонсоров.
Прямота и честность откровенно политических и социальных комментариев JR — вот отличительная черта стрит-арта, а отнюдь не бедность. Широко распространенное мнение, будто уличное искусство – это выплеск ярости нищих горожан, не более чем заблуждение. Едва ли не самое известное произведение стрит-арта за всю историю его существования было создано очень успешным представителем среднего класса, графическим дизайнером Шепардом Фейри (род. 1970). Фейри вполне соответствует предпринимательскому духу эпохи; у него собственная студия графического дизайна, производящая достойный ассортимент фирменных изделий. Еще в колледже Фейри разработал серию стикеров с шаржами на своих друзей-скейт-бордистов и оклеил ими стены своей комнаты. Прошло совсем немного времени, и упитанная физиономия его похожего на мультяшного героя великана со слоганом «ПОДЧИНИСЬ гиганту» стала феноменом уличного искусства, растиражированным по всему миру. Молодой дизайнер убедился: общественное пространство – это сила.
В преддверии президентской кампании 2008 года он сделал плакат в поддержку Барака Обамы, тогда еще кандидата от Демократической партии. За основу была взята погрудная фотография Обамы, задумчивый взгляд устремлен чуть вверх. Фейри позаимствовал этот образ, упростил его и стилизовал в манере поп-арта, в чем-то копируя почерк Энди Уорхола. Затем он добавил серо-голубых бликов с одной стороны, красных – с другой и световой эффект – желтовато-белый блик – на лице будущего президента. Под изображением простым жирным шрифтом было набрано слово «НАДЕЖДА» (первоначально предполагалось «ПРОГРЕСС»). Фейри и его сотрудники отпечатали тысячи экземпляров этого плаката и незаконно расклеили их на стенах зданий по всей стране. Обама в глубине души одобрил акцию, хотя и не мог сделать это публично, пока плакаты не получили официальной регистрации. К тому времени, когда был готов следующий тираж, произведение Фейри стало иконой предвыборной кампании Обамы и одним из самых известных изображений на планете.
Корни стрит-арта следует искать в доисторических пещерных рисунках, которые вдохновили многих современных художников, от Пикассо до Поллока. Но лишь в конце 1960-х – начале 1970-х годов такие города, как Нью-Йорк и Париж (плюс в начале 1980-х – Берлин со знаменитой Стеной), стали холстами для целого поколения художников-партизан; уличное искусство начало набирать обороты. С тех пор сила и популярность стрит-арта неуклонно возрастают, чему способствуют и социальные сети, вербующие все новых его поклонников. Сегодня уличный, размером с почтовую открытку, плакатик где-нибудь в Найроби может в течение часа стать мировой сенсацией: этот потенциал искусства в полной мере раскрылся во время «арабской весны» 2011 года и гражданской войны в Ливии.
Во всем мире стрит-арт стал привычным элементом городского ландшафта. В Великобритании художника, работающего под псевдонимом Бэнкси (дата рождения неизвестна), национальной знаменитостью сделали острые сатирические настенные изображения: целующихся констеблей и горничной, как бы заметающей уличный мусор под кирпичную стену (2006) (ил. 39). Бэнкси, как и многие уличные художники, сохранил анонимность, поскольку большинство его работ выставлено незаконно, и власти, вероятно, будут только рады возможности привлечь его к суду за вандализм. Бывает, что его настенные рисунки удаляют или закрашивают по решению государственных органов, часто против воли местных жителей. Когда в 2009 году музей в Бристоле, на юго-западе Англии, предоставил Бэнкси возможность выставить работы, художник предпочел «вписать» изображения в свободные пространства галереи, увязывая их с развешанными музейными экспонатами. Зрители отнеслись к эксперименту исключительно благожелательно, и предыдущий местный рекорд по посещаемости выставок был легко побит. Многие из пришедших прежде никогда не бывали в музее.
Ил. 39. Бэнкси. «Горничная подметает» (2006)
Они терпеливо стояли в многочасовой очереди на вход и, оказавшись внутри, задержались еще на несколько часов. Между тем Бэнкси нигде не было видно.
Подозреваю, что, живи Марсель Дюшан сегодня, он занялся бы стрит-артом. Конечно, его превозносили бы везде и всюду: так много в сегодняшнем искусстве от иконоборчества этого француза. Именно последователями Дюшана чаще всего называют себя современные художники. И если в первой половине XX века доминировала творческая личность Пикассо, то вторая половина столетия, без сомнения, прошла в духе интеллектуальных игр Дюшана.
Похоже, наступивший век пока не может похвастать фигурами масштаба Дюшана – или Сезанна, или Поллока, или Уорхола. Но они непременно появятся.
А может, уже появились…
Благодарности
Я бы не смог написать эту книгу без самоотверженной поддержки моей жены Кейт. Пока я в тиши своего кабинета стучал по клавиатуре, проводя за этим занятием все выходные, праздники, ранние утра и поздние вечера, она несла на своих плечах бремя забот о наших четверых детях и домашнем очаге. Я же все это время был невнимательным мужем и отсутствующим отцом, но она никогда не жаловалась и не возмущалась моим привилегированным положением. Более того – ее умная и точная критика моего текста оказалась бесценной. Лучшими пассажами книги я целиком обязан ее мудрости, а худшие – результат того, что я ее по глупости проигнорировал.
Я хотел бы поблагодарить и коллег из Би-Би-Си, которые терпели мои бесконечные прогулы, относясь к такой наглости с гораздо большей снисходительностью и юмором, чем я того заслуживаю. Я в неоплатном долгу перед Бернадетт Киттерик и Хилари О’Нил – обе они взвалили на себя львиную долю моей работы, несмотря на собственную загруженность.
Эта книга никогда не увидела бы свет, если бы не Николас Серота, предоставивший мне возможность работать под его началом в Галерее Тейт. Я очень многое узнал за те семь лет, что провел на берегах реки Темзы, помимо того, что Ник – замечательный человек, великолепный босс и блестящий куратор, которому я буду вечно признателен.
Так же как признателен Ричу Флинтаму, Крису Хэду, Чарли Вуду и многим другим моим друзьям, что помогли создать мое эдинбургское шоу «История непонятного искусства», ставшее прародителем этой книги. А вот в том, что из шоу все-таки родилась книга, заслуга команды издательства Penguin: это она вдохновила меня на то, чтобы слепить из легкомысленных лекций полноценную историю современного искусства.
Это была непростая задача, и я с ней вряд ли справился бы без Бена Брюси, моего редактора из Penguin. Он поощрял меня и критиковал, слушал и вносил предложения. Я и мечтать не мог о более преданном и дружелюбном соратнике. Немало и других, удивительно талантливых сотрудников Penguin помогли довести книгу до ума. Это Том Велдон – спасибо тебе за поддержку с самого начала проекта, Венеция Баттерфилд, Энни Ли, Кейт Тейлор, Элли Смит, Катриона Хиллертон, Ричард Брейвери, Клэр Мейсон, Лайза Симмондс, Каролина Крейг, Мэтт Клейчер, Шарлотта Хамфри, Марисса Чен, Эйми Орринджер, Джо Пикеринг, Геш Ипсен. Отдельная благодарность тебе, Пабло Хелгуэра, за потрясающие карикатуры.
В процессе работы над книгой я часто обращался к трудам многих великих. Чрезвычайно полезными были для меня «История искусств» Эрнста Гомбриха, «Шокирующая новизна» Роберта Хьюза, «Дюшан» Келвина Томпкинса. Так же как и выставочные каталоги Тейт, МоМА, Центра Помпиду и других. Я выражаю особую благодарность Ахиму Борхардт-Хьюму, Энн Дюма, Мэтью Гейлу, Грегору Мьюру, Кэтрин Вуд и Саймону Уилсону – знаменитым искусствоведам, которые великодушно согласились прочитать некоторые главы и дать им свою экспертную оценку. В свое время мне посчастливилось стать зятем Эрика и Поппи Андерсон. Сейчас они не только морально поддерживали меня, но еще читали рукопись и помогали ценными советами.
И, наконец, спасибо моим детям за терпение. Папа к ним вернулся!
Список иллюстраций
Черно-белые
1. Марсель Дюшан. «Фонтан» (1917)
2. Джеймс Макнил Уистлер. «Симфония в белом № 1: Девушка в белом» (1862)
3. Эдуард Мане. «Завтрак на траве» (1863)
4. Утагава Хиросигэ. «Станция Оцу» (ок. 1848–1849)
5. Эдгар Дега. «Танцевальный класс» (1874)
6. Винсент Ван Гог. «Едоки картофеля» (1885)
7. Огюст Роден. «Поцелуй» (1901–1904)
8. Константин Бранкузи. «Поцелуй» (1907–1908)
9. Альберто Джакометти. «Шагающий человек» (1960)
10. Эль Греко. «Снятие пятой печати» (1608–1614)
11. Жорж Брак. «Скрипка и палитра» (1909)
12. Пабло Пикассо. «Моя красавица» (1911)
13. Джакомо Балла. «Динамизм собаки на поводке» (1912)
14. Умберто Боччони. «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (1913)
15. Казимир Малевич. «Черный квадрат» (1915)
16. Владимир Татлин. «Угловой контррельеф» (1915)
17. Владимир Татлин. «Памятник III Интернационалу» (Башня) (1919–1920)
18. Марсель Брейер. «Стул ВЗ /Василий» (1925)
19. Вальтер Гропиус, Баухаус, Дессау (1926)
20. Курт Швиттерс, Мерцбау (1933)
21. Луиза Буржуа. «Мамай» (1999)
22. Джефф Кунс. «Щенок» (1992)
23. Пабло Пикассо. «Три танцора» (1925)
24. Рене Магритт. «Убийца под угрозой» (1927)
25. Маи Рэй. «Примат материи над мыслью» (1929)
26. Джексон Поллок за работой над картиной «Осенний ритм (Номер 30)», фото Ганса Намута (1950)
27. Эдуардо Паолоцци. «Я была игрушкой богача» (1947)
28. Микеланджело Пистолетто. «Венера тряпичная» (1967)
29. Дэн Флавин. «Монумент 1 В. Татлину» (1964)
30. Сол Левитт. «Серийный проект I (ABCD)» (1966)
31. Синди Шерман. «Кадр из фильма без названия № 21» (1978)
32. Джефф Уолл. «Разрушенная комната» (1978)
33. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала» (1827)
34. Джефф Уолл. «Передразнивающий» (1982)
35. Дэмиен Херст. «Тысяча лет» (1990)
36. Дэмиен Херст. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991)
37. Джефф Кунс. «Сделано на небесах» (1989)
38. Ай Вэйвэй. «Падение урны династии Хань» (1995)
39. Бэнкси. «Горничная подметает» (2006)
Репродукции
1. Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ» (1830)
2. Эдуард Мане. «Олимпия» (1863)
3. Дж. М.У. Тернер. «Дождь, пар и скорость» (1844)
4. Клод Моне. «Впечатление: Восход солнца» (1872)
5. Винсент Ван Гог. «Звездная ночь» (1889)
6. Поль Гоген. «Видение после проповеди» («Борьба Иакова с ангелом») (1888)
7. Жорж Сера. «Воскресный день на Гранд-Жатт» (1884)
8. Цветовой круг
9. Поль Сезанн. «Натюрморт с яблоками и персиками» (1905)
10. Поль Сезанн. «Гора Сент-Виктуар» (ок. 1887)
11. Анри Матисс. «Счастье жизни» (1905–1906)
12. Анри Руссо. «Голодный лев бросается на антилопу» (1905)
13. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы» (1907)
14. Умберто Боччони. «Состояния ума: Прощания» (1911)
15. Василий Кандинский. «Композиция VII» (1913)
16. Эль Лисицкий. «Клином красным бей белых!» (1919)
17. Любовь Попова, Модель платья (1923–1924)
18. Пит Мондриан. «Композиция С (№ III) с красным, желтым и синим» (1935)
19. Геррит Ритвельд. «Красно-синее кресло» (1923)
20. Жоан Миро. «Карнавал Арлекина» (1924–1925)
21. Фрида Кало. «Сон» (1940)
22. Виллем де Кунинг. «Женщина I» (1950–1952)
23. Марк Ротко. «Охра на красном» (1954)
24. Роберт Раушенберг. «Монограмма» (1955–1959)
25. Энди Уорхол. «Диптих Мэрилин» (1962)
26. Рой Лихтенштейн. «Бум!» (1963)
27. Дональд Джадд. «Без названия» (1972)
28. Сара Лукас. «Два жареных яйца и кебаб» (1992)
29. Трейси Эмин. «Все, с кем я когда-либо спала в 1963–1995» (1995)
Произведения искусства: где они находятся
Посмотреть на перечисленные ниже произведения можно на названных сайтах. Указывается нынешнее местонахождение работ, но это не значит, что в настоящее время они выставляются. За более подробной информацией обращайтесь в соответствующую художественную галерею или на сайт.
Музей Метрополитен ()
Музей современного искусства МоМА ()
Центр Помпиду ()
Галерея Тейт ()
Национальная галерея ()
Художественный центр Уокера, Миннеаполис ()
Музей Гуггенхайма ()
Лувр ()
Чикагский институт искусств ()
АВСТРИЯ
Вена
Бельведер
Климт «Поцелуй»
ДАНИЯ
Копенгаген
Новая глиптотека Карлсберга
Мане «Любитель абсента»
ГРУЗИЯ
Национальный музей Грузии
Кандинский «Картина с кругом»
ФРАНЦИЯ
Париж
Лувр
Делакруа «Смерть Сарданапала»
Делакруа «Свобода, ведущая народ»
Делакруа «Алжирские женщины»
Жерико «Плот “Медузы”»
Кало «Автопортрет “Рама”»
Музей Орсэ
Дега «Танцевальный класс»
Мане «Завтрак на траве» («Купание»)
Мане «Олимпия»
Вламинк «Ресторан “Ла Машин” в Буживале»
Музей Пикассо
Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом»
ГЕРМАНИЯ
Берлин
Турбинный завод AEG
Архив Баухауса
Брандт «Чайный набор»
Дессау
Школа Баухаус
Дюссельдорф
Коллекция Нордхайн-Вестфален
Кандинский «Композиция IV»
Мюнхен
Городская галерея
Кандинский «Впечатление III (Концерт)»
Тюбинген
Картинная галерея Тюбингена
Хэмильтон «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»
НИДЕРЛАНДЫ
Амстердам
Стеделек-музей (Городской музей Амстердама)
Кунинг «Розовый рассвет в Лаус-Пойнт»
Музей Ван Гога Ван Гог «Спальня»
Ван Гог «Едоки картофеля»
Гаага
Муниципальный музей Гааги
Мондриан «Вечер. Красное дерево»
Мондриан «Цветущая яблоня»
Мондриан «Серое дерево»
Мондриан «Победа буги-вуги»
НОРВЕГИЯ
Осло
Национальная галерея
Мунк «Крик»
РОССИЯ
Москва
Государственная Третьяковская галерея
Кандинский «Композиция VII»
Государственный Русский музей
Малевич «Корова и скрипка»
Малевич «Черный квадрат»
Татлин «Угловой контррельеф»
ИСПАНИЯ
Бильбао
Музей Гуггенхайма
Кунс «Щенок»
ШВЕЙЦАРИЯ
Берн
Художественный музей
Брак «Дома в Эстаке»
Рихен
Музей фонда Бейелер
Руссо «Голодный лев бросается на антилопу»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон
Чок-Фарм
Бэнкси «Горничная подметает»
Галерея Курто
Сезанн «Гора Сент-Виктуар»
Национальная галерея
Констебл «Воз сена»
Моне «Темза ниже Вестминстера»
Жорж Сера «Купальщики в Аньере»
Тернер «Дождь, пар и скорость»
Галерея Саатчи
Эмин «Моя постель»
Галерея Тейт
Андре «Эквивалент VIII»
Боччони «Уникальные формы непрерывности в пространстве»
Буржуа «Маман»
Бранкузи «Поцелуй»
Дали «Телефон-омар»
Дега «Маленькая танцовщица»
Дюшан «Фонтан»
Эпстайн «Перфоратор»
Эрнст «Лес и голубь»
Эрнст «Слон Целебес»
Фонтана «Пространственная концепция. Ожидание» Хепворт «Море» (Pelagos)
Хепворт «Пронзенная форма»
Хокни «Чайная картина в иллюзионистском стиле»
Джадд «Без названия»
Кандинский «Мурнау. Деревенская улица»
Лихтенштейн «Мазок кисти»
Лонг «Протоптанная линия»
Мохой-Надь «Телефонная картина ЕМ I»
Мондриан «Композиция С (№ /77)»
Паолоцци «Я была игрушкой богача»
Пикассо «Три танцора»
Пистолетто «Венера тряпичная»
Роден «Поцелуй»
Руссо «Портрет женщины»
Стелла «Стомп»
Уорхол «Диптих Мэрилин»
Музей Виктории и Альберта Макинтош «Стул»
Галерея «Белый куб»
Хёрст «За любовь Господа»
Эдинбург
Национальная галерея Шотландии
Делоне «Команда из Кардиффа»
Гоген «Видение после проповеди» («Борьба Иакова с ангелом»)
США
Балтимор
Музей искусств Балтимора
Маи Рэй «Примат материи над мыслью»
Бостон
Музей изящных искусств
Дега «Коляска на скачках»
Буффало
Галерея Олбрайт-Нокс
Балла «Динамизм собаки на поводке»
Миро «Карнавал Арлекина»
Чикаго
Чикагский институт искусств
Кайботт «Парижская улица в дождливый день»
Гоген «Почему ты злишься?»
Хоппер «Полуночники»
Кунинг «Раскопки»
Детройт
Детройтский институт искусств
Фюзели «Ночной кошмар»
Айова-Сити
Музей искусств Университета Айовы
Поллок «Фреска»
Лос-Анджелес Музей Гетти
Ман Рэй «Красивое дыхание»
Музей современного искусства (ВСАМ)
Балдессари «Полезные советы художникам, которые хотят продаваться»
Музей искусств (LACMA)
Балдессари «Пятка»
Кембридж, штат Массачусетс
Музей Фогга, Гарвардского университета
Энгр «Золотой век»
Сент-Луис
Уэйнрайт-билдинг
Нью-Йорк
Небоскреб AT&Т Флэтайрон-билдинг
Музей Гуггенхайма
Брак «Скрипка и палитра»
Мондриан «Композиция № I»
Мондриан «Картина № 2 / Композиция VII»
Галерея Мэри Бун
Крюгер «Я покупаю, значит, я существую»
Музей Метрополитен Бранкузи «Спящая муза I»
Карраччи «Взаимная любовь»
Каррингтон «Автопортрет: Постоялый двор лошади Утренняя Заря»
Эль Греко «Снятие пятой печати»
Флавин «Диагональ 25 мая 1965»
Хиросигэ «Станция Оцу»
Хокусай «Большая волна в Канагаве»
Клее «Мечеть в Хаммамете»
Моне «Лягушатник»
Пикассо «Портрет Гертруды Стайн»
Ренуар «Лягушатник»
Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт»
МоМА
Арп «Квадраты, размещенные согласно законам вероятности»
Боччони «Состояния ума»
Брейер «Стул “Василий”»
Дали «Постоянство памяти»
Кунинг «Женщина I»
Кунинг «Картина»
Флавин «Без названия»
Гессе «Репетиция 19 III»
Джакометти «Женщина-ложка»
Грис «Натюрморт с цветами»
Джонс «Флаг»
Джадд «Без названия (Стопка)»
Кандинский «Импровизация IV»
Крюгер «Без названия (Вы инвестируете в божественность шедевра)»
Купка «Первый шаг»
Лихтенштейн «Девушка с мячом»
Магритт «Убийца под угрозой»
Малевич «Белое на белом»
Ньюман «Onement I»
Оппенгейм «Объект (Завтрак в меху)»
Пикассо «Авиньонские девицы»
Пикассо «Моя красавица»
Поллок «Полная Морская сажень Пять»
Поллок «Волчица»
Поллок «Стенографическая фигура»
Ритвельд «Красно-синее кресло»
Родченко «Чистый красный, чистый синий и чистый желтый (Последняя картина)»
Швиттерс «Вращающиеся»
Шерман «Стоп-кадры, (1977–1980)»
Стелла «Брак разума и убожества II»
Ван дер Роэ «Комплект мебели ’’Барселона”»
Вагенфельд и Юккер «Лампа Вагенфельда»
Уорхол «Банки супа “Кэмпбелл”»
Уорхол «Водонагреватель»
Площадь Объединенных наций
Хейворт «Одиночная форма»
Оберлин, Огайо
Мемориальный художественный музей Аллена, Оберлинский колледж
Кирхнер «Автопортрет в солдатской форме»
Филадельфия
Фонд Барнса, университет Линкольна
Матисс «Счастье жизни»
Музей искусств Филадельфии
Руссо «Карнавальный вечер»
Сан-Франциско
МоМА
Малевич «Супрематизм»
Матисс «Женщина в шляпе»
Раушенберг «Белые картины»
Раушенберг «Стертый рисунок де Кунинга»
Вашингтон
Национальная художественная галерея
Сезанн «Натюрморт с яблоками и персиками»
Источники карикатур, черно-белых иллюстраций и цветных репродукций
Карикатуры
© Pablo Helguera
Впервые опубликованы в ARTOONS 3 Pablo Helguera Gorge Pinto Books Inc.) и на
Черно-белые иллюстрации
Ил. 1: © Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris and DACS, London 2012 / © Tate, London 2012; Ил. 2: National Gallery of Art, Washington, DC.; Ил. 3: Musee d’Orsay, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library; Ил. 4: © Image, the Metropolitan Museum of Art, 2012 / Art Resource / Scala, Florence; Ил. 5: Musee d’Orsay, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library; Ил. 6: © Image, Art Resource / Scala, Florence; Ил. 7: Musee Rodin, Paris, France / Philippe Galard / The Bridgeman Art Library; Ил. 8: © ADAGP, Paris and DACS, London 2012 / Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany, The Bridgeman Art Library; Ил. 9: © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris /ADAGP, Paris and DACS, London), 2012 / The Bridgeman Art Library; Ил 10: © Image, the Metropolitan Museum of Art, 2012 / Art Resource / Scala, Florence; Ил. 11: © ADAGP, Paris and DACS, London 2012 / Courtesy of Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Ил. 12: © Succession Picasso / DACS, London 2012 / Museum of Modern Art, New York, USA, Giraudon, The Bridgeman Art Library; Ил 13: © DACS 2012 / Albright Knox Art Gallery, Buffalo, New York / The Bridgeman Art Library; Ил. 14: Mattioli Collection, Milan, Italy / The Bridgeman Art Library; Ил. 15: Любезно предоставлена Государственным Русским музеем, Санкт-Петербург, Россия; Ил. 16: Государственный Русский музей, Россия; Ил. 17: Государственный музей архитектуры им. Щусева / РИА Новости / The Bridgeman Art Library; Ил. 18: © Succession Marcel Breuer / Private Collection / The Bridgeman Art Library; Ил. 19: © DACS 2012 / Dessau, Germany © Edifice / The Bridgeman Art Library; Ил. 20: © DACS 2012 / Photo © Wilhelm Redemann; Ил. 21: © Louise Bourgeois Trust / DACS, London / VAGA, New York 2012 / © Tate, London 2012; Ил. 22: ©Jeff Koons. Photo: © Romain Cintract / Hemis / Corbis; Ил. 23: © Succession Picasso / DACS, London 2012 / © Tate, London 2012; Ил. 24: © AD AGP, Paris and DACS, London 2012 / © Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence; Ил 25: © Man Ray Trust / ADAGP, Paris and DACS, London 2012 / Telimage 2012; Ил. 26: © Succession Hans Namuth / Photo National Portrait Gallery, Smithsonian / Art Resource / Scala, Florence; Ил. 27: © Trustees of the Paolozzi Foundation, Licensed by DACS 2012 / © Tate, London 2012; Ил. 28: © Michelangelo Pistoletto / © Tate, London 2012; Ил 29: © ARS, NY and DACS, London 2012 / © Tate, London 2012; Ил. 30: © ARS, NY and DACS, London 2012 / © Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence; Ил 31: © Cindy Sherman / Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York; Ил. 32: ©Jeff Wall /National Gallery of Canada; Ил. 33: Louvre, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library; Ил. 34: ©Jeff Wall / Courtesy of the artist; Ил. 35: Photographed by Roger Wooldridge © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2012; Ил. 36: Photographed by Prudence Cuming Associates © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2011; Ил. 37: ©Jeff Koons / Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany / The Bridgeman Art Library; Ил. 38: © Ai Weiwei / Courtesy: The artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne; Ил. 39: © Dan Brady, Flickr CC-BY-2.0.
Цветные репродукции
Репр. 1: Louvre, Paris, France / The Bridgeman Art Library; Penp. 2: Musee d’Orsay, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library; Penp. 3: National Gallery, London, UK / The Bridgeman Art Library; Penp. 4: Musee Marmottan Monet, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library; Penp. 5: Museum of Modern Art, New York, USA / The Bridgeman Art Library; Penp. 6: © National Gallery of Scotland, Edinburgh, Scotland / The Bridgeman Art Library; Penp. 7: The Art Institute of Chicago, IL, USA / The Bridgeman Art Library; Penp. 8: © Nancy Nehring / iStockphoto; Penp. 9: Courtesy of the National Gallery of Art, Washington; Penp. 10: © Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London, UK / The Bridgeman Art Library; Penp. 11: © Succession H. Matisse / DACS 2012 / The Bridgeman Art Library; Penp. 12: Private Collection / The Bridgeman Art Library; Penp. 13: © Succession Picasso / DACS, London 2012 / Museum of Modern Art, New York, USA, Giraudon, The Bridgeman Art Library; Penp. 14: © 2012. Digital image, Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence; Penp. 15: © AD AGP, Paris and DACS, London 2012 / Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия / The Bridgeman Art Library. Penp. 16: © Michael Nicholson / Corbis; Penp. 17: Private Collection, Russia / © Photo, Scala, Florence; Penp. 18: © 2012 Mondrian / Holtzman Trust do HCR International USA; Penp. 19: © DACS 2012 / The Sherwin Collection, Leeds, UK / The Bridgeman Art Library; Penp. 20: © Succession Mir6/ADAGP, Paris and DACS, London 2012 / Albright Knox Art Gallery, Buffalo, New York / The Bridgeman Art Library; Penp. 21: © 2012. Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / DACS / Photo: Jorge Contreras Chacel / The Bridgeman Art Gallery; Penp. 22: © The Willem de Kooning Foundation, New York / ARS, NY and DACS, London 2012 / Museum of Modern Art, New York, USA, Giraudon, The Bridgeman Art Library; Penp. 23: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko ARS, NY and DACS, London / Courtesy of the Phillips Collection, Washington, DC, USA; Penp. 24: © Estate of Robert Rauschenberg. DACS, London / VAGA, New York 2012 / The Bridgeman Art Library; Penp. 25: © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artists Rights Society (ARS), New York / DACS, London 2012; Penp. 26: © The Estate of Roy Lichtenstein /DACS 2012 / © Tate, London 2012; Penp. 27: ©Judd Foundation. Licensed by VAGA, New York / DACS, London 2012 / © Tate, London 2012; Penp. 28: © Sarah Lucas, 1992. Courtesy of the artist and Gladstone Gallery, New York and Brussels. Image courtesy of the Saatchi Gallery, London; Penp. 29: © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2012 / Image courtesy of the Saatchi Gallery, London.
Уилл Гомперц – редактор отдела искусств Би-Би-Си с 2009 года. До этого назначения в течение семи лет работал директором по медиатехнологиям галереи Тейт, самого посещаемого и влиятельного музея современного искусства в мире.
По результатам опроса журнала Creativity Magazine (New York) был назван в числе «50 самых креативно мыслящих людей мира».
Иллюстрации
1. Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ» (1830)
2. Эдуард Мане. «Олимпия» (1863)
3. Дж.М.У. Тернер. «Дождь, пар и скорость» (1844)
4. Клод Моне. «Впечатление: Восход солнца» (1872)
5. Винсент Ван Гог. «Звездная ночь» (1889)
6. Поль Гоген. «Видение после проповеди» («Борьба Иакова с ангелом») (1888)
7. Жорж Сера. «Воскресный день на Гранд-Жатт» (1884)
8. Цветовой круг
9. Поль Сезанн. «Натюрморт с яблоками и персиками» (1905)
10. Поль Сезанн. «Гора Сент-Виктуар» (ок. 1887)
11. Анри Матисс. «Счастье жизни» (1905–1906)
12. Анри Руссо. «Голодный лев бросается на антилопу» (1905)
13. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы» (1907)
14. Умберто Боччони. «Состояния ума: Прощания» (1911)
15. Василий Кандинский. «Композиция VII» (1913)
16. Эль Лисицкий. «Клином красным бей белых!» (1919)
17. Любовь Попова. Модель платья (1923–1924)
18. Пит Мондриан. «Композиция C (№ III) с красным, желтым и синим» (1935)
19. Геррит Ритвельд. «Красно-синее кресло» (1923)
20. Хуан Миро. «Карнавал Арлекина» (1924–1925)
21. Фрида Кало. «Сон» (1940)
22. Виллем де Кунинг. «Женщина I» (1950–1952)
23. Марк Ротко. «Охра на красном» (1954)
24. Роберт Раушенберг. «Монограмма» (1955–1959)
25. Энди Уорхол. «Диптих Мэрилин» (1962)
26. Рой Лихтенштейн. «Бум!» (1963)
27. Дональд Джадд. «Без названия» (1972)
28. Сара Лукас. «Два жареных яйца и кебаб» (1992)
29. Трейси Эмин. «Все, с кем я когда-либо спала в 1963–1995» (1995)
Примечания
1
Дэвид Фостер Уоллес (1962–2008) – американский писатель, представитель так называемого истерического реализма. Здесь и далее – прим. ред.
(обратно)2
Имеется в виду Музей Гуггенхайма в Бильбао, построенный Фрэнком Гери в 1997 году. Музей в Бильбао является филиалом нью-йоркского Музея Гуггенхайма, в котором экспонируются известнейшие произведения современного искусства.
(обратно)3
Писсуар (фр.).
(обратно)4
Пер. Н. Столяровой и Л. Липман.
(обратно)5
Нет (фр.).
(обратно)6
«Лягушатник» (фр. La Grenouillere) – кафе на воде, размещавшееся на пришвартованном к берегу Сены понтоне. Получил свое название благодаря тому, что здесь в большом количестве собирались девицы легкого поведения, так называемые лягушки.
(обратно)7
На отдыхе (фр.).
(обратно)8
Да здравствует разница! (фр.)
(обратно)9
Боже мой! (фр.)
(обратно)10
Гренки (фр.).
(обратно)11
Отец (фр.).
(обратно)12
Отец всемогущий, вечный Бог (лат.).
(обратно)13
«Хладнокровный Люк» – кинофильм американского режиссера Стюарта Розенберга по новелле Донна Пирса. Люк – человек с обостренным чувством собственного достоинства, сильным характером и чувством юмора, завоевывает уважение других заключенных.
(обратно)14
На месте (лат.).
(обратно)15
Зд. черт! (фр.).
(обратно)16
Перевод Е. Головиной.
(обратно)17
Роковых женщин (фр.).
(обратно)18
Остроумное выражение (фр.).
(обратно)19
Гитара (исп).
(обратно)20
Дерьмо (фр.).
(обратно)21
Туалетная вода (фр.).
(обратно)22
Сюрреалистическая драма (фр.).
(обратно)23
Образ восходит к средневековой драме, в свою очередь основанной на мотиве из «Деяний апостолов» (1:18–19): «…и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его».
(обратно)24
Женщину-дитя (фр.).
(обратно)25
Оскорбленной (фр.).
(обратно)26
Эмигранты (фр.).
(обратно)27
Onement – староанглийская форма современного слова atonement – «искупление»; но название можно трактовать и как «факт единства бытия».
(обратно)28
Группа Grim Reaper (переводится как «Мрачный жнец», т. е. смерть с косой) относится к «новой волне британского тяжелого металла».
(обратно)29
Одно из значений слова – «модный, популярный». – Прим. ред.
(обратно)30
Эйнштейн входил в совет директоров колледжа. – Прим. ред.
(обратно)31
Способ создания полупрозрачных тонов с помощью одинаковых точек небольшого диаметра.
(обратно)32
От слова spazio – «пространство» (итал.).
(обратно)33
Сокр. YBA, Young British Artists (англ.).
(обратно)34
For the Love of God (англ.).
(обратно)35
В естественном, натуральном виде (фр.)
(обратно)36
«Клевой Британией» (англ.) – аллюзия на первую строчку патриотической песни Rule Britannia… («Правь, Британия…»).
(обратно)37
Аппликация (фр.)
(обратно)38
От «фотограф» и «граффити-художник». – Прим. ред.
(обратно)



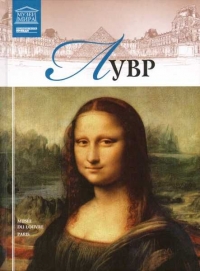

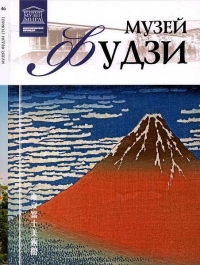

Комментарии к книге «Непонятное искусство», Уилл Гомперц
Всего 0 комментариев