Филип Хук Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я
© В. Ахтырская, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
* * *
Введение
Когда в музее или на выставке вы останавливаетесь перед произведением искусства, в первую очередь вас вполне закономерно заинтересуют две вещи: «Нравится ли мне это?» и «Кто автор?». Перед произведением искусства в аукционном зале или галерее арт-дилера в первый момент вы зададите себе те же вопросы, но вслед за ними немедленно последуют другие, куда более циничные: «Сколько это стоит?», «Сколько это будет стоить через десять лет?» и «Что обо мне подумают, увидев это на стене у меня дома?».
Мой словарь дает различные варианты ответов на эти и подобные вопросы, а также рассказывает, как менялась финансовая ценность предметов искусства в зависимости от художественной моды. Я более тридцати пяти лет проработал на художественном рынке, сначала на аукционе «Кристи», потом независимым арт-дилером, а в последнее время на «Сотби». Этим я оправдываю свое желание написать книгу, которая бы в самых бесстыдных деталях исследовала отношения искусства и денег, одновременно предосудительные и бесконечно любопытные. Книга состоит из пяти глав, и в каждой из них изучается тот или иной фактор, определяющий финальную цену произведения искусства. В процессе их установления я предпринял чрезвычайно субъективный и откровенно гедонистический анализ тех аспектов мира искусства, которые на протяжении всей моей карьеры представлялись мне особенно забавными, циничными, соблазнительными, прекрасными или абсурдными.
Первую главу я посвятил художнику и его бэкграунду. Кто автор? Авторство и значимость художника (или отсутствие оной) в принятом контексте истории искусства, разумеется, влияют на выбор покупателя и стоимость картины. Однако нельзя сбрасывать со счетов и бэкграунд художника, обстоятельства биографии, воздействующие на оценку его произведений зрителями и критиками, своего рода романтическую, пленительную ауру мифа, свойственную творчеству. Например, независимо от значимости Ван Гога с точки зрения искусствоведения, независимо от его первостепенной роли в формировании экспрессионизма, его жизнь окружена трагическим романтическим ореолом: соответственно, тем ценнее в эмоциональном и финансовом смысле представляются его работы коллекционеру.
Во второй главе обсуждаются имеющие спрос у коллекционеров темы и стили. Ответ на вопрос: «Нравится ли мне произведение?» – зависит не только от наших личных предпочтений, но и от художественного вкуса широких кругов общества, а он постоянно меняется. В различные исторические эпохи зрители требуют от искусства совершенно различного содержания, и потому сюжеты и стили последующие поколения могут оценивать абсолютно по-разному, в том числе и в денежном эквиваленте. Однако, невзирая на постоянную изменчивость спроса, определенные сюжеты и стили вполне ожидаемо продаются лучше других. В этой главе предпринимается попытка проанализировать факторы, влияющие на постоянство эстетических пристрастий, и оценить художественный вкус, сложившийся ныне, в начале XXI века. Заранее предупреждаю: причины, по которым одно продается, а другое нет, бывают очень странны и таинственны, но чаще столь грубы и примитивны, что просто оторопь берет.
В третьей главе «Притягательность картины» я более детально останавливаюсь на мотивах наших симпатий или антипатий в сфере искусства. Под воздействием какого импульса желание приобрести картину овладевает не только нами, но и множеством других почитателей, отчего в конце концов ее цена возрастает столь ощутимо, что мы уже не можем себе ее позволить? Разумеется, высокий художественный уровень непременно увеличивает рыночную стоимость картины. К тому же, если рассматривать лучшие произведения искусства, разница в стоимости отличной работы и работы высочайшего качества на удивление велика. На мой взгляд, именно этот разрыв и оправдывает существование рынка: в этом отношении рынок устанавливает достойные ценностные ориентиры. Он не только безошибочно выделяет лучшее, но и решительно отделяет лучшее от хорошего.
Но как же рынку это удается? Общеизвестно, что художественный уровень картины очень трудно определить. Поэтому в книге анализируются факторы, способные в этом помочь: колорит, композиция, завершенность (незавершенность) картины, ее эмоциональное воздействие на зрителя, отношение к природе и к другим произведениям искусства. И наоборот, почему у нас появляются какие-то сомнения в качестве картины, снижающие ее цену? Она не завершена, она потемнела, она обнаруживает слишком очевидные следы реставрации или на ней изображено что-то неприятное? Или, самое ужасное, это подделка?
Подобно тому как бэкграунд художника влияет на восприятие его личности и творчества, бэкграунд конкретного произведения искусства воздействует на его рецепцию: в чьей коллекции оно побывало, где выставлялось, через руки каких арт-дилеров прошло. Поэтому четвертая глава книги посвящена провенансу картины. Если произведение искусства, которое вы покупаете, ранее находилось в знаменитой частной коллекции, это повысит цену, ведь, побывав в известном собрании, картина словно бы получает «высочайшее одобрение», и за ее провенанс отныне можно не опасаться. Сезанн из коллекции Меллона будет стоить дороже, чем та же картина из собрания коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. Сходным образом имена некоторых прежних владельцев картины могут вызвать у посвященных оправданную тревогу. Например, как было установлено в результате расследования, некоторые арт-дилеры торговали предметами искусства, похищенными во время Второй мировой войны. Если не удастся доказать, что картина не была украдена из собрания коллекционера-еврея, и если она побывала в руках у одного из этих сомнительных дельцов, стоимость ее значительно понизится. Возможно, ее не удастся продать вовсе. То есть имя рейхсмаршала Геринга в списке бывших владельцев далеко не всегда поможет вам продать картину, даже если он приобрел ее совершенно законно.
Сколько стоит произведение? Предметы искусства оцениваются и переходят из рук в руки в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре. Эта конъюнктура – результат воздействия гигантского числа разнородных элементов: экономических, политических, культурных, эмоциональных и психологических. На нее влияет маркетинг дилеров и аукционных домов, причуды коллекционеров, капризы критиков, то, что люди видят в залах музеев и на экранах телевизоров, их собственные стремления и желания. Последний раздел словаря, «Погода на рынке», изучает некоторые из перечисленных многообразных факторов, создающих погоду в сфере искусства, с ее проливными дождями и сияющим солнцем.
Определение финансовой ценности предметов искусства – занятие далеко не бесспорное. Однако в целом я убежден, что торговля картинами и скульптурами выполняет необходимую функцию не хуже других уважаемых коммерческих институтов. Во всяком случае, лично мне она дала возможность прожить интересную жизнь. Я свел близкое знакомство с большим числом великих произведений искусства (и со множеством посредственных, но тоже не без пользы). Я встречался с исключительными (и с исключительно богатыми) людьми. В этом словаре я делюсь впечатлениями от общения с первыми и со вторыми. А проработав двадцать лет в аукционном доме «Сотби» и наслаждаясь своим ремеслом, я хотел бы сказать, что выводы, к которым я прихожу, отражают исключительно мою точку зрения и совсем не обязательно совпадают со взглядами моих долготерпеливых работодателей.
Bohemianism •Богема
Branding •Бренды
Brueghel •Брейгель
Creative Block •Творческий кризис
Degas •Дега
Diarists (Artists as) •Дневники
Female Artists •Женщины-художники
Fictional Artists •Литературные герои
Géricault •Жерико
Images (Famous) •Образы (знаменитые)
Isms •«Измы»
Jail (Artists in) •Тюрьма (художники в неволе)
Madness •Безумие
Middlebrow Artists •Посредственные художники
Models and Muses •Модели и музы
Quarters and Colonies •Кварталы и колонии
Spoofs •Мистификации
Suicides •Самоубийства
I. Художник и его бэкграунд
Bohemianism Богема
Когда Айрис Барри, возлюбленная художника Уиндема Льюиса, основоположника вортицизма, вернулась из родильного дома с его новорожденным младенцем, ей пришлось ждать у дверей мастерской, пока он не закончит заниматься любовью с Нэнси Кунард. Неожиданно продав картину, Вламинк три дня пропивал вырученные деньги вместе с Модильяни, а из тех купюр, что не успели пропить, они наделали самолетиков и стали запускать, целясь в кроны деревьев на бульваре Распай. Приступив к работе над «Плотом „Медузы“», Теодор Жерико обрил голову наголо, прервал всякое общение с друзьями, поставил в мастерской походную койку и, ни на что не отвлекаясь, писал картину десять месяцев. Завершив ее, он пережил тяжелейший нервный срыв.
Художники не похожи на обывателей. Это было известно давным-давно: в одной из новелл итальянца Франко Саккетти, написанных в конце XIV века, героиня, жена художника, восклицает: «Вы, художники, своенравны и непредсказуемы, вы вечно пьяны и даже нисколько не стыдитесь собственных бесчинств!» Пятьсот лет спустя отец Эдварда Мунка, узнав о желании сына выбрать творческое поприще, в ужасе, как и пристало типичному буржуа, изрек, что быть художником – значит жить в борделе. Это отчуждение художников от обыденного мира в 1943 году в самых мрачных красках описывал британский живописец Кит Воган: «Понятно, что они в разладе с окружающими и с самими собой, неизменно одиноки, неизменно больны, отмечены печатью несчастья, совершенно не уверены в себе, и только яркое пламя их творческой ярости освещает руины их „я“».
Богемный образ жизни – выражение творческой исключительности. Понятие «богема» в современном смысле слова сложилось в XIX веке и было порождением романтизма. Романтики видели в художнике страдающего героя, представителя богемы, то есть «цыгана», который вел кочевую, беспорядочную жизнь и пренебрегал условностями. Эту модель поведения он не всегда выбирал добровольно, но скорее покоряясь непреодолимой власти творческих порывов. Алкоголизм, случайные связи, употребление наркотиков, заигрывание с безумием и эксцентричность внешнего облика и костюма считались отличительными чертами творческой натуры. Находились даже те, кто полагал, что перечисленные пороки – непременное условие творчества, и принимал мужественное решение пить как можно больше и отрастить волосы (или коротко постричься, если речь шла о девицах), дабы сделаться истинными художниками.
Изобретение богемы обыкновенно приписывают Анри Мюрже, автору «Сцен из жизни богемы» (1843). Он неизменно связывал богему с Латинским кварталом, провозглашая, что «если где-то она и существует, то лишь в Париже, лишь там возможна». Приехав в Париж из Германии в 1900 году, Паула Модерзон-Беккер отмечала, что «все художники носят длинные волосы, разгуливают по улицам в коричневых бархатных костюмах или живописно драпируются в широкие плащи наподобие римских тог и вместо галстуков повязывают огромные пышные банты, – в целом являя собою любопытное зрелище». К этому времени пренебрежение условностями сделалось в художественной среде подобием закона.
Веселящаяся богема: художники резвятся, над Парижем брезжит рассвет (Жан Беро. Раннее утро. После вечеринки на Монмартре. Холст, масло. 1907)
Впоследствии с Парижем стали соперничать другие центры мировой богемы – возможно, Берлин перед Первой мировой войной и Нью-Йорк шестидесятых годов ХХ века. Англия храбро вступила в соревнование и произвела на свет несколько полноценных богемных художников, например Огастеса Джона и Уиндема Льюиса. Однако среди фигур не столь крупного масштаба горячей приверженности идеалам богемы не наблюдалось, а потому и богема, родившаяся в Англии, оказалась специфически английской: куда более благопристойной и романтизированной, нежели ее континентальная разновидность. Джордж дю Морье в своем популярном на рубеже XIX–XX веков романе «Трильби» изображает троих необычайно душевных молодых англичан, обучающихся живописи в Париже, и Латинский квартал, где вино льется рекой, но никто никогда не напивается, никто не употребляет абсент, и ни мужчины, ни женщины никогда не занимаются сексом. Британских художников того времени в действительности куда больше, чем Париж, привлекали летние колонии, например в корнуолльских Сент-Айвсе и Ньюлине, где можно было заниматься живописью и пренебрегать общепринятыми условностями [см. раздел «Кварталы и колонии»]. Однако, невзирая на доблестные попытки превратиться в истинно богемных художников, англичане в конце концов оказывались на поле для гольфа или крикета и с увлечением отдавались игре. В 1942 году Осберт Ситуэлл говорил Джорджу Оруэллу, что командование ополчением получило приказ в случае высадки фашистских войск в Британии расстрелять всех художников. Оруэлл заметил, что в Корнуолле это, пожалуй, было бы даже на пользу.
По словам Мюрже, богема – «прелюдия в жизни художника, за которой следуют Академия, Отель-Дьё или Морг». В обязанности художника среди прочего входило шокировать буржуа и объявлять беспощадную борьбу условностям. До определенного момента эпатаж услаждал самолюбие, но затем приходило осознание того, что буржуа, вообще-то, потенциальные покупатели картин. В таком случае художник добивался коммерческого успеха, продавал картины и становился членом Академии. Или не добивался и тогда либо сходил с ума, либо умирал. В ряде случаев богема служила прологом к дому и браку, «приручавшему» художника, а в особенности к отцовству. Очень часто семейная жизнь заводила в тупик и повергала в отчаяние. По мнению Сирила Конноли, нет ничего более враждебного искусству, чем «детская коляска в передней».
Воплощением богемного художника, который стремится вернуться к простой, незамысловатой жизни, блаженно ничего не ведающей о буржуазных ценностях и промышленном производстве, был Гоген, бежавший из Европы на Таити [см. главу II «Экзотика»]. Кроме того, следует упомянуть об Огастесе Джоне, который в буквальном смысле слова превратился в цыгана, выучил цыганский язык и, не зная покоя и нигде не останавливаясь надолго, странствовал по Англии, влача за собою в кибитке любовниц и детей, то есть нашел недурной способ избавиться от «детской коляски в передней». Модильяни нечасто уезжал из Парижа, однако предавался различным излишествам с такой страстью, что его эксцессы и сегодня слывут непревзойденными. Мунк, словно наконец прислушавшись к увещеваниям отца, в преклонном возрасте поклялся исправиться. Отныне, объявил художник, он ограничится «безникотиновыми сигарами, безалкогольными напитками и безвредными женщинами».
Флобер неизменно ратовал за сдержанность. «Ведите размеренный и заурядный образ жизни, словно буржуа, и тогда сможете проявить необузданность и неповторимость в творчестве», – наставлял он собратьев по цеху. Существует интересная разновидность художников, которых не привлекал богемный стиль жизни и которые взбунтовались против всеобщей эксцентричности, навязываемой точно униформа. Эти художники не видели ничего общего между созданием истинного произведения искусства и поведением, идущим вразрез с традициями и обычаями, и совершенно сознательно выбирали консервативный, буржуазный образ жизни. Например, Пьер Боннар вел тихую, замкнутую жизнь домоседа, и единственное разнообразие в нее (судя по сюжетам его картин) вносила частота, с которой принимала ванну его жена. Магритт казался типичным обывателем и всем головным уборам предпочитал котелок. Сэр Альфред Маннингс, писавший главным образом лошадей, одевался как джентльмен-помещик, вел соответствующий образ жизни и остался в памяти потомков как человек, который заявил однажды, что, встреть он Пикассо, задал бы ему изрядную трепку.
Сегодня в Лондоне существует группа популярных портретистов, известная как «Школа-в-Тонкую-Полоску», поскольку на публике они предпочитают появляться в строгих костюмах. Не исключено, что эти талантливые, чересчур репрезентативные художники за мольбертом снимают пиджак и даже ослабляют узел галстука. Однако их абсолютная приверженность условностям и элегантный вид вселяют уверенность в определенного рода публику. Без сомнения, они пьют и, возможно, даже ухаживают за женщинами, но не более, чем главы торговых банков, основатели хедж-фондов и преуспевающие адвокаты, составляющие большинство их клиентов. Напротив, костюмы Гилберта и Джорджа, сражающихся на переднем крае современного искусства, – часть иного замысла. Их вызывающий консерватизм в одежде – крайнее проявление нонконформизма, богемный стиль постбогемной эпохи.
Художник как представитель богемы – важный элемент мифа, который создает о себе искусство. Искусство – нечто волшебное и совершенное, за него не жаль заплатить крупную сумму именно потому, что его истинную ценность нельзя исчислить и выразить в денежном эквиваленте. Художники, порождающие этот чрезвычайно привлекательный предмет духовного потребления, должны одеваться и вести себя иначе, чем обыватели, дабы никто их не перепутал. Их богемный стиль – знак избранности судьбой, напоминание о том, что искусство неповторимо и уникально. И представляет немалую финансовую ценность.
Branding Бренды
Самое избитое на сегодняшний день слово из лексикона арт-дилеров, критиков и экспертов аукционных домов – «икона» [см. главу V «Словарь терминов»]. Однако, превознося произведение искусства как «икону», мы не только признаем его высокий художественный уровень, но и высказываем вслух тайную догадку о том, что произведения искусства хороши постольку, поскольку они типичны и узнаваемы. Художественный рынок, ценящий безусловную узнаваемость предметов искусства, которыми торгует, в сущности, формирует и распространяет бренды. Эта тенденция зародилась вместе с модернизмом. В Париже в конце XIX века перед торговцем картинами Полем Дюран-Рюэлем, открывшим миру импрессионистов, стояла непростая задача: представить на рынке совершенно новую манеру живописи, продать интересующейся искусством публике доселе невиданный товар. Одним из предложенных им успешных новшеств была популяризация «выставки одного художника». Привлекая внимание зрителей к индивидуальному таланту и достижениям Моне, Ренуара или Писсарро, он добился важного результата: впервые в истории выставка стала определять бренд художника. Заметив, сколь легко продается продукт, превращенный в яркий, запоминающийся бренд, арт-дилеры заимствовали эту практику и широко применяют ее до сих пор.
Современное торжество брендинга являет собою Дэмиен Хёрст. Цветовые шкалы из рекламного буклета производителя красок, напоминающие его «полотна из цветных точек» (spot paintings), ныне кажутся скорее подражанием Хёрсту, а не наоборот. Однако Хёрст – исключение. Усиленное продвижение бренда может привести к двум неутешительным результатам: ныне живущим художникам, стремящимся воспроизводить брендовые тенденции, грозит утрата оригинальности и отказ от радикальных художественных экспериментов. Выход из этой ситуации хитроумный художник может найти, избрав в качестве бренда амплуа непредсказуемого экспериментатора, однако выдержать эту роль под силу не каждому. Уступая давлению своих дилеров, современные художники и скульпторы творят с оглядкой на собственный бренд и вечно опасаются его разрушить. А искусство прошлого, например картина Моне, растет в цене прямо пропорционально степени его узнаваемости, вплоть до того что люди, входя в комнату, где висит картина, тотчас восклицают, на радость польщенному владельцу: «Ах! У вас есть Моне!» Легко узнаваемый стиль или даже сюжет вселяет уверенность в покупателя, поднимает его в собственных глазах и служит доказательством его эстетической искушенности. Таким образом, совершенно типичные для данного художника работы, «иконы», явно будут стоить очень и очень дорого. Однако остерегайтесь нетипичных: например, натюрморт или портрет того же Моне будет оценен значительно ниже, нежели «пруд с кувшинками» [см. главу II «Художники – хиты продаж»].
Легко узнаваем: изрезанный ножом холст Лучо Фонтаны, впечатляющая торговая марка (Лучо Фонтана. Концепция пространства. Холст, акварель. 1965)
Кроме Моне, существует немало других художников прошлого, являющих яркий бренд в общественном сознании, отчего в цене они отнюдь не теряют. В их числе:
Гримшоу, Аткинсон: созданные этим викторианским пейзажистом виды ночных улиц, слабо освещенных фонарями, вызывают приступ блаженной тоски по прошлому. С Гримшоу начинался путь на рынок предметов искусства для многих молодых коллекционеров, терзаемых неуверенностью: образы его картин столь уютны и одновременно решены в столь узнаваемом стиле, что не могут не вселять успокоение в измученную сомнениями душу коллекционера.
Джакометти, Альберто: худые, угловатые фигуры, удлиненные руки и ноги его поздних фигуративных скульптур – мгновенно узнаваемое убедительное выражение экзистенциального кризиса, переживаемого человеком XX столетия.
Лаури, Л. С.: тоненькие как спички человечки и мрачные пейзажи северных городов, вызывающие в памяти угрюмый урбанистический ландшафт середины XX века, – запатентованная торговая марка, которая не утрачивает привлекательности и в XXI веке.
Лемпицка, Тамара де: ее картины – своего рода визуальные поэмы в духе ар-деко, персонажи ее картин – элегантные, несколько сапфические дамы, либо обнаженные, либо облаченные в слегка кубистические облегающие белые шелковые платья. Героини Лемпицки вызывают ассоциации с Голливудом 1930‑х годов и обрели немалую привлекательность в глазах голливудских коллекционеров сорок – пятьдесят лет спустя.
Модильяни, Амедео: его гибкие женщины с лебедиными шеями и удлиненными лицами – в числе наиболее узнаваемых брендов современного искусства. Модильяни любил свою главную тему и хранил ей верность: почти три четверти всех его картин составляют подобные женские портреты.
Мондриан, Пит: решетки, создаваемые вертикальными и горизонтальными линиями, с пустым пространством между ними, кое-где заполненным цветными четырехугольниками. Чем проще, тем лучше.
Моранди, Джорджо: бутылки и кувшины, кувшины и кружки, кружки и бутылки, выстроившиеся стройными рядами на полках и столах. Он заработал бы состояние, если бы открыл фабрику по производству кухонных принадлежностей. Вообразите, как бойко они продавались бы сейчас в музейных магазинах.
Сарджент, Джон Сингер: неповторимый, глянцевый и восхитительно свободный мазок придает его моделям облик, сочетающий утонченность и шик. Современные консервативные портретисты, добившиеся наибольшего успеха, до сих пор чрезвычайно усердно копируют Сарджента.
Фонтана, Лучо: пустой холст, изящно рассеченный ударом складного раскройного ножа, – идея, ниспосланная автору свыше, по наитию. «Я взрезаю холст, – пояснял сам художник, – и тем самым создаю измерение бесконечности». А еще бесконечно тиражируемый и прекрасно узнаваемый мотив.
Brueghel Брейгель
Первым художником, сделавшимся доступным моему сознанию, был Питер Брейгель Старший. Говоря точнее, моему сознанию сделался доступен не столько он сам, сколько его картины. Мне было шесть-семь лет, когда моя мать показала мне альбом цветных репродукций этого фламандского художника XVI века. Сейчас, пока я пишу эти строки, рядом со мною лежит та самая книга, и стоит мне ее открыть, как я с новой силой, в мельчайших деталях, ощущаю их некогда испытанную притягательность. На его картинах под моим взором возникал завораживающий мир фантазии, волшебной сказки – мир гротескный и причудливый, населенный полулюдьми-полурыбами или полурыбами-полулюдьми, мир заснеженных деревень и беззубых крестьян, предающихся незатейливым развлечениям, мир казней и падших ангелов. Разумеется, я не думал тогда: «Надо же, и все это написал один человек!» Не думал я и о том, что эти картины были созданы четыреста лет назад. Однако я думал, что они совершенно убедительно и логично изображают какой-то иной мир, вызывающий восторг и желание туда проникнуть.
Вавилонская башня, которую построил Брейгель (Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. Дерево, масло. 1563)
Открыв для себя эти образы, я возвращался к ним снова и снова. Вот «Слепцы», одновременно комические и зловещие: шестеро незрячих несчастных, друг за другом низвергающихся в глубокий овраг. Вот навеянный Апокалипсисом «Триумф смерти», сцена опустошения и разрушения, мрачное предвидение кровопролитных войн XX века, с массовым истреблением мирных граждан на переднем плане и со средневековым подобием эвакуации из Дюнкерка на заднем. Вот «Поклонение волхвов», перенесенное во фламандскую деревню, укутываемую снегопадом, одно из величайших изображений зимы во всей мировой живописи, которым лучше всего наслаждаться, сидя в гостиной у горящего камина. Вот «Страна лентяев»: трое персонажей погрузились в глубокий сон от обжорства, из-под одежд выпирают их брюшки, уютно-выпуклые, как обыкновенно у Брейгелевых крестьян. Вот «Вавилонская башня», гигантский образец архитектурной folie de grandeur[1], уходящая под облака, изображенная с таким галлюцинаторно-точным обилием строительных деталей, что можно сойти с ума, безуспешно пытаясь воспроизвести ее с помощью кубиков лего или минибрикс. А вот и «Пейзаж с падением Икара»: юноша неосторожно приблизился к Солнцу, оно растопило воск его крыльев, и он низринулся в бездну; Брейгель выбирает именно то мгновение, когда Икар исчезает в морских волнах, беспомощно бия бледными ножками, однако он всего лишь незначительная подробность весьма насыщенного деталями прибрежного пейзажа, в котором пахарь возделывает поле, пастух пасет овец, рыбак удит рыбу, а океан усыпан множеством самых разных кораблей.
Сегодня число тех, кто коллекционирует старых мастеров, заметно уступает числу собирающих современное искусство. Проблема в том, что некоторые старые мастера представляются темными и непонятными; библейская и классическая иконография их картин кажется ныне своего рода шифром. Однако Брейгель – один из тех старых мастеров, кого современный зритель воспринимает сравнительно легко. Мир, который изображает Брейгель, причудлив и странен, но, в сущности, не лишен человеческого тепла. Не случайно картинами Брейгеля навеяны два чудесных стихотворения XX века: «Питер Брейгель: Зимний пейзаж с катающимися на коньках и с ловушкой для птиц, 1565 год» Джона Бёрнсайда и «„Пейзаж с падением Икара“, Музей изящных искусств» У. Х. Одена, поэтическое размышление о сущности страдания. Персонажи картин Брейгеля все еще близки нам, хотя их отделяют от нас века. Эта близость – главный залог привлекательности искусства прошлого для современных коллекционеров.
Creative block Творческий кризис
Состояние апатии, творческое бессилие время от времени испытывают все художники, писатели и поэты. Это неотъемлемая часть имиджа художника, а публика любит слушать рассказы о муках творчества именно потому, что они увеличивают в ее глазах ценность произведения искусства, создаваемого через преодоление и страдание. У некоторых творческий кризис длится всю жизнь. Карикатура в журнале «Прайвит Ай» изображает испуганного литератора, который на вопрос, как идут дела, затравленно произносит: «Я пишу роман». «И у меня не пишется», – откликается его собеседник. Разумеется, истинное творческое бессилие – не повод для шуток: оно заставляет усомниться в собственных способностях, а следовательно, и в праве заниматься живописью, ваянием или литературой. В подобных обстоятельствах пустой холст или белый лист бумаги обращается для художника в мучителя, проявляющего изощренный садизм.
«Весь день пребывал в праздности, – сетует в своем дневнике за май 1810 года английский художник Бенджамин Хейдон, автор исторических полотен. – До этого целую неделю провел в каком-то душевном отупении, как последний идиот и ничтожество, растрачивая время по пустякам. Полагаю, ныне я не в силах нарисовать и кирпич».
В августе 1884 года Дега пал жертвой летней апатии. «Я убирал свои планы в кладовку, – сообщает он другу Анри Лероллю, – и всегда носил ключ с собой. Этот ключ я потерял. Одним словом, я не в состоянии преодолеть охватившее меня бессилие. Займусь делом, как обыкновенно заявляют лентяи, вот и все». В январе 1949 года Кит Воган, современный английский художник, который оставил дневник, полный трогательных и откровенных признаний, анатомирует свои «мучительные приступы сомнения в собственных силах и беспомощности. Убежден, что своим нынешним положением в художественном мире обязан обману, а отнюдь не врожденным способностям, просто я в совершенстве овладел искусством притворства, и все послушно принимают меня за того, кем я хотел бы быть. Впрочем, выбора больше нет, придется продолжать в том же духе, пока не разоблачат. В изнеможении от безделья. Боюсь, что не смогу больше работать, боюсь, словно живу в кредит, и знаю, что вернуть его не смогу и в конце концов мне перестанут ссужать деньги. Испытываю чувство вины, когда вижу, как по утрам мимо окна моей мастерской люди идут на работу, зависть, когда вижу, как по вечерам они возвращаются к своим простым, но заслуженным радостям – Ils sont dans le vrai[2], – но от этого не перестаю терзать себя».
Золя прибегает к чувственному образу, описывая страдания своего героя – художника Клода Лантье, главного действующего лица романа «Творчество» (1886): его охватывают сомнения в собственных способностях, и оттого он начинает испытывать к живописи «ненависть, какую испытывает обманутый любовник, проклинающий изменницу, но мучимый сознанием, что все еще не в силах ее забыть». Таково двуличие искусства, с легкостью предающего творца. С другой стороны, по мнению Хейдона, от творческих сомнений в некоторой степени исцеляет секс. Или мог бы исцелять, если бы был ему доступен. 19 июня 1841 года он отмечает: «Словно во власти Джонсоновой ипохондрии, сижу, вялый, тупо уставившись в пространство, праздный, зевающий, без тени какой-либо творческой мысли. В этих дневниках неоднократно описывается подобное Состояние Сознания. Оно неизменно проходит после соития. Однако нынче жена моя больна, а верность удерживает меня на стезе добродетели. Полагаю, я расплачиваюсь тем, что мрачнею и толстею». Существует множество способов обмануть творческое бессилие. Некоторые писатели советуют оставлять незавершенным начатый в конце дня абзац. Оборвите его на полуслове, и наутро с легкостью сможете возобновить процесс письма, ощутив полет фантазии. Художнику или скульптору труднее последовать этому совету, поскольку утром может измениться свет, может не прийти натурщица, а также пропасть наслаждение от значительно более чувственного, нежели у сидящего за столом писателя, контакта с материалом. Иногда исцелить способно только время. Или алкоголь. Однако в воображении коллекционера эти периоды творческого бессилия лишь увеличивают ценность появившегося в муках творения. Без труда не выудишь…
Degas Дега
Я очарован Дега. Для меня он воплощение французского гения. Он был, возможно, величайшим графиком XIX века, совершенно точно блестящим новатором, в значительной мере изменившим живописную технику, а также как никто владел секретами композиции. Человек он был неприятный, циничный, остроумный, неискренний и замкнутый. Он никогда не был женат: для этого он был слишком эгоцентричен. Еще в начале своей художественной карьеры он поклялся отстаивать собственную независимость и свободу творить, не оглядываясь постоянно на собратьев по цеху. «Мне кажется, – замечает он в возрасте двадцати двух лет, – тот, кто хочет сегодня стать настоящим художником и найти собственное, неповторимое место в жизни или по крайней мере защитить и сохранить неприкосновенной свою, ни на кого не похожую, личность, должен постоянно пребывать в совершенном одиночестве. Вокруг слишком много сплетен и болтовни. Возникает впечатление, что картины создаются, как состояния на рынке акций, из интриг и перешептывания дельцов, одержимых жаждой обогащения. Все это обостряет мыслительные способности и извращает взгляды и оценки».
Братья Гонкуры, проницательные хронисты парижского художественного мира, познакомились с Дега в 1874 году. Он их весьма озадачил. «Этот Дега – большой оригинал, – записывают они в дневнике, – болезненный, сущий невротик и подслеповатый, боится в один прекрасный день потерять зрение; однако именно по этой причине он чрезвычайно восприимчив и чувствителен к сущности вещей».
Бросив циничный (хотя и подслеповатый) взгляд на парижских коллег-живописцев, Дега то и дело отпускает какую-то язвительную фразу. Посетив в апреле 1890 года японскую выставку в Школе изящных искусств, он пишет своему другу Бартоломе: «Увы, увы, там царит превосходный вкус!» Желая подчеркнуть, что в душе его собрата по цеху Гюстава Моро уживаются визионер и коммерсант, он называет его «отшельником, знающим расписание поездов». По его мнению, существует «разновидность успеха, неотличимая от паники». Дега потешается над бездумной пейзажной живописью на пленэре: «Ах, они пишут с натуры! – сетует он в письме Андре Жиду в 1909 году. – Пейзажисты – нахальные мошенники! Столкнусь с таким где-нибудь в деревне, и просто жажду всадить в него обойму. Так бы и расстрелял! Полиции на них нет!» Насмехаясь над страстью импрессионистов к пленэрной живописи, он замечает, что стоит ему вспомнить о Моне, как у него возникает желание поднять воротник.
По временам Дега превращался в грубияна и хама. Он обладал состоянием, которое избавляло его от финансовых проблем, омрачавших существование многих его коллег-импрессионистов, и отнюдь не сочувствовал и не помогал им. Исполненный почти маниакального антисемитизма, он запятнал себя гнусными выпадами в адрес евреев в ходе «дела Дрейфуса». Иногда Дега словно бы осознавал, что ведет себя недостойно, но не мог остановиться. В минуту откровенности он объяснял Эваристу де Валерну, сколь разные силы влияют на его личность и поведение: «Я был груб со всеми или казался таковым, ибо испытывал страсть к жестокости – следствие неуверенности в себе и скверного характера. Я чувствовал, сколь отвратительно создан природой, сколь скудно одарен, сколь слаб, хотя и способен постичь самые тонкие механизмы искусства».
Повторяю, Дега являл квинтэссенцию французского искусства: это, вероятно, уловили и покупатели, собравшиеся в зале аукциона «Кристи» в 1889 году, когда в Англии впервые выставили на торги картину французского импрессиониста. Это была картина «В кафе» Дега, и у коллекционеров она вызвала растерянность. Увидев столь новаторское и столь «неанглийское» полотно, они были ошеломлены и в конце концов освистали его. Шедевр был продан за жалкие сто восемьдесят гиней.
По сравнению с весьма и весьма искушенной четырнадцатилетней танцовщицей Дега ее живая английская версия умиляет свежестью и невинностью (Эдгар Дега. Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица. Бронза, смешанная техника. 1880. Аукцион «Сотби», февраль 2009)
Я вспомнил об этом случае, когда в 2009 году лондонское отделение «Сотби» объявило к торгам копию знаменитой бронзовой «Маленькой четырнадцатилетней танцовщицы» Дега, одной из самых знаменитых скульптур XIX века (в итоге она была продана за девятнадцать миллионов долларов). Для предпродажной рекламы одолжили в Королевской балетной школе настоящую, живую четырнадцатилетнюю танцовщицу, которой надлежало стоять рядом с оригинальной версией Дега 1880 года, повторяя ее позу. Этот рекламный ход имел огромный успех, а английская танцовщица 2009 года оказалась очень и очень милой. Она подолгу замирала на пьедестале, точно воспроизводя положение своего бронзового двойника, пока их фотографировала пресса. Однако особенно увлекательно было сравнивать их облик, осанку, позу, находя едва заметные различия. На первый взгляд они держались совершенно одинаково: стоя в свободной четвертой позиции с правой ножки, сцепив ручки за спиной, откинув головку и словно устремив взор на нос. Но если внимательно сравнить их, можно было заметить, что французский оригинал 1880 года не лишен кокетства, некой циничной раскованности, что и в ее манере держать головку, и во взгляде читаются одновременно надменность, продажность, нечистота и искушенность. Какой отрадный контраст являла с нею английская «копия» 2009 года! Цветущая, хорошо сложенная, державшаяся неизменно прямо, изящная и здоровая, она словно вносила в зрительный зал слабый аромат английского луга и вызывала ассоциации с хоккеем на траве и крикетом. Ясноглазая, живая, со взглядом, исполненным детской чистоты, эта юная балерина могла свести с ума Бетджемена и послужить красноречивым доказательством того, почему Дега никогда бы не мог родиться в Англии.
Diarists (Artists as) Дневники
Меня всегда интересовали живописцы, владеющие даром слова. Разумеется, некоторые художники решительно хранят безмолвие, будучи либо не в силах выразить свои чувства на письме, либо сознательно избегая этого. Как художники они от этого нисколько не теряют. Никто никогда не требовал от писателей, чтобы они занимались живописью для пущего самовыражения; из тех же, кто баловался с красками, серьезно можно воспринимать лишь нескольких: Стриндберга, Виктора Гюго, Эдварда Лира и Рёскина, может быть, еще Гёте и Уильяма Морриса. Однако, поскольку я люблю жанр дневниковых записей, меня особенно привлекают живописцы, которые их вели. Иногда на страницах дневников они бывают предельно откровенны, весьма трогательны и необычайно точны. Лучшим из них: симпатичному недотепе Бенджамину Хейдону, неумолимому в своей наблюдательности Делакруа, а среди художников XX века – подвергавшему себя и свое искусство беспощадному самоанализу Киту Вогану – дневниковые заметки служили неким вербальным эквивалентом визуального опыта, средством выразить радости и муки творчества.
Живопись – занятие, в сущности предполагающее одиночество, а одиночество побуждает к самоанализу, и потому дневники многих художников в самых любопытных деталях изображают реальный процесс создания картины (или муки творческого бессилия). Если писатель на страницах личного дневника сокрушается о том, как трудно сочинить книгу, то художник сетует, как трудно написать картину. Художник постоянно испытывает муки и разочарование, но порой выпадают и удачные дни, когда, по словам Хейдона, «мозговые извилины словно наполняет нектар». Одиночество, коего требует живопись, также порождает эксцентричность. Дневники художников – ценное документальное свидетельство, депеши с богемной передовой, в которых анархия, безумие, деструктивные тенденции, а иногда и комизм, свойственные их образу жизни, предстают в самых живых и ярких подробностях. Еще в 1555 году Якопо Понтормо перемежает свои дневниковые записи о том, как продвигается работа над фресками во флорентийской церкви Сан-Лоренцо, невротическими заметками по поводу своей диеты и состояния пищеварения. Триста лет спустя Гюстав Курбе признается в дневнике, что каждый раз, когда он завершает картину для выставки, у него разыгрывается геморрой.
Основное свойство дневниковых записей – непосредственность, которую Вирджиния Вулф называет «безумной, бешеной спешкой… Дневниковая мысль несется неудержимо… Преимущество этого метода письма заключается в том, что, пролетая мимо, мысль случайно разметывает кучу повседневного мусора, и на свет божий из нее выкатываются какие-нибудь второстепенные детали, от которых я отказалась бы, если бы помедлила и задумалась, но они-то и будут в этой куче мусора истинными жемчужинами». Это прекрасно осознавали художники, оставившие лучшие дневники: они отдавали себе отчет в том, что дневниковые записи не терпят исправлений и отточенного стиля и должны являть собою некое словесное подобие быстро выполненного наброска с натуры. Лучше всего зафиксировать первое впечатление: оно самое искреннее. Окидывая взглядом рукописную страницу дневника, вы должны увидеть минимум зачеркиваний. Поток впечатлений должен изливаться свободно, не подвергаясь правке, как этюд без пентименто.
Другое важное свойство дневниковых записей – это демонстрируемая их автором готовность анализировать и принять собственную творческую несостоятельность и нелепость. Например, Хейдон-художник – жертва folie de grandeur, подтачивающей его творческие силы, но Хейдон – автор дневника имеет смелость осознать свои личные недостатки. Противоречие между двумя этими сторонами личности – залог обаяния. Трудно не посочувствовать человеку, который может написать:
«Сколь гнусно жизнь напоминает нам о том, что мы смертны, смертны, смертны! От этого одного можно обезуметь. Мне по праву надлежит вкушать нектар, забываться сном на пышных облаках, днем парить вместе с ангелами, а ночью лобзать ангелов, я столь остро умею наслаждаться всеми прелестями божественного бытия и готов жить полной жизнью и испить полную чашу ниспосланного богами блаженства, а вместо этого я наказан отвратительным, мерзким, зловонным, сочащимся гноем, язвящим нарывом! Воистину, от необходимости лечить гнусное, охрипшее, обложенное налетом, забитое слизью горло я чуть не обезумел».
Энди Уорхол, тоже нимало не стесняющийся в дневниковых записях, иногда писал о себе с обескураживающей откровенностью. «День начинался прекрасно, – замечает он 15 марта 1983 года. – Шел по улице, и тут две девчонки, лет шести-семи, завопили: „Смотрите, смотрите, он в парике!“ – и я жутко смутился. Как ни в чем не бывало пошел дальше, но день был испорчен. Ужасно расстроился».
В дневнике автор часто ради некоего терапевтического эффекта проговаривает то, что обыкновенно держит в себе и что его мучит. Выразив свои психологические проблемы в слове, он лучше поймет их, осознает и скорее сумеет с ними справиться. А для некоторых дневник становится средством самодисциплины. Форд Мэдокс Браун каждый день скрупулезно отмечает в дневнике количество часов, проведенных в мастерской за работой. Однажды в Женеве, пасмурным воскресеньем, 7 сентября 1856 года, Рёскин подсчитывает «количество дней», которые «при благоприятном стечении обстоятельств» еще могут быть отпущены ему судьбой: одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять, заключает он и с каждой последующей дневниковой записью торжественно уменьшает эту цифру на единицу. Этого обыкновения он придерживался почти два года.
А какое отношение все это имеет к коммерции? Я вовсе не хочу сказать, что любая картина Делакруа будет продаваться лучше, поскольку он вел дневник. Но я действительно убежден, что стоимость конкретной картины может увеличиться, если запись в дневнике прольет свет на обстоятельства ее создания и откроет в ней нечто новое. Лучшие дневники добавляют дополнительные штрихи к личности их авторов-художников; благодаря им мы можем яснее представить себе бэкграунд художника, точнее оценить его и повысить стоимость созданных им предметов искусства.
Female Artists Женщины-художники
Год или два тому назад была проведена перепись двух тысяч трехсот художников, работы которых на тот момент экспонировались в лондонской Национальной галерее. Заодно выяснилось, сколько среди них было женщин. Четыре. Мне кажется, здесь налицо некий дисбаланс.
Разумеется, нельзя изменить историю. Национальная галерея в первую очередь выставляет произведения художников, творивших до 1900 года, а в этот период художницы представляли собою крошечное, героически боровшееся за свои права меньшинство. Конечно, они пали жертвой мужских предрассудков. Альбрехт Дюрер записывает в дневнике 21 мая 1521 года: «…У мастера Герхарта, миниатюриста, есть дочь восемнадцати лет по имени Сусанна, она сделала на листочке красками изображение Спасителя, я дал ей за него один гульден. Это большое чудо, что женщина может столько сделать»[3]. Двести пятьдесят лет спустя отношение к женщинам-художницам почти не изменилось. Говоря об Ангелике Кауфман, Гёте в августе 1787 года с удивлением отмечает: «У нее необычайный, для женщины просто великий талант».
История знает куда меньше женщин-художниц, чем женщин-писательниц, но значительно больше, чем женщин-музыкантш. До 1800 года полагали, будто женщин, выбравших ремесло живописца, отличает свойственная их полу методичность и дотошность, они-де склоняются над холстом, словно над пяльцами. Голландка Рашель Рюйш (1664–1750) писала натюрморты, преимущественно цветы; в Лондоне известность подобными работами приобрела Мэри Мозер (1744–1819), одна из первых женщин, выставлявшихся в Королевской академии художеств. Некоторые храбро боролись за серьезное признание, пробуя силы в портретной или исторической живописи, выбирая античные и библейские сюжеты, считавшиеся привилегией мужчин. Пальма первенства здесь принадлежит Артемизии Джентилески (ок. 1597–1651/53). Ее отец, караваджист Орацио, стал придворным художником Карла I и приглашал ее в Лондон в 1638–1639 годах. Ее полотно «Сусанна и старцы» – яркий и любопытный пример феминистской иронии. Блестящая картина на библейский сюжет выполнена женщиной, поневоле вынужденной творить в исключительно мужском мире, и изображает обнаженную женскую фигуру, которую сладострастно пожирают взором мужчины-вуайеристы. Розальбу Каррьера (1675–1757) и Элизабет Виже-Лебрен (1755–1842) следует назвать среди представительниц портретной живописи, весьма и весьма немногочисленных; обе они добились успеха. Впрочем, показательно, что они писали по большей части женские портреты: лишь немногие мужчины решались поставить под сомнение свою мужественность, заказав портрет женщине-художнице.
Автопортрет с мужчинами-угнетателями (Артемизия Джентилески. Сусанна и старцы. Холст, масло. 1610)
Во второй половине XIX века появляется все больше художниц. Существовали художницы, популярные у правящих кругов и добившиеся признания в специфических жанрах: Роза Бонёр, писавшая лошадей, Генриетта Роннер-Книп, изображавшая кошек, и почтенная леди Батлер, избравшая батальные сцены. Однако многие женщины тяготели к авангарду: если уж они оспорили главенствующую роль мужчин в искусстве, то почему бы не бросить вызов условностям академизма? Берта Моризо, Мэри Кассатт и Ева Гонсалес внесли существенный вклад в становление импрессионизма, а ученица Родена Камилла Клодель – в развитие современной скульптуры. Спустя примерно двадцать лет модернизм обретает силу, в том числе благодаря женщинам: англичанке Гвен Джон, немкам Кэте Кольвиц, Пауле Модерзон-Беккер и Габриэле Мюнтер, француженкам Сюзанне Валадон и Мари Лорансен и представительнице русского экспрессионизма Наталье Гончаровой.
В последние пятьдесят лет не было недостатка в искусствоведах, критиках и кураторах выставок, готовых отстаивать дело феминизма и искупить все зло, причиненное женщинам-художницам в ходе истории. Сказывается ли это на конъюнктуре рынка? Влияет ли пол художника на стоимость его (ее) картин? Потеряли бы в цене картины Берты Моризо, если бы, как весьма негалантно предположил критик Брайан Сьюэлл, ее звали не Берта, а Берт? Не знаю точно, как истолковать, например, свидетельство рыночной популярности Гвен Джон. За последние двадцать – двадцать пять лет она вышла из тени своего более знаменитого и более яркого брата Огастеса. Мировой рекорд, поставленный на торгах ее картиной (сто шестьдесят девять тысяч фунтов), значительно превосходит максимальную цену, когда-либо предлагавшуюся за его картину (сто тридцать девять тысяч фунтов). При их жизни подобное было бы немыслимо. Или это происходит потому, что теперь в ней видят более талантливого художника?
Fictional Artists Литературные герои
Наше представление о том, каким должен быть художник, находит отражение в литературе и одновременно формируется ею. Из художников получаются не только авторы любопытных дневников, но и интересные персонажи романов. Я подчеркиваю: персонажи. Вымышленные произведения искусства, создаваемые этими художниками, вызывают у меня куда больше сомнений. Природу визуального очень трудно передать вербальными средствами, и потому литература почти всегда неубедительно изображает живопись, если только не показывает ее сатирически, а это уже предмет отдельного разговора [см. ниже раздел «Мистификации»]. Далее я привожу «словарь внутри словаря», включающий избранных вымышленных художников, любопытных в том или ином отношении:
Барнби, Ральф – английский художник-модернист, творчество которого приходится на период между Первой и Второй мировыми войнами. Это герой цикла романов Энтони Пауэлла «Танец под музыку времени». Барнби – «смуглый, коренастый, с мешками под глазами», с «короткими, подстриженными „en brosse“[4], волосами». Он «успешно делает карьеру, избегая открытых конфликтов и излишней горячности». Пишет в полуабстрактном стиле, испытавшем влияние французской живописи, а в конце 1920‑х годов в Париже примыкает к художникам, «сознательно выбравшим разочарование». Кроме того, он плодовитый портретист, а его модели по большей части женщины. Он неутомимо преследует представительниц противоположного пола и беспощадно эксплуатирует очарование романтической ауры художника, к которой столь чувствительны его жертвы. Во время Второй мировой войны Барнби служит во вспомогательных частях Королевских ВВС («маскирует аэродромы под усадьбы эпохи Тюдоров»). Он погибает в 1941 году, когда самолет, на котором он летит, сбивают фашисты.
Бридо, Жозеф – один из двух братьев, главных героев романа Бальзака «Жизнь холостяка» (1842). Жозеф – художник-романтик, его отличает благородное величие духа, но, когда дело доходит до практической стороны жизни, он, идеалист, теряет голову от смятения и страха. Бальзак описывает его как человека, любящего поэзию Байрона, живопись Жерико, музыку Россини и романы Вальтера Скотта, что в совокупности предвещает неизбежную катастрофу. Ему противопоставлен брат Филипп, человек действия и беспринципный циник. Стоит ли говорить, что это Филипп в конце концов женится на аристократке и приобретает состояние. Жозеф – талантливый художник, вымышленный двойник Делакруа, однако он постоянно находится в стесненных обстоятельствах. По словам Бальзака, его величайшая ошибка заключается в том, что он «не нравился парижскому буржуа. Это существо, являющееся в наши дни источником денег, никогда не развязывает своей мошны для спорных талантов»[5].
Джимсон, Галли – рассказчик, от лица которого ведется повествование в романе Джойса Кэри «Из первых рук» (1944). Чего он только не пережил: «Импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, ревматизм»[6]. Он оплакивает свою участь, сетуя на то, что его погубило искусство: «Искусство, религия и пьянство. Вот где погибель для бедняка»[7]. Через его жизнь проходит череда женщин с авантюристическими наклонностями, по большей части натурщиц, но иногда и жен. У него вечно нет денег, он постоянно лихорадочно соображает, как бы законным или незаконным способом добыть наличных. В результате он дважды оказывается в тюрьме. «Что такое искусство? Распущенность, и больше ничего. Порок, с которым не мог совладать. Тюрьма слишком хороша для художников. Их надо спускать с Примроуз-хилл в бочке, полной битых бутылок, раз в неделю по будним дням и дважды в национальные праздники. Это их научит уму-разуму»[8]. Но, в сущности, ничего, кроме искусства, он и знать не хочет: «Речь – это ложь. Единственная приемлемая форма общения – хорошая картина»[9]. Он точно определяет разницу между собой и богатыми покровителями, которые у него время от времени появляются: «Он[и] дела[ю]т деньги из любви к искусству и нужда[ю]тся в художниках, чтобы поддерживать свой дух. Я пишу картины из любви к искусству и нуждаюсь в деньгах, чтобы поддерживать свою плоть»[10].
Дикон, Эдгар Босуорт – регулярно появляющийся в первых томах цикла «Танец под музыку времени» Энтони Пауэлла, – художник, который представляет более давнюю традицию, нежели Ральф Барнби. Он родился в 1871 году и написал огромные холсты на классические темы. «Босуорт» – отличная деталь: большинство художников, добившихся успеха в Эдвардианскую эпоху, щеголяли претенциозными вторыми именами. Существовал некий Луис Босуорт Хёрт (1856–1929), почтенный автор пейзажей горной Шотландии, усеянных коровами. В первые годы ХХ столетия у Дикона нет недостатка в преданных покровителях, по большей части нуворишах из центральных графств Англии, с радостью покупающих его огромные холсты под названиями «Детство Кира», «Ученики Сократа» или «По приказу Диоклетиана». Непреодолимое желание Дикона изображать нагое мужское тело напоминает сходную манию Генри Скотта Тьюка (1858–1929), стараниями коего на стенах Королевской академии во время выставок плавали и резвились бесконечные обнаженные корнуолльские мальчики-рыбаки. Однако, в отличие от Тьюка, пылкое восхищение нагими юношами не привело Дикона в парк Баттерси (где с его прототипом произошел весьма прискорбный случай), а потом в вынужденное изгнание в Париже. После Первой мировой войны звезда Дикона закатилась. Он вновь воскресает в облике пацифиста-антиквара, попутно торгующего книгами эротического содержания и испытывающего нездоровую нежность к сандалиям. Он умирает, упав с лестницы в ночном клубе, где праздновал свой день рождения. Однако спустя годы, в 1971 году, выставка по случаю столетнего юбилея возрождает его популярность, а заодно удостаивается хвалебных отзывов критиков и имеет коммерческий успех.
Кляйснер, Отто – главный герой романа Уиндема Льюиса «Тарр» (1918). Действие романа происходит в Париже незадолго до Первой мировой войны. «Тарр» – депеша с богемной передовой, из царства абсента, художественных экспериментов и сознательного сексуального раскрепощения. Кляйснер, немецкий художник, живущий на иждивении у своих близких, агрессивен, груб, по любому поводу лезет в драку и безуспешно пытается добиться расположения женщин, так как начисто лишен обаяния. Последняя подруга чрезвычайно разозлила его, выйдя замуж за его отца. Это представляется ему тем более унизительным, что он вынужден рассчитывать на чеки, которые отец ему ежемесячно присылает. Кляйснер не добился успеха и продал всего одну картину (за четыре фунта десять шиллингов). Работая над карандашным портретом следующей своей подруги, студентки художественного училища немки Берты, он замечает, что руки у нее похожи на бананы, из чего, пожалуй, можно сделать вывод о низком уровне его графической техники. Вызвав на дуэль польского художника, он случайно его убивает, а затем кончает с собой в полицейском участке.
Кулер, Мендель – заглавный герой романа Гилберта Кэннена «Мендель: история юности» (1916), едва ли может считаться вымышленным персонажем, поскольку очевидно, что его прототипом послужил английский художник Марк Гертлер. Мендель – высокоодаренный, способный к творческим прозрениям молодой художник, которому причиняют невыносимые муки искусство, женщины и собственное еврейство. Он обречен жить в Лондоне, для него это не город, а «ревущая пещь огненная, в коей он сгорает заживо, пожираемый пламенем безумия…» Женщины неизменно его терзают. Он восклицает: «Художнику не прожить без женщин, как не прожить без воздуха, разумеется, когда у него остается время… Самое главное в жизни художника – искусство, оно в тысячу раз важнее всей любви, всех женщин и всех девочек в мире». Однако он влюбляется в коллегу-художницу, барышню по фамилии Моррисон (прообразом которой явно послужила Дора Каррингтон, сама до безумия влюбленная в Литтона Стрэчи). Он то тоскует по ней, то вожделеет ее, то бросает ее, то возвращается. Моррисон описана как «настоящая англичанка, которую воспитание отучило испытывать любые спонтанные, непосредственные чувства. Она – воплощение английского духа: импульсивна, но начисто лишена чувственности, добра, но не способна ощущать к кому-нибудь нежность». Бедная Дора Каррингтон: неудивительно, что после публикации романа в ее отношениях с Кэнненом воцарилась некоторая холодность. Основания обидеться были и у Гертлера, хотя он внес вклад в написание романа, самодовольно, в мельчайших деталях изложив Кэннену свою биографию, пока гостил в его сельском доме. Однако больше всех пострадал сам Кэннен. Вскоре после того, как тираж книги был доставлен в магазины, он сошел с ума и остаток жизни провел в психиатрической клинике.
Марк Гертлер, прообраз Менделя Кулера (Марк Гертлер. Автопортрет в зюйдвестке. Холст, масло. 1909)
Лантье, Клод – герой романа Золя «Творчество», художник, вращающийся в наиболее образованных и утонченных литературных и художественных кругах Парижа. К моменту выхода в свет романа долгая дружба Золя и Сезанна уже дала трещину, и, по-видимому, «Творчество» положило ей конец, однако почему это случилось – загадка. Лантье совершенно не похож на Сезанна. Судя по сюжетам картин, он более напоминает не добившегося признания Пюви де Шаванна, вечно сражающегося с огромными аллегорическими холстами, смысл которых ускользает от публики. На Лантье обрушивается одна трагедия за другой: он дурно обращается с женой, образцом преданности и самоотверженности; у него умирает ребенок. Он пишет свое дитя на смертном одре и посылает картину на престижную выставку в Салоне, но там ее вешают под самым потолком, и зрители ее не видят. Лантье сводит с ума его собственная одержимость искусством, сродни чувственной страсти к идеальной женщине, то есть идеально исполненной картине; в итоге он кончает самоубийством.
Науман, Адольф – немецкий художник-назареец, с которым Доротея Кейсобон, героиня романа Джордж Элиот «Мидлмарч» (1872), знакомится в Риме во время своего медового месяца. Художника представляет Доротее ее поклонник, романтический, вечно пребывающий в смятении чувств Уилл Ладислав, сам художник-дилетант. Науман, ставящий себе целью «духовное обновление» христианского искусства, в это время работает над полотном «Святые, влекущие колесницу Церкви». В его мастерской англичане обозревают «Мадонн, почему-то сидящих на тронах под балдахинами среди скромных сельских пейзажей, святых с архитектурными моделями в руках или с ножами, небрежно воткнутыми в их затылок»[11]. Науман щеголяет в сизой блузе и темно-бордовом бархатном берете и неожиданно завоевывает расположение напыщенного педанта мистера Кейсобона, попросив его позировать для головы святого Фомы Аквинского. Он делает карандашный портрет Доротеи в образе святой Клары, а когда начинает слишком недвусмысленно восторгаться ее красотой, Уилл Ладислав упрекает его: «Миссис Кейсобон нельзя обсуждать, словно простую натурщицу!»[12]
Райдер, Чарльз – рассказчик, от лица которого ведется повествование в романе Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945). Его дружба с прекрасным, но обреченным Себастьяном Флайтом, завязавшаяся в Оксфорде, и последующий роман с сестрой Себастьяна, Джулией, составляют сюжет книги. Однако фоном для этих сюжетных линий служит становление Райдера как художника. Во время своего пребывания в Брайдсхеде он выполняет несколько фресок, по эстетике весьма напоминающих манеру реально существовавшего художника Рекса Уистлера, который, подобно Райдеру, стремился в высшее общество и любил подолгу гостить в загородных домах знати. Впоследствии Райдер разбогател, продавая экзотические пейзажи, навеянные дальними путешествиями. Возникает подозрение, что Райдера, как и самого Ивлина Во, лелеявшего художественные амбиции, скорее можно было встретить за ужином не в клубе «Челси-Артс», а в клубе «Уайтс».
Стрикленд, Чарльз – двойник Гогена, герой романа Сомерсета Моэма «Луна и грош» (1919). На сей раз родившийся англичанином, Стрикленд – Гоген отвратительно обращается с близкими, он отказывается от карьеры биржевого маклера в Сити, чтобы бежать в Париж и там заниматься живописью, бросает жену и детей и унижает достоинство каждого, кто попадается ему на пути, включая свою возлюбленную, которая, с его точки зрения, мешает ему всецело отдаться искусству. Он груб и угрюм. «Я в любви не нуждаюсь, – заявляет он. – У меня нет на нее времени. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе»[13]. В конце концов он бежит из Европы и умирает на Таити. При жизни публика его не понимает: ее отталкивают характерные для него кричаще-яркие цвета и нарочитая примитивность рисунка. Однако спустя двадцать лет, говорит Моэм, Стрикленда начинают ценить как одного из зачинателей модернизма, наравне с Ван Гогом и Сезанном.
Хелдар, Дик – герой романа Редьярда Киплинга «Свет погас» (1891), воплощение истинно английского духа. Чтобы каким-то образом компенсировать выбор творческого поприща, вызывающий подозрения в женственности и изнеженности, Киплинг делает своего героя мужественным, насколько это вообще возможно для англичанина. Хелдар – художник-баталист, освещающий военную кампанию в Судане для лондонских иллюстрированных газет. Вернувшись в Лондон, он поначалу добивается успеха своими батальными сценами. Он презирает эстетов, любящих поговорить об искусстве, и их душевный настрой, язвительно именуя их «модисточками в штанах»[14]. Он влюблен в Мейзи, тоже художницу, которая не отвечает на его чувства. Мейзи снимает мастерскую вместе с рыжеволосой барышней-импрессионисткой, так что читателю не мешает насторожиться. Хелдар делит меблированные комнаты с другим очень и очень мужественным военным корреспондентом. У Хелдара есть фокстерьер, к которому, как можно догадаться, он привязан едва ли не больше, чем к Мейзи. Натурщица по имени Бесси, в сущности уличная девица, позирует Хелдару для картины, долженствующей стать его главным шедевром и представлять воплощение меланхолии. Он «принялся за работу, негромко посвистывая, и вскоре преисполнился той прозрачной, проникновенной творческой радости, которая так редко выпадает на долю смертного»[15]. Однако Бесси, раздосадованная тем, что никто в доме Хелдара не хочет с ней спать, свершает месть, соскоблив красочный слой картины. В ночь накануне этого акта вандализма Хелдар теряет зрение, а потому так и не узнает, что она сделала. Незрячий, он возвращается в Судан и погибает на поле брани от пули «черномазых суданцев»[16].
Штернбальд, Франц – герой книги «Странствия Франца Штернбальда» (1798) Людвига Тика, возможно наиболее разностороннего и плодовитого представителя немецкого романтизма. Штернбальд, ученик Альбрехта Дюрера, в XVI веке путешествует по Европе, пишет картины, делает зарисовки и тоскует по своей утраченной возлюбленной Марии, которую в конце концов обретает в Риме. «Вы не можете и вообразить, сколь страстно я жажду написать что-то, что всецело явило бы все движения, все порывы моей души!» – пылко восклицает он. Упоминание о душе и совлеченном с нее покрове свидетельствует о том, кто же он в действительности: немецкий художник-романтик, с романтическим умонастроением, романтическими представлениями об искусстве, романтическими взглядами, в виде анахронизма болтающийся по Европе за два века до своего фактического рождения.
Эльстир – вымышленный художник, персонаж Пруста, неоднократно появляющийся на страницах эпопеи «В поисках утраченного времени». Его фамилия – нечто среднее между Уистлером и Эллё, его облик отличает изысканность и утонченная светскость, его жена – увядшая красавица. Как живописец он одновременно Дега, Ренуар и Моне, но чем-то сродни и Сардженту. Одна из его наиболее популярных картин носит название «Гавань Каркетюи», ее вполне можно вообразить среди реальных пейзажей импрессионистов. Герцог Германтский относится к Эльстиру с пренебрежением; он утверждает, что живопись Эльстира поверхностна. «Чтобы смотреть эти картины, не нужно быть эрудитом. Я отлично знаю, что это простые наброски, но, по-моему, они недоработаны»[17]. Подобной критике подвергались при жизни и Сарджент, и Уистлер.
Géricault Жерико
Теодор Жерико был идеальным воплощением художника-романтика. Он любил риск. Если бы он родился двести лет спустя, то носился бы на мощном «харлее-дэвидсоне» и, возможно, принимал наркотики. Но он жил в начале XIX века и потому обожал скаковых лошадей и тяготел к крайностям: к углубленному самоанализу, к титаническим поступкам, превосходящим человеческие силы и возможности.
Главным шедевром, созданным им за короткую жизнь, принято считать чрезвычайно необычную картину «Плот „Медузы“», холст размером с двухэтажный дом, изображающий последствия кораблекрушения. Он был написан на современный Жерико, даже злободневный сюжет: в 1816 году, за два года до создания картины, снаряженный правительством Франции фрегат «Медуза» затонул у берегов Африки. На картине выжившие сбились в центр плота, носимого по волнам; мужчины, живые и мертвые, нагие и одетые, представляются ожившим сгустком плоти, вздымающимся на холсте, средоточием страха и упорной, неослабевающей энергии. Странный, потусторонний свет, изливающийся с потемневших, затянутых грозовыми облаками небес, играет на напряженных мускулах, его желчный, зеленовато-желтый оттенок придает телам нездоровую, мертвенную бледность.
По наспех сколоченным, ненадежным доскам плота несчастные жертвы кораблекрушения бросаются вперед, замирая на пике этого порыва. Словно взметнувшись вверх в приступе отчаяния, двое, образующие вершину этого треугольника плоти, исступленно машут, завидев вдали крошечный парус. Это надежда на спасение, но точно ли их успели заметить? Маленький кораблик на горизонте движется к ним или уплывает? Отдельные группы фигур на плоту словно повторяют очертания вздымающихся и пенящихся волн: они словно поднимаются и опадают, движимые противоречивыми страстями, надеждой, страхом, ликованием и отчаянием.
Эту картину Жерико писал более года. Он прочитал опубликованные незадолго до этого воспоминания о катастрофе одного из выживших, корабельного хирурга Анри де Севиньи. Жерико разыскал корабельного плотника, который сколачивал из досок плот, после того как фрегат наскочил на риф, и заказал ему модель спасательного средства в миниатюре. Потом снял огромную мастерскую, чтобы в ней мог поместиться холст гигантских размеров. Обрил голову и, если не спал, неотрывно, без отдыха, работал над картиной. Не принимал посетителей. Жил монахом. Завершив картину, он перенес нервный срыв и был доставлен в заведение, которое сегодня мы назвали бы реабилитационной клиникой. Хотя невероятные усилия, затраченные на работу, вполне могли подстегнуть этот нервный срыв, его глубинные причины были куда более мрачными, зловещими и давними.
Единственный сын состоятельных, преуспевающих родителей, Жерико воспитывался в Париже. Когда ему исполнилось шестнадцать, умерла его мать: эта утрата наложила на психику юноши неизгладимый отпечаток, и, возможно, он так никогда и не оправился от этого удара. Далее его воспитанием занимались слабовольный отец, дядя и тетя (старший брат матери и его жена, которая была значительно моложе). Жерико мечтал стать художником. Невзирая на предостережения близких, он бросил коммерцию и начал обучаться живописи в мастерских нескольких известных художников. Он любил лошадей. С раннего детства писал их маслом и рисовал. Затем поступил в ученики к художнику Жозефу Верне, специализировавшемуся на изображении лошадей. Некий критик восхищенно воскликнул, что одна лошадь Жерико способна съесть шесть лошадей Верне на завтрак.
Конь как символ романтической страсти (Теодор Жерико. Конь, испугавшийся молнии. Холст, масло. 1810–1812)
Ему явно была свойственна маниакальная одержимость. Он не позволял себе отдохнуть. Писал величественные батальные сцены, изображающие героическую конницу Наполеона. Однако его милитаризм, как и другие пристрастия, не был лишен противоречий. Будучи роялистом, Жерико не поддерживал Наполеона. Жерико (или его отец) заплатил бедному крестьянину, чтобы избежать призыва в армию. В картинах художника прослеживается одержимость смертью, наслаждение насилием, мрачность и очарованность чужим страданием. Он пишет трупы и фрагменты тел, которые покупает в парижских больницах. С легкостью делается жертвой сомнений. «Я сбит с толку, я пребываю в замешательстве, – пишет он в 1816 году. – Тщетно ищу я хоть какую-нибудь опору; все изменяет мне, все ускользает, все оборачивается пустотой. Все наши земные надежды и чаяния – всего лишь безосновательные фантазии, наши успехи – миражи, которые мы тщетно пытаемся удержать. Если есть в мире что-то верное и несомненное, то это только наши муки. Страдание реально, наслаждение эфемерно».
Около 1814 года в творчестве Жерико появляется новая тема: серия чрезвычайно ярких эротических рисунков, изображающих соития сатиров и нимф, обнаженных мужчин и женщин, обезумевших от желания. Любовники не столько ласкают друг друга, сколько борются – такое впечатление производят их огромные сплетающиеся тела, искаженные судорогой мышцы. Художник явно был снедаем непреодолимой чувственной страстью.
И только более ста пятидесяти лет спустя стали известны истинные подробности его романа. Исследователь, изучавший документы в Руанском архиве, в 1973 году обнаружил свидетельство, что в 1818 году у Жерико родился внебрачный ребенок. Выяснилось, что матерью этого ребенка была жена его дяди, Александрина Модеста Каруэль. Их связывала байроническая, близкая к кровосмесительной, бурная страсть, неизменно сопровождавшаяся глубоким ощущением вины. Не пытался ли Жерико работой над «Плотом „Медузы“» искупить ее?
Судя по немногим сохранившимся воспоминаниям современников, Жерико неизменно вызывал симпатию. В 1817 году один из его знакомых описывал его как довольно высокого и стройного, с живым, выразительным и одновременно исполненным нежности лицом. Он якобы легко краснел. Пытаясь бежать из Франции и как-то наладить свою жизнь, Жерико в 1821 году приезжает в Англию. Чарльз Кокерел познакомился с ним в Лондоне и отметил «его скромность, столь удивительную и тем более достойную похвалы во французе, его глубокую способность испытывать жалость к несчастным, the pathétique, и одновременно силу, пламенность и воодушевленность его полотен. Он серьезен, и вместе с тем глубок, и склонен к меланхолии, и весьма благоразумен, будучи в своем роде уникальным… Напоминает американского дикаря, о коих мне приходилось читать: после дней и целых недель, проведенных в бездействии и праздности, они, словно проснувшись от сна, совершают над собою невероятные усилия, без устали ездят верхом, несутся, не разбирая дороги, и конные и пешие, бегом преодолевают гигантские расстояния, с легкостью переносят зной, стужу и всяческие лишения…»
Здоровье Жерико ухудшилось. Несколько падений с лошади вызвали рост опухоли позвоночника, от которой он умер в 1824 году, всего тридцати двух лет. Его короткая жизнь идеально соответствует шаблонному представлению о романтическом художнике, одержимом безмерными страстями и рано уходящем из жизни, а это шаблонное представление неизменно кажется чрезвычайно заманчивым потенциальным покупателям. Кроме того, цены на его картины высоки, поскольку написал он так мало и был строг к себе. Однако иногда я задаюсь вопросом, как изменился бы его стиль и темы, проживи он дольше. Сумел бы он и далее работать в бешеном темпе, творить, сжигая себя на огне искусства? Он мог бы обрести вдохновение в странствиях по Северной Африке и арабскому миру [см. главу II, раздел «Экзотика»]. Что, если бы он отправился туда в 1832 году вместе со своим другом и учеником Делакруа? Мучительно сознавать, что этому не суждено было сбыться.
Images (famous) Образы (знаменитые)
Существует небольшое число картин и скульптур столь знаменитых и столь хорошо известных, что запечатленные в них образы позволяют воспринимать их как нечто большее, нежели произведения искусства. Моментально узнаваемые во всем мире, даже людьми, совсем не интересующимися искусством, они составляют тонкий, но необычайно мощный по силе воздействия визуальный лексикон. Именно к этому лексикону регулярно прибегают карикатуристы, рекламные агентства, специалисты по маркетингу, ищущие образ, который передавал бы всем понятную, доступную идею, поддерживаемую авторитетом искусства.
Список десяти подобных образов для большинства возглавляет «Мона Лиза» Леонардо. Двусмысленная улыбка Джоконды делает ее самой знаменитой картиной в мире. Она существует вне времени, она – воплощение некоего абсолюта, а различные интерпретации ее образа, предлагаемые последующими поколениями, говорят не столько о ней как произведении искусства, сколько об эпохах, породивших то или иное истолкование. Покидая стены Лувра, «Мона Лиза» всякий раз производила сенсацию. Впервые это случилось в 1911 году, когда «Джоконда» была похищена (и обнаружена спустя два года в Италии) [см. главу IV «Кражи»], а затем дважды после Второй мировой войны, когда ее отправляли на зарубежные выставки: в Соединенных Штатах ее увидели более двух миллионов зрителей, в Токио она стала целью такого же паломничества восторженных почитателей.
Самый знаменитый художественный образ в мире, «Мона Лиза», на сей раз обезображенная усами по воле Марселя Дюшана (Марсель Дюшан. L.H.O.O.Q. Карандаш, гуашь. 1964)
Не многие станут оспаривать второе место «Крика» Эдварда Мунка. За сто с небольшим лет, прошедших с момента создания картины, человек полностью сосредоточился на своем внутреннем мире и предался безжалостному самоанализу. Эти сто с лишним лет стали эрой психиатров и психоаналитиков, комплексов и депрессий, психозов, страхов и приступов паники, а «Крик» сделался образом, которому обязаны своей карьерой тысячи психотерапевтов. «Крик» – совершенное воплощение тревоги, экзистенциального страха и отчуждения и потому стал использоваться расширительно, как знак негативной реакции на любое проявление бытия. «Крик» также превратился в некое подобие символа, упрощенно представляющего всем доступную идею или эмоцию: как и «Мона Лиза», он, вне всяких художественных достоинств и исследовательских концепций, обрел еще и славу просто знакомого образа, лишенного почти всех смыслов, кроме собственной известности. Потому-то его во всем мире так охотно репродуцируют на кружках, кухонных полотенцах и футболках: некий визуальный условный знак, он вселяет уверенность в обывателя, приобщая его, вместе со значительной частью человечества, к миру известных образов.
«Крик» и «Мону Лизу» объединяет еще и то, что обе картины в разное время становились объектами похищения, причем «Крик» – дважды за последние двадцать лет. После каждой кражи картину, к счастью, почти невредимой возвращали в норвежский музей, где она экспонировалась до похищения. Люди ощущают необъяснимую тревогу, когда оригинал одного из канонических образов их культуры исчезает, а его отсутствие становится столь заметным. О степени озабоченности, которую вызвало в мире его исчезновение, свидетельствует тот факт, что награду за его возвращение предложила хорошо известная кондитерская фирма. Разумеется, это был хитроумный рыночный ход, однако компания действительно намеревалась вручить два миллиона пакетиков шоколадного драже «Эм-энд-Эмс» за информацию о местонахождении картины или о личности похитителей. В конце концов денежный эквивалент сластей был пожертвован Музею Мунка в ознаменование возвращения «Крика» в свое законное жилище.
Лик, которому обязаны карьерой тысячи психотерапевтов (Эдвард Мунк. Крик. Пастель. 1893)
Если бы подобный список самых знаменитых и самых узнаваемых произведений искусства составлялся в середине XIX века, он, возможно, включал бы «Ночной дозор» Рембрандта, «Сикстинскую Мадонну» и «Мадонну в кресле» Рафаэля, а также «Портрет Беатриче Ченчи», в ту пору приписывавшийся Гвидо Рени. Сегодня ни одна из этих картин не войдет в десятку самых узнаваемых. Образы, которые займут остальные восемь мест после «Моны Лизы» и «Крика», в общем скорее тяготеют к модернизму. Тем не менее третье место я бы отдал еще одному шедевру эпохи Ренессанса – «Сотворению Адама» Микеланджело. На знаменитой фреске, украшающей Сикстинскую капеллу, перст Божий протянут к персту Адама, вот-вот коснется, но еще не дотронулся до него. Это необычайно яркий, вечный образ, воплощение воли к творчеству и божественного вдохновения. Четвертое и пятое места я бы отдал скульптурам Родена «Поцелуй» и «Мыслитель». Учитывая их значимость, их можно и поменять местами, поскольку они символизируют соответственно человеческую душу и человеческий ум, постоянное взаимодействие страсти и интеллекта, эмоций и разума. Обе они представляют обнаженную натуру, и это только помогает зрителю. К моменту их создания скульпторы осознали, что человеческое тело, дабы приобщиться вечности и превратиться в некий универсальный символ, должно отринуть все покровы.
Следующие два из десяти образов (занимающие соответственно шестое и седьмое места) – это всем известные символы красоты. «Давид» Микеланджело (еще один образец обнаженной натуры) – статуя, как никакая иная воплощающая классический идеал прекрасного мужчины. А в пандан к ней можно назвать воплощение женской красоты, увековеченное в «Рождении Венеры» Боттичелли. Возможно, его Венера и не самая прекрасная женщина, когда-либо запечатленная на холсте или на дереве, однако она – самая узнаваемая красавица. А вот далее начинаются споры. На восьмое место в списке я поставил бы «Подсолнухи» Ван Гога, пожалуй, потому, что эта картина – одна из самых известных в истории западноевропейской живописи, а не потому, что она воплощает некую общую идею, если только не считать таковой горькую иронию: подсолнухи, символ жизнелюбия и оптимизма, написал самый трагический художник в мире. Девятый образ в моем списке – «Свобода на баррикадах» Делакруа, главный символ революции и героической борьбы за демократию. Даже если вы никогда не слышали о Делакруа, «Свобода» найдет отклик у вас в душе как некий живописный политический лозунг, призыв сплотиться на баррикадах во имя дела, восславить которое предназначена картина.
Если говорить о современных узнаваемых образах массовой культуры, в конце списка нельзя не поместить какое-нибудь произведение Энди Уорхола. Может быть, стоит выбрать «Банку супа „Кэмпбелл“», хотя в данном контексте этот выбор не лишен лукавства, поскольку Уорхол воспользовался и без того знаменитым образом повседневной жизни и еще более прославил его, превратив в произведение искусства. Возможно, лучше было бы остановиться на портрете Мэрилин, но здесь возникают те же сложности. Кроме того, совершив с точки зрения этого списка едва ли не акт инцеста, Уорхол воспользовался центральным образом «Крика» в собственных целях. Отдав дань уважения Мунку, лидер поп-арта поступил вполне логично. В поиске образов массовой культуры, созвучных его взглядам и представляющих потенциальный предмет эстетической игры, Уорхол вполне мог бы обратиться к любому произведению искусства в этом списке.
А что почувствует тот, кому выпадет на долю продавать оригинал одного из этих образов, известных во всем мире? Сколько он будет стоить? До недавнего времени на эту тему можно было только фантазировать. Но внезапно меня попросили воплотить эту мечту в жизнь: в 2012 году аукционному дому «Сотби» было предложено продать «Крик» Эдварда Мунка. Мунк написал четыре варианта «Крика». Три находились в собраниях музеев, и только наш «Крик» принадлежал частному коллекционеру.
Мы встретились с коллегами и обсудили это необыкновенное предложение. Мы пребывали в нерешительности, поскольку предстояли беспрецедентные торги. На то время рекордная цена произведения Мунка на аукционе составляла тридцать семь миллионов долларов: за такую цену в 2008 году был продан «Вампир», картина, написанная маслом. Но разве за «Крик» нельзя выручить значительно больше? Для экспертов нет ничего увлекательнее, чем строить подобные предположения. Сошлись на том, что цена может достичь головокружительных высот, едва ли не ста миллионов долларов. Тут один коллега напомнил, что это пастель, а не живопись. Ах вот оно что, а мы и забыли. Что же, значит, продадим мы ее за какие-нибудь жалкие тридцать-сорок миллионов долларов? Да, но три других варианта «Крика» тоже пастели, сказал кто-то. Мунк специально выбрал эту технику, чтобы передать ощущение стихийной силы, непосредственного присутствия, обнаженности всех чувств. Он сознательно выполнил пастели на грубом картоне, чтобы подчеркнуть шероховатость пастельного мазка. Обсуждать это было очень интересно. Сошлись опять на том, что цена все-таки будет высокой. Уж не заплатят ли за нее семьдесят-восемьдесят миллионов долларов? Это же один из самых знаменитых образов в мире, припомнили мы. А как же кампания в СМИ? А как же ажиотаж по мере приближения даты торгов? Купить «Крик» – все равно что взять первый приз. Один из коллег призвал к осторожности. «Что-то вы размечтались, – произнес он похоронным тоном. – А если ее не купят? Вот будет катастрофа! Вот не сможем ее продать за стартовую цену, а нас потом уволят за антирекламу!»
Образ, служащий во всем мире понятным и однозначным символом любви (Огюст Роден. Поцелуй. Бронза. 1886)
Торги назначили в Нью-Йорке, на 2 мая 2012 года. Объявление о том, что будет продаваться «Крик», породило в СМИ по всему миру сенсацию, какой за всю историю существования «Сотби» не вызвал ни один предмет искусства. Пастель в течение пяти дней экспонировалась на предпродажной выставке, и посмотреть ее пришли семь тысяч человек. «Крику» отвели отдельную галерею, куда нескончаемым потоком потянулись зрители, перед этим подвергшиеся строжайшему досмотру. На пастель был направлен луч света, а в самой галерее царила тьма, отчего помещение напоминало то ли часовню, то ли ночной клуб (я подумал, что такое определение применимо и к самому «Сотби»).
Несмотря на рекламную «артподготовку», накануне аукциона мы все еще не имели представления, кто и за сколько ее купит. Может быть, кампания в СМИ соблазнит какого-нибудь миллионера и он решит приобрести этот знаменитый, легко узнаваемый образ, чтобы превратить его в символ собственного высокого статуса, не руководствуясь никакими иными соображениями, кроме самодовольного упоения богатством? Или ее купит равнодушный к рекламной шумихе ценитель, которого интересует только историческая и художественная значимость картины и который видит в ней свидетельство эволюции взглядов человека на самого себя и свой внутренний мир? Или никто не встанет с места и не предложит свою цену? Что, если стартовая цена не будет достигнута и картину продать не удастся? Похоронный голос в моем сознании опять заладил: «Я же тебе говорил…»
В конце концов она была продана за сто девятнадцать миллионов девятьсот тысяч долларов – высочайшую цену, которую когда-либо платили за произведение искусства на аукционе. За право обладать ею боролись пятеро коллекционеров из разных уголков земного шара. Счастливец, как это принято, ни за что не желал открыть свое имя. Торги вызвали огромный ажиотаж и многому меня научили. Однако меня обеспокоило другое. За несколько недель, предшествующих торгам, интерес к «Крику» во всем мире возрос настолько, что букмекеры открыли конторы, предлагая делать ставки на финальную цену картины. Желающие могли поставить деньги, исходя из любой суммы, в пределах от тридцати до двухсот миллионов долларов, и эта разница мнений по-своему отражала неуверенность, охватившую даже признанных мировых экспертов в области живописи. Однако самая точная ставка была сделана на сто двадцать пять миллионов долларов и почти идеально соответствовала финальной цене. Значит, где-то в букмекерских конторах затаился эксперт, осведомленный лучше, чем все мы.
– Isms «Измы»
Ныне историю искусств определяют «измы». Эти полезные термины для описания художественных направлений появились в XIX веке и с тех пор владеют воображением искусствоведов. Некоторые из них явно возникли значительно позже, чем именуемые ими художественные явления, и были сформулированы для того, чтобы лучше осознать историческое развитие искусства и задним числом внести в него некоторую ясность. Уверен, что ни Сезанн, ни Ван Гог, ни Гоген никогда никому не представлялись «постимпрессионистами», но именно так Роджер Фрай объявил о них скептически настроенной британской публике. Впрочем, Сёра, может быть, и называл себя неоимпрессионистом. Кубисты с самого начала именовали себя кубистами, фовисты тоже величали себя фовистами, возможно, потому, что им льстило сравнение с дикими животными, насмешливо брошенное первыми критиками их работ. Сюрреалисты действительно сами придумали собственный «изм».
Таким образом, «измы» изобретают художественные критики, историки искусства, а с начала XX века все чаще и сами художники, быстро уловившие их практический смысл. Иногда «измы» придумывают и арт-дилеры, стремящиеся создать репутацию продаваемым произведениям искусства. Первым «измом», видимо, можно считать «классицизм». Этот термин впервые появляется в английском языке в 1837 году в значении «приверженность античному стилю». Затем подошла очередь романтизма, привнесшего дух новой, романтической школы в искусство и в литературу; этот термин вошел в употребление после 1844 года. Термин «натурализм» впервые используется в 1850 году, а «реализм» – в 1856 году. Однако все эти «измы» перекочевали в Великобританию из Франции. Первым собственно британским «измом» был прерафаэлитизм (1848). К тому времени, как англичане изобрели еще один «изм», «вортицизм» (1914), занялась заря нового столетия со множеством «измов», укрывшихся под сенью раскидистого модернизма.
Кого только не приютила под своей гостеприимной тенью широкая крона модернизма: пуантилизм, экспрессионизм, футуризм, конструктивизм, дадаизм, акционизм, имажизм, формализм, минимализм, фотореализм, ситуационизм, ташизм и сотни других, – а еще несколько сот стеснились под ветвями выросшего несколько позже постмодернизма! Можно только посочувствовать стареющему Галли Джимсону [см. раздел «Литературные герои»], который с тоской описывает собственную художественную эволюцию: «Импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, ревматизм».
Чтобы стать доступными публике, художники должны соответствовать неким «измам». Подыскивание для художника того или иного «изма» – еще одна неотъемлемая составляющая создания бренда [см. выше, раздел «Бренды»]. Покупатели стремятся приобрести произведение искусства, типичное для данного художника, и точно так же пользуются спросом предметы искусства, характерные для определенных «измов».
Jail (artists in) Тюрьма (художники в неволе)
Художники – это люди, вступающие в борьбу с обществом, бросающие вызов его предрассудкам и подвергающие сомнению его ценности [см. выше, раздел «Богема»]. В результате они иногда оказываются в тюрьме. Обыкновенно в тюрьму их заключают по трем причинам: за долги, за оппозиционную политическую деятельность и по обвинению в непристойном поведении.
Английский художник Бенджамин Хейдон, автор картин на исторические сюжеты, прославившийся фантастическими неудачами, – классический пример несостоятельного должника, угодившего в тюрьму. Он совершенно не умел распоряжаться деньгами. Он непрестанно занимал деньги у друзей, а его многострадальная жена Мэри непрестанно рожала ему детей, которые требовали все новых и новых расходов. Его незавидную участь усугубляла хроническая folie de grandeur, ибо Хейдон был убежден в том, что он, возможно, величайший художник после Микеланджело и нужно лишь чуть-чуть подождать, пока его огромные исторические полотна признают гениальными и деньги польются рекой. В марте 1822 года он делает типичную для него запись в дневнике:
«Сегодня я пишу это, не имея ни шиллинга за душой, не закончив и на треть большую картину, укоризненно взирающую на меня с мольберта, но воспаряю душой, преисполнившись страсти, уверенности, вверяя себя Господу и уповая на Его милосердие и призрение. Аминь, повторяю я с жаром.
Когда-нибудь я перечитаю сии строки с восхищением, а другие с удивлением».
Спустя год, 22 мая 1823 года, он пишет из тюрьмы, поскольку в ту эпоху английской истории несостоятельных должников еще ожидало тюремное заключение:
«Что ж, я в узилище! Но сие выпало на долю и Бэкона, и Рейли, и Сервантеса! Тщеславие, тщеславие, ты ищешь утешения. Несколько раз за ночь я в ужасе просыпался, разбуженный моими сокамерниками: они горланили песни и буянили. Надеюсь лишь на то, что Господь ниспошлет сил моей дорогой Мэри. В сие мгновение ты, верно, дома и улыбаешься своему прелестному дитяти, и у вас царит мир и спокойствие. Ах, Мэри, облик твой – истинный бальзам и исцеление, утешение страждущей души».
Бедняжка Мэри! Когда кредиторы мужа периодически теряли терпение и лишали его права выкупа заложенного имущества, ей приходилось мириться с его тюремными заключениями. Потом какой-нибудь благодетель платил за него залог, и все возвращалось на круги своя. Так и не сумев убедить современников в собственной гениальности, Хейдон покончил с собой в 1846 году.
Гюстав Курбе был стихийным мятежником, чей мощный натуралистический стиль вкупе с сюжетами из современной ему жизни шокировал парижан середины XIX века и подготовил импрессионистическую революцию. Представитель богемы, тщеславный и озлобленный, но наделенный небывалой энергией, он решительно придерживался левых взглядов, а когда в 1871 году французы потерпели сокрушительное поражение от пруссаков, сделался восторженным коммунаром. 30 апреля 1871 года он пишет своим близким:
«Наконец-то, спасибо парижанам, я по горло в политике… Париж – истинный рай! Ни полиции, ни отживших институтов, ни безумных требований власти, ни бесплодных дискуссий! Все в Париже идет гладко и бесперебойно, как часы. Если бы так было всегда! Коротко говоря, об этом можно было только мечтать. Правительственные учреждения основаны на принципе федерации и самоуправления. А ведь это мы с художниками послужили образцом для такого административного устройства.
В свободное время мы сражаемся с мерзавцами в Версале. На фронт мы идем по очереди. Если они и дальше будут воевать так, как воюют сейчас, то не войдут в Париж и через десять лет, а день, когда они к нам наконец заявятся, станет последним в их жизни».
К сожалению, версальцы вошли в Париж спустя всего несколько недель, а Курбе почти тотчас же оказался под арестом за участие в разрушении Вандомской колонны.
«Вчера ночью, в одиннадцать, меня арестовали, – пишет он критику Кастаньяри 8 июня 1871 года. – Меня доставили в Министерство иностранных дел, откуда позднее, в полночь, перевезли в полицейский участок. Ночью я спал в коридоре, забитом заключенными, а сейчас сижу в камере номер двадцать четыре. Думаю, вскоре меня доставят в Версаль. Дела мои плохи. Вот куда приводят благие порывы», – печально добавляет он.
Благие порывы привели его в изгнание: заплатив немалый штраф, он эмигрировал из Парижа в Швейцарию, где и скончался в 1877 году.
Австриец Эгон Шиле попал в тюрьму в 1912 году по обвинению в оскорблении общественной нравственности. Шиле, одному из величайших графиков современности, выпала короткая, бурная, тревожная жизнь. Возникает соблазн интерпретировать его искусство в терминах Фрейдова психоанализа, зарождавшегося в ту пору в Вене. Линию Шиле отличает восхитительная плавность, однако одновременно в ней чувствуется невротическое напряжение. Для некоторых рисунков Шиле выбирает чрезвычайно чувственные сюжеты, изображая обнаженных натурщиц (а иногда и самого себя) в состоянии сексуального возбуждения [см. главу II «Эротика»]. Неприятности начались в 1911 году, когда Шиле переехал из Вены в маленький провинциальный городок Нойленгбах. Там Шиле стали позировать местные дети. Одна из его натурщиц, тринадцатилетняя девочка, убежала из дома, и Шиле ее приютил. Хотя несколько дней спустя она вернулась к родителям живой и невредимой, власти арестовали Шиле по обвинению в похищении, в совращении несовершеннолетней и в оскорблении общественной нравственности. Первые два обвинения быстро сняли, а третье оставили, поскольку несовершеннолетние-де могли увидеть непристойные картины и рисунки в его мастерской. Сто тридцать пять рисунков, которые власти сочли порнографическими, у Шиле конфисковали. В тюрьме Шиле вел дневник, изливая в кратких записях все свое негодование. Его возмущение достигает предела в последней дневниковой заметке от 8 мая 1912 года:
«Я под арестом уже двадцать четыре дня! Двадцать четыре дня или пятьсот семьдесят шесть часов! Целую вечность!
Презренное расследование шло своим чередом. Но я испытал невыносимое унижение. Я подвергнут ужасному наказанию без вины.
На допросе один из конфискованных рисунков, тот, что висел у меня в спальне, судья в мантии торжественно сжег на свечке! Ни дать ни взять аутодафе! Инквизиция! Средневековье! Кастрация! Лицемерие! Бегите в музеи и разрубите величайшие произведения искусства на кусочки! Человек, отрицающий секс, и есть настоящий развратник, ведь он самым гнусным образом очерняет родителей, которые произвели его на свет.
Отныне всякий, кто не перенес того, что перенес я, пусть пристыженно опустит передо мною взор и хранит безмолвие!»
Было бы преувеличением предположить, что тюремные сроки этих художников ныне как-то повышают стоимость их картин. Однако тюремное заключение придало их образу ореол жертвенности, смелости и героического мученичества. В случае Хейдона этого решительно недостаточно, чтобы начать восторгаться его старательно выполненными, посредственными картинами, однако Курбе, конечно, сделался героем левых, хотя люди, придерживающиеся левых взглядов в политике, далеко не самые состоятельные коллекционеры. Шиле, как поборник сексуальной революции, возможно, вызывает у современного коллекционера наибольшие симпатии. Сегодня его картины только выигрывают в цене оттого, что он попал в тюрьму, точно так же как картины Ван Гога – оттого, что он содержался в психиатрической клинике Сен-Реми в Провансе.
Madness Безумие
«Искусства порождены воображением душевнобольных, – писал французский эссеист Сен-Эвремон в XVII веке. – Причуды художников, поэтов и музыкантов – лишь некий вежливый эвфемизм для обозначения безумия». Творческие способности неизменно граничат с безумием, а одиночество художника, его постоянная, мучительная склонность к интроспекции и самоанализу часто порождают депрессию, странности поведения и отчуждение от внешнего мира. Когда во время визита в Норвегию одному из членов британской королевской семьи показали картины Мунка, высокий гость ошеломленно произнес: «Он что же, так писал потому, что был душевнобольной, или сошел с ума потому, что писал такие картины?» Этот вопрос обнажает самую суть отношений, связывающих искусство и психическое заболевание.
Автопортрет Шиле в образе святого Себастьяна, страждущего мученика (Эгон Шиле. Автопортрет в образе св. Себастьяна. Карандаш. 1914)
Кроме Мунка, немало художников страдали приступами умопомешательства. Жерико, Лендсир, Ричард Дадд, Ван Гог, Кирхнер и Джексон Поллок некоторое время провели в стенах сумасшедшего дома или психиатрической больницы. Какой отпечаток накладывает безумие на темы и сюжеты, выбираемые художником? Жерико пережил краткий приступ умопомешательства в 1819 году и, по-видимому, некоторое время лечился у пионеров психиатрии Жана Эскироля и Этьена Жорже, а результатом этого драматического опыта стала серия великолепных портретов безумцев, находившихся под наблюдением Жорже. Ричард Дадд убил своего отца, вообразив в бреду, будто сокрушает дьявола, и после этого попеременно содержался в Бедламе и в Броудмурском госпитале. Возникает искушение увидеть в его необычайно насыщенных, едва ли не перегруженных безумными деталями картинах, изображающих царство эльфов, плод больного, но все же по-своему обаятельного воображения. Исследователи, изучавшие истории болезни представителей нью-йоркского абстрактного экспрессионизма, пришли к весьма любопытным выводам. Были проанализированы медицинские данные Брэдли Уолкера Томлина, Адольфа Готлиба, Марка Ротко, Аршиля Горки, Клиффорда Стилла, Виллема де Кунинга, Барнетта Ньюмана, Джеймса Брукса, Дэвида Смита, Франца Клайна, Уильяма Базиотиса, Джексона Поллока, Филипа Гастона, Эда Рейнхардта и Роберта Мазервелла. В итоге выяснилось, что почти половина из них страдали депрессией или маниакально-депрессивным психозом. Если предположить, что некоторые обращались к психиатрам и что им помогло лечение, и если учесть тесную связь творчества и склонности к психическим заболеваниям, то возникает вопрос, в какой момент создание произведения искусства превращается в сотрудничество художника-пациента и психиатра.
6 октября 1824 года Хейдон описывает состояние депрессии необычайно живописно и красочно и вместе с тем проницательно: «Демон меланхолии мучительно и неумолимо сжал мое сердце своими черными, костлявыми, влажными и холодными когтями, едва ли не остановив его неистовое биение. Откладываю всю работу, пока в моем отуманенном сознании вновь не забрезжит заря разума». Столь же ярко в дневниковой заметке 1830 года он повествует о творческом озарении: «До чего же необычайно и неуловимо первое пробуждение гения! Сначала вы, и сами не зная почему, не находите себе места. Бросаете взгляд на картину и понимаете, что она перестала вас удовлетворять. Отправляетесь подышать свежим воздухом, развеяться, – но картина неотступно является перед вашим внутренним взором, словно привидение. Ночью вы не в силах сомкнуть глаз: просыпаясь утром, вы точно в лихорадке и внезапно переживаете мгновенное озарение, словно рядом бесшумно взорвалась бомба. И тут уж идеи сыплются точно из рога изобилия – глаза разбегаются, только выбирайте». Приводимое Хейдоном описание очень точно соответствует эйфории, как ее в наши дни изображают страдающие биполярным аффективным расстройством.
А вот Винсент Ван Гог пишет своему брату Тео в сентябре 1888 года из Арля, свидетельствуя, что после каждого творческого взлета на художника обрушивается долгое время таившееся творческое бессилие и что они уравновешивают друг друга: «По временам, когда природа особенно радует меня, в моем сознании воцаряется пугающая ясность, а потом я вновь словно перестаю осознавать себя и вижу картину, словно сквозь сон. Я и в самом деле побаиваюсь возвращения меланхолии вместе с дурной погодой, однако тщусь предотвратить ее вторжение, делая наброски человеческих фигур по памяти».
Некоторые художники обращаются к профессиональным психиатрам. Однако многие подсознательно опасаются, что исцеление от безумия лишит их творческого дара. Вдруг психиатрическое лечение не только успокаивает и гармонизирует личность, но и выхолащивает и обедняет творческое воображение? Некий доктор сказал Эдварду Мунку, что психиатрия может избавить его от многих страданий. Мунк ответил: «Это часть моей личности и моего искусства. Они неотделимы от меня, исцеление разрушит мой дар. Уж лучше я буду страдать». В сущности, он пошел еще дальше: «Ведь сколько я себя помню, я был терзаем глубоко укоренившимся чувством страха, которое пытался отразить в искусстве. Избавьте меня от этого страха и душевной болезни – я и стану точно корабль без руля и без ветрил». Тем не менее он согласился подвергнуться лечению.
Есть основания думать, что картины, написанные Мунком после 1909 года (когда он отдался в руки некоего копенгагенского психиатра), уступают созданным ранее. Многие картины, пастели, рисунки позднего периода кажутся значительно более выхолощенными и декоративными и не обнаруживают присутствия экзистенциального страха, в отличие от работ 1890‑х годов. Поэтому один американский коллекционер предположил, что это картины двух разных авторов. Ранние работы художника по фамилии Мунк с разлитым в них ощущением опасности, тревоги и печали он не любил, зато собирал поздние, более спокойные и отличающиеся более ярким колоритом, созданные художником по фамилии Манч (рифмуется с «ланч»).
С другой стороны, Ван Гог сетовал: «Если бы я мог работать, не мучимый этой проклятой болезнью, какие бы шедевры я создал…» Но, может быть, он ошибался. За месяцы, проведенные в арльской психиатрической клинике, он едва ли хотя бы в малой степени излечился от безумия. Пожалуй, если не Ван Гогу – человеку, то Ван Гогу – художнику эта неисцелимая душевная болезнь была во благо.
Существует и альтернативная точка зрения на связь искусства и безумия. Что, если искусство – не симптом и не причина душевного заболевания, а целительное средство, позволяющее художникам преодолеть психическую болезнь? «Иногда я задаю себе вопрос, как тем, кто не пишет стихи и прозу или картины, не сочиняет музыку, удается избежать безумия, меланхолии, панического страха, без которых не обходится ни одно человеческое существование», – писал Грэм Грин. «Человек – единственное животное, умеющее плакать и смеяться, – говорит Уильям Хэзлитт, – ибо он – единственное животное, видящее разницу между вещами, как они есть и какими им надлежит быть». Для некоторых искусство превращается в средство преодоления этого разрыва.
Безумие художника – это часть его мифа, романтического ореола и тайны, которой окутано творчество. Если художник вступил в смертельную схватку с безумием и претворил эту мучительную борьбу в образы искусства, продаваемость его бренда явно будет повышаться. Авторы каталогов, выпускаемых аукционными домами, чрезвычайно осторожно приводят информацию, которая может понизить цену описываемой картины. Поэтому о телесных недугах лучше не упоминать. Если оказывается, что автор на момент создания такого-то произведения был болен или стар, сделка воспринимается как рискованная, картина словно теряет в цене по сравнению с теми, что художник написал в расцвете сил. Любопытно, что психические заболевания, напротив, не вызывают особых возражений. Рынок положительно оценивает тот факт, что художник писал картину, терзаемый не физическими, а душевными муками: приступ безумия, возможно, способствовал созданию гениального произведения искусства.
Middlebrow artists Посредственные художники
В художественных кругах царит прискорбный снобизм. На многих художников принято смотреть с пренебрежением, поскольку они пользуются успехом, обладая посредственными способностями. Их не воспринимают всерьез, потому что они слишком нравятся публике, а их привлекательность объясняют примитивностью. Однако, хотя ни одному из них не грозит ретроспектива в галерее Тейт или в Нью-Йоркском музее современного искусства (МоМА), все они хорошо продаются на международном рынке и доставляют немало удовольствия своим обладателям. Вот репрезентативная группа посредственных художников:
Бюффе, Бернар (1928–1999). Рано получил признание как один из наиболее значительных представителей послевоенного мизерабилизма – стиля, для которого характерны угловатые очертания тоненьких фигур и приглушенная палитра. В 1950 году французская пресса даже величала его одним из двух наиболее известных художников в мире: вторым был Пикассо. Однако далее карьера Бюффе не продвинулась. Его живопись опустилась до стереотипов. Пикассо презирал его и неизменно поносил; обыкновенно так издеваются над неудачником, если видят в нем отдаленное сходство с собственной персоной. Пользовавшийся огромной популярностью у японских коллекционеров, Бюффе достиг финансового апогея около 1990 года, когда его картину продали за восемьсот тысяч долларов. Хотя цены на его работы впоследствии не достигали столь головокружительных высот, он по-прежнему не утратил популярности. Однако отчаяние все-таки настигло его, как одного из его грустных клоунов (его любимый мотив), и он покончил с собой в 1999 году.
Веттриано, Джек (р. 1951). Сюжеты Веттриано по большей части довольно изящные аллюзии на фильмы в жанре нуар; его картины населяют леди в черном белье, джентльмены в стильных помочах и дворецкие с зонтиками. Хотя работы Веттриано никогда не включались в собрания крупных музеев, он все же постепенно обретал популярность, а его репродукции стали продаваться сотнями тысяч. Поначалу аукционные дома смотрели на него с пренебрежением. Затем «Сотби» принял одну его картину на торги, нехотя оценив ее в сто пятьдесят – двести тысяч фунтов (с учетом цен у арт-дилеров), и в итоге продал за семьсот сорок четыре тысячи. С тех пор работы Веттриано продаются на аукционах «Сотби» и «Кристи» довольно бойко.
Самая знаменитая картина Джека Веттриано (Джек Веттриано. Поющий дворецкий. Холст, масло. 1992)
Гальен-Лалу, Эжен (1854–1941). Писал бесконечные парижские виды, как две капли дождя похожие друг на друга, весьма умело, обыкновенно гуашью. Его успех – торжество туристической открытки. Ему подражал Эдуард Кортес, художник почти такого же уровня.
Диф, Марсель (1899–1985). Французский художник (настоящее имя Марсель Дрейфус), специализировавшийся на цветочных композициях, сельских пейзажах и более или менее раздетых парижанках в интерьере. Его работы вполне безобидны, смотреть на них приятно, это своего рода визуальный аналог популярных любовных романов.
Домерг, Жан Габриэль (1889–1962). Еще один француз, изображавший красавиц. Как художник он порожден искусством рубежа XIX–XX веков и там, в сущности, навсегда остался, так и не решившись перейти к чему-то более интеллектуальному, нежели изящные барышни, одновременно кокетливые и демонстрирующие странную покорность.
Доусон, Монтегю (1890–1973). Прославился стройными яхтами на зеленых волнах с пенными гребнями. Если вы увлекаетесь парусным спортом, вполне можете повесить дома одну-две его картины, но если вы коллекционер и у вас Доусонов целая комната, ваша репутация от этого не выиграет. Двойник Доусона, со страстью живописавший железные дороги, – Теренс Кунео.
Кассиньоль, Жан Пьер (р. 1935). Французский художник, пишущий хорошеньких женщин, весьма во вкусе Кеса ван Донгена. Модели принимают на холсте томные, изящные позы, но хуже от этого не становятся. Цена его картины достигала трехсот пятидесяти тысяч долларов.
Катлен, Бернар (1919–2004). Спокойный и непритязательный художник. Писал цветочные натюрморты, а также неопределенно-минималистские пейзажи и интерьеры с намеком на модный буддизм. Типичное для его картины название – «Jardin Zen»[18].
Кинкейд, Томас (1958–2012). Самый удивительный случай я приберег напоследок. Картины Кинкейда столь вульгарны и сентиментальны, что крупные аукционные дома до них не снисходят. Тем не менее, когда Кинкейд скончался в 2012 году в возрасте пятидесяти четырех лет, он был, пожалуй, самым популярным у коллекционеров США художником. Его бренд – зубодробительно-уютные сельские домики, горы, окрашиваемые в фиолетовый оттенок лучами закатного солнца, деревья, склоняющиеся под тяжестью розовых, кричаще-ярких цветочных гроздей. Такой, неким подобием живописного освежителя воздуха для американских гостиных, он видел сказочную страну. Он заявлял, что его агент – Господь Бог, а миссия заключается-де в том, чтобы ниспослать просветление и успокоение душам публики и напомнить ей о красоте творения Господня.
Работы Кинкейда распространялись через сеть галерей в торговых центрах, продававших выпущенные ограниченным тиражом репродукции, а цены на них варьировались в зависимости от того, притронулся к ним кистью мастер или они подретушированы «профессиональными копиистами», его ассистентами. В 2000 году, когда спрос достиг апогея, его бизнес принес двести пятьдесят миллионов долларов.
Несмотря на заверения в приверженности христианским ценностям, Кинкейд в своей увлеченности красотой творения иногда заходил слишком далеко. Однажды, подписывая репродукции своих картин в штате Индиана, он якобы пытался пощупать грудь одной из почитательниц своего таланта. Вину за это, возможно, следует возложить на виски: тем же вечером он набросился с бранью на жену бывшего коллеги, которая хотела помочь ему, когда он упал со стула у барной стойки. Однако, судя по некрологу из «Дейли телеграф», он был способен еще и не на такое:
«В другой раз в Лас-Вегасе он сорвал представление иллюзионистов Зигфрида и Роя, несколько раз крикнув с места: „Гульфики!“ Неоднократно его заставали, когда он мочился на глазах у всех: сначала в лифте отеля в Лас-Вегасе, потом – на статую Винни-Пуха в Диснейленде. „Вот тебе, Уолт!“ – по словам очевидцев, присовокупил Кинкейд.
Любопытно, что Кинкейд не стал оспаривать эти обвинения. Намекая на свое обыкновение мочиться на улице, он объяснил его тем, что он-де „вырос в деревне“, а там все так делали. А когда его спросили об инциденте в Лас-Вегасе, он признал, что „возможно, действительно совершал ритуал: метил территорию“».
Кук, Берил (1926–2008). Английская художница, имеющая к высоколобому искусству примерно такое же отношение, как популярная поэтесса Пэм Эйрс – к Уистену Хью Одену. Кук изображала толстушек, каких мог бы написать Стэнли Спенсер, если бы ему заказали дизайн открытки с пляжным видом.
Сигоу, Эдвард (1910–1974). Решительно заурядный художник, автор пейзажей в нарочито импрессионистическом стиле, неизменно приводящих на память английские виды, даже если они изображают Францию или Италию. Любим английской глубинкой.
Одна из соблазнительных цыганок Уильяма Рассела Флинта (Уильям Рассел Флинт. Николетт. Холст, масло. Не датирована)
Флинт, Уильям Рассел (1880–1969). Блестяще владевший живописной техникой и предпочитавший писать соблазнительных юных цыганок, которые одним движением сбрасывают пышные сборчатые юбки, Флинт производит то же впечатление, какое произвел бы Огастес Джон, закажи ему что-нибудь подобное журнал «Плейбой». Флинт был очень искусным художником, хотя и с несколько ограниченным репертуаром. Одну из его работ продали на аукционе за триста тысяч фунтов, то есть значительно дороже, чем любую картину Огастеса Джона.
Шарп, Доротея (1874–1955). Тоже нашла для себя сюжет, чрезвычайно популярный у зрителей: ее брендом стали дети, играющие на солнечных пляжах.
Эдцард, Диц (1893–1963). Начинал весьма многообещающе. Автопортрет 1913 года написан в почтенном экспрессионистском стиле; если не очень присматриваться, его можно принять и за работу Отто Дикса. Однако впоследствии Эдцард превратился в этакого немецкого Марселя Дифа, бесконечно тиражировавшего хорошеньких девиц, которые без усилий воспринимались публикой.
Models and muses Модели и музы
Модель – одно из клише в наших представлениях о мире искусства. Вот она, совершенно обнаженная, часами сидит перед мужчиной с карандашом или с кистью в руке, а он внимательно, в мельчайших деталях, изучает ее тело. Или перед группой мужчин, если это натурный класс. Ситуация действительно очень и очень сексуальна.
Некоторые художники пытаются как-то завуалировать этот ореол чувственности. Например, Матисс, когда писал обнаженную натуру, облачался в подобие белого халата, точно доктор, занятый медицинским обследованием, в котором сексуальная привлекательность объекта не играет никакой роли. «Смотрите, – словно говорил белый халат, – пышные округлости, которые я запечатлеваю на холсте, – всего лишь округлости; с таким же успехом я могу писать пейзаж, в котором груди и ягодицы – холмы, а плавная линия бедер повторяет очертания морского берега или изгибы реки».
Но на каждого Матисса найдется ван Донген, бесстыдно тщившийся получить от натурщицы все и заявлявший, что «самый прекрасный пейзаж – женское тело», или Пикассо, который не давал натурщицам покоя, словно приапический сатир. Или даже Делакруа: вот он со своей натурщицей Эмилией 24 января 1824 года: «Сегодня снова возобновил работу над картиной [„Резня на Хиосе“]. Я сделал набросок, а потом стал писать красками голову и грудь мертвой на переднем плане. Я снова „la mia chiavatura dinanzi colla mia carina Emilia“ [вставил ключ в замочную скважину моей дорогой Эмилии]. Это нисколько не уменьшило моих восторгов. Надобна юность, чтобы наслаждаться такой жизнью». На самом деле и преклонный возраст не препятствовал связям с натурщицами. В сентябре 1856 года Форд Мэдокс Браун записывает со смешанным чувством неодобрения и восторга: «Семидесятилетний Малреди соблазнил юную натурщицу, голову которой использовал для картины, и теперь она ждет от него ребенка, а старина Пикерсгилл был обнаружен на ковре в своем собственном доме en flagrant délit[19] с горничной, которая споткнулась о него с ведерком для угля».
Будучи профессиональной натурщицей, вы можете сделать неплохую карьеру, если захотите. Первый шаг – стать любимой моделью какого-нибудь художника; второй, куда более честолюбивый, – стать его музой. Муза – это что-то загадочное и необыкновенное. «Ей достаточно было взглянуть на мужчину, положить руку ему на плечо, и он тотчас осознавал, что именно такое выражение лица он безнадежно искал столь долго для своей картины, не в силах воплотить художественный замысел. Именно она ниспосылала творческие озарения этим тоскующим бардам, до ее появления терзаемым муками бессилия». Так писатель Фрэнк Сёрвейс судит о Дагни Юль, соблазнительной норвежке, которая попеременно то мучила, то вдохновляла Эдварда Мунка и целый сонм других художников и поэтов в Берлине начала девяностых XIX века.
Муза, в сущности, подательница вдохновения. Музами становятся чаще всего женщины, и художники находят их среди натурщиц, возлюбленных и жен. Неужели из всех натурщиц, возлюбленных и жен получаются музы? Разумеется, нет. Обязан ли художник спать со своей музой? Не непременно: для некоторых художников, черпающих вдохновение в неутоленном желании, муза становится музой именно потому, что не уступает их домогательствам. Психическая неуравновешенность, творчество и сексуальная энергия тесно связаны, и это превращает художников в ярких и нестандартных любовников; кроме того, это значит, что картины зачастую создаются под влиянием страстных романов. По-видимому, связь с музой может быть благотворна для художника по следующим четырем причинам:
• она позволяет восхищаться физической красотой конкретной модели;
• она дает постоянные творческие импульсы;
• она позволяет насладиться чувственной стороной любви;
• она излечивает от острого чувства романтической тоски и неприкаянности.
Без сомнения, в тех случаях, когда отношения художника и его музы превратились в легенду и стали достоянием истории искусства, произведения, в которых запечатлена его муза, могут вызывать дополнительный интерес, а это, в свою очередь, будет сказываться на их стоимости. Если муза рано уходит из жизни и/или умирает насильственной смертью – тем лучше. Вот несколько классических примеров отношений художника и музы.
Рембрандт и Хендрикье Стоффельс
В 1649 году, во время бурного скандала, из тех, что частенько сотрясают семьи художников, овдовевший Рембрандт выгнал из дома свою тогдашнюю экономку Гертье Диркс и заменил ее молоденькой служанкой Хендрикье Стоффельс, которая вскоре оказалась в его постели. Ее присутствие означало для него не только сексуальное удовлетворение, но и творческий стимул. Одетая или нагая, она часто позировала ему для многих хорошо известных картин; стоит вспомнить хотя бы чудесную «Вирсавию в купальне» (1654). Используя в качестве моделей своих домочадцев, Рембрандт добился беспрецедентного уровня реализма. На рисунках, гравюрах и этюдах Рембрандт запечатлевает Хендрикье не столько обнаженной в античном духе, сколько попросту голой, он не столько идеализирует ее, сколько подчеркивает сокровенные детали ее облика, особенно в серии офортов, изображающих ее за туалетом. Однако эта идиллия закончилась трагически: в 1663 году она умерла от бубонной чумы.
Россетти и Лиззи Сиддал, а потом и Джейн Моррис
Россетти любил отыскивать «несравненной красоты» модисток и просил их позировать. Так он нашел Лиззи Сиддал; она рано умерла, и Россетти, вне себя от горя, вместе с нею похоронил рукопись своих стихов. Жизнь коротка, искусство вечно, поэтому Россетти, одумавшись, изъял их из ее гроба несколько лет спустя. Записал бы их на флешку, что ли. Потом он сблизился с Джейн, женой своего друга Уильяма Морриса. Их роман вылился во вздохи и томления, но страстностью не отличался. «Судя по сохранившимся свидетельствам, ни Джейн, ни Россетти не была свойственна особая чувственность, и, возможно, ни один из них не считал соитие неотъемлемой принадлежностью всепоглощающей страсти», – пишет Джен Марш. Однако их отношения оказались плодотворными для творчества Россетти, поскольку способствовали созданию типа женской красоты, характерного для прерафаэлитов: с подчеркнуто чувственными губами и пышными, волнистыми, ниспадающими плавной волной волосами.
Тиссо и миссис Ньютон
Джеймс Тиссо был модным, добившимся успеха французским художником. Он перебрался в Лондон, спасаясь от Франко-прусской войны, провел там десятилетие (семидесятые годы XIX века) и писал английские светские сцены: балы, прогулки на яхтах и лодках, фешенебельные гостиные. Ему неизменно позировала одна и та же таинственная натурщица, подобно тому как сейчас режиссер бесконечно снимает любимую актрису. Это была миссис Ньютон, которая к тому времени уже успела побывать замужем и развестись: Тиссо поселил ее в лондонском аристократическом районе Сент-Джонс-Вуд и сделал своей содержанкой. Когда она умерла от чахотки, Тиссо вернулся в Париж и полностью посвятил остаток жизни созданию картин на библейские сюжеты, изображая кающихся грешников и грешниц.
Джейн Моррис, предмет воздыханий Россетти (Данте Габриэль Россетти. Миссис Уильям Моррис. Уголь. 1865)
Мунк и Дагни Юль
Жизнь Мунка была исполнена непрерывного борения с самим собой, он испытывал страх перед женщинами и влечение к ним. Они представлялись ему вампирами, жаждущими крови. Одновременно отвратительными и притягательными. Женщина казалась ему блудницей, «тщащейся днем и ночью обмануть мужчину и во что бы то ни стало погубить». Женщина виделась ему матерью-землей, рожающей детей. Дагни Юль занимала особое место в его жизни: она была племянницей премьер-министра Норвегии, а еще до приезда в Берлин, где Мунк поселился и устроил мастерскую в 1893 году, послала ему свою фотографию, чтобы его «заинтриговать». У нее были тяжелые веки, загадочная улыбка и ласкающие взор формы. Она была таинственна, непредсказуема и неразборчива в связях. Она позировала ему для ряда глубоких и ярких картин – «Ревности», «Мадонны» (одного из величайших эротических образов в истории искусства), «На следующий день», «Созревание». Во время их романа она представлялась Мунку и чувственной богиней, и матерью, и святой. Она бросила его ради польского поэта, а несколько лет спустя погибла в номере тбилисского Гранд-отеля, застреленная другим любовником.
Боннар и Марта
Бывает, что художник счастливо женат и находит в своей жене музу. Марта была женой и натурщицей Боннара. На картинах Боннара Марта часто становится безмолвной деталью безмятежных интерьеров (как правило, ванных комнат); эти образы семейной идиллии, по-видимому, предполагали ее частые купания. «Женитьбу» считал «непременн[ым] условие[м] для плодотворной работы, для серьезной, размеренной трудовой жизни»[20] писатель Сандоз, герой романа Золя «Творчество». Боннар вполне мог бы согласиться с Сандозом, тем более что чуть ниже он заявляет: «Представление о женщине как о демоническом начале, убивающем искусство, опустошающем сердце художника и иссушающем его мозг, – романтические бредни, действительность их не оправдывает»[21].
Модильяни и Жанна Эбютерн
Модильяни познакомился с Жанной Эбютерн весной 1917 года. Она была застенчива, тиха и нежна, необычайно хороша собой и стала часто позировать Модильяни. Ее удлиненное лицо, удлиненные линии тонкого тела, столь характерные для натурщиц Модильяни, дают представление о ее изяществе, однако не запечатлевают сладострастность ее облика, столь заметную на фотографиях. Она переехала к нему, и этот шаг, видимо, потребовал от нее немалого мужества, учитывая его склонность к алкоголизму, увлечение наркотиками и богемный образ жизни; к тому же он страдал запущенным туберкулезом. Однако она его обожала. В ноябре 1918 года в Ницце, где они проводили зиму в надежде на улучшение его здоровья, она родила ему дочь Жанну. В январе 1920 года, когда она вновь ждала ребенка, Модильяни умер. Спустя день обезумевшая от горя Жанна Эбютерн выбросилась из окна квартиры своих родителей на шестом этаже, убив и своего нерожденного ребенка.
Пикассо и самые разные женщины
Говоря о Пикассо, не знаешь, с чего начать. Смог бы он вообще заниматься живописью, если бы каждые пять-десять лет в его жизни не появлялась новая женщина и вместе с нею новый творческий импульс? Фернанда Оливье – Ольга – Мари-Терез – Дора Маар – Франсуаза – Сильветт – Жаклин (и еще несколько между ними): каждой из них было ознаменовано начало нового творческого периода в его жизни, когда он превращался в совершенного иного художника. Только Сирил Конноли заявлял, что женщины-де симптомы, а не причины, последствия, а не источник вдохновения. «Если говорить в целом, пробуждение тяги к творчеству обычно предшествует любовному роману, – пишет он в своей книге „Враги таланта“. – Женщины появляются в жизни художника после того, как он испытает прилив вдохновения, а не вызывают творческие озарения». Если художники действительно используют муз для «приведения нервов в порядок» после крупной игры, если они не являются движущей силой для обретения или удержания вдохновения, то теория муз ничего не стоит. Впрочем, биография Пикассо этого мнения не подтверждает.
Сальвадор Дали и Гала
«Съев Галу, я нашел бы наиболее полное выражение любви, которую к ней испытываю», – писал Дали о своей жене, возлюбленной, натурщице и музе. Вот как выглядело их творческое сотрудничество: в дневниковой записи Дали от 6 сентября 1956 года значится: «Едем на машине в Фигерас на рынок, где я купил десяток шлемов для защиты головы от ударов. Они соломенные, в точности как те, что носят маленькие дети, чтобы смягчить удар при падении. Когда мы вернулись, я разложил все шлемы на стулья разной высоты, которые купила Гала. Почти литургический характер раскладывания шлемов на стулья вызвал у меня легкие признаки эрекции»[22].
Гала, которую мечтал съесть Дали (Сальвадор Дали. Моя жена, обнаженная (Ma femme nue). Холст, масло. 1945)
Джефф Кунс и Чиччолина
Если вы представитель поп-арта, а материалом для ваших творческих интенций служит китч, порождаемый коммерцией, вполне логично будет выбрать в качестве музы порнозвезду. Чиччолина (венгерка Илона Шталлер) – итальянская актриса, снимавшаяся в порнографических фильмах и подвизающаяся также на политическом поприще: в 1987 году она была избрана в парламент Италии. Возможно, самым громким политическим заявлением стало предложение, адресованное ею во время Войны в Персидском заливе Саддаму Хусейну; Чиччолина готова была заняться с ним сексом в обмен на установление мира на Ближнем Востоке. Чиччолина вошла в жизнь Кунса в конце восьмидесятых годов, они поженились в 1991‑м, но в 1992 году разошлись. Наиболее знаменитым плодом их сотрудничества стала удивительная серия «Сделано на небесах», запечатлевшая соитие художника и его модели в самых разных позах, причем некоторые из этих работ решены в стилистике безвкусных и аляповатых порнографических фотографий или скульптур.
Фрэнсис Бэкон и Джордж Дайер
Личная жизнь Бэкона была яркой и захватывающей. С Джорджем Дайером он познакомился в 1964 году, когда тот попытался взломать дверь его квартиры. Уроженец лондонского Ист-Энда, Дайер, происходивший из семьи потомственных преступников, вскоре навсегда переехал к Бэкону и отрекся от прежней жизни, дабы всецело посвятить себя алкоголю. Он позировал Бэкону для большинства картин, его облик на холстах Бэкона отличает одновременно телесность, почти осязаемость, и удивительная нежность. Сам Дайер так высказывался о своем участии в творчестве Бэкона: «Да все это ради денег, и вообще не картины, а, по мне, бред какой-то», однако ему льстило внимание публики. В октябре 1971 года Дайер сопровождал Бэкона на открытие ретроспективы его работ в парижском Большом дворце и умер в номере отеля, который делил с Бэконом, от передозировки барбитуратов. С тех пор тема смерти неотступно преследовала Бэкона и стала едва ли не главной в его творчестве, особенно в шедеврах, объединенных в три «Черных триптиха».
Quarters and Colonies Кварталы и колонии
Места, где живут и творят художники, – важная часть мифа, который они о себе создают, в буквальном смысле слова их «бэкграунд». Кварталы художников смоделированы по образцу их архетипа – парижского пригорода Монмартр. Художники облюбовали его еще в начале XIX века, когда туда переехало семейство Верне, а за ним потянулись и многие другие, включая молодого Теодора Жерико, поселившегося неподалеку, в доме номер двадцать три по рю де Мартир. Во второй половине XIX века Монмартр стал колыбелью модернизма. Импрессионисты приходили танцевать в «Мулен-де-ла-Галетт», кафе с танцзалом, расположенное возле знаменитой мельницы. Основанная художниками коммуна, куда входили Пикассо, Модильяни и ван Донген, в начале 1900‑х годов обосновалась в ветхом здании «Плавучей прачечной»[23] и жила там в унизительных для человеческого достоинства условиях. Кафе «Проворный кролик» сделалось важным местом встреч и выпивок. Ныне все это легендарные названия.
В конце XIX века и в других европейских столицах стали появляться кварталы художников. Лондонским Монмартром сделался район Челси (где я рос в пятидесятые – шестидесятые годы прошлого века). «Разумеется, вы поселитесь в Челси», – предрекал Уистлер молодому Уильяму Ротенстейну, вернувшемуся в Лондон из Парижа, где в девяностые годы он обучался живописи. В первой половине XIX века большинство лондонских художников жили восточнее, на территории, ограниченной Пэлл-Мэлл на юге, Кэвендиш-сквер на севере, театром «Ковент-Гарден» на востоке и Пиккадилли на западе. Постепенно художники открыли для себя Челси. Изначально этот район привлекал близостью реки и светом над ней. Тёрнер в тридцатые годы XIX века снимал дом, выходящий на Темзу; в 1863 году на Темзу переехал Уистлер, которого вид на противоположном берегу реки вдохновил на лирические излияния:
«А когда вечерний туман, словно вуалью, окутывает речной берег, придавая пейзажу поэтический облик, когда унылые здания словно растворяются в тусклых облаках, когда высокие дымоходы превращаются в итальянские ренессансные колокольни, когда склады в ночи предстают палаццо, когда весь город словно парит в небесах пред нашим взором… Природа, наконец-то преисполнившись гармонии, поет художнику свою небывалую песнь…»
Вечерний туман придает речному берегу поэтический облик (Джеймс Уистлер. Темза в Челси. Литография. 1878)
Река пропела свою небывалую песнь и двоим лодочникам из Челси, братьям Уолтеру и Генри Гривсам, которые внезапно ощутили себя последователями Уистлера и занялись живописью.
В середине XIX века в Челси стали переезжать и прерафаэлиты, сначала Холман Хант, а затем, в 1862 году, – Данте Габриэль Россетти, который арендовал дом номер шестнадцать по Чейн-уок. Его образ жизни поражал эксцентричностью. Среди его домочадцев, гостей и время от времени забредавших на огонек знакомых можно назвать поэта Суинберна, беспринципного, но обаятельного дельца Чарльза Огастеса Хауэлла, самого Уистлера, некоторое время дружившего с Россетти, и целый гарем «несказанной красоты» натурщиц, которых Россетти находил на лондонских улицах и в шляпных мастерских и приводил к себе, чтобы запечатлевать на холсте и на бумаге и томиться по ним несбыточной тоской. За домом располагался большой заросший сад с настоящим зверинцем, в котором преобладали экзотические животные: кенгуру, валлаби, хамелеон, саламандры и вомбаты, броненосец, сурок-байбак, сурок лесной североамериканский, олень, осел, енот, а еще китайские голуби, попугаи и павлины. Павлины поднимали в саду столь невыносимый шум, что компания по продаже и аренде недвижимости «Кэдоген эстейт», которой и сейчас принадлежит значительная часть домов в Челси, с тех пор запретила держать их и в качестве особого условия внесла этот пункт во все договоры аренды.
Россетти и Уистлер среди художников, обосновавшихся в Челси во второй половине XIX века, были звездами первой величины. Они создали своего рода тренд. Уже в 1901 году журнал «Вестминстер ревью» объявлял: «Челси ныне дает приют почти двум тысячам рыцарей кисти и скарпеля». Отраслевой ежегодник перечисляет этих сегодня по большей части забытых художников с упоительными эдвардианскими именами: Э. Хаунсем Байлс, Дж. Принсеп Бидл, Луиза Джоплин Роу, Элинор Фортескью Брикдейл. Где жили все эти живописцы и скульпторы? Некоторые улицы были особенно густо заселены художниками: разумеется, в первую очередь Чейн-уок и Чейн-роу, а новые мастерские появились на Тайт-стрит, Глиб-плейс, в районе Вэйл и на Манреза-роуд, на Бофорт-стрит. Скульптору Анри Годье-Бжеска, нищему французу, пришлось искать жилье подешевле на более скромной Фулем-роуд, рядом с недавно построенным стадионом «Стэмфорд-бридж». Поэтому ко всем его несчастьям: отсутствию заказов, недоброжелательному отношению англичан-ксенофобов, изменам возлюбленных – добавлялись еще шум и вопли болельщиков, мешавшие работать, когда футбольный клуб «Челси» играл дома.
Чувство общности среди художников Челси поддерживал клуб «Челси-Артс». Он был учрежден в 1891 году и первоначально располагался в доме номер сто восемьдесят один по Кингс-роуд, а в 1902 году переехал в помещение на Олд-Чёрч-стрит, где находится до сих пор. Это было место, где художники могли как следует поужинать, как следует выпить, поговорить, поссориться, поиграть в бильярд и т. д. Довольно трудно вообразить подобное заведение в Париже, где художники предпочитали значительно менее «организованную» и более «текучую» жизнь в кафе. Но англичане, даже представители богемы, всегда любили объединяться в клубы. В 1913 году свой клуб – подумать только! – основали в Лондоне натурщицы. Это было одновременно нечто вроде агентства по найму и гостиницы для девиц, где, по свидетельству современника, «каждая комната представляла собою курительный салон, ведь если есть две вещи, без которых не в силах прожить натурщица, то это сигареты и шоколадные конфеты». Однако сигаретами и шоколадными конфетами дело не ограничивалось. Куда менее повезло натурщице Долли О’Генри, арендовавшей квартиру на Полтонс-сквер. 9 декабря 1914 года ее возлюбленный, студент Школы искусств Слейда Джон Карри, обезумев от страсти, застрелил ее, а потом пустил себе пулю в лоб.
Если во времена Россетти и Уистлера Челси можно было отождествить с неким художественным авангардом, то в XX веке Челси как излюбленный квартал художников утрачивает свою значимость. Парадоксально, но он внезапно сделался скучным. В XX веке в Челси жил модный портретист Сарджент (на Тайт-стрит), консервативный английский импрессионист Филип Уилсон Стир (на Чейн-уок), профессиональный представитель богемы Огастес Джон. Однако, когда Роджер Фрай стал искать художников, которых он мог бы показать на своей второй знаменитой Выставке постимпрессионистов в 1912 году вместе с Пикассо, Браком и Матиссом, Огастес Джон отказался участвовать. Из тех, кто принял приглашение (Спенсер Гор, Дункан Грант, Ванесса Белл и Уиндем Льюис), – ни один не жил в Челси. Центр лондонского модернизма постепенно стал смещаться на северо-восток, в Кэмден-таун и Блумсбери. В 1914 году Кристофер Невинсон описывал Челси как «старомодное прибежище жалких эпигонов Россетти, длинноволосых, в широкополых шляпах, и других сентиментальных пачкунов».
Однако Челси не утратил творческого обаяния до середины ХХ века, вот только проявлялось оно уже несколько иначе, в частности в модной атмосфере свингующей Кингс-роуд шестидесятых. К этому времени Челси обрел других героев: в детстве, восхищенно разглядывая виды Темзы кисти Уолтера и Генри Гривсов, украшавшие стены Публичной библиотеки Челси, я не уставал задавать себе вопрос: не могли ли братья быть двоюродными прапрапрадедушками Джимми Гривса? Сегодня Челси как квартал художников уже однозначно перестал играть какую-либо роль. Там по сей день творят художники, по большей части представители «Школы-в-Тонкую-Полоску», имеющие немалый доход [см. выше, раздел «Богема»], но арендная плата в Челси так выросла, что неимущему модернисту не снять там мастерскую. На фешенебельных улицах Челси отныне селятся банкиры и менеджеры хедж-фондов. Чтобы понять, как выглядел Челси на рубеже XIX–XX веков, теперь, в начале XXI века, стоит отправиться в лондонский Ист-Энд, в Шордич, в Хокстон. А чтобы найти Челси, в котором художественная жизнь сегодня действительно бьет ключом, стоит увидеть нью-йоркский Челси, куда современная арт-сцена постепенно переехала из лофт-галерей на верхних этажах нью-йоркского же Сохо.
Если излюбленные кварталы художников располагались в мегаполисах, то колонии художников представляли собою их сельский эквивалент: там живописцы и графики могли встречаться и загорать, писать и рисовать с натуры, обмениваться творческими идеями. Колонии художников – феномен конца XIX – начала XX века, а своим появлением они, видимо, обязаны распространению сети железных дорог, которое сделало подобные курорты и места отдыха более доступными для художников-горожан [см. главу II «Железные дороги»]. В результате стали возникать группы и объединения, иногда весьма недолговечные. Случалось, что творческий союз быстро прекращал свое существование, а его бывшие участники начинали тяготеть к другим стилям и направлениям, однако, пока такие союзы длились, обмен идеями, порождавший «стиль той или иной колонии», серьезно влиял на работы конкретного художника – участника объединения. Кроме того, «стиль колонии» – еще один вариант бренда, повышающий стоимость картины. Если ее можно описать, например, как классический образец понт-авенской школы, у покупателя появятся приятные ассоциации с другими произведениями указанной школы, а сама картина вырастет в цене.
Поток художников обыкновенно устремлялся в бретонский Понт-Авен летом; некоторые, например Гоген и Эмиль Бернар, в конце восьмидесятых годов проводили там бóльшую часть года. Интерес Бернара к Средневековью вкупе с тяготением Гогена к примитивному искусству и экзотике создали неповторимый понт-авенский стиль, сыгравший немалую роль в развитии модернизма; другие, не столь одаренные художники довольствовались изображением живописных бретонских рыбаков и крестьян.
Некоторые английские художники молодого поколения, побывавшие летом в Бретани, попытались воспроизвести эту атмосферу в Корнуолле, который весьма напоминал своими пейзажами и колоритными рыбаками бретонский Понт-Авен. Летом 1885 года, по воспоминаниям современников, в Ньюлине проживали двадцать семь художников, среди них – Стэнхоуп Форбс, Уолтер Лэнгли, Фрэнк Брэмли, Норман Гарстин и Генри Скотт Тьюк (судя по его картинам, испытывавший слабость к обнаженным мальчикам-рыбакам). Они писали в легко узнаваемом стиле, предполагавшем работу на пленэре и многим обязанном французскому художнику Жюлю Бастьен-Лепажу. Во время расцвета колонии Большая Западная железная дорога добавила к экспрессу Пензанс – Лондон дополнительный багажный вагон, чтобы художники могли перевезти из Ньюлина в Лондон картины, предназначавшиеся для Летней выставки в Королевской академии художеств. Обитатели ньюлинской колонии были англичанами и потому вели себя весьма восторженно и отличались немалой энергией. Они не только занимались живописью, но и ставили любительские спектакли, устраивали турниры по гольфу и крикету (состязаясь с колонией художников Сейнт-Айвса). В Англии крикет придавал вес искусству. Художник-пейзажист Филип Уилсон Стир подчеркивал, что во время путешествий неизменно носит живописные принадлежности в чехле для крикетных бит. Он утверждал, что в таком случае везде, куда бы он ни поехал, его лучше обслуживают.
На картине Кирхнера его друзья резвятся обнаженными на Морицбургских прудах (Эрнс Людвиг Кирхнер. Купальщики в Морицбурге. Холст, масло. 1910)
Примерно в это же время в Дании группа художников-натуралистов объединилась вокруг Педера Крёйера и Микаэля Анкера в приморском городке Скаген, к северу от Копенгагена, чтобы вместе писать картины и наслаждаться долгими летними днями и идиллическими белыми ночами. Скаген был еще одной рыбацкой деревушкой. Что же в рыбаках столь очаровывало художников конца XIX века? Возможно, их живописное рыбацкое платье и вечные крестьянские ценности. Специалисту по социально-экономическим проблемам не мешало бы проанализировать объемы улова в колониях художников; в этих рыбацких деревушках, разбросанных по всей Европе, он бы наверняка констатировал снижение добыч, поскольку художники приглашали рыбаков позировать и тем самым уменьшали численность «штатного личного состава».
Немецкие художники объединения «Мост» тоже наслаждались жизнью в творческой колонии, однако, будучи авангардистами, отвергли гольф и крикет, чтобы посвятить себя более серьезному занятию – купанию без одежд. В 1905–1911 годах в Дрездене художники объединения «Мост»: Хеккель, Шмидт-Ротлуф, Пехштейн и Кирхнер – разработали свой стиль, отличительными признаками которого стали чрезвычайно насыщенные оттенки цвета, свободный мазок и возвращение к природе и ее исконным ценностям, характерное для первых, великих работ немецкого экспрессионизма. Неотъемлемой принадлежностью этого движения был нудизм, купание в обнаженном виде и культ гимнастики, охвативший Германию в первые годы ХХ века. Для того чтобы в здоровом теле воцарился здоровый дух, предполагалось заниматься физическими упражнениями на лоне прекрасной, девственной природы, нетронутой цивилизацией. Члены объединения в сопровождении подруг регулярно предпринимали поездки на Морицбургские пруды, живописно раскинувшиеся меж пологих саксонских холмов. Там они писали с натуры, занимались гимнастикой и, как и положено, резвились нагими.
Немецкий экспрессионизм, в сущности, был порожден подобной жизнью в художественных колониях: пока участники объединения «Мост» наслаждались свободой в Саксонии, члены творческого союза «Синий всадник» весьма плодотворно проводили лето в Баварии. Во главе «Синего всадника» стоял Кандинский: другие участники группы (в том числе его подруга Габриэла Мюнтер) сплотились вокруг него, признавая в нем лидера и наставника. Долгими летними днями они писали с натуры холмы и озера под Мюнхеном. Кандинский предводительствовал художниками во всех смыслах слова. Во время прогулок по окрестностям Мюнхена он созывал их и обращал их внимание на какой-нибудь особо многообещающий вид, громко свистнув в специальный свисток, который носил при себе специально для этого. Это была домашняя сельская идиллия: по вечерам Мюнтер готовила ужин из овощей, выращенных ею на собственном огороде в Мурнау-ам-Штаффельзее.
Последней сколько-нибудь значительной колонией художников, получившей известность до Первой мировой войны, стало местечко Коллиур в Юго-Западной Франции, на побережье Средиземного моря, и его «филиал», пиренейская деревушка Сере, в нескольких километрах к северу. Они привлекали художников ярким, насыщенным цветом моря и неба, солнцем, а еще дешевизной по сравнению с Парижем. Здесь можно было делить не только еду, вино и крышу над головой, но иногда и любовниц, что создавало в жизни колонистов потенциально взрывоопасные ситуации. Матисс и Дерен провели в Коллиуре долгое, жаркое, безоблачное лето 1905 года, работая над фовистскими пейзажами – серией ярких полотен, изображающих морской берег и (неизбежные) рыбацкие лодки. Брак, Пикассо и Хуан Грис в последующие годы облюбовали Сере, словно переправившись на «Плавучей прачечной» на юг, поближе к солнцу, и внеся немалый вклад в развитие кубизма.
Монмартр, Челси, Сохо, Понт-Авен, Ньюлин, Мурнау-ам-Штаффельзее, Скаген, Коллиур – все они стали частью мифа, который создает о себе искусство. То обстоятельство, что картина была написана в одном из этих мест, укрепляет позиции бренда и повышает ее стоимость на рынке предметов искусства.
Spoofs Мистификации
Полезно время от времени напоминать себе, да и самим художникам, сколь бессмысленными и претенциозными могут быть их творения. Ирония и пародия, подражание излюбленному стилю художника или мистификация вполне могут воздействовать на творца отрезвляюще и придать ему новые силы. Любопытно, что иногда мистификации приобретают собственную художественную и даже финансовую ценность. Бывает, что мистификация перестает быть мистификацией и превращается в самостоятельное произведение искусства, например в духе дадаизма или сюрреализма.
«Бестолковые»
«Бестолковые» – малоизвестная группа парижских художников восьмидесятых годов XIX века, творчество которых на сорок лет предвосхитило наиболее авангардистские художественные течения XX века, главным образом дадаизм и сюрреализм. Их первая выставка состоялась в октябре 1882 года под названием «Бестолковое искусство» и среди прочего включала, по-видимому, первый образец монохромной живописи, выполненный Полем Бийо, – черный прямоугольник, под которым красовалась надпись: «Ночная драка негров в погребе». На следующий год Альфонс Алле показал на выставке этого объединения совершенно белый холст, названный «Анемичные девицы на первом причастии в метель». Алле перенес подобный подход и в сферу музыки, опубликовав пустую партитуру, названную «Траурный марш для глухого». В число произведений «Бестолковых» входили также скульптуры из хлеба и сыра, репродукция «Моны Лизы», курящей трубку: этот прием много лет спустя сымитировал Марсель Дюшан, пририсовав Моне Лизе усы и создав многозначительный дадаистский шедевр [см. главу I «Образы (знаменитые)»].
«Бестолковые художники» – а некоторые из них, по собственному признанию, вовсе не были художниками и даже не умели провести ровную линию, хотя рисовали с энтузиазмом – бросили вызов академическому искусству. Однако их «бунт» отличался мягким, располагающим юмором, которого так не хватало серьезному и догматичному искусству авангарда, с жаром принявшемуся ниспровергать академизм двадцать лет спустя.
Кантен Сетюль (1910‑е годы)
В декабре 1910 года, тотчас после первой лондонской Выставки постимпрессионистов, организованной Роджером Фраем, в клубе «Челси-Артс» состоялся грандиозный показ картин под названием «Кантен Сетюль и расинисты». Каталог описывал расинистов как «мужественных приверженцев Кантена Сетюля, сплотившихся вокруг него после его бегства из Парижа и основавших небольшую художественную колонию в Шатодёне». Эти революционеры сражались на передовой; сам Кантен Сетюль был кубистом, а его картина, показанная на выставке, обнаруживала удивительно уверенное владение новым визуальным лексиконом. Правда, Сетюль никогда не существовал, а картину написал карикатурист Г. М. Бейтмен, член клуба «Челси-Артс». Бейтмен и его друзья немало повеселились, выдумывая художников для выставки, например Шарля Тюрлетена, «перед которым бескомпромиссное стремление к независимости закрыло двери всех публичных выставок». Другая картина была на самом деле подписана «Анри Матисс», а одного этого имени оказалось достаточно, чтобы вызвать у публики взрыв смеха. Другие блестящие таланты якобы именовались Скюффлен, Роттон, Гага и Аспи. Каталог сообщал, что все они либо застрелились, либо сошли с ума, либо пристрастились к наркотикам, либо умерли, биясь в страшных конвульсиях, так как вдохнули ядовитые пары некоторых пигментов собственного изобретения.
Бруно Хэт (около 1929 года)
Летом 1929 года была анонсирована выставка картин Бруно Хэта, долженствующая состояться в лондонском доме светского льва Брайана Гиннесса. Этого художника, прозябавшего в безвестности в крохотной то ли корнуолльской, то ли девонской, то ли дорсетской деревушке, якобы обнаружил сам Гиннесс. Организаторы выставки возвестили о его работах как об откровении, торжестве английского модернизма. Культурное событие тщательно планировалось. Был издан каталог, вступительную статью для которого, озаглавленную «Как постичь Хэта», написал под псевдонимом А. Р. де Т. Ивлин Во. На закрытом показе картин присутствовал и сам художник, хотя никому не удалось посмотреть на него вблизи. Выставленные в доме Гиннесса картины были решены в современном континентальном авангардистском стиле и настолько недурны что некоторые из приглашенных критиков восприняли их серьезно.
Одна из немногих дошедших до нас картин Бруно Хэта (Бруно Хэт. Натюрморт с грушами. Холст, масло. Впервые выставлен в 1929)
Вскоре все раскрылось. Хэт оказался вымыслом, созданным воображением художника-любителя Брайана Говарда, друга Гиннесса. Роль художника исполнил тщательно загримированный Том Митфорд. Все затея была задумана как блестящая пародия на напыщенность и глубокомысленность современного искусства и, возможно, вдохновлена недавним открытием ранее неизвестного талантливого художника Альфреда Уоллеса, которое совершили летом 1928 года Бен Николсон и Кристофер Вуд. Но кто же написал за Хэта картины, очень и очень неплохие? Изначально полагали, что Брайан Говард, но потом отвергли это предположение, уж слишком они были для Говарда хороши. Скорее всего, их написал Джон Бэнтинг, друг Говарда, впоследствии известный сюрреалист. Когда «Сотби» в 2009 году выставил на торги оригинального Бруно Хэта, его удалось продать за внушительную сумму – восемнадцать тысяч семьсот фунтов. Рынок вынес вердикт по делу о мистификации: судя по цене, это картина кисти Бэнтинга, а не Говарда. А ретроспективно всю историю с вымышленным Бруно Хэтом можно интерпретировать как отдельное, весьма любопытное произведение сюрреалистского искусства.
Нэт Тейт (1928–1960)
1 апреля 1998 года мастерская Джеффа Кунса на Манхэттене принимала многолюдную вечеринку. В роли хозяина и распорядителя выступал Дэвид Боуи, а поводом для празднования стал выход в свет биографии забытого американского художника Нэта Тейта, написанной Уильямом Бойдом. Тейт, быстро добившись успеха на периферии абстрактного экспрессионизма, в конце своей короткой жизни выкупил все собственные картины, какие только смог, торжественно сжег их и после этого покончил с собой. Расчувствовавшись, гости стали вспоминать о Тейте, рассказывать какие-то забавные случаи из его жизни, описывать выставки его картин, которые им довелось посещать, и сожалеть о его безвременном уходе из жизни.
Нэт Тейт никогда не существовал. Его выдумал сам Бойд: его имя представляет соединение названий двух ведущих лондонских галерей[24]. Бойд не рассчитывал, что написанную им биографию станут воспринимать как мистификацию. «Моей целью было доказать, насколько мощным и убедительным может быть чистый вымысел, – писал он впоследствии, – и одновременно попытаться создать современную легенду о мире искусства». Эта легенда – история весьма посредственного художника, добившегося славы и богатства, что, по мнению Бойда, не так уж редко случается на современном рынке предметов искусства, привыкшем к нескончаемой шумихе и вечным сенсациям и ценящем не столько талант, сколько умение делать карьеру. Тейт, в конце концов осознав собственную бездарность, сжег свои картины и бросился с парома, совершавшего регулярный рейс Манхэттен – Стэтен-Айленд. Большинство реальных художников, перед которыми вставала та же дилемма, спокойно продолжали писать дальше.
Предсмертное аутодафе – сожжение картин – было удачным ходом, позволившим объяснить почти полное на сегодняшний день отсутствие работ Тейта. Однако несколько все же появились на свет божий позднее (их беспечно написал сам Бойд). Одна из них – изящный рисунок карандашом и чернилами, включающий отпечаток большого пальца художника, – в ноябре 2011 года была принята к торгам на «Сотби». Ее удалось продать за шесть с половиной тысяч фунтов, а это, при всем уважении к творческим способностям Бойда, доказывает его точку зрения, согласно которой уметь делать карьеру важнее, чем обладать талантом.
Suicides Самоубийства
Профессия художника, как никакая иная, предполагает склонность к самоубийству. Природа их творчества, непременным условием которой является одиночество, а значит, и неумеренные сомнения в собственных силах, представляет собой некую гремучую смесь. Оскар Кокошка даже утверждал, что таково преимущество художников. «В моих работах содержится все, что умрет вместе со мной, – писал он Анне Калин в 1923 году, – и нет ничего, что было бы больше меня и смогло бы меня пережить. Единственное право, которым обладает художник в наш век материализма, – это право добровольно уйти из жизни, когда он утратит все иллюзии, то есть исчерпает себя».
Некоторые, подобно Мунку, который попытался застрелиться, но всего лишь повредил себе пальцы, или Жерико, решившему свести счеты с жизнью в номере лондонского отеля в 1821 году, жаждали уйти, но так и не смогли совершить самоубийство. Другие осуществили свое намерение, например трагический Бенджамин Хейдон и современный английский художник Кит Воган, авторы талантливых дневников, оставившие пронзительные последние записи в день добровольного ухода из жизни.
Рисунок Нэта Тейта, проданный на аукционе «Сотби» в 2011
Хэзлитт нимало не сомневался в том, что поприще художника трагично:
«Художникам, беднягам, судьбой вообще не суждено жить долго. Обыкновенно они растрачивают силы к сорока, упав духом из-за того, что их надежды достичь совершенства не оправдались, что публика не ценит их творения, что их намерения несбыточны и что дела их запутались непоправимо и безнадежно; и посему, глубоко осознавая собственное унижение и бессилие (зачастую довольно долгое и усугубляемое всякими внешними обстоятельствами), они либо умирают от голода, либо спиваются».
Пожалуй, самое знаменитое самоубийство в истории искусства – это добровольный уход Винсента Ван Гога в июле 1890 года. Его детали тщательно документированы: в мае 1890 года Винсент был выпущен из психиатрической клиники в Сен-Реми и переехал в местечко Овер-сюр-Уаз, под наблюдение доктора Поля Гаше. 27 июля Винсент отправился в поле погулять и выстрелил себе в грудь. В кармане Винсента был обнаружен неоконченный черновик письма к брату Тео, датированный 23 июля: «Что ж, ради творчества я поставил на карту жизнь и едва ли не потерял рассудок». Два дня спустя Винсент умер от ран на руках у Тео. Смерть Ван Гога неотделима от его образа, который сложился в нашем сознании. Она сделалась столь знаменитой, что ее историю уже неоднократно стремились переписать. Автор недавно вышедшей биографии Ван Гога не очень убедительно пытается доказать, что тот не кончал самоубийством, а во время прогулки был случайно ранен молодым человеком, охотившимся на кроликов.
Эта теория почему-то умаляет его репутацию. Мы должны знать, что он покончил с собой, чтобы по достоинству оценить его трагические работы, созданные незадолго до самоубийства. Если он погиб в результате несчастного случая, мы будем чувствовать себя обманутыми. Неужели, если будут представлены неопровержимые доказательства его случайной смерти, цены на картины тоже упадут? Без сомнения, самоубийство или ранняя смерть художника положительно влияет на динамику продаж. Подобная смерть неизменно окружена романтическим ореолом трагизма, а заодно уменьшает потенциальное число работ художника на рынке, ибо кладет конец непрерывному потоку картин, возможно не самого высокого уровня, которые художник мог бы написать в старости.
Abstract Art •Абстрактное искусство
Anger and Angst •Гнев и экзистенциальный страх
Animals •Животные
Banality •Пошлость
Caravaggio •Караваджо
Cardinals •Кардиналы
Conceptual Art •Концептуальное искусство
Eroticism •Эротика
Exoticism •Экзотика
Genre •Жанровая живопись
Historical and Biblical •Историческая и религиозная живопись
Impressionism •Импрессионизм
Individual Artists •Художники – хиты продаж
Innovation •Новаторство
Interiors •Интерьеры
Landscape •Пейзаж
Narrative Art •Сюжетно-тематическая живопись
Nudes •Ню
Portraits •Портреты
Railways •Железные дороги
Rain •Дождь
Sport •Спорт
Still Life •Натюрморт
Surrealism •Сюрреализм
War (1914–1918) • Война (1914–1918)
II. Сюжет и стиль
Abstract Art Абстрактное искусство
Абстрактное искусство увлекает и захватывает. Его появление знаменует настоящую революцию в живописи. На протяжении веков творческое совершенство оценивалось в зависимости от умения художника воспроизвести окружающий мир, приблизившись к иллюзорному идеалу абсолютной верности природе. На рубеже XIX–XX веков все внезапно изменилось. В качестве выразительного средства в искусстве вдруг стало приемлемым искажение природы, а это намеренное искажение видимого мира сделалось шагом на пути к полному отказу от фигуративности в живописи и в скульптуре.
Молодому русскому Василию Кандинскому являлись в сновидениях какие-то смутные формы. В 1895 году на выставке в Москве он впервые увидел картины французских импрессионистов. Созерцая полотно Моне из серии «Стога сена на солнце», он пережил видение, подобие мистического откровения. «И вот сразу видел я в первый раз картину», – записывает он в «Воспоминаниях».
«Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета… Но что мне стало совершенно ясно – это не подозревавшаяся мною прежде, скрытая от меня дотоле, превзошедшая все мои смелые мечты сила палитры. Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины»[25].
Хотя философские основы абстрактного искусства можно проследить до диалогов Платона, который различал абсолютную красоту, присущую прямым линиям и изгибам вне зависимости от их фигуративного смысла, рождение абстракционизма как художественного направления ускорили две культурные тенденции второй половины XIX века. Одна – популяризация фотографии, которая позволила с научной точностью воспроизвести природу, а значит, сделала излишней предметную живопись, оную природу запечатлевающую. Вторая – романтическое представление о том, что все искусства стремятся приблизиться к музыке, убедительно апеллирующей к чувствам, способной к внушению и абсолютно нефигуративной. Абстрактное искусство, писал Аполлинер в 1912 году, будет соотноситься с традиционным примерно так же, как музыка с литературой. Оно откроет новый мир выразительных возможностей.
Представления Аполлинера о будущности абстракционизма оказались излишне восторженными. Статичные формы и цвет не достигли той силы воздействия, на какую способны звуки музыки. Кроме того, неточность и аморфность абстрактной живописи – это своего рода вызов рынку. Как определить и оценить ее уровень? Какую цену назначить? Чтобы найти хоть какие-то ориентиры, рынок должен обращаться к истории искусства. Выстраивается своего рода сюжет: импрессионизму отводится в нем роль первого звена в цепи впечатлений, неумолимо и неизбежно приводящей Кандинского спустя двадцать лет после того, как он впервые увидел Моне, к изобретению абстрактного искусства. В 1913 году он внес вклад в формирование абстрактного искусства своими импровизациями, словно сыграв вничью с русским супрематистом Казимиром Малевичем, в 1914 году показавшим геометрические формы, и с Робером Делоне, который выставил на обозрение публики цветные диски. Изобретение абстракционизма вполне соответствует старинной схеме «классицизм и романтизм – непримиримые противники». Классическое направление абстракционизма представлено жесткими геометрическими формами Малевича и его собратьев-супрематистов, едва намеченными овалами и тонкими, плавными вертикальными линиями Бранкузи, решетками Мондриана, в то время как не столь суровый, более субъективный романтический абстракционизм достигает апогея в анархической свободе Джексона Поллока и бесконечном гипнотизме Ротко.
Вклад Малевича в абстракционизм (Казимир Малевич. Супрематическая композиция. Холст, масло. 1916)
Оценивая абстрактную живопись, полезно рассматривать ее в контексте истории искусства. Вместе с тем минимализм абстрактного искусства позволяет судить о нем с точки зрения базовых эстетических характеристик, таких, как, например, колорит: синий Миро ценится выше, чем коричневый. Или таких, как линия: прямая черта надреза, проведенного на холсте Фонтаны, особенно ценится его коллекционерами. Это простые, но важные соображения. Даже среди строгих приверженцев классического абстракционизма случались споры. Решетки Мондриана вдохновляли Тео ван Дусбурга, однако они повздорили из-за диагонали: ван Дусбург настаивал, что нужно сохранить ее ради динамизма, Мондриан не желал об этом слышать. В результате они поссорились и несколько лет не разговаривали друг с другом. Если сравнить сегодня цены на Мондриана с ценами на ван Дусбурга, прав, по-видимому, был Мондриан.
Рынок как-то пытался сформулировать контекст абстракционизма и в результате предпринял переоценку ряда художников более ранних периодов. Их творчество было признано любопытным или значимым (в том числе и финансово), поскольку в них увидели предшественников абстракционистов, задолго до их появления разделявших их идеалы и «предвосхитивших» (любимое слово искусствоведов) их искания. Столь посредственный художник, как писатель Виктор Гюго, был извлечен из мрака забвения, ибо экспериментировал с кляксами. Кроме того, с восторгом изучались рисунки акварелиста XVIII века Александра Козенса, включавшие кляксы. Козенс предлагал наугад наставить чернильные кляксы или точки на листе рисовальной бумаги, а потом внимательно присмотреться, не таится ли в этих смутных очертаниях пейзаж или иная композиция, которую затем следовало детально разработать. Абстрактное искусство поступает ровно наоборот: берет пейзаж и уничтожает его, сводя к нескольким кляксам. Именно в таком направлении развивалась живопись Моне. Внезапно поздний Моне сделался куда более популярным, чем ранний. Его огромные холсты с кувшинками, с играющим на водной глади написанным широкими мазками светом стали считаться блестящим образцом абстрактного экспрессионизма, хотя в действительности их стоило бы интерпретировать как результат борьбы художника с надвигающейся слепотой.
Абстрактная живопись приоткрывает тайны творчества, тем более важные, поскольку искусство становится нефигуративным и загадочным, порывает с объективно узнаваемым предметом и превращается в поле бесконечных интерпретаций. Можно ли создать произведение искусства случайно? Стриндберг считал, что да. В 1894 году он опубликовал в журнале «Ревю де ревю» статью, озаглавленную «О роли случая в творчестве», в которой сформулировал теорию «автоматического искусства, „art automatique“, долженствующего стать предметом как сознательных усилий художника, так и его бессознательных порывов». Случай и в самом деле играет немалую роль в абстрактной живописи, особенно в абстрактном экспрессионизме, если вспомнить о кляксах Виктора Гюго и Козенса, о многозначительных следах, оставленных на холсте колесами велосипеда, о таинственных фигурах, которые появляются на ткани или деревянной панели, когда по ним наугад проводят кистью или стекает краска. В этом отношении великий художник-абстракционист должен быть не только талантлив, но и удачлив.
Однако рынку нетрудно примириться с важностью случая в искусстве: он всегда готов учитывать роль удачи и случая в любом взаимодействии между людьми, особенно коммерческом [см. главу V «Случайность»].
Anger and Angst гнев и экзистенциальный страх
В искусстве различают два типа гнева и ярости: отрицательный и положительный. Под отрицательной яростью, отрицательным гневом я понимаю чувство, которое, будучи представлено на традиционном репрезентативном полотне, уменьшает его рыночную стоимость. Лицо на картине украсит скорее улыбка, нежели угрюмая гримаса. В целом публика предпочитает видеть блаженство, радость, а не конфликт и противоборство, картина должна провозглашать счастье, а не страдание. Эта незамысловатая формула лежит в основе популярности импрессионизма [см. ниже раздел «Импрессионизм»].
Удивительно, как может повлиять на коммерческую оценку картины выражение губ главного персонажа. Сцена в интерьере кисти Матисса, недавно принятая к торгам в одном аукционном доме, казалось, взяла всем: и ярким фоном, и героиней, грациозной женщиной в элегантном платье. Однако у картины был один явный недостаток: уголки губ изображенной на холсте дамы были хмуро опущены вниз. Всего одна бегло прочерченная линия на целую композицию, но, поскольку ее концы не поднимались, а опускались, она создавала гигантскую разницу. Если бы рот натурщицы изображала прямая линия, иными словами, если бы выражение ее лица было нейтральным, картину можно было продать в два-три раза дороже. Если бы на лице дамы играла улыбка, это повысило бы стоимость в четыре раза. Искушение пригласить реставратора и поручить ему переписать всего одну линию, изменить всего один мазок кисти мастера, было совершенно невыносимым. Иногда свойственное художникам пренебрежение деталями просто поражает. О чем только думал Матисс? Неужели он не сочувствовал последующим поколениям арт-дилеров и аукционистов, всеми силами старающимся продать его картину?
Другая разновидность гнева и ярости, положительно сказывающаяся на продажах, – это экзистенциальный страх, «ангст». «Ангст», в сущности, изобретен модернистским искусством, главным образом экспрессионизмом. С точки зрения коммерции экзистенциальный страх – вещь очень и очень недурная. Это некое чувство, свойственное человеку ХХ столетия, этакий фирменный знак, страдание, постепенно делавшееся все более и более привлекательным, по мере того как художники сосредоточивались не на окружающем мире, а на собственных душевных движениях. Не случайно «ангст» – слово немецкого происхождения, ведь немецкий экспрессионизм привык подпитываться сильными эмоциями. В ХХ веке художники сознательно выбирают внутренний разлад, дисгармонию, разочарование, неверие в собственные силы; эти чувства превращаются в некое свидетельство искренности. Боевой клич бросил Эдвард Мунк: «Подобно тому как Леонардо анатомировал трупы, я стремлюсь анатомировать душу». Тем самым Мунк обозначил новое направление модернистского искусства, которому предстояло стать весьма и весьма прибыльным.
Animals Животные
Животные – это неисчерпаемый, вечный сюжет, популярный и в консервативном, и в модернистском искусстве. Кошек, собак, лошадей, коров и овец, диких животных запечатлевали на картинах начиная с эпохи Ренессанса. Их изображают до сих пор. Особенно часто их ваяют известные современные скульпторы: можно вспомнить лошадей Марино Марини или Элизабет Фринк, зайцев Барри Флэнагана, кошек и собак Джакометти, овец Генри Мура. Однако в XIX веке произошло нечто обозначившее новое направление в анималистической живописи: пышным цветом расцвел антропоморфизм. В Викторианскую эпоху мебель приобрела сходство с животными (у ножек столов и стульев выросли лапы с когтями), а животные – сходство с человеком (у кошек и собак выросли души). Восхитительная Доротея Кейсобон в романе Джордж Элиот «Мидлмарч» (1872) даже «полагалась на благодарность ос»[26]. В результате потенциальных покупателей картин захлестнул поток сентиментальности: хорошенькие котятки, щеночки и утятки наперебой зарезвились на стенах Салона и Академии, угождая вкусу нового среднего класса. Эта разновидность викторианской анималистической живописи не утратила популярности до сих пор.
Зачинателем антропоморфизма стал выдающийся викторианец[27] сэр Эдвин Лендсир, прославившийся не только в Англии (где большинству, как известно, легче проявлять нежность к собакам, нежели к близким людям), но и на континенте. Французский критик Теофиль Готье с удивлением заметил: «Лендсир наделяет своих любимых животных душой, разумом, поэзией и страстью; если бы ему достало смелости, он вместо инстинктов дал бы им свободную волю». Лендсир не только виртуозно писал животных, но и придавал им почти человеческие мимику и взгляд. Среди его произведений – ряд знаменитых картин, запечатлевших характеры собак и испытываемые ими чувства, от трагических (на картине «Скорбящий друг старого пастуха» исполненный печали взор овчарки прикован к телу ее умершего хозяина) до комических (на картине «Достоинство и дерзость» маленький скотчтерьер облаивает куда более крупного и величественного бладхаунда).
Не в силах вынести сентиментального облика представителей фауны на картинах Лендсира, остальная Европа дрогнула и сдалась. В Брюсселе, в среде самоутверждающейся буржуазии, зародился новый эстетический вкус, в формирование которого немалый вклад внесла бельгийка Генриетта Роннер-Книп, одна из наиболее популярных художниц XIX века. Она специализировалась на изображении кошек и котят, часто – шалящих: играющих с клубками шерсти, переворачивающих кувшины с молоком в интерьерах богатых буржуазных гостиных, подобных тем, в которых жили восхищенные покупатели ее работ. Мадам Роннер-Книп никогда не стать феминистской иконой. Причина в том, что она слишком легко нашла свое место в существующем общественном устройстве и писала картины на сюжеты, никак не угрожающие господству мужчин.
Викторианцы очень любили анималистическую живопись, которой их с готовностью снабжали Лендсир и Роннер-Книп. Непреходящая популярность этих картин XIX века отчасти объясняется трогательным и веселым обликом животных, которые ведут себя как люди или, по крайней мере, обнаруживают узнаваемые человеческие чувства. Иногда визуальное послание картины поясняется подходящим комическим названием: Бритон Ривьер, член Королевской академии художеств, озаглавил свою картину, на которой изображен пес, пристыженно пятящийся от опрокинутой вазы, «Так совесть трусов делает из нас»[28]. На других картинах даром речи владеют даже растения: виду заросшего сорняком крестовником луга автор, английский пейзажист Джон Клейтон Адамс, дал проникновенное название «О, не зови нас плевелами!»[29].
Бритон Ривьер, член Королевской академии художеств, угождает сентиментальному викторианскому вкусу (Бритон Ривер. Принудительное обучение. Холст, масло. 1887)
Художники-анималисты, предпочитавшие диких животных, реже уступали желанию придать своим персонажам антропоморфные черты. Даже наиболее сентиментальный из них не в силах был наделить облик куропатки эмоциональной глубиной. Возможно, это было и к лучшему, поскольку стремление изобразить дичь на холсте естественным образом дополнялось стремлением на нее охотиться [см. ниже раздел «Спорт»]. Изображения диких птиц и сегодня пользуются популярностью, их покупают охотники. Однако даже здесь побеждает некое чувство такта, ощущение благопристойности: дороже продаются картины, на которых запечатлена живая, а не подстреленная дичь. Существует давнее, глубоко укоренившееся предубеждение против павлинов; их изображают очень редко, отчасти из-за бытующего в художественной среде предрассудка, что они-де приносят несчастье, отчасти из-за того, что охотиться на них – дурной тон. Если же диких животных и пишут с некой долей эмоционального участия, то, скорее, подчеркивая героическую смелость погибающего оленя или надменность горделиво взирающего льва. Архетипическим изображением благородного дикого животного может служить «Властитель шотландской долины» Лендсира, тиражируемый на бесчисленных бутылках виски.
Героические или человеческие качества овец убедительно воспроизвести на холсте было куда труднее, даже викторианцам. Тем не менее некоторые попытались это сделать: например, французского художника Августа Шенка, автора популярных сельских сцен и пейзажей, газета «Фигаро» характеризовала как «живописца, которому овцы милее женщин». Понятно, что хотел сказать художественный критик «Фигаро», однако с овцами у меня связаны тягостные воспоминания о поездке в конце семидесятых в Амстердам к коллекционеру, который, как оказалось, содержал публичный дом. Картины, висевшие на стенах его «рабочего кабинета», изображали исключительно овец и коров и представляли собою благопристойные воплощения безмятежных жвачных, созданные голландскими и бельгийскими художниками XIX–XX веков. Я спросил, почему он выбрал именно овец и коров. «Они мне нравятся, – ответил он. – Написаны недурно. А потом, нравятся клиентам. Полагаю, вселяют в них уверенность».
Овца с ягнятами – в данном случае с двумя – кисти Эжена Вербукховена (Эжен Вербукховен. Овца с ягнятами. Дерево, масло. 1874)
Он был прав. Овцы и коровы (в глазах коллекционеров-горожан – безобидный символ сельской жизни) популярны по сей день. Самый знаменитый автор подобных картин XIX века, бельгиец Эжен Вербукховен, осознал, что его овцы и коровы превратились в своего рода валюту. Однажды в его мастерскую пришел потенциальный покупатель; Вербукховен предложил ему картину, изображающую овцу с двумя ягнятами, и назвал свою цену: восемьсот франков за овцу и еще по двести – за каждого ягненка. Однако покупатель мог заплатить только тысячу. Тогда Вербукховен, нимало не смутившись, взял кисть, закрасил одного ягненка и тем самым снизил цену до требуемых тысячи франков.
Мюнхенский художник Александр Кёстер специализировался на изображении уток. В конце ХХ века его картины вызвали настоящий бум, за ними охотились коллекционеры, казалось, в Баварии не найти ни одного хоть сколько-нибудь образованного состоятельного дома, стены которого не украшали бы утки Кёстера. Работы Кёстера довольно однообразны, запечатлевают по большей части водоплавающих на глади пруда и отличаются лишь количеством птиц. Значит, цена картины будет зависеть всего лишь от числа представленных уток. Вот наконец искусство-товар, который легко оценить. Таким образом, на пике популярности художника в середине восьмидесятых, когда его картину с восемнадцатью утками продали за двести семьдесят тысяч долларов, утка Кёстера поднялась в цене до пятнадцати тысяч долларов. Если бы всегда искусство было так просто оценивать…
Banality Пошлость
В контексте современного искусства пошлость прекрасно продается. Более того, пошлость ныне – свидетельство серьезности, глубокого знания повседневной жизни и, следовательно, ее мелких, неприметных забот. Вот несколько примеров пошлости в исполнении и сюжетах, число и популярность которых неуклонно растут.
Экскременты
В романе «В сторону Свана» Пруст описывает упивающегося собственной значимостью художника, который на вечере у мадам Вердюрен поносит другого живописца. «Вы ни за что не определите, – объявляет он, – чем это сделано: клеем, мылом, сургучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом!»[30] Злопыхательствующий художник хотел сказать, что дерьмо – самый странный и невероятный художественный материал на свете, но не прошло и ста лет, и дерьмо как средство выражения сделалось неотъемлемой составляющей модернистского канона.
Все началось с Пьеро Манцони. В его творчестве был период, когда он помещал собственные экскременты в жестяную банку и, снабдив соответствующими этикетками, представлял эти вместилища на выставках. Большинство коллекционеров верили, что в банке содержится именно то, что значится на этикетке, хотя можно вообразить, что ритуальное вскрытие банки, чем-то напоминающее откупоривание бесценной бутылки «Шато Латур» 1965 года, явилось бы ни с чем не сравнимым эстетическим наслаждением, одновременно апофеозом предмета искусства и его разрушением. По слухам, в каком-то музее сотрудники вскрыли одну банку в целях проверки сохранности содержимого и, к своей немалой печали, обнаружили, что она пуста. Кстати, интересная концепция: получается, что экскременты художника – это одновременно реликвия, предмет поклонения творческого интеллекта и «прикол», подвергающий субверсивному прочтению художественные принципы: скверную картину принято именовать «дерьмом».
Идеальное воплощение реликвии, «плоть художника»: консервированные экскременты Пьеро Манцони (Пьеро Манцони. Merda d’artista. Жестяная банка, бумага, печать. 1961)
Потом пришла очередь «Картин, написанных мочой» Энди Уорхола. Винсент Фримонт, присутствовавший при осуществлении замысла, так отзывался о процессе их создания: «Он накладывал на холст слой металлической краски, либо золотой, либо медной. Потом он предлагал Ронни Катроуну, Виктору Гюго и другим, в том числе нескольким женщинам, по очереди пройти в заднюю комнату и пописать на картину в соответствии с его указаниями». Эту субстанцию наносили на холст с помощью губки. Иногда художник обогащал творческий процесс некоторыми нюансами: 28 июня 1977 года Уорхол делает запись, что «просил Ронни не мочиться утром, когда проснется, а потерпеть до мастерской, он же принимает много витамина В, так что от его мочи цвет картины будет просто загляденье».
Потом заявил о себе Крис Офили. Он выполнял картины в технике коллажа, используя слоновий навоз, и тем самым «расцвечивал» их поверхность, особенно в цикле «Капитан Шит». Кроме того, он иногда устанавливал картины на куче слоновьего навоза, поясняя, что «таким образом поднимает их над обыденностью и вселяет в них чувство, что они рождены землей, а не просто повешены на стенку».
А еще Лю Вей. Его «Несварение желудка II», скульптура в смешанной технике, представляет массивную – 83 × 214 × 89 см – какашку, выполненную в 2003–2004 годах с пугающим реализмом. Чарльз Саатчи, ее нынешний владелец, говорит: «Мне кажется, автор и не предполагал, что публика, глядя на огромную какашку, будет испытывать ощущение психологического уюта. Он же не дизайнер интерьера».
Вербальные реди-мейды
Картины, изображающие слова, – лишь один из многих примеров того, как современное искусство исследует феномен пошлости и даже прославляет его. Типичный объект Ричарда Принса, под названием «Домохозяйка и бакалейщик», представляет собою холст с семью строками, написанными акриловыми красками:
Домохозяйка выбрала три маленьких помидорчика, и бакалейщик назвал ей цену: семьдесят пять центов.
– Что?! – воскликнула она. – Семьдесят пять центов за эти крохотные помидорчики? Возьмите и засуньте их себе знаете куда!
– Увы, не могу, – печально ответил бакалейщик. – Там уже огурец за девяносто пять центов.
Анекдот, конечно, не самый смешной; кто-то из публики наверняка слышал его и раньше. Но это не важно. Неужели известность легенды о Диане и Актеоне помешала бы Тициану и Рубенсу писать картины на этот сюжет? Но зачем Принсу понадобилось придавать этому глуповатому анекдоту статус произведения искусства? Один современный критик объясняет: «Приземленные, вульгарные и смешные, эти безвкусные „гэги“ бросали вызов популярным тогда псевдоэкспрессионистским картинам». Значит, Принс борется с высоколобым эстетством, намеренно предлагая вниманию публики пошлость. Повинуясь тому же порыву, Марсель Дюшан в знак протеста против академизма выставил «Фонтан» – писсуар, свой первый реди-мейд. Эти группы слов: избитые фразы, рекламные слоганы, шутки, преподносимые публике как картины, – вербальные реди-мейды, «найденные случайно» и представляемые в отрыве от их зачастую банальной исходной функции, приукрашенные и объявленные произведениями искусства. Привлекательность они обретают только благодаря контрасту: с одной стороны, зритель осознает заурядность и даже пошлость этих слов в их изначальной функции, с другой – удивляется величественности этих произведений искусства в залах музеев.
На самом примитивном уровне изображенные слова и создают смысл картины. Возникает соблазн увидеть в них современный аналог вышитых на полотне нравоучительных изречений, любимых в Викторианскую эпоху, вот только искусность вышивальщицы для их создания не требуется. Однако на самом деле их стоило бы сравнить с викторианской сюжетной живописью, невероятно популярными картинами, «рассказывавшими истории» и воспринимавшимися как сцены из романов [см. ниже раздел «Сюжетно-тематическая живопись»]. Картины-надписи Принса и викторианские картины-истории – разновидность искусства, в котором все сводится к сюжету. В XIX веке реакцией на этот арсенал душещипательных, сентиментальных сюжетов стал эстетизм, провозгласивший «искусство для искусства» вне всяких моральных ценностей. В XX веке наследниками сюжетно-тематического искусства могут считаться Дюшан, сюрреалисты, концептуалисты и представители поп-арта, тогда как продолжателей традиций эстетизма – примата формы над содержанием – можно увидеть в экспрессионистах, приверженцах абстрактного экспрессионизма и так называемой чистой живописи. Другой современный художник, часто изображающий слова, – Эд Рушей. В 1979 году он показал картину, на которой пастелью было выведено:
I DON’T WANT
NO RETRO
SPECTIVE[31]
Слова явно выбраны с умыслом, они заключают в себе модную аллюзию (отсылают к тексту песни «Роллинг Стоунз» «I Can’t Get No Satisfaction») и одновременно содержат термин «ретроспектива». Художнику не нужна ретроспектива. Он поднял бунт и освободился от пут традиционной карьеры, навязываемой ему буржуазным обществом. Он с презрением отверг саму идею выставки, долженствующей увенчать его усилия и прославить весь спектр его творческих достижений (хотя упоминание слова «ретроспектива» намекает на то, что при прочих равных условиях это совершенно не исключено: он добился успеха, и его ретроспективу вполне могут устроить). Одновременно размещение слов в пространстве картины точно рассчитано и представляет собой тщательно продуманную композицию. Слова и строки разделены на фрагменты так, чтобы придать картине многозначительность и торжественность современного стихотворения. Соответственно, картина-надпись привлекает трояким контрастом: это не только картина, но и группа слов с собственным значением, а еще стихотворение.
Иногда художники играют с одним-единственным словом. Роберт Индиана создал скульптуру из четырех букв: L-O-V-E. Мне довелось видеть ее в коллекции покупателя-француза. Если вы стоите перед произведением искусства бок о бок с его счастливым обладателем и не знаете, что сказать, всегда имеет смысл глубокомысленно произнести что-то о его теме или сюжете.
– Любовь… – протянул я глуповато.
– Что вы сказали? – удивился коллекционер.
– Любовь… – повторил я. – Знаете, художник играет с этим словом.
– Да при чем тут «любовь», – возразил он. – Это же «Vélo», потому-то я ее и купил. Я очень люблю кататься на велосипеде.
Китч
Еще одно проявление увлеченности современного искусства пошлостью – пристрастие к китчу. Китч, писал Клемент Гринберг в 1939 году, предполагает заемный опыт и поддельные чувства. Сам термин происходит от немецкого глагола «verkitschen» – «обесценивать». Сферу китча составляет продукция массовой культуры, например производимые для туристов модели Эйфелевой башни, футболки с изображением Моны Лизы, пепельницы, которые начинают играть мелодию из «Крестного отца», когда вы тушите в них окурок, а также анекдоты, сленговые словечки, рекламные знаки и слоганы, щедро используемые Ричардом Принсом и Эдом Рушеем. Термином «китч» сейчас обозначают сентиментальное искусство (такое, как викторианская жанровая живопись), слишком примитивное искусство – искусство, не склонное утомлять серьезностью, а развлекающее зрителя; в каком-то смысле это синоним дурного вкуса.
Однако во второй половине XX века китч стали воспринимать иначе. Он привлек внимание представителей поп-арта, разглядевших его неожиданный потенциал. Словно направив на него яркий луч иронии, художник говорил: «Да, я знаю, это китч, но с высших творческих позиций „посвященного“ я наделяю этот продукт массовой культуры новым смыслом, превращая его в некую декларацию современной жизни». В процессе подобного переосмысления был изобретен термин «кэмп», под которым ныне принято понимать именно такое ироническое отношение к китчу. Это уже процесс деконструкции. Если вы Ричард Принс, Густав Метцгер или Джефф Кунс, то начинаете с анекдота, пакета с мусором или с порнографической фотографии. Это исходная конструкция. Затем она подвергается иронической деконструкции и превращается в «анекдот», «пакет с мусором» или «порнографическую фотографию». (Некоторые арт-критики модернистского направления именуют это явление «инверсией», и потому я намеренно взял названия арт-объектов в кавычки.) Наконец, объект чудесным образом переживает реконструкцию и преподносится как произведение поп-арта.
Ведущий представитель иронического деконструктивизма, как мы уже видели, – Ричард Принс. Он издевательски переосмысляет штампы массового сознания и в серии работ «Медсестры». Для этого цикла он берет обложки дешевых сентиментальных любовных романов, действие которых происходит в больнице, пародирует их и использует повторно, уже в качестве образов современного искусства, прославляющих консьюмеризм конца ХХ века. Телевидение и интернет, газеты и журналы ныне постоянно подвергаются налетам художников, жаждущих добыть подобный сенсационный материал: враждебность по отношению к массовой культуре, свойственная модернизму на ранних этапах, сменилась увлеченностью ею: современный авангард готов черпать оттуда темы и сюжеты, впрочем иронически их интерпретируя.
Мусор
Густав Метцгер, зачинатель саморазрушающегося искусства, впервые выставил на всеобщее обозрение свои арт-объекты в 1960 году. В 2004 году художник воссоздал эту выставку в галерее Тейт-Британия. Главным элементом инсталляции был пакет с мусором. К сожалению, служившая в галерее Тейт уборщица бросила пакет в мусорный контейнер. Хотя манифест саморазрушающегося искусства 1959 года гласил, что «художнику не возбраняется сотрудничать с учеными и инженерами», сотрудничество с уборщицами явно находилось за пределами его дерзаний. Саморазрушающееся искусство далее определялось «как искусство, содержащее в себе действующее вещество, автоматически разрушающее его за период не более двадцати лет», однако ускоренное разрушение вследствие попадания в контейнер было сочтено недопустимым. Арт-объект был извлечен из мусорного контейнера, но художник объявил, что его арт-пакет с арт-мусором погиб, и создал новый арт-пакет с арт-мусором, дабы возместить утрату первого.
Все вышеперечисленные образцы современного искусства хорошо продаются именно потому, что они банальны и пошлы, однако они не снискали бы лавров, если бы задумывались решительно без всякой иронии, или инверсии, позволяющей воспринимать их свысока и при этом демонстрировать модную позу «посвященного». Ирония – главный элемент формулы привлекательности, которой обладает пошлость и банальность в глазах современного коллекционера, и эту формулу можно представить так:
Пошлость + Ирония = Искусство
Пошлость – Ирония = Вы что, думаете, я совсем дурак, сейчас куплю этот пакет с мусором за сто тысяч фунтов?
Caravaggio Караваджо
Разумеется, самый сексуальный из старых мастеров с точки зрения публики начала XXI века – Караваджо (1571–1610). Не проходит и месяца, чтобы о нем не вышла какая-нибудь новая книга, зачастую живо написанный исторический роман, в центре которого – бурная личная жизнь художника и его ненасытная страсть к представителям своего пола. Весьма ценим также его стиль, с поразительными эффектами светотени, с насыщенной цветовой гаммой и глубоким реализмом, поэтому любой подражающий ему художник XVII века будет хорошо продаваться. В сущности, караваджизм воспринимается на фоне живописи старой школы примерно так же, как фовизм на фоне модернизма, и пользуется такой же коммерческой популярностью: он восхитителен, удивителен, легко узнаваем, очень моден. И дорог.
Cardinals Кардиналы
Получив степень магистра искусств в Кембридже, где меня держали на строгой диете из одних шедевров, скармливаемых либо непосредственно в крупных музеях Европы и Америки, либо в библиотечных репродукциях, я, юный, наивный идеалист, был принят на работу в «Кристи». Поэтому испытал шок, когда первой картиной, которую мне поручили внести в каталог на складе аукционного дома, оказался «кардинал». Какой «кардинал»? Об этом я не имел ни малейшего представления. Я ничего не знал ни о заурядном искусстве, ни о том, что и у хороших художников бывают неудачные дни (а у плохих – озарения и прозрения). Не догадывался я и о том, что существует целый мир скверного, откровенно коммерческого, «массового» искусства, за которое многие и многие готовы хорошо заплатить.
Выяснилось, что тайные проказы князей церкви не оставляли равнодушными некоторых известных художников и их покровителей во второй половине XIX века, и эти сюжеты не утратили популярности даже сто лет спустя. Подобные «не предназначенные для посторонних глаз» сцены, разыгрывавшиеся в богато убранных покоях за закрытыми дверями кардинальских дворцов, явно можно отнести к особому, самостоятельному жанру. Их популярность оказалась весьма прочной: в 1886 году Коллис Хантингтон заплатил огромную сумму, двадцать пять тысяч фунтов, за картину «История миссионера» кисти представителя французского академизма Жеана Жоржа Вибера; поражали воображение тысяча четыреста гиней, за которые в 1950 году была приобретена картина «За здоровье повара» Франсуа Брюнери. В те годы за такую сумму можно было купить недурной пейзаж Ренуара или Моне, а то и небольшого Пикассо.
На первый взгляд причина популярности таких картин очевидна: современных покупателей привлекает высокий технический уровень их исполнения, сочетание ярких цветов и возможность бесстыдно наслаждаться пурпурным и фиолетовым оттенками кардинальских мантий, занимающих значительную часть пространства картины. К тому же сюжет трактуется комически и весьма живо. Однако художники создавали их, движимые еще и духом антиклерикализма. Публике конца XIX века нравилось изображение высших духовных лиц в облике заурядном и даже недостойном. Это отвечало преобладающим политическим тенденциям.
Поначалу художники черпали сюжеты из жизни Ватикана не столько в стремлении осмеивать и ниспровергать, сколько просто из любопытства. Одно лишь изображение кардинала в его личных покоях, скрытых от нескромных взоров мирян, дразнило вуайеристические инстинкты публики. Святая святых Римско-католической церкви окружал ореол величия, таинственности и коварных интриг, и потому было особенно соблазнительно проникнуть туда, припав взглядом к замочной скважине. Художники обнаружили, что духовенство подвержено искушениям и страданиям, как и обыкновенные миряне. Вот на одной из картин кардинал в рассеянности садится на палитру смущенного портретиста, приглашенного писать его особу, вот на другой кардинал в испуге вскакивает на стул при виде выбравшейся из норки мыши. Итальянец Андреа Ландини изображает роскошный обед, во время коего их преосвященства наслаждаются изысканными винами и яствами, едва ли не предаваясь пьянству и обжорству. На одном из полотен неутомимого Вибера кардинал пребывает не в своих личных покоях, а на берегу реки, где удит рыбу. Но, увы, концом удочки он случайно зацепил сумку с уловом, и рыбки одна за другой спасаются, выпрыгивая в воду.
Такие картины заставляли задуматься: если столпы духовенства, опора и ближайшее окружение папы, бросаются врассыпную при виде мыши, чего стоит власть Католической церкви? И если они живут в роскоши, потворствуя собственным слабостям, как они могут заботиться о пастве? И что вообще можно сказать в их пользу, если они даже и рыбу-то удить не умеют?
Авторы подобных картин, осмеивавших духовенство, происходили главным образом из Франции, Бельгии, Италии, Испании и Южной Германии, то есть из католических стран, где антиклерикализм стал следствием политического конфликта либерального государственного строя и консервативной Церкви, подогреваемого завистью к богатству некоторых религиозных орденов. Наиболее бескомпромиссную антиклерикальную позицию занимал Гюстав Курбе. На его картине «Кюре, возвращающиеся с церковного совещания» пьяные сельские священники по дороге домой предаются грубому веселью и производят впечатление скорее не комическое, а вульгарное. «Кардиналы» Вибера, Крогера или Брюнери изображены не с ненавистью, а с юмором и вызывают у зрителя усмешку, а не желание отправиться на баррикады.
Жорж Крогер. Втайне потворствуя своим желаниям. Дерево, масло. Ок. 1890
Впрочем, иногда шутка оказывалась весьма и весьма колкой. На одной из картин Брюнери кардинал читает газету, а его донимает докучливая муха, норовящая усесться прямо на нос. На первый взгляд это комическая сцена, и ничего более. Однако, присмотревшись внимательнее, зритель замечает, что на картине изображена газета «Ла Круа» – реакционное католическое издание, во время «дела Дрейфуса» занимавшее беспощадно антисемитскую позицию. В подобном контексте муху, донимающую кардинала, можно интерпретировать как образ разложения и распада. На картине Вибера «Индульгенция»[32] кардинал-плутократ блаженно созерцает объявление, рекламирующее продажу индульгенций. Внимательно приглядевшись, мы опять-таки замечаем, что кардинал и сам предается излишествам: он курит папиросу, а за его спиной виднеется стол, обильно уставленный яствами и винами. На картине Брюнери кардинал неловко покачивает на колене младенца; на них смотрит юная хорошенькая няня. Это комическая сценка, но уж не намекает ли название картины, «Племянник кардинала», на более тесное родство представителя духовенства и ребенка?
Интересный ракурс церковной темы выбрали испанцы Хосе Гальегос (1859–1917) и Пабло Салинас (1871–1946). Они специализировались на изображении священников и привлекательных молодых женщин в самых разных ситуациях. Уединение в сумраке исповедальни позволяло священнику насладиться самыми пикантными деталями грехов, в которых сознавались хорошенькие пышногрудые девицы; очень часто на лице священника изображается преувеличенный ужас от услышанного. У Салинаса кардиналы, приглашенные на чай прекрасными богатыми прихожанками, бросают сладострастные взгляды на их округлые прелести. До сих пор никто не написал диссертацию о роли, которую Пабло Салинас, умерший в 1946 году, сыграл в антиклерикализме республиканского движения в годы гражданской войны в Испании, однако, возможно, все еще впереди.
Фрэнсис Бэкон. Без названия (Папа). Холст, масло. Ок. 1954
Высокие сферы Римско-католической церкви и по сей день снабжают сюжетами художников, в том числе имеющих безупречную репутацию модернистов. Фрэнсис Бэкон пишет пап, рты которых разверсты в пронзительном крике. Маурицио Каттелан создает пап, падающих на землю. Подобным работам по-прежнему свойствен дух антиклерикализма, однако мы можем трактовать его и шире, нежели отрицание институтов господствующей Церкви: их авторы давным-давно смекнули, что такие сюжеты хорошо продаются.
Conceptual Art Концептуальное искусство
Груда конфет, насыпанных на полу галереи Тейт Феликсом Гонзалесом-Торресом, – образец концептуального искусства, вызвавший немалый шум в СМИ. Некоторые сласти, из которых состоит исходный арт-объект, возможно, испортятся, некоторые, возможно, стянут голодные рабочие-оформители, но само произведение непременно будет восполнено новыми конфетами, а то и выставлено на другом конце света, воссозданное из тамошних сластей. Разумеется, его можно воспроизводить бесконечно. Однако авторской работой вправе считаться лишь груда конфет, насыпанная лицом, которое может предъявить сертификат подлинности, выданный либо художником, либо его наследниками.
Знаменитая груда конфет (Феликс Гонзалес-Торрес. Без названия. (Мальчики-любовники). Инсталляция, леденцы в обертках. 1991)
В основе концептуального искусства – негласный примат идеи, или концепции, над качеством исполнения. Если оценить воздействие на зрителей реди-мейдов Дюшана, картин-надписей, даже сюрреализма Магритта, оно в той или иной степени создается самой идеей арт-объекта, а не уровнем ее воплощения, которое в лучшем случае можно счесть сугубо функциональным, своего рода средством выражения концепции. Бывает, что воплощение и вовсе не играет никакой роли, и тогда рынок произведений искусства сталкивается со щекотливой проблемой: а что же, собственно, продавать, если прочного, физически осязаемого арт-объекта и нет?
Однако хитроумный рынок сумел решить и эту проблему. Авторство идеи становится коммерческим предложением, осуществимым на практике: его можно продавать и покупать так же, как и право собственности на обычную картину. Физическим воплощением концептуального арт-объекта следует считать не столько произведение искусства, сколько «фиксацию» идеи этого произведения искусства. «Фиксация» может служить и «товаром», соотносящимся с идеей так же, как репродукция с оригинальной картиной или бронзовая копия – с оригинальной скульптурой. Но иногда из рук в руки переходит только свидетельство о собственности, вроде акционерного сертификата: владелец может вставить его в рамку, а потом с выгодой для себя продать.
Eroticism Эротика
Возможно, я не самый надежный эксперт в области эротического искусства, ведь я опубликовал роман, в 1994 году завоевавший антипремию лондонского журнала «Литерари ревью» за самую неудачную сексуальную сцену. Когда рецензенты признали написанные мною эротические фрагменты наихудшими во всей британской прозе года, мне сделалось неловко. Однако их приговор утвердил меня во мнении, что все оценки в сфере эротического искусства исключительно субъективны. Впервые я осознал это в Кембридже, где я, студент, почти каждое утро работал в библиотеке музея Фицуильяма. Чтобы туда добраться, требовалось пройти по нескольким галереям, заодно наслаждаясь разглядыванием картин, а вдалеке открывался грандиозный вид на «Тарквиния и Лукрецию» Тициана: Тарквиний, величественно возвышаясь над обнаженной, трепещущей Лукрецией, уже поставил одно колено на край ее постели, готовясь повелительным движением воздетой руки сломить ее сопротивление. Лукреция несколько обескураживала своей полнотой. Однажды мой научный руководитель, профессор Майкл Джефф, спросил у меня: «Это же шедевр эротического искусства, вы не находите?» Я слишком благоговел перед ним, чтобы возражать, однако втайне предполагал, что в коллекции Фицуильяма есть две картины, куда более заслуживающие подобного определения. Это был диптих Хогарта «До» и «После». На первой картине молодой человек на лесной поляне недвусмысленно домогается девицы. Девица, по-видимому, не уступает. На второй картине они полулежат, откинувшись назад, с трудом переводя дыхание: ее сопротивление оказалось кокетством, а их одежда в беспорядке красноречиво свидетельствует о бурной страстности только что совершившегося соития. Тициан ничего не говорил студенту, один вечер в неделю проводившему в душной дискотеке колледжа; Хогарт (по крайней мере, первая часть диптиха) был ему куда ближе.
Если, как утверждает Ротко, цель искусства – передать зрителю чувства художника, то не следует ли оценивать эротическое искусство в зависимости от того, насколько сильное вожделение оно вызывает? Нет, искусство передает зрителю значительно более широкий спектр эмоций, в том числе сочувствие человеку во всех нюансах его существования, во всех интимных физических деталях, выраженное визуальным языком безжалостного реализма. «В искусстве, – говорил Роден, – нет и не может быть ничего безнравственного. Искусство всегда священно, даже когда изображает страсть в ее предельно допустимых проявлениях. Поскольку оно стремится лишь без прикрас запечатлеть увиденное, оно не может пасть». Порнография выбирает те же сюжеты, но стремится пробудить желание зрителя. Если искусство вызывает вожделение, значит это, вероятно, порнография.
Соблазнение во вкусе XVIII века
(Уильям Хогарт. «До» и «После». Холст, масло. 1731)
Образец беспощадного реализма (Эгон Шиле. Сидящая женщина в сиреневых чулках. Гуашь, черный карандаш. 1917)
Коллекционировать эротическое искусство – вполне почтенное занятие, и многие серьезные люди его собирают. Коллекционировать порнографию – занятие куда менее достойное. Следовательно, нужно четко разграничить эротику и порнографию и в интересах рынка, и по соображениям нравственности. Ценители купят произведение эротического искусства. Если попытаться продать им его как порнографию, его не купят. Исходя из этого, стоит помнить, что Шиле – не порнограф, даже когда он изображает себя сидящим с расставленными ногами на стуле и с тревогой рассматривающим собственный эрегированный член. Он не порнограф, даже если на большинстве его самых пронзительных графических автопортретов предстают изломанные, искаженные очертания его тела; ноги и руки, кажется, отделены от торса, кисти – от рук, и это «фрагментирование» тела можно прочитать как образы мастурбации и остро переживаемой вины. Он лишь беспощадный реалист. То же самое можно сказать о Курбе и о его «Происхождении мира», крупным планом запечатлевшем половые органы женщины, хотя первый владелец картины, турок, возможно, с вожделением созерцал ее, а в остальное время скрывал за бархатным занавесом в своих парижских апартаментах.
А вот некоторые французские салонные художники XIX века – точно порнографы. В сентиментальном, притворно-застенчивом облике их нимф и Венер есть некая порочная искушенность. Их можно спасти для рынка и превратить в приемлемый объект продажи, только с надменной иронией представив публике как образцы китча [см. выше раздел «Пошлость»]. В таком духе Джефф Кунс создает откровенно порнографические образы, например фотографируясь со своей музой Чиччолиной в самых недвусмысленных позах, однако не продает их как порнографию. Он изымает их из одного контекста и помещает в другой – в контекст поп-арта [см. главу V «Словарь терминов»]. В этом качестве они стоят несколько сот тысяч долларов. И хотя лежащие в их основе образы, возможно, остались порнографическими, произведения искусства, в которые они претворены, уже не порнография, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Секрет продажи эротического искусства прост: всячески обращайте внимание потенциального покупателя на искусство, а не на секс. Не говорите ему: «Посмотрите, как соблазнительно скользит юбка, обнажая ее бедро». Скажите: «Это образец бескомпромиссного реализма». Или: «Чудесная, ироничная визуальная деконструкция принципов нашего консьюмеристского общества».
Exoticism Экзотика
Картина или графическая работа Делакруа, навеянные его первым африканским путешествием 1832 года, рисунок Ван Гога, изображающий вид Прованса и выполненный японским тростниковым пером, таитянское полотно Гогена – это чрезвычайно популярные произведения искусства, созданные тремя художниками из числа тех, что сейчас пользуются высочайшим спросом на рынке. Почему? Потому что экзотика хорошо продается. Публика восторженно принимает художников, черпающих вдохновение в странствиях по далеким или малоизвестным уголкам планеты и переплавляющих его в образы, способные потрясать, забавлять, порождать перемены, возбуждать сладострастие, вызывать удивление или благоговение.
Начиная с XVI века целью паломничества художников была Италия, поскольку там они могли одновременно увидеть совершенно иные пейзажи, насладиться иным светом, воспринять иные обычаи и приобщиться к идеальным критериям красоты. Затем, в начале XIX века, европейцам стали постепенно открываться Северная Африка и арабский мир. Пионеры ориентализма, такие французские живописцы, как Делакруа и Теодор Шассерио, будучи романтиками, испытали на себе обаяние Востока и отправились туда в поисках приключений, обнаружив бездонный кладезь новых, ярких сюжетов и тем для последующих поколений европейских художников. В середине XIX века западному миру предстала Япония с ее удивительным национальным искусством, оказавшим сильное влияние на европейский модернизм. А в конце XIX века на Таити переезжает Гоген, в очередной раз пытаясь вдохнуть новые силы в уставшее, исчерпавшее себя европейское искусство, познакомив его с образцами наивного, исполненного жизненной энергии, яркого примитивизма.
Италия
Италия стала первым источником экзотических сюжетов, по крайней мере для жителей Северной Европы. «Чем можно наслаждаться, путешествуя по Италии?» – задавал вопрос Стендаль в октябре 1824 года и сам же отвечал на него: «Чистым, прозрачным воздухом, великолепными пейзажами, „a bit of a lover“ [в оригинале написано по-английски], прекрасной музыкой, прекрасными картинами, прекрасными церквями, прекрасными скульптурами».
Для художника все перечисленное имело свою привлекательность. В XVI–XIX веках живописцы из Северной Европы нескончаемым потоком пересекали Альпы, направляясь в Рим, ибо там, по их мнению, они могли проникнуться духом Античности и узреть чудесные ландшафты, а значит, обогатить и усовершенствовать собственное искусство. Некоторые художники возвращались домой, пробыв в Италии совсем недолго, иные задерживались дольше, чем намеревались поначалу, многие за время своей художественной карьеры ездили в Италию постоянно, а находились и те, кто, не в силах противиться ее обаянию, переселялись туда навсегда. В поток европейцев, стремившихся в Италию, влились и молодые люди, совершавшие «гранд-тур», причем многие из них возвращались на родину не только пережив возвышающее душу соприкосновение с образцами античного и ренессансного искусства, но и увозя с собой на память о близком знакомстве с итальянской культурой его оригиналы.
Французские живописцы, в том числе награжденные ежегодно выделяемой правительством Римской премией, приезжали в Италию ради ее чудесных пейзажей. Подобную моду ввел Клод Лоррен, создавший образ Италии, которому предстояло на двести лет завладеть воображением европейцев. Его напоенные светом, идеализированные облики Римской Кампаньи превратились в своего рода бренд, имидж, с легкостью воспроизводимый и тиражируемый посредственными художниками в пейзажах, которые изображали их собственные страны – Голландию, Бельгию, Англию. В начале XIX века в Италию прибывает все больше немцев и скандинавов, особенно датчан. Можно изгнать датчанина из Дании, но нельзя заставить датчанина забыть о Дании, даже если он пишет виды Италии. Итальянские пейзажи кисти Рёрбю, Эккерсберга, Лундбю абсолютно неповторимы: Римскую Кампанью они писали так, словно ее освещают лучи неяркого копенгагенского солнца. Даже в ХХ веке художники по-прежнему стекались в Рим, во Флоренцию, в Неаполь и, конечно, в Венецию (на рубеже XIX – ХХ веков в Италии побывали Буден, Уистлер, Сиккерт, Ренуар и Моне). Итальянские сюжеты до сих пор не утратили привлекательности для художников. Потенциальные покупатели всегда живо реагируют на упоминание о том, что предлагаемый им пейзаж изображает вид Италии. Они осознают, что, покупая итальянские пейзажи, приближаются к некоему «золотому стандарту».
Третья причина, по которой Стендаль, красноречиво переходя на английский, предлагал совершить путешествие в Италию («завести любовницу» – «a bit of a lover»), также была достаточно убедительной в глазах жителей Северной Европы. Там бытовало убеждение, будто жаркий климат делает итальянок сладострастными и потому весьма и весьма податливыми. Байрон, разумеется, соглашался с этим, заявляя:
Но сами боги в результате зноя Нам подают губительный пример: Что смертным – грех, то Зевсу – адюльтер[33].С тех пор многое в Италии изменилось, в частности получили распространение кондиционеры.
Арабский мир
Первые художники, побывавшие в Северной Африке, обнаружили цивилизацию, которая почти не испытала влияния западной культуры; ее красочность, экстравагантные одеяния и странные обычаи подарили живописцам множество новых сюжетов, и те с энтузиазмом принялись украшать ими стены парижского Салона. Первое поколение этих художников, которые обрели известность под именем ориенталистов, видело себя в роли наблюдателей и репортеров и запечатлевало в мельчайших деталях разыгрывавшиеся перед ним повседневные сцены. «Я воистину попал в удивительнейшую страну», – писал Делакруа из Танжера в 1832 году. Далее он отмечает яркость света, насыщенность цветовой гаммы, живописность апельсиновых рощ и ритм жизни, совершенно отличный от западного. «Пожалуй, им трудно понять непринужденность, проявляемую европейцами в общении, и то неуемное желание обрести новые идеи, которое заставляет нас вечно странствовать, нигде не задерживаясь подолгу. А если мы достигли предела того, на что способна развитая цивилизация? Во многом они ближе к природе, чем мы. У нас есть наука, но мы заплатили за нее утратой благодати».
Во второй половине XIX века художники из многих уголков Европы устремились в арабские страны. Оттуда они двинулись дальше: в Египет, Святую землю, Сирию, Турцию и даже в Персию. Как утверждал Теофиль Готье, Ближний Восток посягает на статус Италии, признанного места паломничества живописцев: «Здесь они узнают, что такое яркое солнце, изучат свет, найдут самобытных персонажей, оригинальные обычаи, увидят древние библейские сцены». Однако к семидесятым годам XIX века путь из Салона в Сахару сделался уж слишком проторенным. Еще в 1854 году английский художник Томас Седдон писал о Египте: «Эта страна являет нам общество, постепенно разрушающееся, а восточные нравы и обычаи вот-вот исчезнут в жадных волнах готовой поглотить их европейской цивилизации». Перенимая западную культуру, арабский мир в значительной мере утрачивал свою таинственность и призрачное обаяние, а экзотика, воссоздаваемая западными живописцами, становилась все более шаблонной и сентиментальной. Художники все чаще запечатлевали образы арабского мира, стремясь угодить западному вкусу, то есть богатому парижскому или лондонскому буржуа-меценату. Некоторые даже писали ориентальные сцены, не побывав ни в одной арабской стране. А зачем? Они же вполне убедительно воплощали на холсте Древний Рим или Голландию XVII века, хотя никогда их не видели.
Существовал один ракурс ближневосточной темы, сохранявший свою привлекательность для художников на протяжении всего XIX века. Это были обитательницы гаремов, их прислужницы, невольничьи рынки и бани. Прочитав высказывание Максима дю Кана: «Жители Каира приходят на невольничий рынок за рабыней, как мы на рыбный рынок за палтусом», европейский обыватель мог изобразить праведный ужас и негодование, но в следующий раз, проходя мимо рыбной лавки, испытать подобие легкой зависти. Бани были открыты для женщин днем, одалиски приходили туда в сопровождении рабынь, которым вменялось в обязанность купать, вытирать и массировать их. Сцены подобного массажа вызвали в парижском Салоне эффект разорвавшейся бомбы: очень часто рабыню изображали чернокожей, а одалиску – белоснежной, тщательно, сладострастно выписывая цветовые нюансы черной и белой женской плоти. От обвинений в излишнем эротизме художников надежно защищала экзотическая тема. Не беспокойтесь, уверяли они европейскую публику, это же чужеземцы из далекой-далекой страны; там так принято. Однако чужеземное происхождение нисколько не умаляло натурализма изображаемых девиц, их «физического присутствия» на полотне. Более того, в глазах европейского зрителя они без усилий представали тем более реалистичными, что мусульманкам запрещалось позировать художникам, а значит, большинство запечатленных на холсте дам были европейскими натурщицами, облаченными в подходящие восточные одеяния. К концу столетия арабский гарем делается и вовсе почти неотличимым от парижского будуара. Одалиски, населяющие ориентальные полотна, с их кальянами и томными позами, все более напоминают вполне доступных парижских filles de joie[34], вот только изображены они в несколько более экзотическом антураже. Отсюда – один шаг до романов Элинор Глин, до Рудольфа Валентино в роли арабского шейха, до рекламы восточных сладостей: именно таков был конец ориентализма в XX веке.
Арабская фантазия французского академического художника Жана Луи Жерома (Жан Луи Жером. Одалиски у бассейна. Холст, масло. 1881)
Огромные месторождения нефти, волею случая открытые на территории стран, которые запечатлены на многих «арабских» полотнах XIX века, позволили современным потомкам героев картин сказочно разбогатеть и приобрести живописные свидетельства восприятия их культуры Западом. Покупают их очень бойко: рынок ориентальной живописи в последние десятилетия переживает бум. По иронии судьбы именно те ориентальные картины, которые одни европейцы написали, чтобы познакомить других европейцев с Ближним Востоком, ныне приобретают и увозят домой как символ собственной цивилизации торжествующие арабы. Внимательно их изучив, новые владельцы немало узнают о сладострастных мечтах, втайне лелеемых европейцами.
Япония
Если ориентализм оказал экзотическое и весьма продолжительное влияние на темы и сюжеты европейской живописи, то увлечение Японией – еще более значимое воздействие на стиль. Облик модернистского искусства второй половины XIX века был бы совершенно иным, если бы не Япония. Пожалуй, наиболее привлекательными в глазах современной публики чертами импрессионизм и постимпрессионизм обязаны японским заимствованиям.
В 1853 году американская Тихоокеанская эскадра под командованием коммодора Мэтью К. Перри вошла в гавань Токио. До этого момента Япония в течение двухсот пятидесяти лет оставалась закрытой страной. Появление Перри, прототипа Пинкертона из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», положило начало современной эпохе в торговле между Японией и западным миром. Вместе с торговыми завязались и культурные отношения. К концу пятидесятых годов предметы японского искусства стали появляться в антикварных лавках Парижа и Лондона. В образованных кругах они произвели сенсацию. Европейцев очаровала Япония, экзотическая закрытая страна, родина диковинного, загадочного, невиданного прежде искусства. Оно было создано в традициях, совершенно отличных от западных, и решено в абсолютно иной эстетике. Увлечение японским искусством приняло в Париже почти маниакальные формы: художника Уистлера и критика Закари Астрюка пришлось разнимать, когда они чуть было не подрались из-за необычайно изысканного японского веера, который одновременно обнаружили в одном из парижских антикварных магазинов.
Японские раскрашенные гравюры и рисунки карандашом и тушью произвели самое сильное впечатление на художников Запада. К 1867 году, когда в Париже проводилась знаменитая Всемирная выставка, японские ксилографии можно было увидеть повсюду, а имена таких японских рисовальщиков и граверов, как Хиросигэ и Хокусай, были у всех на устах. Особенно восхищались ими импрессионисты, в большинстве своем впечатлительные молодые люди не старше тридцати. Что же так очаровывало их в японской эстетике?
Во-первых, японское искусство было новым, кардинально отличалось от западного и привлекало уже этим. К середине XIX века консервативная европейская живопись и графика зашла в тупик. Академизм был обречен. Романтизм переживал закат. Японское искусство открыло молодым французам принципиально иное ви́дение мира. Оно решающим образом повлияло на замысел, композицию, колорит их картин. Импрессионисты переняли у японцев склонность к пейзажу с необычной точки зрения и к динамичным, преувеличенным диагоналям, мостам или дорогам, которые пересекают пространство картины и уводят взгляд наблюдателя от переднего плана к заднему. На японских гравюрах, особенно запечатлевающих зимние сцены, нет лишних, несущественных деталей, и импрессионисты, подметив эту черту, стали использовать ее для достижения непосредственности впечатления. Кроме того, они научились у японцев подчеркивать перспективное сокращение и таким образом привлекать внимание зрителя к заднему плану, добиваясь эффекта присутствия и словно погружая его в атмосферу картины.
И потом, им пришлась по вкусу склонность японцев произвольно «отрезать» часть композиции. У импрессионистов, в первую очередь у Дега, этот прием повышает реалистичность изображения, символизируя случайность и непредсказуемость обыденного существования. Лаконичность японской гравюры, заимствованная Дега, позволила ему воссоздать современную жизнь куда более убедительно, нежели воспроизведение мельчайших деталей, как того требовало академическое искусство. Приятельница Дега Мэри Кассатт пошла еще дальше. Некоторые ее гравюры конца XIX века можно принять за подлинные японские, которым она подражала.
Портрет Рафы Мэтр свидетельствует, насколько мод ными в Париже 1870‑х сделались японские сюжеты, интерьеры, костюмы и безделушки (Пьер Огюст Ренуар. Портрет Рафы Мэтр. Холст, масло. 1871)
Упрощение деталей, к которому тяготела японская техника, побуждало художников экспериментировать с плоскостями чистого, однородного цвета. Парижский художественный критик Теодор Дюре писал в 1886 году: «Пока во Франции не появились альбомы японских гравюр, никто не решался сесть на берегу реки и запечатлеть на холсте в непосредственной близости откровенно красную крышу, зеленый тополь, желтую дорогу и голубую воду». Все вышеперечисленное напоминает пейзаж Ван Гога. Ван Гог обожал японское искусство. Он владел коллекцией из более двухсот японских ксилографий и иногда изображал их на заднем плане своих картин; в первую очередь здесь приходит на память «Автопортрет с завязанным ухом». Кроме того, Ван Гога очаровывало графическое мастерство японцев, в особенности рисунки тушью Хокусая, выполненные тростниковым пером: Ван Гог виртуозно воспроизвел его приемы, изображая оливковые сады Прованса.
Таити
По мере того как XIX столетие близилось к концу, художникам в поисках экзотики приходилось уезжать все дальше и дальше. Восторг, испытываемый Гогеном в 1891 году от ярких красок и тихоокеанской атмосферы Таити, сравним с радостью первых ориенталистов от пребывания в Северной Африке. И он, и они наслаждались невинностью и нетронутостью новых земель и одновременно опасались, что посягающая на них европейская цивилизация в конце концов их погубит. К этим восторгам примешивался и привкус сексуального туризма, удовольствие оттого, что здесь царят нестрогие нравы и неизвестны моральные ограничения западной культуры. Таким образом, экзотика Таити внесла свой вклад в освобождение европейского искусства. На Таити Гоген достиг небывалой свободы в выборе композиционного и колористического решения, а она впоследствии оказала сильное влияние на развитие экспрессионизма в особенности и европейского модернизма в целом. Все это недвусмысленно отразилось на сегодняшней стоимости картин Гогена: рынок жаждет заполучить образчики его таитянского искусства куда более страстно, нежели ранние работы.
Genre Жанровая живопись
«Разумеется, каждую весну лондонцы испытывают здоровую потребность в пустой, бессодержательной живописи, – писал Джон Рёскин в обзоре Ежегодной выставки в Королевской академии в 1856 году, – вроде потребности в клубнике и в спарже. Мы не всегда хотим пребывать в философическом настроении… И это вполне оправданно, ведь это средство заново ощутить вкус к жизни. Вот только сообщество, берущее на себя исключительно удовлетворение этой потребности, должно смириться с тем, что рано или поздно станет неким подобием универсального магазина „Фортнем-энд-Мейсон“».
В XIX веке появились новые меценаты, требовавшие совершенно новых картин и создавшие международный рынок популярных предметов искусства, которые соответствовали этим новым тенденциям. То, что угождало вкусам публики в Мюнхене, чаще всего нравилось и в Лондоне, и в Париже, и в Риме: за исключением небольших местных специфических особенностей, во всех европейских странах, где промышленная революция и другие социальные изменения сформировали класс состоятельных людей, готовых тратить деньги на картины, художественные пристрастия почти не различались. Каковы же были основные черты этого нового вкуса? Теккерей в 1843 году приводит весьма проницательный анализ указанного явления:
«Героическое начало в искусстве низложено; вместо него художники обратились к трогательному, хорошо знакомому, привычному… Живописцы помоложе довольствуются сюжетами не столь возвышенными: изображением нежного чувства, тихой семейной идиллии, благопристойного свидания, разыгрывающейся в гостиной трагедии, гармонии за чайным столом… Такие сюжеты усваиваются столь же легко, сколь тосты с маслом за пресловутым чайным столом, в отличие от Прометея прикованного, Ореста в смирительной рубашке, тела Гектора, влекомого за колесницей Ахилла, или Британии в сопровождении Религии и Нептуна, вводящей генерала Томкинса в храм Славы».
Подобные сюжеты пользовались популярностью очень долго и не утратили своей привлекательности сегодня. Феномен, представленный этой новой «буржуазной» живописью, – торжество жанра, повседневных домашних сцен, зачастую изображаемых в привычном и даже банальном ключе. Художники – члены Королевской академии все еще отдавали предпочтение величественному, благородному полету фантазии, но реже и реже. Во второй половине XIX века жанровая живопись процветает: по всей Европе, от Лондона до Москвы, от Мадрида до Будапешта и Стокгольма, на официальных выставках вас окружали полотна, на которых матери покачивали на коленях сладеньких младенцев, розовощекие детки упоенно играли, часто с душещипательными собаками или кошками, которые вот-вот заговорят [см. выше раздел «Животные»], а пожилые джентльмены с увлажнившимся взором предавались воспоминаниям о днях юности в уютных интерьерах тех или иных питейных заведений.
Занимаясь жанровой живописью, художники нашли новые разновидности сюжетов, воплощавшие стремление публики к «трогательному, хорошо знакомому, привычному». Разрабатывая жанр, живописцы открыли для себя и с энтузиазмом предались дополнительному, специфически викторианскому наслаждению проникать в закрытую, частную жизнь художественными средствами. Предметом всепоглощающего интереса стала хранимая от посторонних глаз приватная сфера, а живописцы наперебой принялись состязаться в изображении домашних тайн, метафорически прильнув к замочной скважине. Любопытно, что пикантность подобных сцен лишь возрастала в глазах зрителей оттого, что живописцы переносили их в страны или эпохи, с которыми у современной им публики не могло быть непосредственного знакомства. Бульвер-Литтон писал об «узах, соединяющих нас с самыми далекими эпохами: народы, нации, обычаи погибают, Страсти же бессмертны!». Публика неизменно восхищалась, когда художники напоминали ей, что чувства и поступки отдаленного прошлого, в сущности, мало чем отличались от нынешних.
Тем самым жанровая живопись проникла и в сферу исторической. Вот, например, типичная сцена в «историческом жанре»: на побережье Эгейского моря около 400 года до н. э. на залитой солнцем, утопающей в цветах открытой галерее томно раскинулись в живописных позах гречанки, обменивающиеся последними сплетнями афинского света. На другой подобной картине кавалер XVII века в роскошном камзоле, отложив шпагу и шляпу с пышными перьями, прижимает к груди еще одного из нескончаемого множества сладеньких младенцев, а на них с глуповато-восторженной улыбкой взирает супруга и мать. На третьей картине леди в поблескивающем полупрозрачном платье эпохи Регентства бредет по тенистому, цветущему саду, предаваясь мучительным воспоминаниям о неразделенной страсти. Все эти сцены можно считать историческими, поскольку они почерпнуты из прошлого, однако они весьма и весьма далеки от величественных и мрачных сюжетов традиционной исторической живописи. Все они приоткрывают завесу над сферой частной жизни, а в их основе – тонко подмеченное стремление публики ассоциировать себя с персонажами прошлого, разделяя их домашние заботы или непреходящие, вечные чувства.
Можно интерпретировать появление и развитие «исторической жанровой живописи» в терминах модернистского искусствоведения как «деконтекстуализацию» [см. главу V «Словарь терминов»]. Исходным контекстом жанровой живописи следует считать современную художнику повседневную жизнь. Затем жанр изымается из контекста и словно помещается в сферу вне времени и пространства. «Реконтекстуализация» жанровой живописи предполагает обращение к античной или иной исторической эпохе, или к ориентализму, или даже к сюжетам из жизни духовенства, ибо в поисках тривиальных сюжетов художники опустошали не одно лишь прошлое. Живописцы, жаждущие обрести соблазнительные темы, увлеклись не только далекими эпохами, но и областями, незнакомыми современному зрителю в силу географических, культурных и социальных причин. Например, значительное число картин XIX века, изображающих кардиналов в личных покоях, за закрытыми дверями, или монахов, тайно потворствующих своим страстям в стенах монастырей, на первый взгляд можно расценить как любопытный иконографический феномен [см. выше раздел «Кардиналы»]. В сущности же, их авторы были движимы все тем же желанием приникнуть к замочной скважине, на сей раз в Ватикане или в монастыре, дабы насладиться вторжением в обыкновенно тщательно охраняемую частную жизнь, как оказалось мало отличающуюся от банального существования большинства. С подобным вуайеристическим сладострастием, не лишенным жеманности и сентиментальности, художники нередко изображали и Ближний Восток [см. выше раздел «Экзотика»].
Сэр Лоренс Альма-Тадема, член Королевской академии, переносит буржуазное викторианское ухаживание в атмосферу классической древности. (Лоренс Альма-Тадема. Мирное завоевание. Древний Рим. Дерево, масло. Ок. 1900)
Популярное искусство (Генриетта Роннер-Книп. Резвящиеся котята. Холст, масло. 1898)
Это была живопись, предназначенная не столько воспитывать и улучшать нравы, сколько развлекать и забавлять. Появилась новая культура, с ориентирами совершенно иными, нежели у старинного элитарного искусства, с его пристрастием к величественным историческим сюжетам, и эта новая культура вполне отвечала потребностям растущего сословия богатых буржуа, не стыдящегося своих вкусов и склонностей. «Вся нация принадлежит к среднему классу, – заявлял английский критик М. Х. Спилмен в 1898 году, – именно из среднего класса происходят величайшие ее сыны. Это заметно везде: все хоть сколько-нибудь значительные картины сэра Джона Миллеса если не украшают залы государственных или муниципальных галерей, то находятся в руках представителей среднего класса». Французский художник академического направления Жан Луи Эрнест Мессонье, исторические, «костюмные» картины которого снискали популярность у буржуазии, пошел еще дальше. «Не говорите мне о произведениях искусства, коими пренебрегает публика, кои потрафляют лишь академическому вкусу посвященных, – провозгласил он. – Этот довод я неизменно опровергал».
Модернистское искусство (Альберто Джакометти. Кошка. Бронза. 1951)
Здесь наметилось серьезное расхождение популярного и элитарного искусства. Оно существует по сей день [см. главу I, раздел «Посредственные художники»], с той только разницей, что элитарное искусство более не представлено классической исторической живописью. Примерно с 1900 года элитарное искусство – это модернизм и авангардизм. Поэтому крупные аукционные дома продают картины в соответствии с категориями, учитывающими это различие: викторианскую живопись предлагают отдельно от прочей, чтобы удовлетворить неослабевающую потребность широкой публики в жанровых картинах. С другой стороны, современных британских художников, импрессионистов и модернистов, новейшее искусство предлагают совершенно иным клиентам, в основном более серьезным и глубоким. Вряд ли вы увидите кардинала, написанного Франсуа Брюнери, в той же коллекции, что и папу, рот которого разверст в крике, кисти Фрэнсиса Бэкона; трудно вообразить и кошку, запечатленную Генриеттой Роннер-Книп, в одном собрании рядом с кошкой, вылепленной Джакометти.
Historical and biblical Историческая и религиозная живопись
Историческая живопись продается плохо. На современный вкус она слишком театральна и неестественна, слишком жестока и невразумительна, а ее иконография озадачивает: не многие клиенты аукционных домов могут похвастаться знанием древнегреческого, латыни и античной мифологии. Исторический сюжет, трактованный с холодным аффектированным изяществом, в духе неоклассицизма, еще способен вызвать оживление и соперничество среди потенциальных покупателей в аукционном зале. Однако подобная картина будет оцениваться исключительно как элемент дизайна интерьера, сюжет вряд ли сыграет в выборе покупателя большую роль, а то не сыграет и вовсе никакой.
Столь же невысок ныне спрос на картины старых мастеров, изображающие библейские сцены, поскольку, как правило, их сюжет предполагает гибель того или иного библейского персонажа. При виде распятия покупатель падает духом. Чаще всего зрителей пугают сцены мученичества. Исключение, для весьма специфического рынка, пожалуй, составляет святой Себастьян, мученическая гибель которого (обнаженный, он был пронзен стрелами) таит в себе определенную гомоэротическую привлекательность. Одна немецкая галерея попыталась использовать подобное обаяние этого сюжета, продавая подушечки для иголок с изображением святого, но большого коммерческого успеха эта затея не имела. Лучше прочих продаются такие картины на библейские темы, как «Сусанна и старцы» (очаровательная женщина купается, пожираемая сладострастными взглядами мужчин), «Давид и Вирсавия» (то же самое), «Иосиф и жена Потифара», великая история несостоявшегося соблазнения.
Разумеется, прекрасная картина великого мастера может нарушить все вышеперечисленные правила. Казалось бы, массовое детоубийство, изображенное в мельчайших, ужасающих деталях, должна вызвать у публики только отрицательную реакцию, однако, когда в 2004 году «Избиение младенцев» Рубенса было выставлено на торги в «Сотби», рынок забыл о своих опасениях и заломил за полотно рекордные сорок шесть миллионов фунтов [см. главу IV «Пропавшие картины»].
Impressionism Импрессионизм
Достаточно перечислить любимые сюжеты импрессионистов, чтобы понять, почему это художественное течение так популярно и почему многие готовы платить за него огромные суммы. Это своего рода визуальный антидепрессант, разновидность психотерапии, в которой роль лекарства отдана солнечному свету, играющему на трепещущей листве. Не случайно множество репродукций импрессионистов украшает приемные хирургов и дантистов. Привожу краткий словарь импрессионистских тем:
Все, чего вы хотите от импрессионистской картины (Клод Моне. Дама с зонтиком. Холст, масло. 1876)
Застолья (никакого страха, никаких разногласий, смерти или катастроф)
Зимние сцены (чаще всего освещенные солнцем)
Зонтики от солнца
Кафе
Концертные залы
Морские виды (без кораблекрушений)
Мосты
Пейзаж с мягкими, пологими холмами (никаких грозных бездн)
Пикники
Пляжи
Покой
Поля
Праздники
Представления
Рестораны
Сады
Скачки
Солнечный цвет (чем лучше погода и ярче цвета, тем дороже продается картина)
Театры
Улицы
Флаги и флажки
Цветущие деревья
Individual artists Художники – хиты продаж
Приводимый ниже список включает в себя примерно пятьдесят дорогих и популярных художников-модернистов, имена которых вы наверняка услышите на самых престижных вечерних торгах «Сотби» или «Кристи», когда продается высоколобое модернистское искусство. Однако в творчестве этих художников есть сюжеты и периоды, пользующиеся на рынке большей популярностью, чем остальные [см. главу I, раздел «Бренды»].
Балла, Джакомо (1871–1958). Один из ведущих итальянских футуристов, и потому его картины, написанные непосредственно перед Первой мировой войной, когда он добился исключительного динамизма, ценятся очень высоко. Однако остерегайтесь его работ двадцатых годов. Они анемичны. К 1920‑м он утратил весь свой запал.
Бекман, Макс (1884–1950). Долгая творческая жизнь этого немецкого экспрессиониста распадается на несколько периодов, и почти все они хорошо продаются, однако наиболее популярны работы, проникнутые экзистенциальным страхом. Особенно высоко ценятся его беспощадные в своем пессимизме автопортреты, а также картины, изображающие его любимую натурщицу (а впоследствии жену), вездесущую Кваппи. Не столь восторженно принимают умиротворенные и декоративные работы: некоторые из его средиземноморских пейзажей и нежных натюрмортов не удовлетворяют суровому вкусу ряда почитателей.
Боннар, Пьер (1867–1947). Его ранние работы, начиная с 1890‑х годов, когда он входил в объединение «Наби», стилизованные под упрощенные образцы японского искусства, как и очень яркие поздние пейзажи, ценятся весьма высоко. Однако классический Боннар – это цикл ню, которые представляют его многострадальную натурщицу (а впоследствии жену) Марту в красочных интерьерах, либо намеревающуюся принять ванну, либо только что выкупавшуюся. Впрочем, покупателей более всего очаровывают редкие ню, на которых она изображена в ванне, в странных ракурсах, а очертания ее ног искажает взгляд сквозь воду.
Боччони, Умберто (1882–1916). Как и Балла, итальянский футурист, однако, в отличие от Баллы, ему посчастливилось (с точки зрения конъюнктуры рынка) погибнуть на поле брани в 1916 году. В результате до нас дошло небольшое число произведений высокого уровня, созданных в годы расцвета футуризма, включая несколько шедевров футуристической скульптуры (а это редкий товар). Его ранние работы, выполненные в более жизнеподобном и ярком пуантилистическом стиле, ценятся ниже, чем футуристические, но тоже находят покупателей (обычно других).
Брак, Жорж (1882–1963). Большим спросом пользуются произведения Брака трех периодов: фовистского (1905–1906), когда его колорит ненадолго приобретает такую же насыщенность и яркость, как у Дерена и Вламинка, кубистского (1909–1914), когда они с Пикассо («в одной связке, словно альпинисты») создают эпохальные картины в едином стиле, авторство которых очень трудно определить, и периода возвращения к кубизму в позднем творчестве, апофеозом которого становятся монументальные интерьеры мастерской начала 1950‑х годов. Однако в его творчестве был период унылых, бесконечно повторяющихся натюрмортов, приходящийся на 1920‑1930‑е годы и равносильный коммерческому самоубийству из-за темных, земляных тонов.
Бранкузи, Константин (1876–1957). Рынок требует от Бранкузи абстрактной скульптуры, с головами, сведенными к неровным овалам, и телами, едва намеченными тонкими, удлиненными линиями. Ранние работы, тяготеющие к репрезентации, ценятся ниже; стоимость скульптур Бранкузи начинает расти по мере того, как сплетенные тела его «Любовников» утрачивают узнаваемость и превращаются в подобие почти неразличимых, прочно соединенных между собою гранитных блоков. До недавнего времени одна из скульптур Бранкузи без всякой охраны стояла в качестве надгробного камня на кладбище Монпарнас в Париже. К счастью, первым обнаружил ее не вор, а искусствовед, и теперь ее хранят куда бережнее, застраховав на двадцать миллионов долларов.
Буден, Эжен (1824–1898). Этот представитель раннего импрессионизма (у которого многому научился Моне) сегодня кажется несколько старомодным. Однако я включил его в список, потому что реакция публики на сюжеты его картин – вопиющий пример классового снобизма. Лучше всего продаются пляжи Будена, изображающие представителей аристократии и буржуазии на досуге: дам в пышных кринолинах и элегантных господ в цилиндрах. Заметно дешевле продаются его пейзажи с куда более скромными рыбаками, занятыми своим промыслом.
Ван Гог, Винсент (1853–1890). Финансовая ценность картин Ван Гога явно обусловлена хронологией развития как в области графики, так и в области колорита. Первый этап его творчества – голландский (1880–1885): он мучительно пытается обрести себя, погрязая в бурых тонах, словно увязая в торфяном болоте. Затем следует парижский период (1885–1887): он открывает для себя современное искусство, а его палитра, избавившись от голландской болотной воды, становится светлее: сегодня на эти колористические изменения живо реагирует рынок. И наконец, третий этап, взрыв провансальского света (1888–1890): Ван Гог изобретает экспрессионизм, отрезает себе ухо, кочует из одной психиатрической клиники в другую, а цены на его картины этого периода побивают все рекорды.
Вламинк, Морис де (1876–1958). Еще один французский фовист, отличавшийся сказочным дарованием в начале карьеры, но впоследствии растерявший свой талант. Пейзажи, которые он написал около 1905 года под влиянием Ван Гога, не уступают ни одному фовистскому полотну и чрезвычайно высоко ценятся. Однако затем он начинает повторяться, создавать темные, монотонные, однообразные ландшафтные холсты, и этот творческий ущерб сказывается на стоимости картин.
Вюйар, Эдуард (1868–1940). Ранние работы Вюйара, созданные в эстетике «Наби», высоко ценятся на рынке, подобно ранним картинам Боннара. Хорошо продаются и его автопортреты, исполненные с холодной наблюдательностью. Также пользуются спросом интерьеры в традициях интимизма, если они не слишком тяжеловесны и не перегружены буржуазными безделушками, как это свойственно работам 1920‑1930‑х годов; в противном случае они представляются старомодными и ценятся ниже.
Гоген, Поль (1848–1903). Как и в случае с Сезанном, рынок выстроил шкалу популярности картин Гогена. Его ранние, неукоснительно импрессионистские работы ценятся ниже, чем все, что он написал впоследствии. Соответственно, значительно дороже продаются картины понт-авенского периода (конца 1880‑х годов), на которых бретонские крестьяне под его кистью превращались в красочные символистские фантазии. Однако все превосходят работы, созданные им после переезда на Таити (начиная с 1891 года).
Грис, Хуан (1887–1927). Испанский кубист, друг Пикассо и Брака. В своем творчестве он прошел ту же эволюцию, что и они: лучшие картины он создал в 1913–1916 годы. В указанный период Грис отдает предпочтение яркому колориту, которого часто избегал раньше, и потому эти работы пользуются большой популярностью. Однако его кубистические полотна 1920‑х годов, однообразные и стилизованные, ценятся, безусловно, ниже.
Идеальный кубист: Хуан Грис (Хуан Грис. Горшок с геранью. Холст, масло. 1915)
Дали, Сальвадор (1904–1989). Самый лучший Дали – Дали 1930‑х, когда он, с его высочайшей живописной техникой, обращается к сюжетам безумного и неотразимого сюрреализма. Чем ярче краски и глянцевее лак – тем лучше. Впоследствии он делается более небрежен. Великолепный портрет 1930‑х годов без промаха бьет в цель. Портрет богатой светской дамы, написанный в 1950‑е или 1960‑е, – явно нет.
Дега, Эдгар (1834–1917). Наибольшим спросом пользуются композиции Дега с балеринами; далее следуют купальщицы; в конце списка – прачки. Сцены скачек окажутся где-то посередине между купальщицами и прачками. Кроме того, Дега – один из тех редких художников, гениальная графическая техника и смелое новаторство которых позволяет оценить их пастели даже выше полотен, написанных маслом.
Дельво, Поль (1897–1994). Этот бельгийский сюрреалист написал ряд своих лучших работ в начале 1940‑х годов. Позднее он начинает повторяться. Нельзя игнорировать эротичность его сюжетов: при виде его обнаженных сердце рынка начинает учащенно биться, а чем они крупнее и в чем более странном окружении представлены, тем лучше, пусть даже в зале ожидания на железнодорожном вокзале или в объятиях скелета.
Дерен, Андре (1880–1954). Лишь один период в творчестве Дерена пользуется спросом: его фовистские годы с 1905 по 1907‑й (в 1904‑м он еще не достиг расцвета, к 1908‑му выдохся). «Да» – насыщенному, яркому колориту, «нет» – картинам, где преобладают персонажи, особенно написанным после Первой мировой войны, когда его палитра становится удручающе угрюмой.
Не столь высоко ценимый – поздний – Хуан Грис (Хуан Грис. Пьеро со сложенными руками. Холст, масло. 1924)
Джакометти, Альберто (1901–1966). Покупателей привлекает брендовый облик персонажей Джакометти – длинных, изможденных, узловатых человечков, олицетворяющих трудноопределимый экзистенциальный страх. Его ранние работы – не более чем курьез. Однако, как это обыкновенно бывает с современными скульпторами, между бронзами, отлитыми при жизни мастера, и теми, что появились на свет божий после его смерти, существует значительная разница в цене.
Дикс, Отто (1891–1969). Его слава выпадает на 1920‑е годы: уличные сцены, интерьеры, кафе, ночные клубы Веймарской республики давали идеальный материал для его бескомпромиссно-циничного реализма. Популярны и его ранние, дадаистские работы. А вот остальное следует воспринимать с осторожностью: на более поздних этапах своей карьеры Дикс сблизился с нацистами, и его картины этого периода сделались политически, а значит, и эстетически неприемлемыми.
Донген, Кес ван (1877–1968). Ван Донген – еще один фовист, наиболее высоко ценимые работы которого относятся к уже упомянутым винтажным 1906–1914 годам. Он специализировался на красавицах, написанных яркими тонами и столь же ярко накрашенных. После Первой мировой войны он продолжал в том же духе, однако коллекционеру полезно учитывать дату создания картины: поздние ценятся ниже.
Кайботт, Гюстав (1848–1894). Этот щедрый меценат, покровитель раннего французского импрессионизма, впоследствии сам превратился в весьма талантливого художника. Наиболее популярны его импрессионистские виды парижских улиц, открывающиеся с балконов или других необычных позиций. Когда он выбирает насыщенную палитру, то может по стоимости соперничать с Моне. Однако в его творчестве есть не столь привлекательные периоды скучного и монотонного колорита и убогих стилистических решений, то есть досадного возвращения к изжившей себя традиции.
Кандинский, Василий (1866–1944). В порядке возрастания коммерческой привлекательности этапы его творчества можно представить так:
Композиции 1913–1916 годов, царство хаоса, из коего изгнано всякое репрезентативное начало, уступившее место безумно ярким формам, – таково зарождение абстракционизма.
Прекрасные экспрессионистские картины 1908–1912 годов.
Абстрактные работы первых послевоенных лет, под влиянием школы Баухаус тяготеющие к более четким геометрическим очертаниям.
Поздние абстрактные композиции на черном фоне.
Кирико, Джорджо де (1888–1978). Метафизический период его творчества (1910–1917) значительно превосходит по цене остальное: художник сам осознал этот факт и всю жизнь воссоздавал «метафизические» композиции, лукаво проставляя на них даты этого раннего этапа. Его пастиши, обыгрывающие мотивы таких старых мастеров, как Каналетто, не производят глубокого впечатления на покупателей, сколь бы ни тщились арт-дилеры преподнести их как воплощение модернистской иронии.
Кирхнер, Эрнст Людвиг (1880–1938). Во многих отношениях ведущий немецкий экспрессионист, и на стоимости его картин это сказывается. Великолепная довоенная берлинская уличная сцена была продана за тридцать семь миллионов долларов. После Первой мировой войны, как и многие его коллеги-экспрессионисты, Кирхнер словно бы устал и обратился к приятным, но не столь будоражащим воображение видам гор в Давосе, куда он переехал. Кирхнер совершил две досадные оплошности, серьезно повредившие его бренду: во-первых, он часто задним числом менял даты на своих ранних, экспрессионистских картинах, стремясь состарить их на год-два и тем самым возвыситься в глазах искусствоведов. Во-вторых, в 1920‑е годы он перерабатывал некоторые довоенные картины, отчего их стоимость на современном рынке упала.
Клее, Пауль (1879–1940). Клее – поэт, средствами живописи создававший фантастические видения, поэтому его сюжеты очень трудно оценить с коммерческой точки зрения, а шедевры встречаются у него в любые периоды творчества (хотя на поздних этапах их меньше). Ищите все, что было написано им во время путешествия по Тунису вместе с Макке в 1914 году: это немногочисленные работы, красочные, яркие, пользующиеся безумной популярностью.
Климт, Густав (1862–1918). Более всего на рынке ценятся венские красавицы рубежа веков, написанные в характерной для художника манере с использованием мозаики в духе ар-нуво. Следующую ступень в коммерческой иерархии занимают покрытые листиками золотой и серебряной фольги, перламутром, словно искрящиеся драгоценными камнями, зачастую квадратные пейзажи австрийских озер, создававшиеся начиная с 1910 года. Несколько хуже продаются более угрюмые и мрачные, скорее символистские виды озер, лесов и лугов, написанные около 1900 года, «пейзажи души». И еще ниже ценятся его ранние академические работы 1880‑1890‑х годов, выполненные с точным воспроизведением мельчайших деталей.
Леже, Фернан (1881–1955). Еще один живописец, на кубистические картины которого, созданные до Первой мировой войны, существует непреходящий спрос. Неудивительно, что самой дорогой его работой считается кубистический этюд 1913 года для полотна «Женщина в синем». Образцы послевоенного творчества Леже – неровны и зачастую скучны. Единственная их особенность – замена везде, где только можно, живой плоти цилиндрами и конусами. Произведения, выполненные после Второй мировой войны, – например, рабочие на строительных лесах – в целом не лишены декоративного обаяния.
Магритт, Рене (1898–1967). Баловень сюрреализма, знаменитый бельгиец, он и сам представлял собою подобие сюрреалистической загадки. Трудно установить применительно к его сюжетам ценовую иерархию, однако некоторые темы особенно популярны: шляпы-котелки, трубки, работы серии «Империя света». Вера в то, что из плохой живописи может получиться недурной предмет искусства, в 1940‑е годы помогла ему преодолеть период самопародии, когда он иронически подражал Ренуару; написанные в таком духе картины не пользуются высоким спросом.
Маке, Август (1887–1914). Немецкий художник-экспрессионист, которому выпала на долю восхитительно короткая жизнь. Картины, написанные им в Тунисе в 1914 году, отличаются особенно ярким колоритом и пользуются необычайной популярностью. Его столь рано оборвавшаяся жизнь – наглядный урок другим немецким экспрессионистам, из которых никто не создал ни одного хоть сколько-нибудь значительного полотна после 1918 года, а также парижским фовистам, утратившим жизненные силы после той же войны [см. раздел «Война»].
Малевич, Казимир (1878–1935). Идеальная картина Малевича должна быть создана непосредственно после изобретения им супрематизма (1915), чем раньше, тем лучше. Супрематизм – вариант чистого, абстрактного кубизма, поэтому на картине в ярких тонах должны быть изображены простые геометрические формы. Сюжет сводится к квадратам, прямоугольникам, кругам, хотя по временам на полотнах Малевича можно различить и крест: его стоит поискать.
Мане, Эдуард (1832–1883). Картины и рисунки зачинателя импрессионизма довольно редко выставляются на торги, а если и предлагаются покупателям, производят несколько старомодное впечатление. Рынок ждет от Мане ярких цветов и типичных для импрессионизма тем [см. выше раздел «Импрессионизм»]. Образцы его творчества, не удовлетворяющие двум этим требованиям, не пользуются популярностью.
Марк, Франц (1880–1916). Его картины малочисленны и популярны, так как он погиб молодым во время Первой мировой войны. Несбывшаяся судьба всегда привлекает больше, чем состоявшаяся. Один из главных участников экспрессионистского объединения «Синий всадник», он любил писать лошадей и, как оказалось, совершил идеальный выбор, ибо они воплощали внутренне присущий ему динамизм. Композиции с коровами и свиньями особого восторга на рынке не вызывают.
Матисс, Анри (1869–1954). До сих пор принято считать, что расцвет Матисса приходится на его фовистский период: вот только значительные произведения этого этапа никогда не продаются на аукционах. Интересно, сколько бы стоил «Танец»? [см. главу V «Деньги»]. Тем временем крупные суммы ценители готовы платить за его гибких обнаженных одалисок в красочных интерьерах и за натюрморты. Высоким спросом пользуются и аппликации, коллажи из ярких вырезных фигур, которые он создавал на закате своей карьеры. Менее популярны некоторые его постфовистские пейзажи, если они решены в однообразных, приглушенных тонах, и интерьеры с безликими или несчастными героинями. Достаточно одной улыбки, и они воспринимались бы совсем по-другому [см. выше раздел «Гнев и экзистенциальный страх»].
Миро, Хуан (1893–1983). С точки зрения финансовой стоимости квадратного сантиметра трудно превзойти серию «Созвездия», которую Миро написал в 1940‑е годы: крошечные, с использованием золотых и серебряных тонов, акварели, сплошь покрытые тоненькими, словно паучьи лапки, знаками и символами. Да, ищите у Миро синий цвет: художник чувствовал, что синий – цвет его сновидений, и ранние сюрреалистские композиции, решенные в синей гамме, ценятся выше, чем, например, в коричневой. В преклонных годах Миро, подобно Пикассо, бесконечно эксплуатировал и тиражировал свои любимые сюжеты. Незамысловатые поздние композиции, очень яркие (в идеале в цветах испанского флага) прекрасно воспринимаются и вполне годятся начинающим коллекционерам.
Модильяни, Амедео (1884–1920). Разумеется, самый популярный сюжет у коллекционеров, если речь идет о Модильяни, – это его обнаженные; какие из них предпочтительнее, лежащие или стоящие, – вопрос дискуссионный. Если же брать его одетых дам, то бóльшим спросом пользуются портреты, на которых они стоят, и чем более они гибки, чем длиннее их грациозные шеи, тем лучше. Менее популярны ранние портреты, написанные словно намеренно неумелой кистью. Однако кариатида раннего периода всегда найдет покупателя. Ценители любят и его скульптуру, напоминающую первобытные или африканские образцы, но берегитесь множества подделок. В целом рынок благодарен ему за то, что он умер молодым. Он мог исчерпать себя или начать повторяться, если бы прожил дольше.
Мондриан, Пит (1872–1944). Хотя коллекционеры покупают ранние, предметные пейзажи, подлинный интерес вызывают абстрактные решетки. Редко бывает, чтобы художник столь однозначно соответствовал своему бренду. Любопытно, какие цвета продаются лучше всего? Разумеется, всегда сгодится комбинация трех основных цветов, но самая дорогая решетка не может обойтись без красного [см. главу III «Цвет»].
Моне, Клод (1840–1926). Классический, вечный импрессионист на все времена, всегда помнивший, что обаяние импрессионистской картины создает простая формула: свет плюс цвет. Спрос на его ранние работы: летние луга, сцены на пляже, заснеженные пейзажи, освещенные солнцем, – не падает никогда. Однако его поздние циклы картин сегодня еще более популярны, примерно в такой последовательности: 1. Кувшинки, восхитительные, в чем-то предвосхищающие абстракционизм. 2. Руанский собор, чем ярче освещенный солнцем, тем лучше. 3. Стога сена, как можно более бесформенные, пронизанные светом. В целом его картины, на которых присутствуют некие персонажи, ценятся ниже, впрочем, они приемлемы во вспомогательной роли стаффажа, второстепенного по отношению к ландшафту. Идеально, если у изображенной на холсте дамы в руке зонтик.
Мунк, Эдвард (1863–1944). Мунк создал один из столь прославленных и столь легко узнаваемых образов, «Крик» [см. главу I «Образы (знаменитые)»], что прочие творения художника по сравнению с ним померкли, по крайней мере с точки зрения рынка. Как правило, лучше всего продаются работы 1890‑х годов, исполненные непреодолимого экзистенциального страха, особенно те, что отражают его мучительные отношения с женщинами: «Меланхолия», «Ревность», «Вампир» всегда найдут восхищенных покупателей. Работы XX века, в основном пейзажи, решены в более мягком стиле и ценятся ниже.
Мур, Генри (1898–1986). Один из немногих британских художников среди пятидесяти выдающихся модернистов; славное исключение из правила Байрона, согласно которому «английский скульптор не более возможен, чем египетский конькобежец». В его скульптурах привлекает монументальность, величественно возлежащие фигуры, их безмолвная выразительность, «дыры», соединяющие обе стороны скульптуры, как говорил автор; притягательны и ранние уникальные работы 1920–1930‑х годов, созданные без подготовительной модели. Не обойдены вниманием и скульптуры, выполненные при помощи проволоки и веревок. Овцы не вызывают на рынке бурного восторга.
Нольде, Эмиль (1867–1956). От Нольде ожидают краски, густым слоем грубо наложенной на холст в технике примитивизма. Его сюжеты – леса, цветы, морские пейзажи – и его стиль мало менялись на протяжении его карьеры. Поэтому картина Нольде 1950‑х годов может цениться столь же высоко, сколь и ранняя, 1908–1914 годов, а среди экспрессионистов это большая редкость, ведь принято считать, что почти все они после Первой мировой войны исчерпали себя.
Пикассо, Пабло (1881–1973). Наше ретроспективное восприятие Пикассо – калейдоскоп, в котором то и дело меняется узор из цветных стеклышек, а взгляд приковывает то один период его творчества, то другой. С точки зрения сугубо коммерческой различные этапы его стиля, сменявшие друг друга, сегодня можно представить в виде следующей эстетической (и ценовой) иерархии.
Период Мари-Терез, 1930–1935 годы. Коллекционеров привлекает эротичность, цветовая гамма и лиризм. Здесь можно надеяться на крупную добычу и обрести подлинные шедевры.
Голубой и Розовый периоды, 1902–1908 годы. Прекрасные и трогательные образы маленьких детей и акробатов.
Период Доры Маар, конец 1930‑х – начало 1940‑х годов. Страстные и жесткие образы. Женщины на его картинах часто плачут, и у них есть для этого повод.
Неоклассицизм начала 1920‑х годов. Он возвращается к Античности и вновь находит в ней вдохновение, обретая чистую линию рисунка и вечные образы.
Кубизм, 1908–1914 годов. Период, необычайно важный с точки зрения истории искусства. Пикассо и Брак – «альпинисты в одной связке». Однако бурые тона и высоколобые сюжеты отрицательно сказываются на коммерческой привлекательности картин.
Период старого похотливого сатира, 1960–1973 годы. В последние годы жизни Пикассо черпал силы в подобии старческого приапизма и под его влиянием написал множество небрежных картин и несколько бесспорных шедевров. Современные коллекционеры испытывают перед ними подобострастное восхищение, откликаясь на крупный формат, отрицание условностей и абсолютную свободу.
Конец 1940‑х и 1950‑е годы. Не столь интересный этап, с одним существенным исключением – циклом выдающихся работ «Алжирские женщины».
Сюрреализм конца 1920‑х годов. Пикассо нерешительно примкнул к сюрреализму и создавал в этот период довольно анемичные картины, пока появление в его жизни Мари-Терез не пробудило его творческие силы.
Однако пройдет лет пять, и эта шкала популярности, возможно, будет выглядеть совершенно иначе. Даже теперь, после смерти Пикассо, рецепция его творчества напряженна и изменчива, как при жизни.
Писсарро, Камиль (1830–1903). Лучше всего продаются выполненные Писсарро на закате карьеры панорамные виды парижских улиц, открывающиеся откуда-то сверху, с балконов или из открытых окон. Эти пейзажи непременно должны включать улицы, трамваи, конки и стаффаж. Высоко ценятся также его пейзажи, решенные в строгой пуантилистической манере, и сельские сцены, изображающие сенокос, вязание снопов или уборку картофеля. Менее популярны не слишком удачные обнаженные купальщицы в пейзажах.
Ренуар, Пьер Огюст (1841–1919). Ренуар написал около шести тысяч картин. Не все они одинаково хороши, особенно поздние работы, созданные им, когда он жестоко страдал от артрита. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются классические импрессионистские картины 1870‑1880‑х годов: Ренуар – абсолютный антипод Моне, поскольку лучше всего продаются его ранние картины, а его композиции с человеческими фигурами ценятся выше, чем пейзажи.
Роден, Огюст (1840–1917). Существует совершенно отчетливая иерархия его сюжетов: 1. «Мыслитель» и «Поцелуй». 2. «Ева» и «Железный век». 3. Любая женская фигура, привлекательная в своей мифологической или аллегорической наготе, например «Вечная весна». 4. Такие монументальные скульптуры, как «Граждане Кале», «Бальзак» или «Врата ада».
Северини, Джино (1883–1966). Как и остальные футуристы, пережившие Первую мировую войну, он создал сколько-нибудь значимые картины в эпоху расцвета футуризма, примерно за шесть лет, с 1909 по 1915 год. Только эти его работы и ценятся на рынке. Далее его творчество обнаруживает черты упадка, перерождаясь в чисто декоративное.
Сезанн, Поль (1839–1906). Рынок выстроил шкалу популярности картин Сезанна. Возглавляют список его натюрморты с фруктами, предпочтительно яблоками, далее следуют немногим уступающие им купальщицы, а замыкают список пейзажи без человеческих фигур. Однако, если пейзаж изображает гору Сент-Виктуар, цену явно придется повысить. Известно, что все остальные картины превзойдут персонажи в интерьере, предпочтительно игроки в карты: им и достанется первый приз. Рынок придерживается мнения, что, подобно своим собратьям по цеху постимпрессионистам Гогену и Ван Гогу, чем старше Сезанн, тем лучше. Его ранние картины – странные импровизации на темы то ли Делакруа, то ли Гверчино, его импрессионистский период непримечателен, однако в зрелые годы он положительно сделался новатором и едва ли не изобрел кубизм. Коллекционеры модернистского искусства более всего ценят эти поздние работы.
Сёра, Жорж (1859–1891). Ведущий представитель неоимпрессионизма, или пуантилизма, умер молодым, и потому его картины нетрудно оценить с коммерческой точки зрения: чем позднее созданы работы и чем точнее они отвечают представлению о пуантилизме, тем лучше. Ниже ценятся ранние полотна, написанные в строгом импрессионистском стиле. Хорошо продаются и его рисунки.
Синьяк, Поль (1863–1935). Неоимпрессионист, неуклонно следовавший за Сёра. Рынок, как и в случае с Сёра, более всего ценит его работы 1888–1890 годов в чисто пуантилистическом ключе. В отличие от Сёра, он продолжал писать и в ХХ веке, но его поздние картины монотонны, однообразны и невысоко ценятся. Их покупают, соблазнившись цветовой гаммой и изображенными видами, поскольку Синьяк весьма прозорливо выбирал места, где ныне живут богатые коллекционеры его работ, например Стамбул.
Сислей, Альфред (1839–1899). Описать условия, которым должен отвечать идеальный импрессионистский пейзаж кисти Сислея, совсем не трудно. Он должен непременно включать в себя: 1) голубые небеса; 2) воду, в которой отражаются голубые небеса; 3) листву, испещренную бликами солнца; 4) холст должен иметь размеры не менее 60 × 73 см. Отсутствие одного из этих условий уменьшает стоимость.
Сутин, Хаим (1893–1943). Сутин весьма жёсток как в выборе сюжетов, так и в живописной технике и высоко ценим именно в силу этих обстоятельств. От Сутина коллекционеры ожидают густого импасто – щедро наложенной на холст краски. А к его наиболее популярным сюжетам относятся бойни и мясные туши, написанные энергичными экспрессионистскими мазками.
Тулуз-Лотрек, Анри де (1864–1901). В начале своей карьеры Лотрек в тяжеловесной реалистической манере писал лошадей, а потом довольно удручающих служанок. На рынке эти картины ценятся меньше, чем работы, выполненные после 1890 года, когда он нашел свои темы, превратившись в певца парижских кафе, цирков, борделей, танцзалов и выбрав «плакатный стиль» с обширными цветными плоскостями. Он создал визуальный бренд, воплотивший представление об элегантном и развратном Париже конца XIX века.
Фейнингер, Лионель (1871–1956). Наибольший успех выпал на долю красочных, длинненьких и тоненьких, чуть-чуть сказочных персонажей, населяющих его картины 1908–1914 годов. Затем он стал тяготеть скорее к кубизму, отказался от яркой палитры, и потому поздние его работы продаются дешевле.
Шагал, Марк (1887–1985). Дешевле поздние работы Шагала: чем раньше написаны картины, тем выше они ценятся. Наибольшим спросом пользуются его работы, созданные в юности, в России, или непосредственно по приезде в Париж. Если уж не эти, сойдут и картины 1920–1930‑х годов. В работах 1950–1960‑х годов Шагал все чаще повторяется, однако и эти полотна ценятся в зависимости от количества выдавленной на холст синей краски. Сюжеты могут пользоваться большей или меньшей популярностью, поскольку иногда бывают довольно щекотливыми: откровенно говоря, распятия стараются не покупать.
Шиле, Эгон (1890–1918). Шиле умер от испанки в 1918 году, двадцати семи лет. С точки зрения рынка, может быть, оно и к лучшему, ведь он оставил сравнительно небольшое число работ высочайшего уровня. Он известен в двух вариантах: Шиле-стронг и Шиле-лайт. Шиле-стронг – жесткий, вызывающий, сексуально откровенный. Шиле-лайт – более декоративен и пригож. Пользуются спросом и его лучшие пейзажи, вероятно, потому, что объединяют в себе черты обоих Шиле.
Эрнст, Макс (1891–1976). Самые дорогие и популярные произведения Эрнста относятся к 1930‑м – началу 1940‑х годов, когда он становится приверженцем классического сюрреализма. Чуть ниже ценятся сюрреалистические картины 1920‑х; затем следуют работы 1950–1960‑х годов. Публике нравятся поверхности его картин: чем более выпукла их фактура, чем разнороднее материалы (коллаж, фроттаж и т. д.), тем лучше.
Явленский, Алексей фон (1864–1941). Без сомнения, самые дорогие его работы – это серия экспрессионистских портретов, выполненных непосредственно перед Первой мировой войной. На наиболее талантливых из них контуры моделей окружены лучащейся голубой дымкой, напоминающей кольцо газовой горелки. Его послевоенные портреты – созерцательнее и дешевле, как будто газ отключили.
Innovation Новаторство
В канун Первой мировой войны лондонский художественный мир пережил два немалых потрясения: соответственно в 1910 и 1912 годах критик Роджер Фрай устроил в галерее на Графтон-стрит выставки постимпрессионистского искусства, которое своим новаторством произвело ошеломляющий эффект. Взору британской публики впервые предстали французские фовисты и кубисты, вызвав удивление и негодование. Литтон Стрэчи в декабре 1912 года с благоговейным трепетом отмечал: «Должен признаться, на месте Матисса или Пикассо я был бы польщен: холст, чуть-чуть краски, и вот я, скромный француз, совершил необычайный подвиг, заставив несколько десятков сельских джентльменов каждый день в течение двух месяцев багроветь и наливаться кровью перед моей картиной». Однако более симптоматично, что даже среди посвященных почти не нашлось покупателей.
Картина старого мастера, привлекательная именно своей иллюзией модернизма (Паулюс Бор (ок. 1601–1669). Сидящая обнаженная, моющаяся у печи. Холст, масло. Не датирована)
Сегодня новаторство хорошо продается. Такова глубочайшая перемена, которая произошла в мире искусства за последний век. Сто лет тому назад новая, авангардная живопись шокировала публику, к ней требовалось привыкнуть. Ныне, если искусство не поражает новизной, у зрителей возникает ощущение, будто этому искусству чего-то недостает. Подобная увлеченность новаторством влияет на современный художественный рынок, впервые представляющий вниманию экспертов и зрителей только что созданные картины и скульптуры, оценивающий их с коммерческой точки зрения и словно бы легализующий. Международные аукционные дома сегодня проводят специальные торги, на которых продают предметы современного искусства, причем оборот там значительно выше, нежели на торгах, где предлагают старых мастеров, и даже несколько выше, чем на торгах, где выставляют на продажу импрессионистов и модернистов. История не знает периода, когда современное искусство воспринималось бы столь живо и столь высоко ценилось.
В сущности, отношения современного и традиционного искусства постоянно меняются. Чтобы подчеркнуть реальную или мнимую значимость, а следовательно, и повысить цену произведения современного искусства, предлагаемого к торгам, его описание в каталогах «Сотби» и «Кристи» часто сопровождают репродукциями сходных картин или скульптур прошлого. Иногда сопоставление может показаться несколько искусственным, однако стоит протащить, например, репродукцию «Весны» Боттичелли в каталожную заметку о Джеффе Кунсе, и вы уверите потенциальных покупателей, что Кунс прочно укоренен в традиции западного искусства. Сравнение с картинами прошлого словно узаконивает новые, придает им вес. Впрочем, мы уже наблюдаем и обратное явление. Когда Дэмиен Хёрст в 2009 году показывал свои новые работы в почтенных залах Собрания Уоллеса, у публики сложилось впечатление, что это Дэмиен Хёрст оказывает честь Собранию Уоллеса, вторгаясь в ее святая святых, а не наоборот. Такие современные художники, как Леон Коссофф, в последнее время получили официальное разрешение чинить разбой в Национальной галерее, то есть копировать там великие картины прошлого; эти копии с помпой выставлялись лондонской Национальной галереей бок о бок с оригиналами. Сам собою напрашивается вывод, что современным художникам, сексуальная привлекательность которых в глазах публики может поспорить с очарованием рок-звезд, ныне предоставлена полная свобода: отныне это они в музеях и галереях старых мастеров заново утверждают (или не утверждают) значимость искусства прошлого. Говоря с присущим рынку неприкрытым цинизмом, старые мастера в этом отчасти нуждаются.
Interiors Интерьеры
Изображения интерьеров модны и популярны. В этом сюжете есть нечто завершенное, законченное: ощущение замкнутого пространства радует и живописца, и зрителя.
Безмолвная, пустая комната, идеальный интерьер в датском стиле (Вильгельм Хаммерсхёй. Интерьер. Холст, масло. Ок. 1900)
Иногда художник создает дополнительную иллюзию, виртуозно уводя взгляд зрителя за пределы интерьера через запечатленное на картине окно. Особой популярностью пользуются следующие варианты интерьеров:
Светские гостиные.
Ванные комнаты (если они написаны Боннаром).
Номера отелей в Ницце (кисти Матисса).
Интерьеры датских комнат с одним-единственным стулом.
Мастерские художников около 1820 года, с видами Рима, открывающимися из окон.
Мансарды, на сей раз с видами парижских крыш, открывающимися из окон.
Интерьеры церквей продаются хуже.
Landscape Пейзаж
Если удается точно определить место, изображенное на пейзажной картине, ее стоимость может повыситься в несколько раз. Анонимный пейзаж XIX века, запечатлевший некий холмистый ландшафт, будет стоить значительно меньше, чем тот же пейзаж, идентифицированный топографически: он-де изображает австралийский Сидней или ранний облик Рио-де‑Жанейро. Впрочем, тут можно и опозориться. Однажды я обнаружил на обороте акварели XIX века карандашную надпись, гласящую: «Mount Nog»[35]. Название напоминало о Новой Зеландии, и я, как и полагается, включил ее в австралийский раздел торгов, где продавались картины, представлявшие топографический интерес. За день до аукциона мне объяснили, что надпись – всего-навсего указание багетному мастеру и должна читаться как «Mount no. 9»[36].
Английский пейзаж XVIII века, на среднем плане которого разыгрывается, скажем, партия в крикет, будет стоить куда больше, чем тот же пейзаж без спортивного состязания. Даже воздушный шар, плывущий по небу, может повысить стоимость. Однако будьте осторожны: соблазну пригласить реставраторов и поручить дописать на заурядном холсте XVIII века партию в крикет или воздушный шар не могли противиться многие беспринципные торговцы картинами начала XX века.
Все, что справедливо по отношению к пейзажам, можно отнести и к маринам. Наибольшим спросом пользуется безмятежное море. Чем беспокойнее волны, тем ниже цена. Вероятно, на выбор влияют обычные опасения по поводу дурной погоды, а также легкий приступ морской болезни, ощущаемый при взгляде на картину. А если покупаете полотно, подписанное Томасом Луни, не забудьте посмотреть на дату: этот посредственный английский маринист начала XIX века страдал еще более тяжелой формой артрита, чем Ренуар. Он почти не владел руками, но ни перед чем не останавливался, чтобы только не отказаться от живописи. Его поздние картины отличаются заметной грубостью манеры, и на рынке предметов искусства ходили слухи, будто он писал их, сжимая кисть пальцами ног.
Виды городов и селений обычно ценятся выше, если они идентифицированы. Изображения некоторых мест неизменно пользуются более высоким спросом, чем иные. Возглавляет этот список, по-видимому, Венеция, за нею следуют Рим, Флоренция и Париж. Стараниями импрессионистов виды Руанского собора продаются значительно лучше, чем изображения промышленных кварталов того же города. Заводские трубы вызывают у коллекционеров сомнения. Появление баснословно богатых русских олигархов в последние годы повысило привлекательность видов Москвы и Санкт-Петербурга, а турецкие коллекционеры ввели моду на пейзажи своих родных краев, например Стамбула.
Narrative art Сюжетно-тематическая живопись
Сюжетно-тематическая живопись большого формата, столь восхищавшая наших предков в Викторианскую эпоху, ныне не пользуется популярностью, но, признаюсь, я питаю к ней слабость. Она родилась из иллюстраций к литературным произведениям, вошедшим в моду в конце XVIII века: Шекспир, Вальтер Скотт и Оливер Голдсмит вдохновили множество живописцев, от Хогарта до Делакруа. Ко второй половине XIX века этот жанр решительно порвал со своей литературной основой и сосредоточился на изложении историй, придуманных самими живописцами. Эти сюжетные, или «проблемные», картины (в подражание «проблемным» пьесам) завладели воображением викторианских и эдвардианских посетителей музеев, и они научились интерпретировать нарративные ключи, скрыто присутствующие на полотнах, а значит, читать визуальные драмы, столь же сложные и насыщенные деталями, сколь и романы.
Великолепным примером викторианской сюжетно-тематической живописи может послужить картина Альфреда Рэнкли «Однокашники». Несчастного на одре болезни утешает хорошо одетый гость, присевший на край ложа и сжимающий его руку. Слева стоит встревоженная молодая женщина. Судя по тому, что она положила руку больному на плечо, это жена. Для сиделки такой жест кажется слишком дерзким и вызывающим, однако нельзя исключать, что это сестра прикованного к постели. Как обычно, завязка драмы заключается в названии: «Однокашники». Значит, эти молодые люди когда-то вместе учились в школе. С тех пор их пути разошлись. Гость явно преуспел, тогда как мучимый недугом живет едва ли не на чердаке, о чем свидетельствует открывающийся из окна вид на близлежащие крыши. У окна стоит стол с чернильницей и пером – выходит, больной пытался снискать пропитание писательским ремеслом. Это поприще весьма и весьма ненадежно и не приносит прочного дохода даже в лучшие времена, а теперь, не в силах работать, герой и вовсе оказался в трагической ситуации. Есть и другие нарративные ключи: полупустая склянка с лекарством на прикроватном столике – признак того, что больной получает лечение. Птичка в клетке в правом верхнем углу картины – символ несвободы, безысходности, выпавшей на долю либо начинающего писателя, либо молодой женщины. В руке у преуспевающего гостя – банкнота довольно высокого достоинства, которую перед уходом он тактично, незаметно для больного, передаст героине, дабы помочь ей и ее мужу пережить трудные времена. Однако наиболее красноречивая деталь – это лежащая на полу книга, трактат Цицерона «De Amicitia» («О дружбе»), подчеркивающая главное послание картины, если угодно, ее мораль: страдания может облегчить дружба. Посетитель выставки 1868 года в Королевской академии, потратив немало времени на изучение всех этих значимых подробностей, отходил от картины растроганный, очарованный и получивший моральное наставление.
Все элементы хорошего романа (Альфред Рэнкли. Однокашники. Холст, масло. 1854)
Важную роль всегда играли названия. Возможно, самая знаменитая викторианская сюжетно-тематическая картина озаглавлена «И когда ты в последний раз видел отца?». На этом известном полотне У. Ф. Йимса маленького мальчика, очевидно сына блестящего кавалера-роялиста, скрывающегося от пуритан Кромвеля, допрашивает группа свирепых круглоголовых. Выдаст ли он отца? Разумеется, нет – он малыш не робкого десятка. Однако нельзя исключать, что эти угрюмые и жестокие пуритане обманом выманят у него сведения. Как подумаешь, сердце разрывается. Французы не разделяли одержимости англичан нарративной живописью и поисками визуальной морали. «Как правило, можно без опасений говорить о том, что картина, отягощенная нравственным посланием, – картина скверная», – вынесли суровый приговор братья Гонкуры в 1868 году. Ипполит Тэн, тогда же, в шестидесятые годы, побывавший в Лондоне, сетовал, что пристрастие английской живописи к историям «отводит наслаждению для взора, гармонии, красоте линии и цвета второстепенную роль».
Французы лучше уловили тенденции времени. По мере того как теория модернизма неумолимо двигалась в направлении чистой формы и эстетических ценностей, сюжетно-тематические картины в глазах зрителей дискредитировали себя настолько, что ни один ценитель живописи, хоть сколько-нибудь заботившийся о сохранении собственной репутации, не желал о них и слышать. Однако в ХХ веке нарративная живопись, сосредоточившаяся на содержании, снова пережила всплеск интереса: она возродилась в творчестве представителей поп-арта и нового реализма шестидесятых годов. Она уже не кажется неприемлемой современным коллекционерам. Ныне нарративное искусство включает в себя столь разные образцы, как инсталляции Брюса Чарльзворта из серии «Кто это сделал?» и цикл Ричарда Принса «Медсестры», а идеальным воплощением картины-истории становятся анекдоты и рассказы, сменившие в творчестве Принса и его собратьев по цеху викторианские назидательные изречения, вышитые на холсте [см. выше раздел «Пошлость»].
Nudes Ню
Картины в жанре ню всегда будут бойко продаваться, при условии, что модели привлекательны: сгодятся не только женщины, сойдут и мужчины, впрочем для более узкого круга клиентов. Обнаженная натура притягивает взор. Она может быть сколь угодно возвышенной, являть собою аллегории различных добродетелей, сиять в ореоле благородства и притязать на место в вечности; с другой стороны, она бывает приземленной и похотливой. Иногда она объединяет в себе эти противоположные свойства: созерцая стайки весьма податливых, судя по их облику, нимф, Венер и граций, украшавшие стены парижского Салона в 1860‑е годы, французский художник Жан Франсуа Милле воскликнул: «Никогда не видел ничего, столь явно предназначенного возбуждать чувственные страсти банкиров и биржевых маклеров!»
Рассудочное изображение наготы (Поль Сезанн. Купальщицы. Холст, масло. Ок. 1890)
В XIX веке живописцам дозволялось изображать нагое человеческое тело, при условии, что они играли по правилам и переносили обнаженную натуру, например, в антураж Античности или чужих земель и культур вроде Ближнего Востока. Банкиры и биржевые маклеры с удовольствием платили за нее немалые суммы: жанр ню давал возможность покупать эротику, не нарушая приличий, под видом респектабельного искусства. Неприятности начались, когда художники стали изображать обнаженную натуру в современной обстановке. Дерзкий взгляд, устремленный из пространства холста на созерцателя «Олимпией» Мане, выдает в ней пользующуюся успехом профессиональную куртизанку, в Париже шестидесятых годов не скрывающую рода своих занятий. Столь же неприемлемым оказался реализм, с которым запечатлевал своих обнаженных Курбе. Взору Наполеона III, только что восхищавшегося на выставке в Салоне 1853 года жеманными Венерами и одалисками, предстали бескомпромиссные в своей наготе, нисколько не идеализированные «Купальщицы» Курбе. Он пришел в такую ярость, что даже ударил по картине хлыстом для верховой езды. Его гнев вызвало не столько пренебрежение нормами морали, продемонстрированное художником, сколько осознание собственного лицемерия.
Великолепная и доступная (Амедео Модильяни. Прекрасная римлянка. Холст, масло. 1917)
Мне всегда было любопытно, не представляет ли скандинавская живопись XIX века некое исключение из этого правила, поскольку до восьмидесятых годов на официальных выставках в Стокгольме, Осло и Копенгагене обнаженную натуру можно было увидеть куда реже, чем в Южной Европе. Только с появлением в конце века таких художников, как швед Андерс Цорн, жанр ню становится более популярным. Неужели до тех пор художников мертвой хваткой держал за горло кальвинизм, угнетала угрюмая разновидность скандинавского пуританизма? Затем я осознал, что все дело в изобретении центрального отопления. Подобными соображениями руководствовалась и Полина Боргезе, когда вызывающе обнаженной позировала итальянскому скульптору Канове. На вопрос, не испытывала ли она, разоблачаясь перед ним, некоторое неудобство и неловкость, она отвечала: «Нет, в зале был камин».
Модернистские ню, точно так же как традиционные, отчетливо разделяются на идеальные и эротические. Достаточно сравнить рассудочное исследование формы, предпринятое Сезанном в «Купальщицах», с сексуальной притягательностью одалисок Модильяни. Однако здесь следует учитывать еще одну особенность современного рынка предметов искусства – возрождение викторианской морали в среде ближневосточных коллекционеров. Обсуждавшегося выше Сезанна им еще можно продать, но одалиски Модильяни едва ли украсят стены новых музеев в исламских странах.
Portraits Портреты
С точки зрения коммерческой привлекательности портреты можно классифицировать так: 1) изображения красавиц; 2) изображения знаменитостей; 3) изображения, отличающиеся психологической глубиной. Хорошенькие женщины кисти сэра Джошуа Рейнольдса продаются примерно в десять раз дороже мрачных старцев, запечатленных тем же художником. Не важно, сколь искусно написан мрачный старец. Цена его портрета никогда не сможет соперничать с ценой женского портрета, даже если он выполнен куда хуже. Удивительно, с какой легкостью обыкновенно проницательные критики готовы объявить портрет прекрасным на том лишь основании, что на нем запечатлена прекрасная модель. Полагаю, чтобы установить, имеет ли портрет коммерческий потенциал, достаточно задать себе вопрос, хотите ли вы сидеть рядом с запечатленной моделью на званом обеде.
Идентификация портретируемого может по-разному сказываться на цене. Если он или она – яркая историческая личность, например леди Гамильтон, то идентификация будет явным преимуществом. С другой стороны, «Портрет миссис Томкинс» иногда звучит менее соблазнительно, нежели более обобщенное «Женский портрет». Торговцу картинами Полю Дюран-Рюэлю, продававшему работы импрессионистов, однажды пришлось забрать выполненный Ренуаром портрет некой дамы. Его заказал, а потом отверг ее муж, поскольку портрет пришелся ему не по вкусу. Дюран-Рюэль всего-навсего дал ему другое название – «Среди роз», – привез в Америку и там продал значительно дороже, чем мог бы за него запросить, продавая его как изображение конкретной модели.
Впрочем, берегитесь: иногда личности изображенных устанавливают неверно. Однажды честолюбивый и исполненный больших надежд молодой сотрудник «Кристи» внес в каталог картину под названием «Portrait of the Marchioness of Reading»[37]. Когда коллеги усомнились в справедливости этого предположения, он указал название на обороте. «Вот же, смотрите, – сказал он, – написано: „Lady Reading“»[38]. Он не обратил внимания, что в руке у дамы книга. Еще одно важное обстоятельство – формат портрета. Я замечал, что часто удается продать дороже портрет, на котором женщина изображена лежащей, а не стоящей или сидящей, впрочем, только если она молодая и хорошенькая. Если же она мертва, о повышении цены нечего и думать. Определенную роль могут сыграть и аксессуары: если на портрете кисти художника XVIII века молодой человек изображен с крикетной битой, его удастся продать значительно дороже, чем если бы в руках у портретируемого была шпага.
«Как похоже!» (Джон Хопнер. Женский портрет. Холст, масло. 1789)
Разумеется, некоторые ничем не примечательные модели обретают бессмертие только потому, что их написал знаменитый портретист. Кто бы сегодня помнил мистера и миссис Эндрюс, если бы этому добропорядочному, но скучному провинциальному сквайру не пришла счастливая мысль заказать совместный портрет с женой блестящему Гейнсборо? И наоборот, имена некоторых художников история сохранила лишь потому, что они писали знаменитых исторических личностей. В ноябре 1661 года Пипс заказал два портрета, свой и жены, художнику по фамилии Сэвилл, не известному ни по каким иным источникам. Портрет жены, доставленный 24 января 1662 года, пришелся Пипсу не по вкусу, и он отослал его назад «исправить». «Художник, хотя и честный малый, решительно не владеет искусством светотени: мы долго обсуждали с ним этот вопрос, пока я совершенно не потерял терпение – такой вздор он нес». Бедняга Сэвилл! Впрочем, подобные разногласия с моделями и их мужьями – своего рода профессиональный риск портретиста.
Важный вопрос для представителя портретного жанра, насколько можно польстить модели. Модный британский художник Джон Хопнер (1758–1810) решал его с бесстыдным прагматизмом. Он «имел обыкновение запечатлевать на холсте самое прекрасное лицо, какое только можно вообразить, а затем придавал ему сходство с моделью, огрубляя и упрощая идеальные черты, пока внимательно следившие за его работой ассистенты не восклицали: „Как похоже!“ – вслед за чем он оставлял портрет, более к нему не притрагивался и не тщился более уподобить его истинному облику модели». Ассистенты Хопнера, на которых возлагалась деликатная обязанность воскликнуть в нужное мгновение, выносили суждение одновременно эстетическое и коммерческое.
Возможно, создан в промежутках между отдельными этапами борьбы в мастерской, когда охваченный желанием художник преследовал красавицу, пытающуюся ускользнуть из его объятий (Джованни Больдини. Женский портрет. Холст, масло. 1913)
История знает не один золотой век портретного искусства, а произведения данного жанра, созданные в эти эпохи, продаются за огромные суммы, не в последнюю очередь потому, что их утонченность и шик радовали изображенного на холсте и льстят нынешнему обладателю, повышая его социальный статус и значимость. В Великобритании в 1775–1825 годах творили Гейнсборо, Рейнольдс, Лоуренс, Хопнер, Ромни и Реберн. Еще один расцвет портретной живописи пришелся в Западной Европе на рубеж XIX–XX веков, когда сложился некий международный стиль портретной живописи, в котором сочетались несколько тенденций. В частности, модели придавался роскошный облик, восходящий к парадным портретам в полный рост в духе Ван Дейка, причем художники прибегали к виртуозной живописной манере импрессионистов. Облик этот свидетельствовал о богатстве модели: только весьма и весьма состоятельные люди могли заказать подобные портреты: в Лондоне – Сардженту, в Париже – Джованни Больдини или Полю Эллё, в Стокгольме – Андерсу Цорну, а в Мадриде – Хоакину Соролье. Однако вам следовало подумать дважды, прежде чем пригласить Больдини писать портрет вашей жены. Он имел славу отъявленного соблазнителя, а сеансы в его мастерской то и дело прерывались домогательствами автора и кокетливым сопротивлением модели.
Портреты, созданные модернистами, отличает не столько желание польстить изображенному и придать ему утонченный и роскошный облик, сколько склонность к формальным экспериментам и психологическая глубина. Существует и разновидность этого жанра, где психологизм издавна ценился особенно высоко: я говорю об автопортретах художников. Рынок неизменно откликается на проницательную, бескомпромиссную и зачастую неожиданную визуальную фиксацию внутреннего мира творца, предложенную им самим. Вот каким предстает живописец, избавленный собственной кистью от любых случайных примет. Вот какой памятник он воздвиг самому себе. Рынок предполагает, как правило не без оснований, что для себя художник – самая требовательная модель.
Railways Железные дороги
Полагаю, виды железных дорог хорошо продаются. Зрители любят поезда. В их глазах запечатленный на полотне поезд – свидетельство технического прогресса, уже ушедшего в прошлое, но по-прежнему восхитительного. Железнодорожные и трамвайные рельсы в городской черте – символ разумного, бесперебойно функционирующего урбанистического устройства жизни; в сельской местности они сделались частью пейзажа и словно прочерчивают в ландшафте с геометрической точностью упоительно правильные линии. На поезде или на трамвае вы совершенно точно доберетесь куда угодно, ведь они ходят по расписанию, а в качестве метафоры будущего успокаивают и вселяют уверенность. Однако не всегда было так. Изобретение поезда чрезвычайно расстроило Делакруа, который в 1856 году писал:
«Скоро мы и шагу не сможем ступить, не наткнувшись на это бесовское изобретение, паровоз. Поля и горы распашут, чтобы проложить рельсы: мы будем летать туда-сюда, как птицы по воздуху, едва успев на лету кивнуть друг другу. Мы уже не будем путешествовать ради того, чтобы увидеть прекрасные новые страны и местности, но лишь для того, чтобы достичь одного пункта назначения и тотчас отправиться в другой. Люди начнут ездить с парижской фондовой биржи на петербургскую, ибо предпринимательство заявит свои права на всякого, едва только урожай перестанут собирать вручную, а земля – нуждаться в тщательном, любовном уходе и присмотре. Жажда обогащения, в конечном счете не приносящая блаженства, скоро превратит всех нас в биржевых маклеров».
Железнодорожная революция середины XIX века имела исключительное значение. Время путешествия из одного географического пункта в другой небывалым образом сократилось, а вместе с ним сжался и уменьшился мир. Облик пейзажей меняли железнодорожные пути, туннели и мосты, по которым неумолимо распространялись рельсы, опутывая всю страну. Однако эти невероятные технические новшества неизбежно оказывали на людей психологическое давление, которого они не знали прежде. Делакруа высказывает озабоченность, разделявшуюся большинством его современников. Опасения по поводу того, что самая скорость нового средства передвижения будет иметь серьезные последствия для окружающей среды, общества и экономики, оказались весьма и весьма проницательными. Нельзя вернуться в век невинности, когда люди лишь пахали и сеяли: будущее, в котором можно будет бездумно, с легкостью разъезжать по свету, представлялось Делакруа раем биржевых маклеров. Однако он не мог вообразить (да это было и в принципе невозможно) затронувшее самые разные сферы воздействие железных дорог на искусство.
Одним из первых и наиболее значимых художественных откликов на появление нового средства передвижения стала картина Тёрнера «Дождь, пар и скорость – Большая Западная железная дорога», выставленная в Королевской академии в 1844 году. Описывать ее всего лишь как изображение поезда, переезжающего через мост Мейденхед-бридж под проливным дождем, означает не воздать должное гению художника, ведь Тёрнеру удалось чудесно воплотить на холсте силу пара – стихию, торжествующую над расстоянием и ненастьем. Импрессионистам, которые видели в поездах сюжет, вполне соответствующий их стремлению писать современную жизнь, ни разу не случилось добиться столь совершенной гармонии воздуха, неба и движения. Фоном для знаменитых картин Моне на этот сюжет служит вокзал Сен-Лазар, в депо которого поезда по большей части стоят, а значит, живописец может сосредоточиться на близких к абстрактным эффектах клубящегося на картине пара. Писсарро и Ван Гог пишут пейзажи с поездами, петляющими по холмам и долинам, однако паровозы для них – скорее неотъемлемая принадлежность современной жизни, нежели ее двигатель.
Драма на вокзале: печальная гувернантка отправляется к первому месту службы (Фрэнк Холл. Огромный, огромный мир. Холст, масло. 1873)
Впрочем, железные дороги и поезда в XIX веке добились признания, сделавшись декорациями жанровых и сюжетно-тематических картин. Джулиан Тройхерц различает два типа железнодорожных сюжетов: первый разворачивается на платформе, второй – в купе поезда. Платформа становится местом прощаний: отсюда эмигранты отправляются в Ливерпуль, чтобы уже из Ливерпуля отплыть в Америку, здесь убитые горем гувернантки в слезах обнимают своих разорившихся близких, отсюда родители, держащиеся холодно и чопорно, впервые посылают своих маленьких сыновей в закрытые частные школы. Классическим образцом подобной картины может служить «Вокзал» Уильяма Пауэлла Фрита (1862): на платформе вокзала Паддингтон, за считаные минуты до отправления поезда, разыгрываются всевозможные драмы. Вот иностранец торгуется с жадным кебменом, вот невеста нашептывает на ушко провожающим ее подружкам последние секреты, вот детективы арестовывают преступника, пытавшегося сесть в поезд, вот проливаются слезы, вот отъезжающих заключают в объятия друзья и близкие. Здесь представлены все человеческие типы. Неудивительно, что «Вокзал» стал одной из наиболее популярных и коммерчески успешных викторианских картин: в оригинале, на выставках в Лондоне и во время выставочного турне по Англии ее видели бесчисленные зрители, а затем многие и многие купили ее гравированные репродукции.
С другой стороны, купе поезда являло закрытое, личное пространство, где могли проявляться более интимные человеческие чувства. Купе превращается в инструмент исследования классовых различий: это нужно понимать буквально, так как визуальные драмы, разыгрывавшиеся в первом классе, существенно отличались от тех, что сотрясали третий. В первом классе молодые люди и барышни флиртуют, воспользовавшись тем, что строгие дуэньи и наперсницы заснули в мягких креслах с изысканной обивкой, закутавшись в пышные шубы и роскошные дорожные пледы. В третьем классе оснований для веселья было куда меньше; разлука и страдания в среде низших классов здесь часто изображались на фоне голых деревянных скамей и открытых окон, в которые врывался ветер с дождем.
Соблазнительные красавицы и подвижной состав (Поль Дельво. Синий поезд. Дерево, масло. 1946)
Железнодорожный бум XIX века имел социальные последствия, повлиявшие на искусство и художников косвенно, не напрямую. Гигантские состояния, внезапно нажитые на строительстве железных дорог, впервые позволили разбогатевшим промышленникам и их семьям тратить деньги на предметы искусства. Соответственно, художники все чаще стали писать, угождая буржуазному, сугубо коммерческому вкусу. Американские железнодорожные магнаты откликались на живопись импрессионистов. Нувориши любили новое французское искусство. Например, семья Мэри Кассатт сделала состояние на строительстве железных дорог, а она убеждала близких покупать картины ее коллег – парижских импрессионистов. Полагаю, что железные дороги оказали воздействие на пейзажную живопись еще и потому, что открыли городским художникам сельскую местность; до пригородов можно было быстро добраться из Лондона или Парижа и к ночи приехать домой. Отныне они могли отправиться в Аржантейль или другие живописные местечки на Сене утром и вернуться в город вечером. В Англии художники по той же причине стали все чаще выставлять в Королевской академии пейзажи графства Суррей: до него можно было быстро доехать из Лондона с обратным билетом на тот же день. Может быть, пейзажисты стали писать быстрее, боясь опоздать на поезд, и тем самым невольно способствовали распространению живописной техники импрессионизма?
Положительное эстетическое воздействие самих железных дорог на ландшафт отмечалось почти сразу после их появления, например в 1859 году французским критиком Шанфлери:
«Облокотившись на перила моста, я с удовольствием созерцаю великолепные стальные рельсы, без паровозов просто завораживающие взор. Покатые песчаные откосы, сбегающие к колее меж зеленых полей, голубое небо, железнодорожные переезды, плавные изгибы путей, – разве все это не картины, только и ждущие пейзажиста новой школы? Промышленность в союзе с природой таит в себе некую поэзию, главное – увидеть ее и ощутить вдохновение».
В начале ХХ века образ поезда в творчестве художников, особенно авангардистов, насыщается множеством сложных смыслов. Для живописцев он превращается в эмблему машинной эпохи и символ современности. Мотив поезда, включенный в картину классического модернизма, положительно сказывается на перспективе ее продажи. Динамичность поездов и развиваемая ими скорость особенно восхищали итальянских футуристов. Маринетти, на которого всегда можно рассчитывать, если ищешь хорошую цитату, призывал художников воспеть «вокзалы, жадно пожирающие змеев… Широкогрудые локомотивы, храпящие на рельсах, словно гигантские стальные кони…».
Измученному сознанию модерниста в начале ХХ века неотвратимость железнодорожного пути, которая меня успокаивает, стала казаться чем-то пугающе сродни предопределению. Сев в поезд, пассажир не в силах прервать свое путешествие по заранее намеченному маршруту в заранее намеченный пункт назначения, и это обстоятельство стало вселять в художников не уверенность, а страх. Тревожное чувство отныне вызывали и вокзалы, неизбежно ассоциирующиеся с расставанием. Одна из величайших метафизических картин Де Кирико, написанная в 1914 году, носит название «Вокзал Монпарнас (Меланхолия отправления)». Де Кирико представляет некое промежуточное звено между футуристами и сюрреалистами, в творчестве которых тоже постоянно появляется «железнодорожная» тема. Иногда к этому мотиву прибегает Магритт, но главную роль он играет в работах Дельво, увлеченного поездами до безумия и собиравшего железнодорожные сувениры. Дельво был до безумия увлечен не только поездами, и потому с подвижным составом на его картинах удивительным образом соседствуют соблазнительные обнаженные модели.
Не будь на его картинах поездов, Дельво продавался бы хуже. Не стану останавливаться на этом подробно, но «железнодорожная» живопись пользуется спросом. Возможно, большинство из нас в душе готовы самозабвенно, по-детски, бесконечно разглядывать поезда.
Rain Дождь
Погода на картине весьма и весьма влияет на перспективы ее продажи. Голубое безоблачное небо, как нетрудно догадаться, будет пользоваться бóльшим спросом, нежели дождь или ураган [см. выше раздел «Импрессионизм»]. Наводнения удручают. Впрочем, не стоит полагать, будто ненастье всегда плохо продается: неизменно найдут покупателя и снег кисти Моне или Сислея, и голландские пейзажи XVII века с замерзшими озерами и катающимися на коньках, то есть все, что можно воспроизвести в качестве репродукции на рождественской открытке. Романтики принципиально восхищались неистовством и мраком бури, ливня или урагана, наводящим на мысли о конце света, и изображали их как волнующее проявление могущественных стихий. На мольберте Тёрнера или Каспара Давида Фридриха дождь и в самом деле обретает коммерческую привлекательность.
Конец XIX века отмечен периодом, когда живописцы неутомимо, очарованно пишут и пишут дождь. Появилась мода на пейзажи, в которых либо только что прошел, либо идет, либо собирается дождь, причем сильный. Проселочные дороги развезло, пасмурное небо хмурится, ветер тщится вырвать у персонажей зонтики; потоки дождя обрушиваются на набережную корнуолльского Пензанса, небеса потемнели в Бретани, жены голландских рыбаков, стоя на дюнах, с тревогой вглядываются в набухшие водой тучи и беспокойное море, ожидая возвращения мужей. От побережья Балтийского моря до болот Дахау немецкие пейзажисты таились по домам, пока прогноз погоды не предвещал дождь. И только тогда они решались выйти на улицу с мольбертами и зонтиками, дабы запечатлеть модный природный «эффект».
«Вы никогда не напишете ничего стóящего, пока не простудитесь на пленэре», – заявлял Норман Гарстин в девяностые годы XIX века. Гарстин был представителем ньюлинской школы – объединения художников-реалистов, творивших на побережье Корнуолла. А что же более достоверно передает природу, чем дождь? Реалисты не уставали изображать ее малопривлекательные стороны, чтобы легитимизировать свой способ ви́дения и одновременно противопоставить его склонности академических живописцев приукрашивать, подгонять под классические образцы и всячески облагораживать изображаемый мир. Ньюлинская школа имела отчетливые черты натуралистического, так сказать рутинно-бытового пейзажа. А работая на пленэре, даже под дождем, даже в ненастье, живописец бросал вызов природе и проявлял мужество и стойкость. «Просвещенные проникаются эстетическим чувством, – писал Оскар Уайльд в 1891 году, – непросвещенным кажется, что они простудились»[39].
Невзирая на героические усилия этих пейзажистов XIX века – можно именовать их плювиалистами[40], – дождь по-прежнему остается своего рода коммерческим риском. Однако здесь наличествуют смягчающие обстоятельства. Одно из них – возмещающие психологический ущерб зонтики. Художники давно осознали декоративный потенциал зонтика от солнца, теперь они стали оживлять зонтиками и пейзажи, на которых идет дождь. Дождливые виды парижских улиц Кайботта, на которых бóльшую часть композиции занимают зонтики, с одной стороны, можно интерпретировать как иллюстрацию отчуждения, одиночества, испытываемого жителем крупного города, и ощущения потерянности, неизбежно возникающего у бредущего под дождем прохожего, а с другой стороны, как повод ввести в композицию геометрические мотивы, восхитительные в своей декоративности. Подобному искушению иногда уступал и Ренуар. В целом зонтики положительно влияют на динамику продаж.
Дождь имеет и другую положительную сторону, особенно в глазах тех современных коллекционеров, которые предпочитают природу в ее уютном варианте. Разве не удовольствие – созерцать дождь и метель из окна, сидя дома, в тепле, под защитой прочных стен? Даже популярный викторианский художник Бенджамин Уильямс Лидер, пейзажист старой школы, полагавший, что достовернее всего природу изображают слащавые, сентиментальные виды, не простудился, работая над знаменитой картиной «Февраль-водолей». Затопленную сельскую дорогу и унылые мокрые деревья он писал не на пленэре, спасаясь от дождя, а в мастерской, пользуясь имеющимися зарисовками. Мой коллега Иэн Кеннеди охарактеризовал эту картину как «типичный образец посредственного академического романтизма»:
«Жалкая, убогая, насквозь промокшая деревня. Рядом совсем развезло от дождя дорогу. Так и хочется приглядеться повнимательнее к этой грязи, вдруг заметишь увязший в ней крестьянский башмак. „Февралем-водолеем“ можно наслаждаться в уюте теплого жилища; оказаться в изображенной местности вряд ли кому-нибудь захочется. Глядеть на него – словно стоять у окна и смотреть на низвергающиеся с неба потоки дождевой воды».
Опасения, вызываемые дождливыми пейзажами у коллекционеров, отражает апокрифическая история о том, как Георг VI посетил выставку Джона Пайпера. Среди прочего был показан ряд тонких и проникновенных видов Англии, в том числе изображавших хмурые небеса и ливни. Тщась сказать что-нибудь умное по поводу увиденного, король грустно заметил: «По-моему, вам очень не повезло с погодой, мистер Пайпер».
Sport Спорт
Где-то глубоко-глубоко в душе британца по-прежнему таится убеждение, что лишь искусство, изображающее спорт, достойно уважения. Картины, бесстрастно и основательно запечатлевшие сцены национальных развлечений: спортивной охоты на зверя и дичь, ужения рыбы, скачек, – покупать безопаснее, чем те, что вторгаются в рискованную область человеческих эмоций и страстей. Уж лучше потратить деньги на портрет вашего любимого гунтера, нежели на портрет жены или любовницы. В результате сложилась определенная иерархия популярности изображаемых лошадей, существующая и до сих пор: наибольшим спросом пользуются скаковые лошади, за ними следуют гунтеры и замыкают список ломовые и тягловые крестьянские лошади. Важна и масть: серые кони чаще всего не столь любимы, как рыжие и гнедые. Особенно популярны арабские жеребцы, не в последнюю очередь потому, что находят покупателей на богатом ближневосточном рынке.
Абсолютно точное, сухое воспроизведение спортивного состязания (Альберт Шевалье Тейлер. Кент против Ланкашира, Кентерберийская крикетная неделя. Холст, масло. 1906)
Подобной непреходящей любовью пользуются и картины, которые тщательно, с вниманием к мельчайшим деталям, достойным зоолога или орнитолога, изображают оленей, вепрей, лис, куропаток, фазанов, бекасов, рябчиков, уток, шотландских тетеревов, вальдшнепов. Такая живопись представляет собою старинный вариант трофея, вроде охотничьего кубка: на полотне запечатлена убитая вами дичь. Можно ли было считать почти абстрактную скульптуру Бранкузи «Птица в пространстве» произведением искусства? Этот вопрос обсуждался в ходе знаменитого судебного разбирательства 1928 года [см. главу V «Налогообложение»]. Судья-американец пребывал в растерянности. «Если бы вы увидели такое существо в лесу, то явно не стали бы в него стрелять», – предположил он, словно этот вердикт разрешал все сомнения.
К концу XIX века художникам стали заказывать все более разнообразные спортивные сцены. Игроки в крикет сделались элементом английского пейзажа еще в XVIII веке. Другим спортивным сюжетом, пользовавшимся неизменным спросом, были боксерские поединки: профессиональный бокс пользовался огромной популярностью, ставки на боксерских боях были сопоставимы со ставками на скачках, а сами профессиональные боксеры с их гармоничным, атлетическим сложением часто позировали ведущим художникам начала XIX века. «Теннисные» сюжеты вошли в арсенал жанровой живописи, запечатлевшей быт высших и средних классов. Викторианские жанровые сцены представляют собой бесчисленные теннисные сеты на приходских лужайках. Однако первое, весьма и весьма драматическое столкновение тенниса и искусства произошло значительно раньше: многие художники играли в теннис, чая отдохновения от творческих трудов, но печально знаменитым среди них был Караваджо, отличавшийся вспыльчивостью и буйным нравом. В 1606 году в Риме он повздорил со своим противником по корту и ударил его кинжалом, вследствие чего ему пришлось бежать в Неаполь, а это, в свою очередь, оказало продолжительное воздействие на историю искусства.
Во второй половине XIX века, по мере того как росла популярность гольфа, художники стали изображать эту игру все чаще. Однако картин на этот сюжет в целом сохранилось не так много. Современных арт-дилеров это очень удручает, поскольку популярность гольфа в состоятельных кругах высока и в желающих приобрести подобные работы нет недостатка. Известны случаи, когда беспринципные антиквары несколькими мазками превращали вязанку хвороста на спине у крестьянина в клюшки для гольфа, а его самого – в одного из первых кадди.
Модернизм «спортивный» (Уильям Робертс. Боксеры. Карандаш, перо, чернила. 1914)
Футбольные и регбийные сцены живописцы XIX века трактовали сухо, точно и туповато. Однако постепенно область «спортивного» искусства стал осваивать модернизм. Иногда этот сюжет привлекал футуристов с их интересом к изменчивости и динамизму современного общества. Например, Боччони в 1913 году написал любопытного «Футболиста» (ныне находящегося в музее МоМА в Нью-Йорке). Рисунки и картины Джорджа Беллоу, изображающие боксерские поединки, – в числе наиболее ярких спортивных образов ХХ столетия. Все эти произведения искусства очень и очень дороги. Однако, учитывая роль спорта в современной жизни, он вдохновил на создание крайне небольшого числа великих картин и скульптур. Существует множество полотен и графических работ, важных как память о том или ином спортивном соревновании, но лишь малую толику из них можно отнести к эстетически значимым произведениям искусства. «Спортивная» живопись и скульптура – одна из тех категорий, в которых несостоявшиеся шедевры перечислить проще, чем наличествующие: «Игроки в крикет» Уиндема Льюиса, «Вратарь» Генри Мура, «Человек, забивший гол» Джакометти.
Still Life Натюрморт
Цена традиционного натюрморта зависит от того, какие цветы, плоды, предметы он изображает. Цветы всегда приветствуются, фрукты чаще всего ценятся выше, чем овощи, а битая дичь почти всегда вызывает возражения, особенно если на ней заметны капли крови. Работая в отделе старых мастеров аукционного дома «Кристи», я однажды оптимистично внес в каталог натюрморт, запечатлевший убранство кладовой, под названием «Овощи на полке со спящим кроликом», но никого не обманул: кролик был совершенно очевидно мертв, а картина ушла по стартовой цене. Так называемые натюрморты поджанра ванитас, предназначенные напоминать созерцателю о том, что и он смертен, лучше не принимать к торгам, если череп размещен на переднем плане и слишком уж явно бросается в глаза.
Красноречивый облик башмаков Ван Гога (Винсент Ван Гог. Пара башмаков. Холст, масло. 1886–1887)
Знаменитые голландские натюрморты XVII–XVIII веков пользуются на рынке неизменной популярностью, одновременно сводя с ума несчастных авторов каталогов, гадающих, как правильно идентифицировать изображенные цветы. Если вы верно определили один, то можете выкрутиться, написав: «Розы и другие цветы в вазе»; это частая уловка. Модернизм изменил приоритеты. Подсолнухи стали хорошо продаваться, с тех пор как ими серьезно занялся Ван Гог. Отныне они, включаемые в любой цветочный натюрморт, придают ему оттенок модернистской серьезности, а заодно и вселяют оптимизм, свойственный самому цветку. Даже репейник можно наделить привлекательностью, весьма уместно он выглядит в руках персонажа, одержимого экзистенциальным страхом (я имею в виду Эгона Шиле).
Другие популярные детали натюрморта – музыкальные инструменты и книги. Я особенно люблю те тонкие и проникновенные портреты, на которых нет изображенного, а его место занимает натюрморт, составленный из любимых предметов, может быть со скрипкой или томиком Китса. Даже башмаки «отсутствующего на полотне», например, если их с пронзительной остротой написал, предположим, Ван Гог, могут восприниматься как автопортрет. Человек – это не только его лицо.
Surrealism Сюрреализм
Сюрреализм – это мистицизм для материалистов. Он весьма и весьма моден и никогда не утрачивал популярности, он привлекателен в глазах тех, кто ценит психоделический бэкграунд его безумных сновидений и на первый взгляд дерзкую, но, в сущности, безобидную анархию, создаваемую характерным для него отрицанием логики. Тем самым на элементарном уровне сюрреалистская живопись сводится к незамысловатому образу курительной трубки Магритта с надписью: «Ceci n’est pas une pipe»[41]. Или к другой картине этого цикла, изображению все той же трубки с надписью: «Ceci continue de ne pas être une pipe»[42]. Идеальным воплощением сюрреалистского парадокса стало бы полотно Магритта с начертанными на нем словами: «Ceci n’est pas un oeuvre authentique de Magritte»[43] – и с удостоверением подлинности, выведенным рукою мастера на обороте. Однако, насколько мне известно, он до этого не додумался.
ХХ век можно считать веком сновидений: его начало было ознаменовано исследованиями подсознательного, предпринятыми Фрейдом, а шестидесятые – семидесятые годы отмечены вдохновленными ЛСД фантазиями хиппи. Сюрреалисты представляют собою некое промежуточное звено между психиатрами и хиппи, поскольку рассматривали сновидения как иную реальность, ничуть не менее живую, осязаемую и яркую, чем привычная. «Я верю, что эти два на первый взгляд противоположных состояния, сон и реальность, когда-нибудь сольются воедино, образовав некую абсолютную реальность, надреальность, сюрреальность», – писал Андре Бретон в «Манифесте сюрреализма». Этот рецепт не перестает пользоваться популярностью (и вызывать рост цен на картины) в XXI веке, когда перешло пятидесятилетний рубеж и достигло максимального благосостояния поколение, ностальгически вспоминающее хипповскую юность.
Рене Магритт. Это по-прежнему не трубка. Перо, чернила. 1952
Если искать корни сюрреализма и пытаться проследить зарождение сюрреалистского духа, стоит упомянуть о его любопытном образце – «Песнях Мальдорора» Изидора Дюкасса, опубликованных под псевдонимом «граф Лотреамон» в 1869 году. В них красота маленького мальчика уподобляется «случайной встрече на анатомическом столе зонтика и швейной машинки». Перед лицом технического прогресса второй половины XIX века художественное творчество ощущало необходимость ниспровергнуть аппарат науки, чтобы утвердить принципиальную непредсказуемость и априорную свободу человеческого духа. Бросая вызов разуму и логике, протосюрреализм Дюкасса обретает сходство с миром абсурдных фантазий Кэрролла и лимериками Эдварда Лира в жанре нонсенса. Оказывается, сюрреализм мы видели и до его фактического появления на сцене. Омар, танцующий кадриль в «Алисе в Стране чудес» Кэрролла, – дедушка омара, который превращается у Дали в телефонную трубку. Коллекционеры сюрреалистского искусства собирают картины, все еще движимые верой в то, что свободная игра воображения способна разрушить незыблемые основы технологии.
Если говорить о рыночной стоимости картин сюрреалистов, можно выделить своего рода «первый эшелон», включающий Магритта, Дали, возможно, Макса Эрнста и еще двух великих художников, которые пережили периоды увлечения сюрреализмом: Пикассо и Миро. Чуть дешевле продаются работы Ива Танги, Дельво, Мана Рэя, Виктора Браунера, а в женской секции – полотна Леоноры Каррингтон и Доротеи Тэннинг. Существует золотой век сюрреализма, он приходится на тридцатые годы. Картины этого периода обычно удается продать дороже всего. Краткий словарь сюрреалистских сюжетов, которые пользуются особой коммерческой популярностью, разумеется, не обойдется без трубок и омаров, а также шляп-котелков, мягких, тающих часов, яблок в масках, ночных сцен под ярким солнцем, роз и гребней, увеличивающихся до невероятных размеров и заполняющих собой целые комнаты.
Аукционные дома особенно чутко реагируют на коммерческую привлекательность и брендовый статус современных художественных течений. Соответственно сюрреалистские картины сегодня продаются на специально устраиваемых торгах и образуют отдельную категорию, популярную у интересующейся подобным искусством клиентуры. Если бы аукционные дома не пошли на такую меру, выросли бы, скажем, цены на Магритта до столь головокружительных высот? Мы становимся свидетелями того, как «Кристи» и «Сотби» откликаются на вкус публики, или же того, как они формируют его своей коммерческой политикой? Сотрудники аукционных домов в интервью СМИ утверждают, что, конечно, реагируют на предпочтения ценителей, но втайне мечтают на них влиять. Истина окажется где-то посередине. Аукционные дома стремятся обнаружить крохотный язычок пламени, который затем раздуют, превратив в бушующий огненный столп. Раздувать пламя «Кристи» и «Сотби» умеют, однако создать огонь из ничего им не под силу. Пламя уже должно разгораться в коллективном сознании ценителей, арт-дилеров, кураторов музеев, художественных критиков, не говоря уже о карикатуристах, специалистах по маркетингу и сотрудниках рекламных агентств. А именно это произошло с сюрреализмом.
War (1914–1918) Война (1914–1918)
Сегодня художники, лично побывавшие на войне, пользуются на рынке бóльшим спросом, нежели профессиональные баталисты. Различия между ними отчетливо проявились начиная с Первой мировой войны. До этого профессиональные баталисты, всячески подчеркивая театральность и даже живописность сражений, изображали их как зрелища чуть ли не праздничные, словно бы говоря: ужасные и неприглядные стороны боев выпадают лишь на долю героического солдата, а значит, штатские вполне могут наслаждаться видом сражения с безопасного расстояния. На XIX столетие пришелся расцвет национализма, колониальной экспансии и пропаганды войны, с легкостью переносимый профессиональными баталистами на холст и вызывавший всплеск патриотизма у тех, кто и не думал покидать уютное кресло у камина ради участия в далеких кровопролитных кампаниях. На картинах профессиональных викторианских живописцев война предстает неким подобием стремительных скачек с препятствиями, в которых одни героически одерживают победу, а другие с достоинством проигрывают.
Этому буйству фантазии, ярких цветов и преувеличенных жестов пришел конец в 1914 году, когда викторианская батальная живопись уступила место новому типу картин на военные сюжеты: отныне зрелищность и красочность сменились униформой цвета хаки и грязью траншей. Появился и новый тип художника, непосредственно побывавшего на передовой. Призыв в армию распространялся на все слои населения, и потому зачастую живописцы служили рядовыми, а затем претворяли свой мучительный военный опыт в картины, производящие сильное и тяжелое впечатление.
По всей вероятности, наиболее живой отклик великолепие и красота войны в машинный век вызвали в душе итальянских футуристов, и изначально художники этого направления выступили в поддержку вооруженного конфликта. Маринетти заявил: «Мы стремимся воспеть войну и ее единственно очистительное пламя, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жаль умереть, и презрение к женщинам». (Зачем сюда затесалась мизогиния, не очень понятно.) Однако по мере того, как война затягивалась, их энтузиазм угасал. Единственным футуристом, погибшим во время боевых действий, оказался Боччони, да и смерть ему выпала не вполне футуристическая: он умер от ран, после того как его сбросила лошадь, испугавшаяся автомобиля. Наиболее любопытные модернистские картины той эпохи вызывают в сознании бесконечные, монотонные тяготы окопной войны, предстающей в облике угрюмых и неумолимых механизмов. На картине Фернана Леже «Игроки в карты» солдаты неотличимы от военного снаряжения, а их развлечения столь же бездушны и механистичны, сколь и они сами. Кристофер Невинсон строит композицию своей картины «La Mitrailleuse»[44] вокруг небывалых по силе воздействия, схематичных образов людей, напоминающих орудия убийства в их руках.
Кристофер Невинсон. Пулемет (La Mitrailleuse). Перо, чернила. 1916
Первая мировая война создала произведения, ценящиеся выше, чем искусство, порожденное иными войнами. Однако, с другой стороны, ее разрушительная мощь оказала пагубное воздействие на карьеры значительного числа талантливых живописцев: после войны они словно исчерпали себя. Из поколения художников, прославившихся в исключительно богатые талантами и яркие годы, которые непосредственно предшествовали Первой мировой, почти никто после 1918‑го не создал произведений, сопоставимых с довоенными. Возможно, единственным исключением будут Пикассо и Матисс. Современный рынок задним числом выносит жестокий приговор: если бы большинство этих художников погибли во время войны, они оставили на песках творческой вечности более глубокий след, нежели сумели запечатлеть, выжив. Если уж говорить совсем безжалостно, художников стоило чаще отправлять на передовую, в буквальном смысле, в авангард. У наших противников-немцев на поле брани погибли два великих экспрессиониста: Август Маке и Франц Марк. Печально, конечно, но с точки зрения обеспечения сбыта их немногих работ нельзя было придумать ничего удачнее. В целом чем раньше художник умрет, тем лучше.
Привожу список художников, переживших Первую мировую войну, но впоследствии утративших талант. Перед именем каждого я проставил дату создания его произведения, которое в наши дни было продано на аукционе за самую высокую цену. Эти рекорды ни разу не были побиты ни одной их послевоенной картиной, хотя многие из упомянутых художников прожили после Первой мировой войны пятьдесят и более лет.
1908 Джакомо Балла (ум. 1958)
1905 Морис Вламинк (ум. 1958)
1913 Хуан Грис (ум. 1927)
1905 Андре Дерен (ум. 1954)
1910–1911 Кес ван Донген (ум. 1968)
1918 Джорджо де Кирико (ум. 1978)
1913–1914 Эрнст Людвиг Кирхнер (ум. 1938)
1912 Фернан Леже (ум. 1955)
1910 Макс Пехштейн (ум. 1955)
1915 Джино Северини (ум. 1966)
1910 Эрих Хеккель (ум. 1970)
1913 Карл Шмидт-Ротлуф (ум. 1976)
1910 Алексей Явленский (ум. 1941)
Authenticity •Подлинность
Colour •Цвет
Emotional Impact •Эмоциональное воздействие
Fakes •Подделки
Finish •Завершенность
Framing •Рама
Genius •Гениальность
Nature (Truth to) •Природа (подражание жизни)
Off-Days •Плохие дни хороших художников
Restoration •Реставрация
Size •Размер
III. Притягательность картины
Authenticity Подлинность
Как установить, что картину, которую вы видите перед собой, написал такой-то и такой-то художник? Подпись – немалое подспорье: если картина подписана и вы можете расшифровать имя, следующий шаг – убедиться, что стиль полотна соответствует ожиданиям, а уровень достаточно высок, чтобы подтвердить вашу догадку. Если это известный художник и существует каталог-резоне всех его произведений (не допускающий разночтений, официально опубликованный, полный), то стоит проверить, включена ли туда интересующая вас картина. (Столь же разумно посмотреть, не значится ли она в фондах какого-нибудь крупного музея: если да, вашу картину похитили или подделали.)
Всегда имеет смысл поглядеть, что на обороте. Некоторые эксперты столь одержимы этой магической практикой, что сначала переворачивают картину, а уж потом начинают рассматривать изображение, а иногда и вовсе кажется, что о втором этапе профессиональной деятельности они забыли. Разумеется, на обороте картины можно найти весьма важную информацию: старые этикетки выставок или арт-дилеров, номера аукционных лотов – и проверить по специальной литературе и архивам. На обороте вы можете даже обнаружить надпись или название картины, оставленное самим художником. Однако не слишком увлекайтесь, не повторяйте моих ошибок: я однажды назвал картину «Right of Passage»[45], неверно истолковав памятку прежнего владельца, где ее повесить.
А что же делать, если, опираясь на исследовательскую литературу и архивные данные, атрибутировать картину не удается? Как определить, что перед вами: хорошая имитация или нелучшее произведение гения? [См. ниже раздел «Плохие дни хороших художников».] Если художник, которому приписывается картина, достаточно известен, можно проконсультироваться с признанным экспертом по его творчеству, зачастую из академической среды. Существуют и экспертные комиссии, которые регулярно собираются для обсуждения вновь найденных работ того или иного художника, притязающих на звание подлинных. Лучшим итогом их деятельности будет положительный вердикт вкупе с сертификатом подлинности и письмом о намерениях, согласно которому исследуемая картина будет включена в ближайшее дополнение к систематическому каталогу художника. (Письмá о намерениях вполне достаточно. Издатели, и без того потерпевшие убытки, опубликовав дорогой каталог-резоне, поскупятся выпускать тома-приложения, а дополнение к каталогу очень редко появляется в книжных магазинах.)
Бывает, что есть два признанных специалиста по творчеству художника, причем враждебно настроенные друг к другу. Тогда придется консультироваться у обоих. Если они не сойдутся во мнении, все, что остается аукционному дому, – это выставить картину на торги, напечатав в каталоге обе точки зрения. В таком случае вердикт будет зависеть от стилистического уровня самой работы, а решение с видом знатоков примут ценители и коллекционеры.
Худший итог – отрицательный вердикт, данный экспертом или экспертной комиссией. Если речь о наглой, беспардонной подделке – что ж, она этого заслужила, да свершится правосудие. Однако если отрицательный вердикт вынесен по поводу работы высокого качества и, возможно, подлинной, ее стоимость катастрофически снижается, иногда от нескольких миллионов до нескольких сот. Все, что вам остается, – ждать десять-двадцать лет в надежде, что новое поколение ученых-искусствоведов оценит картину по достоинству. А пока повесьте ее на стену и наслаждайтесь. В конце концов, оттого, что ее потрепали искусствоведы, она ничуть не изменилась.
Идеальным воплощением эстетического пуризма можно считать коллекцию, составленную из неатрибутированных работ высокого уровня. «Смотрите, – провозглашают благородные владельцы подобных собраний, – моя коллекция – полная противоположность тем, что покупают ради подписей. Я ценю картину только потому, что она прекрасна, а она остается прекрасной вне зависимости от того, кто ее написал. Личность автора абсолютно второстепенна». Очень часто такую позицию занимают небогатые профессиональные антиквары и искусствоведы, собирающие потенциально любопытные картины (обыкновенно этот потенциал так и не реализуется). Истина в том, что анонимные произведения искусства дешевле, ведь они лишены важнейшей ауры творческой личности. Установите, кто их создал, и их популярность значительно возрастет. Осознание того, что Рембрандт действительно прикасался к холсту, который вы сейчас держите в руках, – ни с чем не сравнимое ощущение.
Colour Цвет
Яркие цвета хорошо продаются. Арт-дилер, усвоивший эту простую истину, едва ли когда-нибудь разорится. Цвет – то, что непосредственно и властно взывает к взору; это наиболее чувственный элемент искусства. Коллекционеры новых рынков, впервые открывающие для себя современное западное искусство, особенно живо реагируют на насыщенные тона. Поэтому они обыкновенно сначала влюбляются в импрессионистов, совершивших революцию прежде всего в сфере колористики, то есть в правилах использования дополнительных цветов. У каждого из основных цветов – красного, желтого и синего – оказался дополнительный, получающийся при смешении двух остальных. Таким образом, красный объект отбрасывает тень с зеленым оттенком, желтый – фиолетовую, а синий – оранжевую. В результате создается живопись необычайно ярких, насыщенных оттенков. Однако у новых китайцев и новых русских еще большей популярностью пользуются модернисты начала XX века; они известны совсем уж радикальным новаторством в области колористики и накладывали на холст краску большими, яркими плоскостями, словно на детском рисунке. Поэтому в XXI веке дороже всего стали продаваться картины парижских фовистов и немецких экспрессионистов. Жемчужины новых коллекций – Дерен, Вламинк и Матисс, Явленский, Франц Марк и Кандинский. И все это благодаря цвету.
Самые важные цвета модернистского искусства – красный и синий. Для разновидности абстракционизма, всячески подчеркивающей упрощенную геометрическую форму, значимость цвета возрастает. Композиции Мондриана – это, в сущности, решетки, образованные черными линиями на белом фоне. Индивидуальность придает им распределение и цвет прямоугольников внутри геометрической схемы. В идеальном случае в пределах решетки попадаются один-два красных фрагмента, парочка желтых, несколько синих. Можно обойтись без желтого и даже без синего. Однако картина Мондриана без красных прямоугольников едва ли с легкостью станет хитом продаж. Миро или Шагалу, чтобы хорошо продаваться, требуется преобладание синего. «Синий, – говорил Миро, – это цвет моих сновидений». А тем временем от Лос-Анджелеса до Москвы, от Сеула до Стокгольма разносится крик: «Хочу синего Шагала!» Пикассо лучше всего продается самый красочный, то есть тридцатых годов. Опять-таки трудно вообразить хит продаж, Пикассо этого периода, который не был бы решен преимущественно в красных и синих тонах, с добавлением желтого и зеленого.
На самом деле власть красного над человеческим зрением необычайно могущественна. Достаточно притронуться красным к правильно выбранному месту на холсте, и этот мазок придаст всей композиции дополнительное очарование и притягательность. Помню, как в 2009 году я стоял перед великолепным пейзажем Гварди, запечатлевшим Большой канал в Венеции: «Сотби» как раз выставил его на торги. Чуть слева от центра на картине виднелось крошечное красное пятнышко, на первый взгляд почти затерявшееся на фоне зданий, воды и гондол, написанных преимущественно зелеными, синими и желтыми тонами. Однако если вы пробовали смотреть на картину, закрыв рукой это крошечное красное пятнышко, она, как ни странно, утрачивала значительную долю своего обаяния. Пейзаж был продан за двадцать миллионов фунтов. Сколько же в этой сумме приходится на один-единственный мазок?
Как правило, британские художники – не лучшие колористы. Даже когда они не боятся ярких, насыщенных тонов (таковы были прерафаэлиты), они все равно производят странное и неловкое впечатление. На это, попав в Англию, часто обращали внимание озадаченные французы, например Ипполит Тэн. «Несомненно, состояние сетчатки у британцев вызывает опасения», – объявил он в 1862 году. Он не мог постичь именно отсутствия у них вкуса. Он сетовал на английские моды, сравнивая англичанку с «ареной турнира, на которой в жестокой схватке сшиблись цвета враждующих партий».
Британская палитра страдает от прирожденной склонности к темным и мутным тонам, от пристрастия к бурым, земляным цветам. Возможно, на британскую цветовую гамму влияет погода или смущение при виде чувственных ярких красок, однако это особенно заметно, если сравнить общее впечатление от выставки британских картин XX века и куда более живых континентальных работ этого же периода. «Хроматическая температура» в Британии ниже. Для того чтобы излечить палитру от «бурой, земляной болезни», шотландским колористам Джону Дункану Фергюссону, Сэмюэлу Джону Пеплоу и Фрэнсису Кэддлу пришлось сначала поучиться в Париже. Исцеление отразилось и на стоимости их картин, необычайно возросшей за последние двадцать лет.
Иногда покупатель в буквальном смысле слова приобретает картину ради цвета. Помню некоего финансиста, который присмотрел себе яркий интерьер Матисса и решил приехать на торги. Он прилетел в Лондон на собственном самолете, чтобы лично оформить покупку. Выяснилось, что Матисс понадобился ему ради особого оттенка синего. В этот синий влюбилась его жена и хотела непременно видеть на стене комнаты, дизайном которой как раз занималась. Он купил картину и, торжествуя, привез ее домой. Спустя год она снова была упомянута в списке торгов на аукционе в Нью-Йорке. «Она нам больше не нужна, – пояснил он. – Мы нашли подходящий цвет для комнаты».
Emotional Impact Эмоциональное воздействие
Судить о качестве картины можно среди прочего и по тому, способна ли она вызывать эмоции у зрителя. Однако чувства должны быть неподдельными. В мае 1887 года Камиль Писсарро привел дочь на выставку Жана Франсуа Милле. Залы были переполнены, писал Писсарро, и он столкнулся со знакомым, Гиацинтом Позье. Возможно, людей по имени Гиацинт следует остерегаться. В любом случае, отмечал Писсарро, «Позье вместо приветствия воскликнул, что только что пережил величайшее потрясение, он едва ли не рыдал, мы уж было решили, что умер кто-то из его близких. – Ничего подобного, такую бурю чувств вызвала у него картина Милле „Ангел Господень“. Это морализаторское полотно, одно из самых слабых в творчестве Милле, за которое ныне предлагают больше пятисот тысяч франков, производило глубочайшее впечатление на столпившихся перед ним вульгарных мещан. Они чуть друг друга не передавили!»
Весьма душещипательная картина (Артур Хьюз. Скорбное возвращение. Холст, масло. 1862)
Писсарро обрисовал здесь две проблемы: первая – привлекательность знакомого образа для необразованного, не привыкшего задумываться массового зрителя, а вторая – непосредственность эмоционального отклика. Неужели за картину предлагали крупные суммы потому, что публика, глядя на нее, столь расчувствовалась? Или эмоции порождались в том числе ее стоимостью?
Если выстроить иерархию искусств в зависимости от их способности доводить публику до слез, живопись окажется где-то внизу. Пожалуй, более всего трогает музыка; нередко слушатели на концертах незаметно смахивают слезу. Подобное воздействие оказывает и литература: иногда читатель бывает настолько увлечен драматическими событиями, описанными в романе или пьесе, что готов заплакать, сострадая героям. Однако, увидев в художественной галерее посетителя со слезами на глазах, вы скорее решите, как Писсарро, что тот недавно получил известие о смерти кого-то из близких, и едва ли предположите, что эти слезы вызваны созерцанием картины.
Впрочем, и это не исключено. «Поскольку главное назначение поэзии и живописи – взывать к чувствам, – писал в XVIII веке аббат Дюбо, – стихи и картины бывают хороши только в том случае, если способны растрогать и увлечь нас. Произведение, сумевшее сильно растрогать нас, вероятно, великолепно с любой точки зрения». Его поддерживал Дидро: «Волнуй меня, изумляй, терзай, заставь меня содрогаться, рыдать, трепетать, негодовать, а потом уже радуй мой глаз, если только сумеешь»[46]. Стендаль был известен чрезмерной восприимчивостью. Сам себя он сравнивал со скрипичной декой, улавливающей и откликающейся на эмоциональные вибрации произведения искусства, которое он созерцал. Вот как он описывает один день во Флоренции:
«Я… любовался Сивиллами Вольтеррано, испытывая, быть может, самое сильное наслаждение, какое когда-либо получал от живописи (…) Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из церкви Святого Креста, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я еле двигался, боясь упасть»[47].
Теперь подобное состояние обозначают медицинским термином «синдром Стендаля». Он характеризует крайне эмоциональную реакцию на восприятие произведения искусства. Высоко ценится искренность и непосредственность отклика на увиденное.
Ротко сказал в 1956 году:
«Единственное, к чему я стремлюсь, – это выразить художественными средствами самые простые человеческие чувства: безысходность, восторг, обреченность и т. д., – и тот факт, что многие перед моими картинами не выдерживают эмоционального напряжения, начинают рыдать, доказывает, что я действительно могу передать самые простые человеческие чувства. Плачущие перед моими картинами испытывают то же религиозное просветление, что пережил я, создавая свои полотна».
Люди, созерцающие холсты Ротко, по-видимому, часто ощущают желание расплакаться. Они являют абсолютную противоположность тем, кто внезапно начинает аплодировать в аукционном зале, когда Ротко удается продать за семьдесят восемь миллионов долларов. Но точно ли они – антиподы? Может быть, сознание того, что ваши эмоции столь высоко ценятся, льстит.
Однако часто вещи предстают не тем, что они есть на самом деле. Однажды в петербургском Эрмитаже я заметил красавицу, которая неотрывно смотрела на Рембрандта. Созерцание полностью ее поглотило, и я был растроган тем, что она, судя по всему, столь глубоко взволнована. Мне показалось, что на глазах у нее выступили слезы, хотя она и попыталась незаметно смахнуть их быстрым движением руки. Я подошел ближе. И тут меня осенило: картина была за стеклом и красавица, глядясь в нее как в зеркало, подкрашивала глаза.
Признаюсь, я редко плакал перед картиной, а может быть, и не плакал вовсе. С другой стороны, я англичанин и получил традиционное для своей страны воспитание. Живопись, которая производит на меня сильное впечатление, чем-то сродни литературе и взывает к моим чувствам, как роман. Каждый раз, приходя в оксфордский музей Ашмола, я на всякий случай достаю из кармана платок. В коллекции Ашмола есть картина прерафаэлита Артура Хьюза «Скорбное возвращение». На ней изображен мальчик-юнга, распростертый в слезах на поросшей густой травой могиле матери. Она умерла, пока он ходил в свое первое плавание. Рядом с ним преклонила колени его старшая сестра, она в трауре. Фоном служит идиллическое английское кладбище, блики солнца играют на стене старинной церкви на заднем плане. Не хочу обсуждать ее подробно, это слишком меня расстраивает. Однако запечатленное в профиль лицо мальчика, прижавшегося лбом к сцепленным рукам, и трогательную деталь – влажные от слез спутанные волосы на щеке – созерцать невыразимо грустно.
Fakes Подделки
Подделки производят желанное впечатление, когда существует публика, жаждущая воспринимать их как подлинники, и убедительная причина, в силу которой жертва мошенничества настаивает на их оригинальности. В XVIII веке писатель и историк Античности Иоганн Винкельман, никогда не бывавший в Греции, но лелеявший ее древний образ, вдохновляемый пригожими мальчиками, купил прелестный рисунок, который изображал Ганимеда. Винкельман полагал, что приобретает подлинное произведение греческого искусства. Когда его современник, немецкий художник Рафаэль Менгс, признался, что это он шутки ради нарисовал мифического красавца, Винкельман не поверил. Вероятно, так же Геринг реагировал на известие о том, что его Вермеер написан современным голландским мошенником Ван Меегереном (а именно так все и оказалось).
Характерная особенность подделок заключается в том, что они могут обмануть эпоху, когда были созданы, однако, в отличие от подлинников, устаревают и разоблачают себя. Если сегодня посмотреть на картины Ван Меегерена, трудно понять, как он сумел своими имитациями обмануть признанных экспертов тридцатых годов. Наше представление о прошлом меняется. Голландская живопись XVII века в начале XX столетия казалась совсем не такой, как в начале XXI.
Мошенничество может проявляться в разной степени: пейзаж начала XIX века, приписываемый Констеблу, но в действительности созданный не столь крупным неизвестным художником, – это не подделка, а всего-навсего неправильно атрибутированная картина. То же полотно с подписью Констебла – опять-таки не стопроцентная подделка. Это просто не пейзаж Констебла и займет свое законное место в истории живописи, как только с его поверхности будет удалена подпись. С другой стороны, современный пейзаж в стиле Констебла, который подсушили в печи, чтобы состарить, вызвать на красочном слое кракелюр, характерный для картины XIX века, а потом выдать за подлинного Констебла, – наглая подделка, предмет мошенничества. Здесь может помочь научный анализ. Например, однажды мнимый Ван Гог был разоблачен в результате исследования пигментов: оно показало, что картина написана белилами, которые стали производиться только спустя тридцать лет после смерти художника.
Издавна известное приспособление для искусственного состаривания «картин знаменитых художников» («Арт джорнал», 1852)
Важнейшее значение имеют подписи. Тот, кто пытается выдать картину за подлинник некоего художника, совершит уголовное преступление, мошенничество, и будет преследоваться по закону, лишь сделав последний шаг, а именно сознательно сфальсифицировав подпись. Но будьте осторожны: маленькая буковка «n» или сочетание буковок «d’ap» перед подписью, которые злополучный эксперт может принять за уродливый пучок травы, – уловка мошенника, позволяющая ускользнуть от наказания; «n» (от немецкого «nach»), «d’ap» (от французского «d’après») означает «подражание», то есть признание того, что картины – всего-навсего копии написанных известными, более талантливыми мастерами.
Любая картина, честно приобретенная, но, как оказалось, безосновательно приписываемая тому или иному художнику, – разочарование для владельца. Если картина на протяжении многих поколений принадлежала одной семье, разочарование может принять трагические масштабы. Однажды симпатичная пожилая дама принесла для оценки на «Кристи» своего Рембрандта. Она призналась мне, что у нее просто сердце разрывается – так не хочется его продавать, она-де знает от своего отца, что картина очень и очень ценная, но ничего не поделаешь, иначе в старости ей придется голодать. Я с трудом заставил себя честно сказать ей, что это копия XIX века, а значит, стоит меньше ста фунтов.
Легче всего подделать современное искусство. Во-первых, оно не требует столь кропотливого состаривания, а во-вторых, кардинальное различие современного и старинного искусства весьма на руку мошеннику. В основе старинной живописи, как правило, точное и убедительное воспроизведение действительности, а о ее уровне можно вполне здраво судить по изяществу и тонкости, с которыми достигается эта цель. К современному искусству, которое не стремится к детальному воспроизведению реальности, этот критерий неприменим. Здесь проще ориентироваться на категорию стиля. Анализируя стиль, легче установить авторство современной картины, однако, поскольку критерий верного воспроизведения видимого мира утрачен, труднее решить, достаточно ли высок ее уровень, чтобы приписать ее тому или иному художнику. В этом отношении современное искусство – любимый период фальсификаторов. Стиль легко подделать. Впрочем, их прыть умеряет существование обширных и подробных архивов, детально документирующих творчество по крайней мере крупных художников. Каталоги-резоне – списки всех произведений автора, составленные экспертами, – значительно более исчерпывающи и надежны, поскольку первые арт-дилеры, торговавшие работами крупных современных художников, вели документацию добросовестнее, чем это было принято в прежние эпохи. Поэтому проще всего ответить на вопрос, не подделка ли это, заглянув в каталог-резоне. Если картины там нет, не доверяйте ей.
В этом смысле большую проблему представляет творчество Модильяни. Оно не столь надежно документировано по нескольким причинам: он был весьма капризным художником, агент его тоже отличался чудачествами, а итальянцам свойствен неисправимый романтизм, создающий им репутацию фальсификаторов. За последние пятьдесят лет опубликовано несколько каталогов-резоне, охватывающих все произведения Модильяни, но лишь одному из них, составленному Энрико Черони, стоит доверять. Однако имя Черони тоже не абсолютная гарантия. Его вдова, вероятно в надежде на дополнительный источник дохода, принялась выдавать оптимистические сертификаты подлинности, подписывая их именем покойного супруга.
Полностью нельзя полагаться даже на архивы. Наиболее ловкие из современных фальсификаторов нашли способ внедрять подделки и туда. Существует следующий прием: выбрать некую картину, засвидетельствованную в архивах, но утраченную, а затем создать подделку, отвечающую ее описаниям, вкупе с подложными этикетками, удостоверяющими ее участие в выставках, на которых когда-то был показан оригинал. Вселяет опасения афера, предпринятая несколько лет тому назад одним беспринципным дилером с Дальнего Востока. На первом этапе за несколько сот тысяч долларов он покупал подлинное произведение современного искусства, обычно на аукционе, так чтобы эта новость, включая упоминание о цене, попала на специальные интернет-сайты. Затем он создавал подделку, точную копию картины, и продавал ее частному клиенту, выдавая за подлинник, который, как было засвидетельствовано, в том числе в Интернете, он купил на аукционе. Спустя некоторое время он выставлял на аукцион оригинал, зарабатывая и на нем. В итоге в мире параллельно существовали две версии одной и той же картины. Однако беззаконного двойника зачастую разоблачали лишь несколько лет спустя, а аферист к тому времени успевал обналичить оба чека.
Арт-дилеры, аукционные дома и музеи неусыпно бдят, опасаясь подделок. Разработан механизм возмещения ущерба, вступающий в силу в тех редких случаях, когда действительно совершена ошибка. Однако подделки по-прежнему остаются кошмаром художественных экспертов. Однажды меня ввели в заблуждение несколько акварелей, привезенных на шоу «Антиквариат: репортаж с места событий». Это были плохо выполненные пейзажи, как будто в голландском стиле.
– Слушайте, ну и когда они были написаны? – радостно осведомился владелец.
– В начале двадцатого века, – предположил я.
– А вот и нет! – торжествующе воскликнул тот. – Я их сам на прошлой неделе намалевал. Вот смотрите, – продолжал он, вытаскивая еще одну из пластикового пакета, – эту даже подписал: «Герц Ван Ренталь»[48].
На покойного Кеннета Кларка никогда не обрушивались подобные испытания.
Finish Завершенность
Представление живописцев XIX века о «завершенности» картины кардинально отличалось от воззрений на этот предмет художников-модернистов. Делакруа с сожалением отмечал, что приходится жертвовать спонтанностью и непосредственностью картины ради той степени завершенности, которой требуют современные зрители. Он пишет в апреле 1853 года: «Вечно волей-неволей портишь картину, чтобы завершить. Последние штрихи, устанавливающие гармонию между отдельными частями, лишают картину живости и оригинальности. Перед публикой она должна предстать, избавленная от всех небрежно выполненных, но своеобычных подробностей, которые доставляли живописцу такую радость».
Завершена или нет? (Поль Сезанн. Цветы в красной вазе. Холст, масло, карандаш. 1880–1881)
В XX веке художников более не связывает необходимость придавать картине завершенный облик, как того требовали неумолимые традиции. В апреле 1944 года Кит Воган записывает в дневнике беседу с Грэмом Сазерлендом. Они обсуждали весьма любопытный вопрос: когда картина достигает некой стадии, после которой утрачивает целостность или по крайней мере превращается во что-то абсолютно иное? Покупатель вернул Сазерленду картину с просьбой сделать что-нибудь с маленьким фрагментом холста в правом нижнем углу, который чем-то его не удовлетворял. Сазерленд согласился, поскольку сам осознавал, что именно здесь не добился желаемого совершенства.
Далее Воган и Сазерленд задумались, а нет ли во всех великих картинах такого крошечного фрагмента – если угодно, неудачного, – незаконченного, незавершенного и несовершенного, но, в сущности, придающего всей картине убедительность и прелесть. Если попытаться его исправить, картина что-то навеки утратит. Возникает впечатление, словно картина тщится достичь некоего таинственного полного равновесия, но может лишь приблизиться к нему и никогда – его удержать, а если бы ей это удалось, она бы рассыпалась, распалась на составляющие, не вынеся напряжения. Сазерленд и Воган решили проверить чувствительность зрителей к этой особенности, спросив, какая из двух картин производит на них большее впечатление: «Моление о чаше» Беллини или «Моление о чаше» Мантеньи. «Очевидно, что Мантенья совершеннее», – пишет Воган.
«Соединение элементов композиции в пространственное целое у него безупречно; переход от тела к руке, от руки к кисти, от кисти к пальцам абсолютно плавный и виртуозный. У Беллини совсем иначе. Чувствуется, что сведение всех компонентов воедино стоило ему невероятных усилий. Так и ощущается страх мастера: вдруг целое не сложится из фрагментов и картина не удастся. Это напряжение пронизывает всю картину, на нем держатся все ее пространственные связи. Беллини более велик. Мантенья более совершенен».
Фрэнк Ауэрбах объясняет, в какой момент картина представляется ему завершенной, значительно проще: «Когда образы, создаваемые линиями, начинают удивлять своей гармонией и живостью, а мертвое пространство на холсте исчезает, полагаю, картина закончена». А в марте 2004 года Люсьен Фрейд обсуждал тот же вопрос с Мартином Гейфордом, портрет которого писал. «Завершенность картины, разумеется, самая важная штука, – сказал Фрейд и далее пояснил свою мысль, загадочно, но вместе с тем убедительно: – Я осознаю, что работа закончена, когда ощущаю, что пишу уже не свою картину». Ротко прибегает к иной аналогии. Ему требовалось много часов, чтобы добиться верных пропорций и нужного колорита, говорил он. Картина завершена, только «когда все детали плотно смыкаются». «Наверное, в душе я водопроводчик», – заключает он.
Хотя современная публика уже не настаивает на стандартах завершенности, которые бытовали в эпоху Делакруа, отнесение картины к категории «незаконченных» вызывает тревогу на рынке. Почему же художник ее не завершил? Он бросил работу, потому что уровень его не удовлетворял? Вызвало недоумение название выставки, проводившейся в 2000 году в Вене и Цюрихе: «Завершена или нет?» Она посвящалась творчеству Сезанна, а одной из целей устроителей было решить, к какой категории причислить ту или иную работу. Организаторов чрезвычайно озадачило явное нежелание частных коллекционеров одолжить свои полотна, хотя выставка представляла научный и художественный интерес. Кому же захочется, чтобы его картину заклеймили как «незавершенную»? С коммерческой точки зрения это было бы катастрофой.
Framing Рама
Рама, в которую помещена картина, оказывает огромное воздействие на наше восприятие и на цену, за которую ее можно продать. Неверно подобранная рама способна извратить наше впечатление от полотна, более подходящая – значительно улучшить. Выбор рамы зависит от стоимости картины: если вы покупаете Каналетто за десять миллионов долларов, почему бы не потратить еще семьдесят пять тысяч на изящную раму XVIII века, в которой он засияет в полном блеске. Она даже может превратить его в Каналетто за все двенадцать миллионов. Однако если вы потратите те же семьдесят пять тысяч на раму для пейзажа XVIII века, за который заплатили двадцать пять тысяч, она, конечно, улучшит вид, но не поднимет сколько-нибудь существенно его цену, а значит, не оправдает затрат. И напротив, на обычных торгах, где предлагаются картины старых мастеров, клиенты иногда платят неожиданно крупные суммы за самые заурядные копии известных работ или ученическую живопись. Причина в том, что мы, авторы каталогов, учитывали только уровень полотен и справедливо видели в них копии, но не заметили, что они помещены в аутентичные роскошные резные рамы, в которые некогда были вставлены оригиналы. Наблюдательные клиенты быстро смекнули, что стоимость подобных рам в несколько раз превосходит стоимость картин.
Дега сам выбирал рамы для картин
Обыкновенно картины старых мастеров помещают в рамы, соблюдая строжайшие правила: их выбирают в соответствии со стилем, эпохой и местом создания картины. И разумеется, впечатление от картины в оригинальной раме (то есть вставленной в раму самим живописцем или по крайней мере при его жизни) увеличивает стоимость. Эти же предписания распространяются на современное искусство: например, высоко ценятся простые темные деревянные рамы картин немецких экспрессионистов, если они созданы одновременно с полотнами. Однако с воцарением модернизма жестких критериев стиля уже не придерживаются столь строго. Сегодня можно увидеть Пикассо или Миро в черной с золотом итальянской раме XVII века. На современный вкус они смотрятся недурно. Все началось с моды, главным образом американской, на картины импрессионистов во французских рамах XVIII века. Однажды я вынул чудесную пастель Дега, изображавшую балерину, из ее аутентичной белой рамы, сделанной самим художником, и для аукциона поместил ее во французскую позолоченную раму XVIII века, чтобы не отпугнуть американских ценителей живописи конца XX. Пастель была продана за рекордную цену, однако особой гордости я не ощутил. По крайней мере, мы предложили покупателю вновь вставить ее в оригинальную раму.
Genius Гениальность
Иногда вы созерцаете картину, и вас поражает ее блистательное, непревзойденное великолепие. Вы тотчас чувствуете его. Но как определить, из чего именно оно складывается? Легче описать его воздействие, нежели охарактеризовать его составляющие. Жан Кокто отмечает, какое впечатление произвели на него великие картины Веласкеса и Гойи в Прадо:
«Меня ошеломила простота гения. Веласкес и Гойя, кажется, писали очень быстро, накладывая несказанно удачные мазки. Сколько бы мы ни подходили близко к полотну, сколько бы ни вглядывались, сколько бы ни анализировали – все равно непостижимо, как они сумели это создать. А какая смелость! Болеро „Махи“: кисть Гойи бросала на холст желтую краску густым слоем, и меж ее выпуклыми поверхностями сохранились полосы другого цвета. А кружево на воротнике инфанта у Веласкеса: как будто краска стекала у него из тюбика, причудливо ложась слой за слоем, словно капли меда с ложки».
Адриан Стоукс так описывал работу Сарджента:
«Рука его двигалась проворно, словно по клавишам пианино. Впрочем, поражала не столько быстрота, сколько воистину чудесная точность каждого штриха… Все детально запечатлевалось или едва очерчивалось, принимая единственно верный облик. На одни фрагменты картины краска накладывалась густым слоем, другие прописывались, обретая прозрачность и гладкость, всякий мазок был неповторим и быстро и безошибочно воплощал на холсте замысел, родившийся в сознании автора. Это было, если угодно, некое подобие стенографии, но стенографии магической».
Иногда полагают, будто гениальность таится в умении сделать первое удачное прикосновение кистью к холсту, а затем писать «алла прима», ничего более не изменяя. «Posez, laissez»[49], – говорил ученикам барон Гро, намекая на существование некоего божественного вдохновения, направляющего руку живописца: художник словно на мгновение утрачивает волю и отдается во власть демонов, а рука его превращается в орудие некой внешней могущественной силы, с которой нельзя играть и которую нельзя умилостивить. Байрон сравнивал свое творческое «я» с тигром: «Упустив жертву при первом броске, я с рычанием удаляюсь в логово в джунглях и более не повторяю попытки. Я ничего не правлю, я не могу и не хочу менять». С другой стороны, гениальность иногда связывают с усилием и усердием, способностью снова и снова возвращаться к работе, переосмысляя ее, переписывая и бесконечно доводя до совершенства. Это не романтическая, едва ли не ремесленническая версия обсуждаемого феномена, но и ей найдется место в анатомии гения [см. ниже раздел «Природа (подражание жизни)»].
Ошеломляющая простота – первое удачное прикосновение кистью к холсту – магическая стенография – усилия и усердие – или воля судьбы? Однако вы тотчас узнаете гения, как, впрочем, узнает и рынок.
Nature (truth to) Природа (подражание жизни)
На протяжении всей истории искусства живописцев завораживал иллюзорный идеал абсолютной верности природе. Для прерафаэлитов он превратился в мантру. В 1856 году Джордж Элиот писала о Рёскине: «Бесценная в своей правильности теория, коей он учит нас, – реализм, предполагающий, что истину и красоту обретают смиренным и точным воспроизведением природы, конкретной, осязаемой реальности, а не предпочтением смутных образов, рожденных воображением в тумане неопределенных чувств». Прерафаэлиты терзали себя, пытаясь точно, в мельчайших деталях, передать каждый лист.
Гиперреализм как следствие подобной творческой позиции снова и снова заявляет о себе и всегда будет иметь приверженцев. Публика охотно платит за усердие и с готовностью покупает картины, на создание которых потрачено немало сил и времени, о мастерстве исполнения которых можно судить по тому, насколько тщательно и даже педантично они воспроизводят образы объективной действительности. Однако не знающий меры гиперреализм может переродиться в бездумное копирование подробностей. Филипп Эрнст, отец Макса Эрнста, живший на рубеже XIX–XX веков во Франкфурте, был увлеченным художником-дилетантом. Однажды он написал вид собственного сада, ради создания лучшей композиции опустив одно дерево. Однако он был столь привержен теории «верности природе», что, завершив пейзаж, стал испытывать мучительные угрызения совести и срубил дерево.
Свойственная прерафаэлитам бескомпромиссная верность природе – готовность выписывать каждый листик (Джон Уильям Инчболд. Середина весны. Холст, масло. Ок. 1855)
Подобный германский «творческий буквализм» напоминает случай, который любил приводить Бернини. Один испанский аристократ, отправившись в Неаполь, упал с мула и скатился по отвесному склону холма на дно глубокого ущелья, однако чудесным образом совершенно не пострадал. Дабы увековечить это чудо, он заказал вотивную картину, поведав о своем необычайном спасении художнику Филиппо Анджели, который и написал полотно в меру своих способностей, изобразив и падение, и место, где оно произошло. Бернини продолжает:
«Испанцу картина пришлась весьма по вкусу, однако он стал сетовать, что несчастье изображено не на том склоне горы. Живописец указал, что в таком случае оно будет скрыто от взоров, однако заказчик его повторял снова и снова, будто сие есть извращение невымышленного происшествия, и настаивал на том, что оный случай надобно запечатлеть на другом склоне горы. Посему наконец Филиппо, не в силах переубедить глупца, обещал все изменить и стер фигуру заказчика, а потом принес картину обратно, объявив, что поместил ее на противоположном склоне. Испанец провозгласил, что вполне доволен, и заплатил ему немалую сумму».
Импрессионисты научили нас, что достичь верности природе можно и иным способом, а именно воспринимая мир как чисто зрительный феномен. Впрочем, британцы, в силу своего характера, и далее предпочитали более сухую и «буквалистскую», тяготеющую к объективности манеру. Это точно подметил Генри Джеймс:
«Когда английские реалисты, как нынче модно выражаться, „сделали свой выбор в пользу“ неприкрашенной истины и суровых фактов, то непреодолимое стремление к праведности заставило их искупать измену более древним и не столь высоконравственным правилам и условностям искусными, терпеливыми, виртуозными манипуляциями, в первую очередь трудолюбием. Однако импрессионисты, на мой взгляд более последовательные, отвергли всякую добродетель в искусстве и заявили, что грубая тема требует небрежного исполнения. Они послали детали ко всем чертям и сосредоточились на общем впечатлении… Коротко говоря, англичане оказались педантами, а французы – циниками…»
Джеймс был прав: одна из причин, по которой импрессионизм не сразу прижился в Англии, – это его кажущаяся небрежность. Вот еще, платить крупные суммы за картинку, которую художник сотворил, особо себя не утруждая!
Off-days Плохие дни хороших художников
Хорошие художники иногда пишут плохие картины. Полагаю, у всякого живописца выдаются утра, когда он просыпается, встает к мольберту, а работа не клеится. Может быть, у него похмелье, может быть, его беспокоит задолженность по арендной плате или предстоящий приезд тещи. Однако в итоге получается что-то скверное. В большинстве случаев рисунок отправляется в корзину для бумаг, а с картины счищается краска, чтобы использовать холст повторно. Но не всегда: бывает, что неудачная работа попадает в руки арт-дилеру, он продает ее (дешевле, чем обычно, однако художник забирает свои деньги и забывает), и вот уже полотно невысокого уровня приходит в мир, где служит неопровержимым доказательством того, на какой бред способен живописец, когда он не в лучшей форме.
Некоторые художники относятся к себе исключительно строго. «Контроль качества» они превращают в неуклонное следование добродетели. В частности, во имя пущего совершенства Моне в 1909 году отказался посылать на нью-йоркскую выставку очередную партию кувшинок. Подумав, он решил не выпускать их из мастерской как недостаточно удавшиеся. Его агент Дюран-Рюэль, хитрый и расчетливый коммерсант, извлек из первоначального разочарования (выставку-то пришлось отменить!) выгоду, прокомментировав отказ как свидетельство бескомпромиссного стремления мастера к совершенству. Покупая Моне, напомнил он клиентам, вы покупаете достойного Моне, ибо не вполне удавшиеся картины гений обрекает на прозябание в стенах мастерской.
С подобными доводами можно до известной степени согласиться, но лишь при жизни автора. Они не учитывают, что случится после смерти художника. Если он не уничтожил все картины, которые не выпускал за порог мастерской, то там накопилось немало всякого вздора. А есть и наследники, жаждущие заработать на том, что им досталось. Поэтому существует признанная практика: на основе подписи покойного художника изготавливают штамп и ставят его на все неподписанные картины, оставшиеся после смерти живописца в мастерской, завершенные и незаконченные. Соответственно у неподписанных картин, покинувших после смерти автора мастерскую с его штампом, статус вовсе не однозначный. Разумеется, бывали случаи, когда художники при жизни отказывались продавать картины, которые были им особенно дороги или за которые они по личным причинам запрашивали слишком высокую цену. Арт-дилеры и аукционисты с готовностью объявляют, что именно так обстоит дело с «проштампованными», но неподписанными произведениями, которые им довелось продавать. Однако не все «проштампованные» картины можно отнести к этой категории. Некоторые откровенно плохи.
Кроме того, существуют и художники необычайно плодовитые, с легкостью залучавшие к себе вдохновение и неизменно, непоколебимо верившие в собственный миф: они писали слишком много. Таков, например, был поздний Пикассо. Трудно найти человека, который восхищался бы так, как я, несомненными шедеврами, созданными Пикассо после восьмидесяти: их мощь, их изобретательность, их чувственная притягательность неоспоримы. Однако в старости он сотворил/нагородил и немало вздора. Беда в том, что ни он сам, ни его наследники не уничтожили всякий бред. Этот вздор оказался слишком ценным.
Неудачные дни реже случались у старых мастеров, ведь они не стремились завершить работу к вечеру и у них оставалось достаточно времени, чтобы менять, переписывать, совершенствовать. Характерная особенность современной картины в том, что ее приходится писать значительно быстрее, иногда за день, чтобы не упустить непосредственного вдохновения. Подобная точка зрения унаследована от романтизма: «Posez, laissez», – говорил ученикам барон Гро. Первый мазок на холсте – единственно верный, единственно истинный и неподдельный. Исправлять его – значит утратить частицу собственного «я». Так что, если первое прикосновение к холсту неудачно, вам остается лишь писать, преисполнившись надежды, возможно тщетной.
Restoration Реставрация
Картины далеко не всегда то, чем кажутся. Под внешне безупречной поверхностью порой таятся скрытые дефекты, а предав их огласке, можно катастрофически понизить цену картины. Если на ней обнаружатся отреставрированные прорывы или ретушь, выполненная реставратором, то картина будет стоить значительно меньше, чем то же полотно в первозданном состоянии, «dans son jus», как говорят французы.
«Картины как женщины, – утверждает мой друг Джаспер, арт-дилер. – Когда они стареют, без реставрации им не обойтись». Иногда он делится со мной мечтами: вот бы открыть универсальный магазин для миллиардеров. В одном отделе продаются личные самолеты, в другом – роскошные яхты, конечно, разместится там и прекрасная художественная галерея, а еще – особая клиника, где будут реставрировать картины и делать пластические операции их владельцам.
Делакруа бы с ним не согласился. Он писал в 1854 году:
«Многие воображают, будто оказывают картине невесть какую услугу, отдав ее реставрировать. По-видимому, они думают, что картины – ни дать ни взять дома: нанял мастеров, исправил повреждения и изъяны, побелил и покрасил, и дом как новенький, под стать многим вещам, которые разрушает время, но которые мы ухитряемся сохранить для себя, то и дело поправляя и подновляя. Женщинам, умело пользующимся белилами, румянами и сурьмой, иногда удается скрыть морщины и казаться моложе. Не то картины. Каждая так называемая реставрация наносит ей ущерб куда больший, чем разрушительное воздействие времени, ибо в конечном счете перед зрителем предстает не отреставрированная картина, а совершенно новая, изготовленная жалким мазилой, выдающим себя за автора: сам же автор погребен под слоем ретуши».
Существуют различные виды реставрации: реставрация ради устранения дефектов, например прорыва холста или отслоения красочного слоя от грунта, или реставрация, представляющая собою чистку, удаление потемневшего лака и (или) слоя накопившейся сажи, въевшегося табачного дыма с целью вернуть картине исходные тона. Первый вид, разумеется, предполагает куда более радикальные меры, хотя и второй таит в себе опасность. Реставрация поврежденного холста обыкновенно не обходится без дублирования живописи (то есть подклейки под старый холст нового для его укрепления). Дублирование производится горячим утюгом при помощи нагретого воска или клея. Для этой операции требуется невероятная осторожность и все искусство реставратора, иначе красочному слою картины можно нанести непоправимый ущерб, например сгладить импасто и лишить картину эффекта рельефной фактуры, создаваемой наложением краски разной толщины. В ХХ веке у американских реставраторов бытовала мода дублировать все холсты, вне зависимости от состояния, возможно, для того, чтобы обеспечить им бóльшую сохранность в будущем. Теперь, в XXI, когда технологии достигли совершенства, арт-дилеры и аукционисты тратят немало времени и денег на то, чтобы удалить дополнительные холсты из-под неповрежденных и тем самым вернуть им первозданный облик, так сказать предпринимая героические усилия по восстановлению девственности. Возможно, и эту услугу стоит включить в число предлагаемых Джаспером.
Если картина сильно пострадала, перед реставратором встает дилемма: переписывать или не переписывать. Сторонник чистоты и строгости (а таких очень немного) просто укрепит красочный слой и восстановит холст, но не станет накладывать новые пигменты. Прагматик перепишет столько, сколько сочтет нужным, дабы придать полотну первозданный облик. Не так давно в британском суде разбирали дело о картине Шиле, пострадавшей во время пожара и сильно переписанной ретивым реставратором. Судье предстояло вынести вердикт: правомерно ли видеть в картине произведение Шиле, если значительная ее часть написана не его кистью? Он прибегнул к статистическому обоснованию: если более пятидесяти процентов красочного слоя – дело рук реставратора, значит Шиле уже не может считаться автором картины.
Чистка тоже таит в себе опасности. Традиционно картину, написанную маслом, принято было покрывать лаком, и этот последний слой на красочной поверхности обеспечивал и блеск, и защиту. День покрытия картин лаком непосредственно перед выставкой[50] был важным ритуалом в Королевской академии. Однако со временем лак темнеет и искажает оригинальный колорит, иногда придавая ему чарующие оттенки. Цвета, обнаружившиеся в результате удаления старого лака или грязи, могут шокировать современную публику. К тому же требуется большое мастерство, чтобы правильно произвести чистку картины. Художники прошлого последовательно наносили на холст тонкие красочные слои. Неопытный реставратор может удалить не только лак, но и верхний красочный слой, положенный живописцем. Если на удаленном по ошибке слое была и подпись художника, а такое всегда возможно, реставратору повезло еще меньше. Известны случаи, когда незадачливый реставратор в спешке восстанавливал подписи, утраченные в процессе суматошной деятельности в реставрационной мастерской. Однако не будем подолгу останавливаться на таких трагических моментах.
Существует еще и ультрафиолетовая лампа, которой в художественном мире пользуются очень широко. Направив это приспособление на поверхность картины, можно высветить участки красочного слоя, наложенные позже основных. Однако современная наука разработала новые сорта лака, весьма пригодившиеся беспринципным реставраторам. Например, есть маскировочный лак, не пропускающий ультрафиолетовые лучи: он создает впечатление первозданной, девственной красочной поверхности. Жаль бедного эксперта, который, вооружившись ультрафиолетовой лампой, исследует то, что видит (или не видит).
Size Размер
Соблазняться размером или благоговеть перед ним – проявление весьма дурного вкуса, однако, признаюсь, я люблю большие картины. Люблю, когда они занимают почти всю стену. В целом рынок со мной согласен. Скажем, объективности ради, если мы продаем две картины одного автора примерно одинакового эстетического уровня (ну, вдруг такое бывает), то картина большего размера будет продана дороже. Поздний Пикассо, например «Кавалер» размером 150 × 100 см, будет стоить значительно дороже, чем «Кавалер» размером 60 × 50 см. Пейзаж Моне размером 70 × 90 см будет продан за более высокую цену, нежели пейзаж размером 54 × 65 см. Руководствуясь этим простым критерием, первые дилеры, продававшие импрессионистов, относили их к разным ценовым категориям. За картину побольше клиенты скорее готовы были заплатить высокую цену. Маленькие холсты оптически увеличивают, помещая в крупные, тяжелые рамы, но обмануть удается не всех.
Однако есть граница, за которой картина становится слишком громоздкой и потому коммерчески непривлекательной. Если картина застревает в широкой входной двери, едва ли найдется много желающих ее купить. Сколько бы вы ни восхваляли «монументальность» полотна, если его нельзя вообразить на стене современной гостиной, продать ее удастся только с большой скидкой.
Высочайшее качество при небольшом размере (Ян ван Кессель. Натюрморт. Дерево, масло. 22 × 17 см. 1669)
Антиподы громоздких гигантов – картины, написанные по принципу «лучше меньше, да лучше». В тех случаях, когда их, будь то портрет кисти Дюрера, натюрморт Яна ван Кесселя, картина Кранаха или сюрреалистический портрет, написанный Дали, отличает высочайшее, утонченное мастерство, – самая их миниатюрность становится достоинством. Тогда по отношению к ним уместна терминология ювелирного искусства: «маленькая драгоценность», «настоящая жемчужина» [см. главу V «Словарь терминов»].
Degenerate Art •Вырожденческое искусство
Missing Pictures •Пропавшие картины
Restitution •Реституция
Theft •Кражи
IV. Провенанс
Degenerate art Вырожденческое искусство
Нацистский режим прекрасно умел эксплуатировать предрассудки. Объявив, что бóльшая часть современных картин и скульптур, экспонирующихся в немецких музеях, есть образцы вырожденческого искусства, он тотчас получил поддержку народа, ибо сыграл на естественном недоверии широких масс ко всему, что предстает новым или шокирующим. «Неужели кто-то воспринимает эти картины серьезно? – вопрошала нацистская пресса в рецензиях на выставку экспрессиониста Оскара Шлеммера, которая проходила в Штутгарте в марте 1933 года. – Неужели у кого-то они вызывают уважение? Неужели кто-то станет настаивать, что это – произведения искусства? Они же не закончены, с какой стороны ни взгляни! Уж лучше бросить их в мусорную кучу, пусть там спокойно гниют…»
Постепенно власти прививали массам мнение, что подобному искусству, признаку вырождения, не место в немецких общедоступных музеях. Слово «вырождение» впервые употребил в одноименном труде («Entartung») 1892 года писатель Макс Нордау, как ни странно еврей по происхождению: он объявил, что все современное искусство страдает патологической неврастенией. Кроме того, нацистам очень пригодилась книга Пауля Шульце-Наумбурга «Искусство и раса» (1928), в которой фотографии тяжелобольных и уродов, заимствованные из медицинских учебников, перемежаются репродукциями современных картин и скульптур. Вырожденческое искусство изгонялось из музеев вместе с популяризировавшими его музейными кураторами. Закрывали антикварные магазины, которые специализировались на его продаже. Выставку Франца Марка запретили на том основании, что она-де ставит под угрозу общественный порядок и безопасность: ни дать ни взять предшественники современного комитета по охране труда, опутавшего своими щупальцами учреждения культуры. Нацистские власти дошли до того, что пытались запретить «художникам-вырожденцам» заниматься живописью. Им даже не разрешалось покупать краски, кисти и холсты. К ним наведывались агенты гестапо, чтобы застать врасплох и выяснить, что же они делают у себя в четырех стенах. Некоторые, например Макс Эрнст, бежали из страны. Другие, подобно Кирхнеру, покончили с собой. Художественных критиков заставили подчиниться господствующей идеологии. В ноябре 1936 года Геббельс объявил любую художественную критику вне закона. «Отныне художественную критику должен сменить репортаж об искусстве, – провозгласил он. – В дальнейшем лишь тем, кто станет выполнять эту обязанность с чистым сердцем и с истинно национал-социалистическими убеждениями, будет дозволено печатать репортажи об искусстве».
Разумеется, это не первый пример вмешательства властей в дела искусства с целью диктовать, что приемлемо, а что нет. В годы Французской революции такую политику проводили республиканцы, тщившиеся избавиться от религиозного искусства. Художникам запрещалось писать картины на подобные сюжеты, а любое произведение, заподозренное в разжигании религиозного фанатизма, подлежало изгнанию в запасники.
В 1937 году картина продана кёльнским музеем Вальрафа-Рихарца «с целью покупки более важных экспонатов» (Эрнст Людвиг Кирхнер. Площадь Альбертсплац в Дрездене. Холст, масло. 1911)
А какое искусство любили нацисты? Нордическое, уверяли они, прославляющее здоровое, исконное ощущение принадлежности к германской нации. Определение «нордическое искусство» оказалось довольно растяжимым и таинственным образом включало не только немецкие соборы, Дюрера, Альтдорфера, Гольбейна и «уютных» романтиков XIX века вроде Карла Шпицвега, но и лучшие образцы классического искусства, даже греческую скульптуру и некоторые шедевры итальянского Ренессанса. В области современного искусства приемлемой считалась глянцевая безупречность, годная для украшения конфетной коробки. От искусства требовалась абсолютная завершенность: все, что могло показаться хоть сколько-то незаконченным, вызывало отвращение. В этом вкус Гитлера совпадал с пристрастиями кайзера. В 1937 году в Мюнхене был открыт новый музей нацистского искусства. На стенах его сентиментальные изображения чистеньких крестьянских семей соседствовали с картинами, запечатлевшими рослых обнаженных ариек (идеал немецкой женщины), а между ними затесались героические сцены, в том числе портреты фюрера в сияющих рыцарских доспехах.
Одновременно с выставкой нацистской живописи в Мюнхене проводилась другая, под названием «Вырожденческое искусство», призванная продемонстрировать ничтожество и смехотворность «дегенератов». Были показаны произведения ста тринадцати художников, однако они составляли лишь малую часть из тех шестнадцати тысяч, которые нацистские конфискационные комиссии в конечном счете изъяли из немецких общедоступных музеев. Картины «вырожденцев» были повешены так, чтобы предстать зрителю в как можно более невыигрышном свете, часто без рам. Авторы выставочного каталога обращали внимание на варварскую грубость Кирхнера, пропаганду марксизма, присущую Отто Диксу и Георгу Гроссу, расовую нечистоту экспрессионистской скульптуры, «бесконечное потакание еврейским затеям» и «абсолютное безумие» кубизма и конструктивизма.
Иногда конфискационным комиссиям приходилось принимать щекотливые решения. Можно ли признать импрессионизм вырожденческим искусством? До лаковой картинки на конфетной коробке он явно недотягивал, что уже заключало в себе некоторый риск, однако из фондов музеев изъяли всего несколько импрессионистских полотен. Трудности возникли и с Ловисом Коринтом. Его раннее творчество, воплощавшее здоровый германский дух, было приемлемо, а вот позднее сочтено декадентским. В конце концов нацистские эксперты решились на компромисс, вспомнив, что в 1911 году художник перенес инсульт, который можно было рассматривать как поворотный пункт в его карьере. Объясняя физическим недугом моральную деградацию, эксперты пришли к выводу, что картины Коринта, написанные до 1911 года, соответствуют духовным запросам нации, а созданные после надлежит заклеймить как вырожденческие.
А что же делать со множеством декадентских произведений, которые власти собрали в ходе конфискаций? Нацисты не были лишены прагматизма и потому осознавали финансовую ценность некоторых работ на международном рынке. В итоге они без лишнего шума устроили несколько частных торгов, а затем, в июне 1939 года, крупный публичный аукцион в галерее Фишера в Люцерне: на нем были проданы сто двадцать шесть произведений искусства. Участие в этом аукционе поставило многих коллекционеров перед дилеммой: они знали, что их деньги пополнят казну режима, основанного на попрании нравственности и репрессиях, однако в противном случае картины, в том числе шедевры Пикассо, Матисса, Ван Гога, Гогена, Модильяни и всех известных экспрессионистов, могут погибнуть. И разумеется, некоторым из участников аукциона фантастически повезло. Картина Пикассо «Акробат и маленький арлекин», изъятая из фондов Вуппертальского музея, была куплена на торгах в Люцерне за сумму, равную нескольким сотням долларов. В 1988 году она была продана на «Кристи» за тридцать восемь миллионов долларов.
Впрочем, и после частных, и после публичных торгов количество конфискованных вырожденческих картин, оставшихся на складе в Берлине, где они хранились, уменьшилось ненамного. 20 марта 1939 года тысяча четыре картины и скульптуры, а также три тысячи восемьсот двадцать пять рисунков были сожжены в соседнем дворе, принадлежавшем Главному управлению пожарной охраны Берлина, а его сотрудникам тем самым предоставлена ценная возможность подняться по учебной тревоге.
Если сегодня становится известно, что та или иная картина была объявлена нацистами вырожденческой, то по непостижимой иронии судьбы ее ценность увеличивается. А если удается доказать, что какие-то произведения искусства были изгнаны в тридцатые годы из государственных музеев Германии, их стоимость тем более возрастет, и не только в силу сомнительного аргумента, что все третировавшееся и уничтожавшееся столь злобным и безнравственным режимом, как нацистский, должно быть прекрасно и удивительно. Скорее, дело в том, что изначально эти картины считались выдающимися и потому были приобретены крупными музеями, а провенанс, предполагающий пребывание в фондах подобного музея, – большая редкость и соблазн для рынка.
Missing pictures Пропавшие картины
Какая радость – найти пропавшую картину. Однажды, в 1980 году, я обнаружил считавшееся утраченным полотно, подумать только, в запасниках Национальной галереи Осло. Меня пригласили взглянуть на что-то другое, но в дальнем темном углу мне почудилась обнаженная в полный рост, несомненно кисти какого-то викторианского художника.
– Что это? – спросил я.
– Картина, мы ее тут храним со Второй мировой войны. Хозяин пока не объявился.
Картина была подписана сэром Лоренсом Альма-Тадемой. Выяснилось, что это любопытное полотно известного викторианца, всячески пытавшегося вдохнуть новую жизнь в Античность. Оно носит название «Скульптор и натурщица» (подобно многим живописцам прошлого, Альма-Тадема, на радость последующим поколениям искусствоведов, вел «Liber Veritatis»[51], где даже нумеровал все свои произведения). Расследование, которое я провел в Лондоне, показало, что в 1940 году картина принадлежала британскому послу в Норвегии. Ему пришлось оставить ее, когда он спасался от нацистов. Я без труда разыскал в Англии его сына, который с удивлением принял новонайденную картину. Иногда я спрашиваю себя, уж не рад ли втайне был посол «утратить» полотно в 1940 году. Оно громоздкое, а в то время стоило совсем немного. Совершенно точно, особых усилий, чтобы вернуть картину, после войны никто не предпринимал. Однако к 1980 году цена ее вновь повысилась, и потомки посла вскоре продали ее за сто двадцать одну тысячу фунтов.
Картины пропадают по разным причинам: одни похищают, другие погибают, третьи просто теряются, и о них забывают, четвертые исчезают в семейных коллекциях и наследуются из поколения в поколения людьми, и не подозревающими об их художественной ценности. Среди погибших картин высочайшего уровня можно назвать «Мученичество святого Петра» Тициана (уничтожена пожаром в 1867 году) и «Каменотесов» Курбе (испепеленных огненным шквалом во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года). О том, что эти полотна, трагическая гибель которых полностью документирована, в принципе существовали, мы знаем по старинным копиям, гравюрам и фотографиям. Подобные свидетельства доказывают существование и других утраченных произведений искусства, судьба которых представляется неясной.
Где, например, портрет Мане кисти Моне, на котором Моне запечатлел своего собрата по цеху сидящим в его, Моне, саду в Аржантейле, возможно, в июле 1874 года, на переломном этапе развития импрессионизма? Портрет находился в собрании Мане до самой его смерти в 1883 году, после чего был унаследован вдовой, а она продала портрет известному немецкому импрессионисту Максу Либерману. Либерман умер в 1935 году, портрету удалось ускользнуть от нацистов и войти в нью-йоркскую коллекцию наследников Либермана, однако он был похищен оттуда до Второй мировой войны. С тех пор никто его не видел, и только старая фотография позволяет судить о том, как он выглядел.
Безмятежно почивала в запасниках Национальной галереи Осло (Лоренс Альма-Тадема. Модель скульптора. Холст, масло. 1877)
А куда исчезли портреты пяти безумцев, написанные Теодором Жерико в 1820 году? Цикл из десяти портретов был заказан живописцу его молодым другом, пионером психиатрии Этьеном Жорже, возможно, после того, как Жорже исцелил самого Жерико от приступа безумия [см. главу I «Жерико»]. Жорже умер от чахотки в 1828 году, вслед за чем пять портретов цикла были проданы его коллеге-медику, доктору Лашезу. Во второй половине XIX века они вновь появились на рынке, ныне находятся в крупнейших музеях мира и признаны шедеврами этого жанра. Остальные пять были проданы некоему доктору Марешалю и якобы украшали стены его дома в Бретани. Где же они сейчас?
В 1636 году Клод Лоррен написал вид средиземноморской гавани, дав ему название «Napoli»[52]. Пейзаж имел размеры 76 × 98 см. Он исчез. «Liber Veritatis» Лоррена – настоящая находка для детективов, разыскивающих пропавшие предметы искусства, поскольку в ней не только перечисляются все картины, которые он когда-либо написал, но и приводятся их графические копии. Таким образом, нам впервые стало известно о существовании этого утраченного вида гавани из «Liber Veritatis», ныне хранящейся в Британском музее. Мы также располагаем сведениями об истории полотна, написанного масляными красками и запечатленного на рисунке в импровизированном автокаталоге. Изначально оно принадлежало герцогу Ришелье, а впоследствии, около 1837 года, оказалось у известного шотландского коллекционера Арчибальда Макленнана. Макленнан завещал свое собрание музею Глазго[53]. Между 1870 и 1882 годом музей заключил странную сделку с Императорским музеем Токио, обменяв Лоррена и еще двадцать три картины на несколько предметов восточного искусства. Ясно лишь, что назад Лоррен не вернулся. Ныне Императорский музей сделался Национальным, но в его архивах нет никаких упоминаний о Клоде Лоррене. Может быть, его похитили в хаосе разрушительного токийского землетрясения 1924 года? Или его украл какой-нибудь американский солдат в 1945 году?
«Пробужденный» Рубенс (Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев. Дерево, масло. 1609–1611)
Возможно, более прозаическая судьба выпала на долю одного из вариантов «Прозерпины» Россетти, вполне в духе прерафаэлитов изображающего голову богини, моделью для которой послужила Джейн Моррис. В 1872 году художник отправил картину поездом с вокзала Паддингтон в глостерширский Лечлейд. Однако, когда в Лечлейде стали разгружать багажные вагоны, ее там не оказалось, и с тех пор никто ее не видел. Что, если вот уже полтора века она томится на складе железнодорожного бюро находок?
Есть и другая категория произведений искусства: они не то чтобы утрачены, но пребывают в безвестности, авторство их забыто, они безмятежно почивают. Отсюда сленговый термин «спящая картина», то есть та, что появляется на рынке смиренно и скромно, не снискав причитающихся ей почестей, не вызывая должных восторгов, атрибутированная какому-нибудь второстепенному художнику. Арт-дилеры и коллекционеры живут надеждой на подобные открытия, но они случаются редко. Князь Лихтенштейнский около 1700 года купил у ведущей антикварной фирмы Антверпена «Избиение младенцев» Рубенса, а в 1920 году его потомки продали картину. В XVIII веке ее статус понизился, поскольку авторство ошибочно приписали Яну ван ден Хуке, посредственному эпигону Рубенса. С тех пор она почивала. Только в 2002 году ее разбудили, отправив на торги аукциона «Сотби», где эксперты и узнали в ней работу Рубенса, созданную около 1610 года, вскоре после его возвращения из Италии, и «возвестившую, подобно трубному гласу, начало эпохи барокко во Фландрии». «Подобно трубному гласу», она «возвестила» также могущество и прозорливость современного рынка старых мастеров и была продана за сорок шесть миллионов фунтов.
Вновь открыть исчезнувшую картину всегда означает пережить некое подобие откровения, а самый этот факт неизменно восхищает рынок. «Открытие» предполагает свежесть чувств, возможность прикоснуться к чему-то, чего никто не видел в течение многих поколений. И напротив, картины, за короткий срок несколько раз выставлявшиеся на торги, словно запятнаны, вне зависимости от их объективной ценности. Они напоминают людей, которые неоднократно разводились, и не вызывают особого восторга оттого, что были столь доступны.
Restitution Реституция
Произведения искусства захватывали в качестве военных трофеев еще в глубокой древности. С тех пор как стали создавать картины и статуи и видеть в них некую ценность, они возглавляют список желанного имущества, которое победители стремятся отнять у побежденных: добыча достается завоевателю. Множеством картин и скульптур завладел Наполеон. Опустошив Италию и Испанию, он привез в Париж немало великих произведений искусства. В Лувре, переименованном в его честь в Музей Наполеона, император разместил одну из самых удивительных художественных коллекций, которые когда-либо видел свет. После поражения Наполеона при Ватерлоо союзники инициировали процесс реституции. Похищенные предметы искусства возвращали на родину. Жерико и другие молодые французские художники не могли сдержать слез, глядя, как шедевры, с которыми они выросли, упаковывают в ящики и отправляют домой.
Разграбление коллекций во время Второй мировой войны заставило художественный мир столкнуться с прежде невиданными трудностями. Во-первых, поражали масштабы хищений, совершенных нацистами, – иногда из музеев, но чаще из личных собраний в оккупированных странах. Во-вторых, в течение целых пятидесяти лет из-за холодной войны жертвы не могли получить доступ к важнейшим архивам Восточной Европы. Да и на Западе хранилища информации, например Национальный архив в Вашингтоне, стали предоставлять конфиденциальные сведения о разграблении нацистами предметов искусства во время Второй мировой войны только в девяностые годы. В это же время правительства Германии, Австрии и Швейцарии приняли законы, которые облегчали претендентам на реституцию, в особенности лицам еврейского происхождения, процедуру возвращения имущества, похищенного во время войны.
Иными словами, последние конфликты в мире искусства были разрешены лишь спустя сорок – сорок пять лет после окончания войны. Запоздало устанавливались факты хищения ценных картин, проводились долгие расследования, принимались казуистические решения. Подобные судебные дела возбуждаются и в начале XXI века. Первые владельцы картин и скульптур давно умерли, зачастую погибли в концентрационных лагерях. Судьба евреев, среди которых был ряд известных коллекционеров, в оккупированной нацистами Европе складывалась одинаково: сначала их лишали прав, затем – собственности, а под конец и самой жизни. Возвращение предметов искусства их потомкам можно расценивать как беспомощный, но символический жест раскаяния.
Рисунок, возвращенный Национальной галереей Берлина родственнице владельца (Винсент Ван Гог. Оливы. Перо, чернила. 1888)
В 2002 году Национальная галерея Берлина вернула «Оливы» Ван Гога, некогда принадлежавшие Максу Зильбербергу, его престарелой невестке. Это был один из первых примеров тщательно расследованного иска и возмещения ущерба. Зильберберг, еврей по происхождению, крупный промышленник из Вроцлава, в 1935 году продал свою коллекцию на аукционе в Берлине, где Национальная галерея и приобрела рисунок Ван Гога. Спустя несколько лет Зильберберг погиб в концлагере. Только в конце девяностых, когда были открыты архивы, выяснилось, что в 1935 году он заключил сделку под давлением и потому она не может считаться законной. Было установлено, что единственная его выжившая наследница поселилась неподалеку от Лейстера: ей передали рисунок Ван Гога, от которого незамедлительно отказалась Национальная галерея Берлина.
Потомкам нескольких жертв – уроженцев Вены удалось добиться возвращения из австрийских музеев прославленных картин Климта и Шиле, а одна немецкая общедоступная галерея вернула наследникам великолепного Кирхнера. В целом можно только похвалить музеи за то, что они с готовностью расстаются со своими картинами, после того как тщательное расследование доказало их незаконное приобретение в годы нацистского режима. По наихудшему сценарию разыгрываются события, когда картина, находящаяся сегодня в частной коллекции и купленная честно, оказывается похищенной во время войны. Сын или внук первого владельца требует ее вернуть. Нынешний обладатель не хочет уступать картину, которая, возможно, стоит миллионы долларов, но, испытывая чувство неловкости, вынужден признать, что, пока над нею тяготеет законный иск о реституции, продать ее нельзя. Это психологически неразрешимая проблема, преступление с двумя жертвами. Чрезвычайно сложно уладить спор к взаимному удовлетворению, когда на одной чаше весов лежит весь ужас холокоста, а значит, глубокая моральная ответственность перед памятью погибших. Случается, что сторонам удается достичь соглашения, продать картину и разделить полученные деньги, но очень часто, даже выбрав такое решение, они чувствуют себя ущемленными. Простых выходов из подобных ситуаций не бывает.
Иногда реституция невозможна потому, что не осталось в живых потенциальных истцов. Во время холокоста были уничтожены целые семьи, не оставившие потомков. Едва ли не самое тягостное и скорбное впечатление на меня произвели несколько картин, которые мне довелось видеть в стенах живописного бывшего монастыря в пригороде Вены; туда меня пригласили в 1986 году. В монастыре располагалось хранилище предметов искусства, конфискованных нацистскими властями у австрийских коллекционеров еврейского происхождения и невостребованных. В конце концов эти картины были проданы на аукционе, а вырученные деньги правительство Австрии передало еврейским благотворительным организациям. Однако, когда я впервые увидел их, они, сложенные штабелями и на первый взгляд брошенные, показались мне сбившимися в стайку осиротевшими детьми: каждая из них могла поведать свою страшную историю. Я вытянул одну из стопки: подпись Рубенса на ней была непрофессионально удалена и частично закрашена акварелью. «Зачем?» – гадал я. Позднее я понял: испуганные владельцы, видимо, прибегли к этому последнему, отчаянному средству в надежде спасти самую дорогую свою картину от нацистской конфискации, но, увы, тщетно. Однако горькая ирония заключалась в том, что картина принадлежала не кисти Рубенса. Это была всего-навсего старинная копия.
Аукционным домам пришлось пойти на радикальные меры, чтобы выжить в новую эру притязаний на реституцию. Были организованы целые отделы, в задачи которых входило исключительно выяснение истории картин и скульптур, предъявляемых к торгам. Ни один предмет искусства из числа похищенных нацистами не может быть выставлен на аукционе до тех пор, пока не выяснено, кто его законный обладатель. Покупатели никогда не станут предлагать цену за картину, провенанс которой в 1932–1945 годах был хоть сколько-нибудь сомнителен. Особой осторожности требует анализ сделок, заключенных в годы войны в Париже, так как именно там продавалась значительная часть похищенных нацистами коллекций. Производя эффект разорвавшейся бомбы шестьдесят лет спустя, сегодня неожиданно всплывают случаи коллаборационизма в высших сферах парижского художественного мира, а их последствия могут оказаться самыми неприятными для почтенных и уважаемых фирм и аукционных домов, в годы нацизма не погнушавшихся торговлей краденым.
Однако экспроприацию предметов искусства в годы войны осуществляли не только нацисты. Некоторые крупные немецкие коллекции после войны оказались в Советском Союзе. Красная армия, вступившая в 1945 году на территорию Германии, получила приказ завладеть как можно большим числом ценных произведений искусства. Советские власти рассматривали подобную политику как получение репараций за опустошение и разгром, учиненный нацистами в России. Картины, привезенные из Германии, хранились в тайных запасниках Пушкинского музея в Москве и Государственного Эрмитажа в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). Советское правительство в течение пятидесяти лет отрицало их существование. С падением коммунизма они были наконец явлены миру. Я оказался одним из первых западных искусствоведов, кому посчастливилось держать в руках великолепные картины импрессионистов, до тех пор таившиеся в недрах Эрмитажа. В особенности одну я не могу забыть. Это было полотно Дега, написанное маслом и изображавшее виконта Лепика с дочерьми, прогуливающегося по площади Согласия в Париже. Все монографии и справочники по творчеству Дега, опубликованные в 1945–1990 годах, с сожалением констатировали, что «картина погибла во время Второй мировой войны». И вот я держал ее в руках. Это было равносильно воскресению из мертвых.
Потомки обладателей этих немецких коллекций стали добиваться их возвращения. Однако частные иски немцев не находили сочувствия, в отличие от исков евреев – жертв нацизма, да и российское правительство заняло непримиримую позицию. Эти предметы искусства отныне принадлежат государству, и реституция любых из них стала бы недопустимым символическим жестом и подвергла бы сомнению законность обладания картинами. Впрочем, верно и то, что, если вы не победитель, ваши шансы вернуть похищенное весьма и весьма невысоки.
Кроме моральных соображений, реституция затрагивает коммерческие интересы самых разных лиц и организаций. Картины стоимостью в целое состояние передаются потомкам жертв, до сего момента нищим, и те тотчас вновь выставляют их на аукцион. Многие адвокаты обогатились, расследуя и предъявляя от имени пострадавшего иски о реституции и получая вознаграждение только в случае благоприятного исхода дела. Существуют и «серые зоны», когда провенанс картины между 1932 и 1945 годом обнаруживает лакуны, а недобросовестные агенты стараются ими воспользоваться, уверяя, что картину хотят вернуть себе потомки жертв нацизма. Очень часто нынешние владельцы соглашаются удовлетворить подобные требования не потому, что признают их справедливость, а лишь потому, что не могут доказать обратное, ведь даже тень сомнения относительно провенанса картины не позволяет ее продать. Молчание мнимых истцов покупают, посулив им или их агентам небольшой процент прибыли.
Обсуждая финансовые сделки, даже когда их цель – попытаться восстановить справедливость и загладить причиненные страдания, никогда нельзя забывать о таком побудительном мотиве, как жадность. Утешает, что в целом реституция предметов искусства принесла больше блага, нежели зла. А произведения, возвращенные в ходе реституции, хорошо продаются по многим причинам: поскольку они только появились на рынке, имеют музейный провенанс или просто потому, что вызывают у покупателя всплеск симпатии к изначальному владельцу, у которого были отобраны.
А теперь перейдем к мраморам Элгина.
Theft Кражи
Можно утверждать, что наиболее удачливым похитителем картин в современной истории был Винченцо Перуджа. Именно он украл «Мону Лизу». В ночь с 20 на 21 августа 1911 года он ухитрился спрятаться в одном из чуланов Лувра. Похититель был плотником, прежде служил в Лувре и потому здание знал как свои пять пальцев. На следующее утро он потихоньку выбрался из чулана (дело было в понедельник, музейный выходной), снял картину со стены, спрятал под широким халатом – униформой рабочего-оформителя, и был таков. Спустя два года его арестовали во Флоренции, когда он пытался продать «Мону Лизу» известному антиквару. На суде он защищался, пустив в ход патриотические мотивы: почему это «Джоконда», национальное сокровище Италии, должна находиться во французском музее? Он-де всего-навсего попытался вернуть ее на родину. Отчасти ему удалось переубедить суд: ему дали год тюрьмы, а после апелляции скостили срок до семи месяцев.
«Мона Лиза» на месте, незадолго до похищения (Луи Беру. «Мона Лиза» в Лувре. Холст, масло. 1911)
На первый взгляд кража произведений искусства – странное явление. Картины уникальны. Предположим, знаменитую картину похитили, но кто же ее купит? А как потом обналичить неправедный доход, особенно теперь, когда все аукционные дома и всех арт-дилеров, работающих на законной основе, немедленно предупредят о краже через легкодоступные базы данных, например «Реестр утраченных произведений искусства»? Однако воровство не прекращается, иногда даже из крупных музеев и картинных галерей. Сравнимо с кражей «Моны Лизы» недавнее похищение «Крика». Неужели воры, решающиеся на подобные преступления, настолько глупы и не представляют себе их последствия: крадут предметы, которые затем не могут продать?
А впрочем, подождите-ка минутку. Есть объяснение: а что, если они крадут по заказу? Должны же существовать несметно богатые, абсолютно беспринципные любители искусства, которые жаждут владеть великими картинами. Поэтому они нанимают гангстеров, посылают их в музеи, те под покровом ночи снимают со стен бесценные полотна, и все, конец. Никто больше не увидит похищенного Рембрандта, Вермеера или Ватто. Они попадают в лапы сгорающего от нетерпения босса преступного мира, истинное имя которого неизвестно общественности: он обожает искусство и будет наслаждаться похищенными картинами в уединении доступной ему одному галереи, на личном острове где-нибудь в Карибском море.
Вот только ничего подобного не бывает. Нет никаких доказательств, что существуют такие «ценители искусств». Но если бы они и вправду водились на свете, то могли бы считаться настоящими эстетами, поскольку приобретают лишенные всякой финансовой стоимости произведения, которые никогда более не удастся продать на законных основаниях. Эти боссы преступного мира – абсолютно вымышленные фигуры.
Очень редко, однако, появляются загадочные эксцентрики, которые похищают картины для себя, не руководствуясь никаким иным мотивом, кроме желания их иметь. В 2003 году был арестован французский официант Стефан Брейтвизер. Выяснилось, что за семь лет он успел ограбить более ста музеев в семи странах. Он выбирал миниатюры, которые прятал под пальто, и небольшие музеи, которые не могли позволить себе дорогостоящую систему охраны. Он действовал просто. Пока его подруга следила, не идет ли кто, или кокетничала с охранником, отвлекая его внимание, он доставал нож и вырезал картину из рамы, а потом уносил ее. Самым ценным полотном, которое ему удалось похитить, был «Портрет Сибиллы Клевской» кисти Лукаса Кранаха.
Свое собрание он хранил в квартире матери. Когда его арестовали, она решила уничтожить улики. Сто рисунков она выбросила в местный канал, а шестьдесят картин, написанных маслом, включая Кранаха, разрубила на куски и выкинула в мусоропровод. Возможно, это был самый ценный пакет с мусором в истории, превосходящий даже арт-мусор, случайно выброшенный в галерее Тейт [см. главу II «Пошлость»].
Другой интересный случай – портрет Жака де Гейна, написанный Рембрандтом. Эту миниатюру на дереве размером 29 × 24 см четырежды похищали из Картинной галереи Далиджа, где она хранится, и четырежды возвращали. Чем уж она так привлекает воров – великая тайна. Не исключено, что ее похищение входит в учебный курс британских ВДВ.
Так почему же все-таки крадут произведения искусства? В конечном счете ради получения выкупа. Самые ценные картины, рисунки и скульптуры застрахованы. Если их похитят, страховой компании будет предъявлен иск на их полную стоимость. Если картина оценена в десять миллионов долларов, страховой компании будет не до шуток. Если она предложит вознаграждение, скажем в один миллион долларов, за «информацию о местонахождении пропавшей картины», то это весьма и весьма неглупо. Официально нельзя вести прямые переговоры с похитителями; однако если, заплатив один миллион, страховщики смогут избавить себя от необходимости выплачивать девять и обеспечат возвращение картины законному владельцу, что ж, тем лучше. Иногда эта финальная фаза переговоров откладывается на годы, а это означает, что страховой компании пришлось-таки выплатить полную стоимость похищенной картины владельцу. Поэтому, когда страховщики платят миллион долларов за информацию о ее местонахождении и завладевают ею, они становятся ее законными обладателями. Страховая компания может продать картину и получить прибыль в размере двадцати миллионов, ведь рыночная стоимость картины за это время возрастает. То-то обрадуются брокеры.
Есть основания полагать, что за ценные предметы искусства не сразу требуют выкуп, поскольку используют их как некую разновидность незаконной валюты. Наркобароны и торговцы оружием иногда предлагают их в уплату. Они исчезают в мрачном аду, где переходят из одних грязных рук в другие, пока наконец не появляются снова на свет божий и не выкупаются за деньги страховщиков. Тяжкое испытание для великого произведения искусства.
Однажды представители полиции Девона обратились ко мне с весьма странной просьбой. Не могу ли я оценить полотно сэра Джошуа Рейнольдса, которое они только что конфисковали у взятого с поличным местного взломщика? Это оказалась всего лишь копия, выполненная эпигоном Рейнольдса и стоившая меньше тысячи фунтов. Полицейские пали духом:
– Значит, восьмидесяти пяти тысяч она не стоит?
– Боюсь, что нет.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
Осужденный за кражу картины стоимостью восемьдесят пять тысяч фунтов, преступник мог подвергнуться куда более суровому наказанию и получить куда больший срок, чем за кражу недорогой копии.
Antiques Roadshow •«Антиквариат: реалити-шоу»
Buying Art •Приобретение предметов искусства
Cataloguing Pictures •Каталогизация
Christie’s and Sotheby’s •«Кристи» и «Сотби»
Collectors •Коллекционеры
Dealers •Арт-дилеры
Emerging Markets •Новые рынки
Exhibitions •Выставки
Experts •Эксперты
Fairs •Ярмарки
Football •Футбол
Glossary •Словарь терминов
Heritage •Культурное наследие
Investment •Инвестиции
Luck •Случайность
Money •Деньги
Museums •Музеи
Nature (Imitating Art) •Природа (подражание искусству)
Status Symbols (Art as) •Символ статуса (Искусство как)
Taxation •Налогообложение
V. Погода на рынке
Antiques roadshow «Антиквариат: реалити-шоу»
Наиболее популярная передача об искусстве, когда-либо выходившая на телеэкраны, – это «Антиквариат: реалити-шоу». Впервые она была показана в 1978 году и с тех пор каждый год возвращается в сетку вещания Би-би-си, а серии ее становятся все длиннее и длиннее. В основе ее следующая формула: команда искусствоведов без предупреждения обрушивается на какой-нибудь городок и принимается оценивать сокровища местных жителей. Этот рецепт привел в восторг телевидение и вызвал волну подражаний во многих странах мира. Он объединяет в себе все: предметы искусства, личные истории участников, неожиданные открытия и волнующий привкус денег. Владелец стирает пыль со старинной гравюры, много лет томившейся на чердаке, приносит ее на передачу, и она оказывается ранним офортом Пикассо стоимостью сто тысяч фунтов. Миллионы телезрителей волнуются вместе с обладателем картины или рисунка, вместе с ним предвкушая выигрыш. К тому же для большинства британцев эта передача – единственный источник знаний об искусстве и художественном мире.
Я немного знаком с обстоятельствами ее создания, потому что входил в число первых экспертов, приглашенных в ней участвовать. Я был неопытным юнцом, двадцати семи лет, извлеченным из сумрачного подвала аукциона «Кристи», где каталогизировал старых мастеров, и ошеломленно щурился в свете телесофитов. Тем, что меня выбрали для выполнения столь славной миссии, я обязан стечению обстоятельств. В те дни «Кристи» по субботам направлял команды экспертов в провинциальные городки, о чем заранее объявлялось в прессе. Местным жителям предлагалось приносить свои картины и статуэтки для профессиональной оценки и продажи. Эти «выездные экспертные сессии» были далеко не бесполезны. Однако старшие эксперты отдела живописи «Кристи» по выходным всегда бывали заняты чем-то более приятным: охотились, ходили в оперу, гостили в герцогских замках, – поэтому обязанность отправляться куда-нибудь в Дарем или Бат частенько возлагалась на меня. Как-то раз субботнюю «выездную сессию» освещал местный телеканал, Би-би-си-Бристоль, а сюжет о ней показали в местных новостях. Он попался на глаза какому-то изобретательному продюсеру телеканала, и тот решил, что из формата «искусствоведы, колесящие по стране» может получиться недурная программа, и поручил помощникам пилотную серию. А где же найти экспертов? Поначалу Би-би-си решила себя не утруждать и выбрала ту же команду, что фигурировала в бристольском выпуске новостей.
Стоит мне только включить запись и увидеть себя, неоперившегося юнца, в одной из этих первых серий, как я начинаю испытывать мучительную неловкость. Пока не окажешься перед телекамерой, не можешь вообразить, как будешь выглядеть на экране. Я получался то нервным, то несколько заторможенным, то неуклюжим, то излишне надменным, а иногда и таким, и сяким, и этаким одновременно. Просматривая эти старые серии, я обнаружил, что говорю, как будто пережевывая кашу.
«Какая прелестная акварель!» – лицемерно произносил я нараспев, умильно глядя на злополучного владельца в кадре реалити-шоу и напоминая сам себе политика-консерватора пятидесятых, которому во время предвыборной кампании пришлось подержать на руках младенца избирателя-пролетария. Затем я вставлял избитую фразу, чтобы плавно перейти к оценке злосчастного предмета: «А вы никогда не задумывались, сколько это может стоить?» К сожалению, эта уловка далеко не всегда производила желаемый эффект, поскольку туповатый британец, которому, транслируя на всю страну, публично адресовали бестактный вопрос о деньгах, скорее бывал склонен смутиться, покраснеть, уставиться на собственные ботинки, а потом лживо промямлить: «Нет». К этому моменту мне в любом случае не оставалось ничего иного, как развеять все его сомнения и без обиняков объявить, что картина его – сущий трэш.
Беда в том, что подсознательно я ощущал себя Кеннетом Кларком. В отрочестве я зачарованно смотрел эпохальный телесериал «Цивилизация», в котором Кларк на протяжении двенадцати серий, настоящих шедевров теледокументалистики, разворачивал перед зрителем величественную панораму самых прекрасных творений человечества. Обладающий глубочайшими познаниями и аристократическими манерами, Кларк стал моей ролевой моделью. Все это было бы уместно, если бы обыватели, допустим Рочдейла, приносили мне для экспертной оценки выполненные маслом эскизы Тьеполо и рисунки Перино дель Ваги. Но мне из раза в раз несли олеографии Лендсира, щедро перемежавшиеся репродукциями «Мыльных пузырей» Милле, меж которыми нет-нет да и обнаруживалась литография Уильяма Рассела Флинта. Я несколько приуныл.
Автор в одном из эпизодов передачи пытается деликатно сообщить владелице картины дурные вести
В сущности, не мне одному никак не удавалось расшевелить британскую публику. Она доводила до изнеможения и продюсера. Обыватели ужасно боялись обнаружить хоть какие-то чувства и немели от страха при виде камеры. Втайне продюсер рассчитывал, что кто-нибудь из них потеряет сознание или громко вскрикнет, а у кого-нибудь, может быть, даже случится небольшой сердечный приступ, когда ему скажут, сколько на самом деле стоит его картина: это сказочно повысило бы рейтинг шоу. Помню один случай: мне довелось общаться с человеком, не скрывавшим своих чувств; любопытно, что он был не британцем, а американцем. Когда я сказал ему, что его акварель кисти Фудзиты стоит пятьдесят тысяч фунтов, он обернулся к маленькой пожилой даме в толпе зрителей и спросил: «Ну что, теперь выйдешь за меня?» Однако боюсь, что я производил впечатление ничуть не менее скучное, чем участники передачи. Я не умею вести себя естественно перед камерой: кого-то судьба наделила этим даром, а меня, увы, нет. Со стороны Би-би-си было весьма великодушно терпеть меня столь долго, в общей сложности двадцать пять лет.
Постепенно я стал наслаждаться атмосферой реалити-шоу: ну где еще, скажите на милость, торговля антиквариатом может встретиться с торговлей подержанными машинами, а утонченный арт-эксперт – как ни в чем не бывало разговориться с хозяином гаража, явно не брезгующим темными делишками? Как-то раз торговец запчастями из Олдема принес мне сомнительного Л. С. Лаури, которого принял у клиента в счет платы за ремонт машины. Пришлось сообщить, что «международный рынок не сочтет картину подлинной».
– Значит, это подделка?
Я нахмурился. Мне показалось, что употребления этого слова в телепрограммах без возрастных ограничений «шестнадцать плюс» следует избегать.
– Боюсь, ее не признают подлинной.
Он на мгновение погрустнел, но тут же заулыбался снова. Очевидно, отремонтированный бампер долго не продержится. Еще помню, как меня обрадовало знакомство с бывшим заключенным, который поведал мне о том, что непревзойденной популярностью среди всех телепередач в тюрьме «Вёрмвуд Скрабс», где он отбывал год за торговлю крадеными машинами, пользовался именно «Антиквариат: реалити-шоу».
Участие в реалити-шоу приносило некоторую известность, вас неизбежно начинали узнавать на улице, по крайней мере, иногда в барах окликали незнакомцы и спрашивали: «Простите, я нигде не мог вас видеть?» Нескольким экспертам это вскружило головы, и у них стали появляться привычки оперных примадонн – например, дарить шоколадные конфеты визажистке, чтобы она с особым тщанием наложила макияж. Один из моих коллег, когда таксист попросил его подписать счет, не удержался и подмахнул: «С наилучшими пожеланиями». Мы получали письма от поклонников передачи, втайне хранили их и подсчитывали, у кого больше. Как-то раз мне прислал письмо телезритель из Барнета. Он говорил, что записал мое выступление на прошлой неделе и просмотрел двенадцать раз. Скрупулезно проанализировав отснятый материал, он убедился в том, что, разглагольствуя о викторианской акварели, приписываемой Биркету Фостеру, я мастурбировал. С тех пор я зарекся держать руку в кармане во время съемок.
По мере того как программа обретала популярность, публика, обращавшаяся к экспертам, воспринимала собственные «сокровища» все с бóльшим воодушевлением. Эксперты были вынуждены разработать и новые клише: теперь они преподносили участникам не столько приятные сюрпризы, сколько, по возможности деликатно, дурные вести. «Ценная ли она? Боюсь, что не очень, но все равно очень милая. Возьмите ее домой, смотрите на нее и радуйтесь». Однажды помощь пришла мне, откуда я и не ждал. В одном городке на передачу явилось столько желающих, зал, где проводилась экспертиза, был так переполнен, что за порядком пришлось следить местной полиции. Один офицер расположился у меня за спиной – я в это время давал экспертную оценку – и принялся бесстыдно подслушивать. Я пытался как-то донести до симпатичной дамы, владелицы посредственного пейзажа нориджской школы, что впечатляющая подпись на нем – поддельная. В это мгновение вмешался полицейский. «Зато я, мадам, – восторженно объявил он, – настоящий констебль»[54].
Buying Art Приобретение предметов искусства
Когда вы решаете купить картину или скульптуру, ваши восторги, сомнения, страхи, надежды немного напоминают влюбленность. Сначала вы, может быть, увидели ее в репродукции, или на страницах выставочного каталога, или в Интернете. Вы долго смотрите на нее, не в силах оторваться, а потом мысленно возвращаетесь к ней снова и снова. Затем вы отправляетесь увидеть ее вживе. Осязаемая, во плоти, она оправдывает ожидания, которые вы связывали с ее фотографией (а иногда и обманывает их. Бывает, что она просто не выдерживает сравнения с образом, созданным вашей фантазией, и вам остается только удивляться собственной доверчивости). Но если она столь же прекрасна, сколь вы воображали, то наваждение овладевает вами всецело. Вы не в силах думать ни о чем ином. Если ее выставили на торги, то вы снова и снова открываете каталог, а может быть, приезжаете в аукционный дом или в галерею арт-дилера, не столько для того, чтобы убедиться в правильности своего выбора, сколько для того, чтобы еще раз насладиться ею. Вы словно влюбленный с миниатюрой предмета вашей страсти: то и дело вынимаете ее и любуетесь ею.
Если она принадлежит арт-дилеру, у вас есть возможность купить ее, пока о ней не узнали коллекционеры, и завладеть ею первым. Сделку можно начать немедленно. Если ее продают на аукционе, то вам предстоит мучительное ожидание, пока ее не выставят на торги. Если вы сами объявитесь в зале, то будете подозревать всех присутствующих в том, что они вознамерились увести у вас из-под носа облюбованное сокровище. При мысли, что картина может оказаться вам не по карману, вас охватывает отчаяние. Вам приходится смириться с тем, что вы утратите предмет вашей страсти. Когда интересующий меня лот выносят на подиум, у меня всегда начинает учащенно биться сердце. Мне кажется, самому предлагать цену на аукционе гораздо тягостнее, чем проводить торги, будучи аукционистом. Ужасно сознавать, что картина или скульптура вам не достается: увы, так случается довольно часто. У других покупателей – бóльшие финансовые возможности. Подобно тому как потенциальные прекрасные возлюбленные ускользают от вас, не принимая ваших ухаживаний, прекрасные картины находят обладателей побогаче.
Но иногда вам может повезти. Остальные покупатели уже не повышают цену, и картина или скульптура достается вам. Проходит миг – и восторг сменяется сомнением. Неужели с ней что-то не так и все это осознали, один вы, простофиля, ничего не подозревали? Страхи быстро рассеиваются: она ваша. Вы ее купили. Она переезжает к вам. Начинается другая фаза любовных отношений.
Брюс Чатвин, проработавший на «Сотби» семь лет, придерживается мнения, что картины и скульптуры на самом деле лучше возлюбленных. Он отмечает, что во время аукционных торгов «с лица покупателя или покупательницы не сходит выражение тревоги и страха: вдруг он или она не сможет позволить себе желанную игрушку? Так старики в ночных клубах прикидывают, смогут ли они заплатить столько-то и столько-то за проститутку? Но предметы искусства – куда лучше. Вы можете продать их, трогать их в любое время дня и ночи, когда вам заблагорассудится, а они даже не огрызнутся».
Cataloguing Pictures Каталогизация
В семидесятые годы, составляя каталоги старых мастеров в глубоком, освещенном электрическими лампами подвале аукциона «Кристи», я узнал, что их темы и сюжеты принято описывать, прибегая к неизменному, раз и навсегда установленному набору слов и выражений. Отступить от этой традиционной терминологии означало подвергнуться опасности. Так, существовали речные пейзажи, зимние пейзажи, пейзажи со сбором урожая; они могли быть лесными, горными и прибрежными, пейзажами в итальянском вкусе, в классическом вкусе или каприччио, обширными или даже панорамными. Их обитатели (скорее, стаффаж) включали селян, деревенских жителей, пастухов, кузнецов и перевозчиков. Однако – здесь-то каталогизатора и подстерегала ловушка! – стаффаж британского пейзажа никогда, ни при каких условиях нельзя было описывать как «крестьян». Крестьяне представляли собою строго континентальный феномен. «Вы что, не знаете истории? – напускался главный эксперт на какого-нибудь несчастного каталогизатора, совершившего эту bêtise[55]. – Крестьянское восстание Уота Тайлера произошло в тысяча триста восемьдесят первом году! После никаких крестьян в Великобритании не было!»
Английские селяне (Уильям Фредерик Уизерингтон. Сжатая нива. Холст, масло. Ок. 1840)
Поэтому только на континентальных картинах могли бражничать, пировать в тавернах и в трактирах крестьяне, пока за стенами оных трактиров псы сомнительной репутации облегчались на всевозможные деревья и кусты (а их надлежало описывать так: «ствол, облюбованный собакой»). На высоких ступенях социальной лестницы изысканное общество устраивало приемы, пировало и выезжало на охоту. История плавно перетекала в мифологию: нищие чередовались с вакханками, алхимики – с сельскими джентльменами, стреляющими уток, духовные лица – с шарлатанами. Магдалины каялись, Сципионы проявляли воздержанность, а Венеры возлежали. Нимф подстерегали сатиры, путти резвились на расписных картушах. Так в темном, плохо проветриваемом подвале на Кингс-стрит, в Сент-Джеймсе, возрождалась Аркадия.
По четвергам старшие директора нисходили с высот своего Парнаса, из светлых кабинетов на верхних этажах, в складские помещения, чтобы провести с каталогизаторами совещание. Они высказывали мнения о работе подчиненных, вносили исправления, принимали решения по поводу окончательной атрибуции и, не стесняясь присутствием самих картин, тут же назначали им цену. Это было испытательным полигоном и одновременно минным полем. Именно там сотрудник либо упрочивал, либо разрушал свою репутацию умными и тонкими или не совсем уместными замечаниями. Честолюбивые неоперившиеся юнцы не могли удержаться, чтобы по четвергам не явиться пораньше и заранее не просмотреть всю стопку картин, подготовив якобы импровизированные комментарии. Один злополучный коллега таким образом разведал кое-что о залитом лунным светом пейзаже кисти французской художницы. Он обнаружил на обороте картины, как ему показалось, имя автора, записал его и, едва рабочий-оформитель поднял пейзаж, выпалил: «Картина кисти Клэр де Люн[56], если не ошибаюсь?» Существовали и фразы-выручалочки, позволявшие выиграть время. «Вообще-то, неплохо, может быть, Йоос де Момпер или просто хорошая копия?» – с пристрастием вопрошал один из директоров. В таком случае следовало с задумчивым видом вглядеться в персонажей и спросить: «А не слишком ли они деревянные?» Еще можно было обратить внимание на то, как чудесно изображена листва. Или предположить, что небо на картине переписал какой-то не в меру ретивый реставратор. Не рекомендовалось повторять ошибку коллеги, осведомившегося однажды, не слишком ли «деревянные» на картине деревья.
Фламандские крестьяне (Давид Тенирс. Сельская сцена. Дерево, масло. Ок. 1650)
Современные каталоги аукционных домов и даже некоторые каталоги частных дилеров – массивные тома, поражающие ученостью. Если уронить такой из окна второго этажа на голову прохожего, беднягу можно убить. Это прекрасно иллюстрированные образцы полиграфического искусства, в мельчайших деталях представляющие каждый лот: его провенанс, выставки, на которых он экспонировался, публикации, где он упоминался, – и, кроме того, содержащие сведения о контексте и значимости картины или скульптуры. Эти описания предметов искусства имеют сугубо коммерческую природу и лишь притворяются научными статьями, насыщенными терминами. Любопытно сравнить аукционное и музейное описание одной и той же картины. Вот версия из музейного каталога:
«Незавершенная картина, написанная художником в старости, ее тема – болезнь и приближающаяся смерть, она находит отражение и в темных, зловещих тонах; нижний фрагмент полотна лишь начат и остался незаконченным».
В этой краткой заметке наличествуют как минимум семь характеристик, включение которых в коммерческий каталог аукционного дома было бы равносильно самоубийству: «незавершенная», «старость», «болезнь», «приближающаяся смерть», «темные», «зловещие», «незаконченный». Поэтому описание в аукционном каталоге звучало бы так:
«Непосредственное и трогательное полотно, подводящее итог исканиям всей жизни художника, еще один вариант любимой темы, воплощение глубочайшего творческого озарения, для которого автор выбирает приглушенные тона и находит динамичное решение, прибегая к отчетливому лаконизму изобразительных средств в нижней части композиции».
Christie’s and Sotheby’s «кристи» и «сотби»
Мне кажется, аукционы предметов искусства – абсолютно уникальный бизнес. Не знаю ни одной глобальной отрасли, в которой царила бы столь очевидная монополия двух конкурирующих компаний. Ни в чем не уступая друг другу, «Кристи» и «Сотби» соперничают по всему миру и продают картины и скульптуры в Лондоне и Женеве, в Нью-Йорке и Гонконге. Иногда один аукционный дом заявляет, что чуть-чуть обогнал конкурента, но тут же фортуна улыбается другому. Я отдаю себе отчет в том, как это происходит, потому что побывал сотрудником обоих. Между ними есть едва заметные различия, хотя внешне они кажутся необычайно схожими и в роде своей деятельности, и в методах ее осуществления. Оба имеют блестящую историю: «Сотби» был основан в 1744 году, а «Кристи» – в 1766 году. Успех обоих лондонских аукционных домов зиждется на долгом опыте и основан на простой формуле. «Мы ловим рыбу в мутной воде», – сказал торговец картинами Уильям Бьюкенен в 1824 году, и вот уже три столетия «Кристи» и «Сотби» продают сокровища, выброшенные на рынок смертью, разводами, долгами и ужасами войны.
Аукцион – идеальный способ продажи предметов искусства, товара, истинную ценность которого определить чрезвычайно сложно, ибо она необъективна, но с легкостью раздувается до невероятных размеров человеческой фантазией, честолюбием и соперничеством. К тому же стук падающего молотка воспринимается как нечто чудесное в своей неотвратимости и непреложности. Сделку, которую проводит арт-дилер, не столь легко завершить. Продавая произведение искусства, дилер устанавливает самую высокую отправную цену по своему усмотрению, и постепенно, по мере того как покупатели предлагают свою, снижает ее. На аукционе, напротив, отправная цена назначается низкая, в надежде, что ее поднимут своими стараниями любители искусства, стремящиеся во что бы то ни стало заполучить вожделенный предмет. Иногда эта тактика не оправдывает ожиданий аукциониста, но чаще приносит свои плоды. Произведения искусства на рынке достигают огромной стоимости благодаря лихорадке, царящей в аукционных залах: частные сделки никогда не вызывают такого ажиотажа и не сказываются так на цене картин и скульптур.
Со времен своего основания в XVIII веке вплоть до Второй мировой войны в сфере продажи произведений искусства лидировал «Кристи». «Сотби» продавал главным образом книги и не обладал достаточным опытом и репутацией, чтобы соперничать с ним, когда речь шла о торговле крупными художественными коллекциями. В конце XVIII века «Кристи» выставил на продажу драгоценности мадам Дюбарри, а затем, на протяжении XIX века, распродавал самые значительные коллекции аристократов: герцогов Бэкингема и Гамильтона, Бокклю и Сомерсета, графа Дадли и маркиза Эксетерского. Кроме того, «Кристи» посчастливилось выставить на торги картины из наследия великих художников: Гейнсборо, Рейнольдса, Лендсира, Россетти, Бёрн-Джонса и Сарджента.
Однако до Второй мировой войны «Кристи» уделял мало внимания изяществу помещений и удобству публики. Как писал в 1919 году французский художественный критик Рене Жампель:
«У этого знаменитого лондонского аукционного зала – свой неповторимый облик: в нем ничто не менялось более ста лет. Он просто удивителен! Его владельцы никак не потворствуют вкусу клиента, готового уплатить за картину двадцать, сорок, пятьдесят тысяч фунтов! В Англии, стране чистоты и комфорта, „Кристи“ имеет смелость пренебрегать любыми проявлениями уюта и даже не подметать полы, покрытые толстым слоем пыли! Картины ценою в несколько фунтов и полотна стоимостью в сотни тысяч вперемешку выкликаются на торгах и так же как ни в чем не бывало соседствуют на стенах. Они теснятся в три-четыре ряда, а самые прекрасные иногда и вовсе чуть видны под потолком».
Когда я впервые пришел на «Кристи» в 1973 году, там до сих пор царила чудесная, неповторимо британская атмосфера дилетантизма. Это было совершенно непонятное учреждение: не то закрытый аристократический клуб, не то музей – бастион британского истеблишмента, сотрудников которого отличала одновременно болтливость и сдержанность, надменность и ученость. Он мало напоминал «Сотби», который лидировал с пятидесятых годов и выглядел пугающе коммерческим предприятием. Один из директоров «Кристи», старый брюзга, втолковал мне, чем, по его мнению, мы отличались от «Сотби»: «Разница между нами и этими торгашами с Бонд-стрит в том, что среди нас нет гомиков!»
Вот до чего успех «Сотби» расстроил старую гвардию «Кристи». Справедливости ради, в те дни Питер Уилсон, директор «Сотби», действительно любил окружать себя красивыми (и одаренными) молодыми людьми. Если вам случалось в ту пору звонить в «Сотби», то вы помните, что на коммутаторе у них работал необычайно жеманный и манерный телефонист. Как-то раз звонивший попросил к телефону главу экспертного отдела: «Можно Джона Брауна?» – и услышал: «Почему бы и нет, если всем можно, всегда, сколько угодно, то почему вам нельзя? Соединяю». Но сексуальными предпочтениями различия не исчерпывались: «Сотби» был изобретателен, открыт для всяческих инноваций и умел делать деньги. Уилсону, блестящему, одаренному живым умом и воображением главе аукционного дома, мы в значительной мере обязаны созданием современного рынка предметов искусства.
Так сложилось, что оба лондонских аукциона издавна были оптовыми торговцами, в убогих условиях снабжавшими предметами искусства розничных торговцев помельче. В отношении роскоши и комфорта парижане намного опередили англичан. В 1919 году Жампель сравнивал лондонский «Кристи» с парижским аукционным домом Жоржа Пети, «который начинает с того, что привлекает клиентов уютом и комфортом, расставив в своей огромной галерее сотни обитых бархатом кресел. Он показывает им картины, подобно ювелиру, извлекающему из футляра сияющую драгоценность. Он полирует и золотит рамы и, разумеется, чистит и покрывает лаком холсты, которые затем в строго определенном порядке развешивает на стенах. Торги подготавливают тщательнее, нежели премьеру спектакля, даже устилая галерею дорогими коврами». Спустя сорок лет ковры появились и на полу «Сотби». Случилось это во время распродажи коллекции Якоба Гольдшмидта в 1958 году. Питер Уилсон добился права выставить на торги семь великолепных полотен импрессионистов из этого собрания. Он решил представить их публике на специальном аукционе, не предполагавшем продажи других картин и задуманном как подобие блестящего светского раута, из тех, на которые принято являться в смокинге. Роскошь и утонченность подействовали на всех завораживающе, а картины импрессионистов отныне стали продаваться за рекордную цену. Неожиданно аукционы превратились из коммерческих сделок, интересных разве что искусствоведам, в светские события.
А вот «Кристи» один мой знакомый французский арт-дилер как-то назвал «un peu constipé»[57]. Тогда это меня неприятно удивило, но сейчас я полагаю, что он был прав. «Кристи» упрямо придерживался старых традиций. В семидесятые годы картины из Австралии, Южной Африки, Канады и других бывших британских доминионов сваливали в кучу и продавали в разделе, именовавшемся «колониальной торговлей». В эту категорию включались и картины американских художников: возникало впечатление, что по крайней мере в зале совета директоров «Кристи» время остановилось в 1766 году. Сильной стороной аукциона были связи с английскими аристократами, сотрудники «Кристи» были вхожи во дворцы и замки, на протяжении столетий снабжавшие аукционный дом предметами для продажи. Успех «Кристи» был основан на отчетливом осознании того, что любой англичанин в глубине души считает искусство чем-то странным, неловким и повергающим в смущение. Оно взывало к чувствам и уже этим было подозрительно; оно требовало спорить о вкусах, и, наконец, сами произведения искусства были чьей-то собственностью. Они кому-то принадлежали. Ну разве не проявление невыносимо дурного тона и не вторжение в личную жизнь владельца – публично высказываться о его собственности? О его картинах? О его винах? Что следующее – его жена? Вот почему один пожилой аристократ, обладатель славной коллекции, почувствовал себя оскорбленным, когда его сын пригласил погостить оксфордского друга, молодого Кеннета Кларка. «Не вздумай снова его привезти! – взорвался он. – Он меня истерзал вопросами о моих вещах!»
Старая гвардия «Кристи» в семидесятые производила весьма барственное впечатление. Она была последней, в ком воплотился специфически британский идеал дилетантизма. Мучительная неловкость, которую почтенные сотрудники аукционного дома вечно испытывали, давая оценку чьей-то собственности, может быть, и нежелательна для профессиональных экспертов в сфере искусства. Однако нельзя отрицать, что страдальческое косноязычие, овладевавшее ими всякий раз, когда требовалось публично произнести что-то столь бестактное, как мнение об эстетической или коммерческой ценности картины, находило глубокое сочувствие у их пожилых английских клиентов. Гольф, крикет и охота считались почтенными занятиями, в которых дозволялось даже слыть знатоком. Искусство же представлялось несколько декадентским. Старая гвардия признавала, что в профессиональной сфере она, конечно, вынуждена слегка соприкасаться с искусством, однако предпочитала убеждать клиентов в том, что она-де относится к исполнению своих не вполне безупречных с точки зрения хорошего вкуса обязанностей с беспечным дилетантизмом. Разумеется, она допускала существование в «Кристи» экспертов, занятых этим сомнительным ремеслом, но старалась не останавливаться на профессиональных тонкостях и не прибегать без нужды к специальным терминам.
«Принес продать ложки, старина? Само собой, рад помочь. Там у меня в хранилище сидит один тип, так он на них собаку съел. Читает клейма, или как там это называется, лучше меня не спрашивай!» А еще: «Хочешь толкнуть своего Рубенса? Конечно, можешь нам его сбыть. Согласен, от этих толстух просто тошнит. Сейчас вызовем мальца из подвала, и он оценит. Не пугайся, если он для каталога десятистраничное описание накатает. Это чтобы привлечь покупателей, они теперь такое любят». Таким образом продавца успокаивали, внушая, что он имеет дело с представителем своего круга.
Перед Джеймсом Кристи, основавшим аукционный дом в 1766 году, встала та же классовая дилемма. Джозеф Фарингтон записывает в дневнике в сентябре 1810 года: «Лорд Данстенвилл, говоря об аукционисте Кристи, выразил удивление, что человек, обучавшийся в Итоне и даже отличившийся там познаниями в области латыни и древнегреческого, примирился с неизбежностью или даже скорее по собственной воле выбрал поприще, на коем ныне и создал себе положение». Мучительное осознание двойственности этого ремесла не покидало совет директоров «Кристи» и полтораста лет спустя. К тому же среди сотрудников «Кристи» процветало этакое повесничанье во вкусе XVIII века. Помню, один из старших директоров поведал мне свой основополагающий принцип: никогда не принимать приглашение на охоту по средам. Он-де не в силах решить, к какому уик-энду эту среду присовокупить.
Современное искусство представлялось таким прирожденным консерваторам весьма подозрительным. В семидесятые годы они мучительно долго сопротивлялись затее устроить на «Кристи» продажи современного искусства. Старая гвардия в тиши зала заседаний совета директоров ухитрялась потешаться даже над Пикассо. За послеобеденным портвейном и бренди они любили вспоминать историю покупателя, который якобы попробовал вывезти из Испании картину Пикассо и был остановлен на границе вежливым таможенником, пресекшим попытку контрабанды на том основании, что это план военных укреплений Мадрида.
Когда мне впервые предстояло отправиться в заграничную командировку по делам аукциона, представитель старой гвардии отвел меня в сторонку и дал мне совет. «Помни одно, – объявил он, – иностранки ждут, что сигарету им зажжет мужчина». И покачал головой, не в силах поверить в существование столь вызывающе «антибританских» манер. Эта информация угрожающе затаилась в моем сознании бомбой замедленного действия. В Хитроу я купил коробок спичек. Уже в доме клиента, оценивая картины, я все еще нервно крутил его пальцами в кармане. Затем, во время ланча, мне указали место рядом с хозяйкой. Возле ее салфетки я увидел пачку «Мальборо». Боже мой, сейчас, вот-вот, сейчас… На кону стояла честь «Кристи» – да что там, честь всей Англии.
Это случилось, когда подали кофе. Боковым зрением я заметил, как хозяйка дома потянулась к «Мальборо». Плавным движением я достал из кармана коробок, вынул спичку и зажег. Однако в своем стремлении услужить я нажал слишком сильно, головка спички отлетела, упала мне на колени и подожгла мои штаны. Я кое-как потушил пламя салфеткой, но к этому времени хозяйка уже успела закурить. Я потерпел позорную неудачу. Такой урок в деле обслуживания клиентов я получил на начальных этапах карьеры.
К следующей заграничной командировке я купил зажигалку, совершив жест – символ преображения, через которое предстояло пройти «Кристи», чтобы выжить. И он действительно преобразился, наконец осознав, что иностранцы составляют значительную часть клиентов, и успешно открыв филиалы в Европе и Америке. Чаша весов склонилась в пользу «Кристи», и в начале восьмидесятых, в постуилсоновскую эпоху, тучи сгустились уже над «Сотби». Не хватало талантливых руководителей, которые могли бы его возглавить. Компанию попытались купить двое американцев, господа Свид и Коган, производители ковров. Их фирма носила название «Дженерал Фелт». Старая гвардия, еще остававшаяся к тому времени в «Кристи», немало повеселилась, твердя, что такого генерала нет в списке офицерского состава армии[58]. В конце концов «Сотби» приобрел другой американец, Альфред Таубман.
Спрос на искусство во всем мире: на аукционе покупатели со всего земного шара наперебой предлагают цену по телефону
В 1998 году настала очередь «Кристи» перейти в чужие руки: подумать только, «Кристи» купил француз! Воображаю, мой коллега, не ездивший на охоту по средам, перевернулся в гробу. Так что теперь обоим аукционным домам, приобретенным иностранцами, предстояло в какой-то степени утратить свою неповторимую английскую атмосферу и приобщиться к глобализации XXI века. Не все проходило гладко. Скандал с фиксированными комиссионными, разразившийся в 2000 году, стал симптомом радикальных перемен и напоминанием о том, что прежде нужно отвергнуть старые методы ведения дел, а уж потом только вводить новые. Картельное соглашение, заключенное главами «Кристи» и «Сотби» и предусматривавшее фиксированные размеры комиссионных вознаграждений, было раскрыто и урегулировано. Тем из нас, кто наблюдал за ходом драмы «изнутри», нетрудно было понять, почему это случилось. Причиной ее стало возвращение к принятым в старой доброй Англии дедовским методам заключения сделок, когда джентльмены договаривались обо всем за ужином в клубе. Участникам таких соглашений и в голову не пришло бы, что они нарушают закон. А если бы и пришло, они тем не менее ощущали бы себя в безопасности, ибо джентльмены не разглашают доверенных им секретов. Однако, с точки зрения американцев, они действительно поступали противозаконно. И в Америке нашлись люди, готовые разгласить конфиденциальную информацию. Все вместе являло собою классический пример недоразумения, вызванного различиями в английской и американской культуре.
По иронии судьбы, даже когда это картельное соглашение действовало, аукционные дома не получали сказочных прибылей. Они стремились не столько нажиться, сколько просто удержаться на плаву. Вознаграждения брокеров упали из-за постоянного соперничества двух домов, и в итоге прибыли остались крошечными. Чтобы понять, почему это произошло, достаточно взглянуть на людей, работающих на аукционах. Многие из них – специалисты высокого класса, страстно влюбленные в картины или предметы искусства, которыми они занимаются, и зачастую готовые довольствоваться самой скудной оплатой. Поэтому они прекрасно подготавливали и проводили торги, получая низкие доходы и наслаждаясь возможностью подержать в руках шедевр. Не могу припомнить иного вида коммерческой деятельности, уж по крайней мере ни одного, котирующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже, где подобная приверженность чистоте и строгости отрицательно сказалась бы на коммерции. И все же это так. Потому и установление фиксированных комиссионных стало своего рода механизмом внутреннего регулирования, наложением ограничений не только на клиентов, но и на собственных сотрудников.
«В конце концов все достается не червям, а аукционистам, – писал Джордж Литтлтон Руперту Харт-Дэйвису в 1958 году. – После страхования аукционное дело, разумеется, самый безопасный вариант мошенничества: аукционисты ничем не рискуют, получают проценты от сделок, а заключать их можно бесконечно, учитывая, что одни и те же картины часто продаются снова и снова. А самодовольные-то они какие, точно сами создают шедевры, которыми торгуют». Однако похоже, что в XXI веке аукционные дома действительно создают если не шедевры, то по крайней мере репутации, особенно на рынке современного искусства. Принять произведение начинающего современного художника на вечерние торги, где представлено лучшее, – значит признать его значимость и укрепить позиции его бренда. Точно так же выпуск каталога продаж, целиком посвященного одному художественному течению, например сюрреализму, равносилен его высокой оценке и служит верным признаком его популярности на рынке [см. главу II «Сюрреализм»].
За последние пятьдесят лет рынок предметов искусства кардинальным образом изменился, а вместе с ним и та роль, которую играют в его структуре аукционные дома. Наиболее важным было их превращение из оптовых компаний, по низким ценам продающих целые коллекции розничным торговцам антиквариатом, в могущественные коммерческие структуры, обращающиеся непосредственно к индивидуальному покупателю, последнему звену цепи. В ходе этих изменений, с одной стороны, были потрачены на маркетинг огромные средства, а с другой – хитроумные финансовые механизмы стали использоваться для того, чтобы обеспечить покупку и продажу предметов искусства по все более высоким ценам [см. ниже раздел «Деньги»]. Это стало возможным благодаря по-прежнему высочайшему, непревзойденному качеству художественной экспертизы, которую предоставляют «Кристи» и «Сотби». Пока оно будет оставаться на этом уровне, я предрекаю их дальнейшее двоецарствие.
Collectors Коллекционеры
Не все, кто покупает произведения искусства, – коллекционеры. Коллекционер покупает предмет искусства главным образом из любви к нему и ради восприятия оного предмета в контексте других картин и скульптур, уже наличествующих в его собрании. Лучшие коллекции предметов искусства – это самостоятельные произведения, совершенно очевидно несводимые к сумме своих составляющих. Когда коллекция является результатом индивидуальных творческих усилий конкретного владельца, она зачастую производит более благоприятное впечатление, нежели случайное скопление ценных экспонатов в музее. Это вовсе не означает, что коллекционеры сплошь бескорыстные альтруисты, чуждые любых позорных соображений о финансовой стоимости своих собраний. Произведения искусства ныне столь дороги, что никто не может позволить себе подобного идеализма. К тому же любой коллекционер волей-неволей рассматривает приобретенное великое произведение искусства как трофей и явно будет гордиться, демонстрируя его знакомым. Впрочем, вы узнаете коллекционера, когда с ним столкнетесь. Он не похож на человека, покупающего картины и скульптуры для того, чтобы повысить свой статус или просто украсить дом [см. ниже раздел «Символ статуса (искусство как)»].
Когда Пола Меллона, предложившего на аукционе рекордную по мировым стандартам цену за «Мальчика в красном жилете» Сезанна, спросили, не переплатил ли он, он возразил: «Неужели вы, стоя перед такой картиной, можете думать о деньгах?» Аукционистам и арт-дилерам эта история пришлась весьма по вкусу. Она вселяет в них уверенность. Однако она наглядно показывает, что может случиться, если настоящий коллекционер, располагающий огромными средствами, одержим желанием во что бы то ни стало приобрести редкое произведение искусства. Как-то раз мне пришлось по телефону вести торги от имени клиента, страстно жаждавшего купить великолепную скульптуру Джакометти, «Шагающего человека». Эту бронзовую статую очень редко выставляют на аукцион. Коллекционер мечтал о ней всю жизнь. Те три-четыре минуты, пока я предлагал от его имени цену, навсегда останутся у меня в памяти. Его совершенно не трогало, на сколько каждый раз возрастает цена, единственное, что его волновало, была скульптура и возможность обладать ею. С каждой новой ценой пульс торга учащался, а напряжение сделалось почти невыносимым. Когда наконец раздался стук молотка, мой клиент купил ее за шестьдесят пять миллионов фунтов, в то время самую крупную сумму, когда-либо уплаченную на аукционе. Однако он сам того не заметил – столь велико было его облегчение, радость и восторг. Приобретение «Шагающего человека» стало апогеем его карьеры.
Сегодня, более, чем когда бы то ни было, коллекционеры должны быть богаты. Однако дело не всегда обстояло так. Прежде проницательный коллекционер, обладавший скромными средствами, мог распорядиться ими весьма успешно. Архетип подобного коллекционера – кузен Понс Бальзака, который взял себе за правило никогда не тратить на картину больше ста франков. Тем не менее в 1810–1840 годах ему удалось собрать превосходную коллекцию старых мастеров, тщательно «просеяв» сорок пять тысяч холстов, регулярно переходивших из рук в руки на парижских торгах. Понс – один из наиболее симпатичных героев Бальзака. Ему свойственны обаяние и чистота, выгодно отличающие его от коварных негодяев, которые его окружают. Коллекция для него – дело всей жизни. Бальзак говорит о страсти коллекционера, одной из наиболее глубоких и соперничающих даже с тщеславием творчества.
Понс – вымышленный персонаж; подлинным парижским коллекционером подобного склада примерно двадцать-тридцать лет спустя стал Виктор Шоке. Он принадлежал к первым собирателям импрессионистов, абсолютно убежденным в их художественной значимости, когда над ними только издевались. Однако денег у него было мало. Он служил чиновником Таможенного ведомства. В 1870‑е годы его доход не превышал шести тысяч франков в год, а девятьсот шестьдесят из них приходилось отдавать за аренду скромной четырехкомнатной квартиры на рю де Риволи. И все же ему удалось собрать отличную коллекцию импрессионистов, часто покупая картину за каких-нибудь триста франков. Когда в 1880‑е годы Шоке наконец разбогател, получив наследство жены, восторг, который вызывало у него современное искусство, несколько поугас. По-видимому, он относился к числу немногих коллекционеров, движимых страстью первооткрывателя, а энтузиазм его подогревался еще и отсутствием средств.
Настоящие тигры, короли коллекционных джунглей, ныне происходят из семей коммерсантов. Именно в этой среде были нажиты огромные состояния, необходимые, чтобы предаваться столь дорогому увлечению, как собирание картин. К счастью, многие из этих коллекционеров-коммерсантов были еще и филантропами. В Америке, где в силу режима налогового благоприятствования выгодно завещать коллекции публичным музеям, некоторые из них обогатили свои собрания благодаря щедрости богачей. С точки зрения коллекционера, отдать картины музею означает в качестве возмещения ущерба обрести бессмертие, ведь они будут пребывать там, где многие поколения зрителей будут ими восхищаться. Так Метрополитен-музей принял коллекцию Хейвмейера, чикагский Институт искусств – собрание Поттера Палмера, а коллекцию Пола Меллона поделили вашингтонская Национальная галерея и Художественная галерея Йельского университета. В Великобритании с ними может сравниться только деятельность Сэмюэла Куртолда. Его наследие не исчерпывается сокровищами одноименного института: собрание французской модернистской живописи в галерее Тейт было бы куда менее представительным, если бы не безупречный вкус и щедрость, проявленные им в двадцатые – тридцатые годы. В России наследие двух великих коллекционеров, Сергея Щукина и Ивана Морозова, почти неприкосновенным перешло в фонды Государственного Эрмитажа в Петербурге и Пушкинского музея в Москве. Оба они, до Первой мировой войны покупавшие картины в мастерских Пикассо и Матисса, соответствовали описанному типу, поскольку происходили из купеческих семей. Однако они передали свои великолепные собрания французской модернистской живописи государству не добровольно. После революции 1917 года их картины были конфискованы новыми властями.
Виктор Шоке, один из первых коллекционеров живописи импрессионистов, на рисунке Сезанна
Впрочем, не все значительные современные коллекционеры были промышленниками. Встречались среди них и художники, продолжатели давней традиции Джошуа Рейнольдса и Томаса Лоуренса, собиравших картины старых мастеров. К их числу можно отнести и Дега, несравненная эстетическая проницательность и страстная увлеченность которого позволяли ему выбрать истинные шедевры. А в наши дни не суждено ли Дэмиену Хёрсту, одному из немногих художников, обладающих достаточными средствами, чтобы конкурировать с самыми богатыми ценителями, войти в историю не столько благодаря собственным творческим достижениям, сколько собранной коллекции предметов искусства? Существуют и влиятельные коллекционеры-арт-дилеры: так, Эрнст Байелер и Хайнц Берггрюн в течение своей дилерской карьеры собрали достаточно прекрасных произведений искусства, чтобы одарить чудесные музеи. Подобные жесты требуют немалой решимости: я по опыту знаю, как трудно бывает дилеру провести границу между своими фондами и личной коллекцией.
Иногда неожиданные приобретения работ того или иного художника объясняются симпатией, которую испытывал к нему коллекционер. По временам коллекционер, начисто лишенный проницательности и вкуса, вдруг покупает великолепное произведение: ни дать ни взять обезьяна с пулеметом, рано или поздно все-таки попадающая в цель. Однако очевидный трэш у известного коллекционера встречается редко. Как-то раз мы выставили на торги прескверный рисунок Пикассо. Он явно был выполнен художником в один из дней, когда вдохновение ему не сопутствовало. Меня поразило, что купил его Стэнли Сигер, один из наиболее тонких и одаренных современных коллекционеров, непревзойденный знаток Пикассо. Впоследствии он объяснял свой поступок так: «Знаешь, я просто не мог его не купить. Он настолько неудачный, что надо было любым способом изъять его из обращения».
Dealers Арт-дилеры
Ремесло арт-дилера, как мы знаем его сегодня, было изобретено в Париже Полем Дюран-Рюэлем. Именно он открыл миру импрессионистов. До семидесятых годов XIX века существовало немало торговцев антиквариатом, но их целью была покупка и продажа картин старых мастеров, давно признанных и по большей части уже покинувших этот мир. Так антиквары зарабатывали себе на жизнь. Среди них были и те, кто обосновался в Италии и стал снабжать предметами искусства аристократов, совершающих «гранд-тур». Иногда торговцы и сами писали картины. Проводимая ими экспертиза заключалась в установлении происхождения и в попытке не без оснований, хотя и слишком оптимистично, атрибутировать картину. Некоторые молодые аристократы, знакомившиеся с красотами Италии, оказывались способными учениками и вскоре сами начинали торговать предметами искусства. Даже Георг III как-то в минуту просветления заметил, что все его придворные отныне принялись продавать картины. Вальтер Скотт выразил опасения по этому поводу в 1827 году: «Боюсь, что торговля предметами искусства, как и верховая езда, – профессиональное поприще, на коем джентльмен не может подвизаться, не утратив некоторых своих отличительных черт».
Статус торговца картинами существенно меняется во второй половине XIX века, так как по-новому начинает восприниматься роль художника. Романтизм всячески подчеркивал индивидуальную неповторимость гения. Постепенно торговец современным искусством осознал, что его миссия отныне заключается в том, чтобы сделать творения этого гения доступными публике. До середины XIX века французский художник продавал картины, экспонируя их в Салоне (на ежегодной выставке приверженцев эстетического консерватизма и академизма), и так упрочивал свою репутацию. Однако поскольку этот путь был закрыт для импрессионистов, на помощь им пришел Дюран-Рюэль и стал всячески продвигать и поддерживать отдельных художников этого направления, заняв позицию истолкователя нового, «сложного» искусства. Он ввел в обиход выставки одного художника, поставляя и продвигая на рынке творческие индивидуальности. Он использовал все свои связи, чтобы обеспечить им положительные художественные рецензии во влиятельных газетах. А еще он открыл им Америку с ее новым, привлекательным рынком.
Деятельное создание брендов художников, подобных товарным, выплата им регулярных пособий, организация ряда хорошо продуманных коммерческих выставок их работ в различных галереях, по мере того как картины растут в цене, – все это составляющие сложного и изощренного рынка предметов искусства в XXI веке. Однако их открыл, впервые обеспечив таким образом коммерческий успех импрессионистов, именно Дюран-Рюэль в конце XIX века.
Дюран-Рюэль провозгласил, что в торговле предметами искусства важна не торговля, а искусство. В своих собственных корыстных интересах он создал образ торговца картинами – идеалиста и первооткрывателя талантов, бескорыстного героя, почти сравнимого с самим художником в эстетической проницательности, безошибочной оценке работ и самоотверженном служении гению. Даже в 1896 году, когда импрессионизм уже хорошо продавался, Дюран-Рюэль по-прежнему утверждал: «Я весьма придирчиво отношусь к картинам, которые покупаю, и, если бы я был не столь разборчив, клиентов у меня точно прибавилось бы. Что ж, отчасти это верно. Никто не станет упрекать торговца картинами, желающего честно получить прибыль. Однако Дюран-Рюэль хитроумно использовал собственное благородство и великодушие в качестве маркетингового инструмента. С тех пор подобная тактика широко применяется в торговле, даже сейчас. «Уж лучше я продам картину вам, ведь вы понимаете ее ценность, а не дельцу, которому совершенно все равно. Даже если я не получу большой прибыли, не важно». Или если дилер – по-настоящему хитрая лиса: «Я показал вам то же, что всем и всегда. Но наверху у меня несколько действительно великолепных картин, я показываю их лишь избранным клиентам, способным постичь их прелесть». Таким тактическим приемам очень трудно противиться, ведь они льстят покупателю и возвышают его в собственных глазах, а с другой стороны – незаметно убеждают его купить. Заслуга Дюран-Рюэля в том, что он создал образ нынешнего арт-дилера, повышающего культурный уровень своих клиентов, арт-дилера – жреца, посвящающего их в мистерии современного искусства.
«Вши на спинах художников» – так Дюшан определял торговцев картинами. Это не совсем честно, да и сам он признавал, что торговцы художникам необходимы. Однако его брань – свидетельство нового типа отношений, сложившихся между живописцами и теми, кто продает их работы. По мере того как современное искусство становилось все более элитарным и трудным для понимания, истолкователь, интерпретатор в облике арт-дилера сделался ключевой фигурой в процессе продажи. Он обусловливал не только эстетическую, но и коммерческую сторону вопроса. Мэри Кассатт писала в 1904 году: «Сегодня, в дни господства коммерции, художнику нужен „посредник“, который объяснил бы достоинства картины или гравюры, то есть, в сущности, „произведения искусства“, потенциальному покупателю и убедил бы его, что нет лучшего вложения денег, чем в „произведение искусства“». Несколько талантливых брокеров блестяще исполнили эту роль в начале ХХ века: Амбруаз Воллар, Пауль Кассирер, Даниэль Канвейлер и Леонс Розенберг (памятное описание внешности которого оставил Рене Жампель: «высокий, элегантный блондин, напоминающий розовую креветку») внесли решающий вклад в признание французского модернизма.
Зачастую им приходилось преодолевать трудности. Торговец картинами в роли посредника между публикой и художником рисковал заслужить неодобрение и разрушить собственное дело. Коллекционеры, стремившиеся получить непосредственный доступ к художнику, считали дилера досадным препятствием на своем пути. Что-то подобное мы наблюдаем и сегодня. «Напыщенным, жаждущим власти и надменным, этим законодателям хорошего вкуса подошло бы место вышибалы в ночном клубе, пусть бы там пропускали одних и отказывали другим», – поносил арт-дилеров Чарльз Саатчи.
На протяжении ХХ столетия могущество арт-дилеров возрастает. «Живопись – самое прекрасное занятие, оно уступает только торговле живописью», – дразнил Рене Жампеля художник Жан Луи Форен в 1919 году. В том же году Жампель отправляется на аукцион «Кристи» и становится свидетелем того, как английские торговцы картинами изяществом манер и облика начинают затмевать своих титулованных клиентов (сегодня следовать их примеру опасно): «Торговцы антиквариатом носят гвоздики в петлицах. Их галереи иногда производят отвратительное впечатление, но сами они джентльмены». Он описывает беседу «двух господ: один – в безупречно сшитом сюртуке, другой – краснолицый, неуклюжий, с брюшком, – ни дать ни взять персонаж из тех, что веселятся в тавернах на дешевых гравюрах, изображающих охотничьи сцены. Первый – торговец картинами, второй – лорд». Некоторым торговцам картинами, например Джозефу Дювину, даже был пожалован титул лорда. Кое-кого посвятили в рыцари. ХХ столетие воистину золотой век арт-дилеров, во власти которых создать и репутацию художника, и коллекцию, овеянную немеркнущей славой. История современного европейского и американского искусства написана в равной мере художниками и арт-дилерами.
В XXI веке арт-дилеры задействовали еще один механизм привлечения покупателей: сегодня такие крупные дилеры, как «Пейс», «Гагосян» и «Белый Куб», достаточно богаты, чтобы превратить свои галереи в подобие музеев современного искусства. Они устраивают выставки на уровне, который сделал бы честь любому известному музею, и показывают зрителям шедевры, на время предоставленные музеями и создающие контекст и фон двум-трем произведениям, выставляемым на продажу. Структура и охват их деятельности соответствуют нынешней глобализации: они привлекают еще не снискавшие известность таланты, предлагая им выставки в собственных залах в Нью-Йорке, в Лондоне или в Риме, в Мумбаи, в Сан-Паулу или в Гонконге. Их сотрудники сидят, прильнув к мониторам, за столами, поставленными в ряд, как в трейдерском зале на бирже. Их операции под стать серьезным коммерческим сделкам.
«Возблагодарим же Господа за тех, кого намереваемся обмануть». Молитва арт-дилеров – беспечное признание в том, что – так уж сложилось! – торговцам предметами искусства была свойственна разная степень честности и обаяния. Среди них есть ученые, есть коммерсанты. У каждого собственная стратегия продаж. И преимущество, и недостаток искусства заключается в том, что дилер выставляет на рынок товар, лишенный ясной объективной ценности. Предмет искусства обретает ее, только когда находит покупателя, и ровно в размере той стоимости, которую дилер убеждает его заплатить. Добиться этого можно, сыграв на жадности, мании величия или на чувстве социальной незащищенности, мучащем клиента. Финансовое могущество крупного торговца картинами наглядно демонстрируют желчные дневниковые записи Мэри Кассатт в сентябре 1886 года. Она посоветовала американцу по фамилии Томпсон, приехавшему в Париж, купить Моне не у Дюран-Рюэля, а у менее известного дилера Портье. Хотя Портье предложил ему две хорошие картины Моне по самым низким ценам, какие только можно вообразить, Томпсон, как пишет Кассатт, «предпочел приобрести одного Моне у Дюрана за три тысячи франков. Я оскорблена! Я посоветовала ему купить дешево, но, полагаю, он из тех, кто склонен платить втридорога. Почти не сомневаюсь, что картины у Портье были лучше». Несомненно, бренд произведения искусства создается не только авторством, но и продажей особенно известным дилером с громким именем, поэтому Моне, купленный у Дюран-Рюэля, в сущности, более ценен, нежели Моне, купленный у Портье. Верно также, что начинающему собирателю, который открывает для себя таящий опасности, необычный мир искусства, высокая цена представляется гарантией качества. Впервые занявшись арт-дилерством, я долго не мог понять, почему прекрасный пейзаж начала XIX века, висевший на стене моей галереи, совершенно не привлекает покупателей. Меня надоумил мой друг Джаспер. «Он слишком дешевый. Ты назначил слишком низкую цену, – сказал он. – Удвой ее». Не прошло и недели, как я продал пейзаж.
Лорд Дювин: торговец картинами, изяществом манер и облика затмивший своих титулованных клиентов (сегодня следовать его примеру опасно)
Мой собственный дилерский опыт оказался вполне бесславным. Он выпал на 1987–1993 годы: на первые три года пришелся невиданный прежде бум продаж, а на оставшиеся три – столь же невиданный спад. До 1990 года трудно было не снискать успеха. Запас японских денег казался неисчерпаемым, и коллекционеры не жалели средств для покупки импрессионистов и художников XIX века, особенно если речь шла об известных именах. Под галерею мы сняли на Джермин-стрит помещение на втором этаже, очень просторное, занимавшее боковой фасад сразу двух зданий. Оставалось решить вопрос снабжения товаром. Казалось, вот-вот, совсем чуть-чуть – и можно будет отойти от дел и зажить в роскошной праздности, на вилле где-нибудь в Южной Франции.
А потом, в августе 1990 года, все внезапно обрушилось. Последовал крах японского фондового рынка, а Саддам Хусейн захватил Кувейт. Процентные ставки взлетели вверх. Неожиданно оказалось, что картины никто покупать не хочет. Я решил было, что вся беда в неудачном расположении галереи. Она находилась над двумя магазинами: знаменитым сырным «Пакстон-энд-Уитфилд» слева и бутиком «Флорис», специализировавшимся на продаже мыла и ароматических масел, справа. Что ж, все просто, подумал я: перевесим картины во флорисовский конец. Но даже эта мера ничего не изменила. Нам с моим коллегой Генри Уиндемом ничего не оставалось, как после обеда ходить в кино: мы пересмотрели на дневных сеансах весь репертуар Вест-Энда.
Мой друг Джаспер – популярный, наделенный безупречным вкусом арт-дилер, скрывающий свою эстетическую проницательность под маской циничного торговца подержанными машинами. Он составил список фраз, которые дилер предпочел бы никогда не слышать от клиентов. Как правило, они начинаются одинаково, с четырех невинных слов:
«Мне нравится картина, но я хотел бы, чтобы на нее взглянула моя жена». Классическая уловка. Если клиент такое сказал, сделка не состоится.
«Мне нравится картина, но мой консультант говорит, что в этом финансовом году больше ничего покупать нельзя, не то налоги меня совсем разорят». Дилер получает сразу две оплеухи: во-первых, сделка не состоится, а во-вторых, клиент дает ему понять, что он во много раз богаче.
«Мне нравится картина, но я хотел бы не покупать ее, а обменять на свою». Далее клиент предлагает дилеру совершенный трэш, который у него же и купил пять лет тому назад.
«Мне нравится картина, но я посмотрел на Артнете…» Артнет изменил весь облик нашего бизнеса. Это сайт, на котором выкладываются цены всех картин, проданных на аукционе за последние двадцать пять лет. На него может зайти любой потенциальный клиент. Он знает, что в цену дилер включил издержки производства. Знает, сколько стоят похожие произведения искусства. Он полагает, что знает все. Это катастрофа.
«Я художник. Пришел предложить вам для продажи свои картины». Убирайся из моей галереи.
Дойдя до крайности, кажется, во время рецессии начала девяностых, когда картины совсем перестали покупать, Джаспер придумал план «Б»: «Соберу все свои фонды у себя в галерее, а потом подожгу ее к чертовой матери. Есть один китаец, он берется все сделать, абсолютно конфиденциально, за пару косых. Могу предложить нескольким близким друзьям место в кладовой, пусть принесут туда свои сокровища. Так я снижу стоимость услуги. А потом – какая прелесть, страховые выплаты. Можно только мечтать».
Этот план так и не был реализован, но помню, как Джаспера заинтересовал пожар, случившийся в Лондоне в мае 2004 года в хранилище фирмы «Момарт». Дотла сгорели инсталляции Трейси Эмин и братьев Чепмен, ценные экспонаты из галереи Чарльза Саатчи. Нет, разуверял я Джаспера, это не план «Б», который кто-то привел в действие по твоей схеме. Это трагическая случайность, воля Божия. Джаспер задумчиво кивнул. «В этом-то все и дело, – сказал он. – В искусстве Бог ничего не понимает, зато прибирает то, что Ему нравится».
Le Ronde[59]
Вообразите, скажем, позднего Миро, яркого, эффектного. Вы – арт-дилер, пытающийся честно заработать на хлеб, и клиент поручает вам без лишнего шума продать такого Миро частному коллекционеру. Он сообщает, что хочет получить за картину четыре с половиной миллиона долларов. Вы заказываете прекрасные фотографии, тщательно готовите роскошный каталог, а потом посылаете по электронной почте эти фотографии и детали сделки клиенту, которого специально присмотрели, – нью-йоркскому коллекционеру, уже давно мечтающему о чудесном позднем Миро. В письме вы приводите цену четыре миллиона девятьсот тысяч фунтов, включая ваши скромные комиссионные (четыреста тысяч) и останавливаясь как раз чуть ниже психологически труднопреодолимой границы в пять миллионов.
Клиенту картина нравится, однако он хочет проконсультироваться у другого, нью-йоркского дилера – пусть посоветует, сколько за нее платить. За нее просят четыре миллиона девятьсот тысяч, говорит клиент, стоит она того? Нью-йоркский дилер уклоняется от прямого ответа, ведь он сам испытывает искушение купить ее за эту цену: знакомая девица, дизайнер интерьеров, только что просила его раздобыть такого Миро для клиента, дом которого она как раз оформляет. Поэтому он показывает ей фотографии и называет цену в пять миллионов триста тысяч (включая собственные комиссионные – четыреста). Девица-дизайнерша передает фотографии клиенту, присовокупив, что Миро стоит пять миллионов восемьсот тысяч (включая свои комиссионные).
Жена клиента дизайнерши отвергает Миро, поскольку он не подходит к ее занавескам, но показывает фотографии своему тренеру по фитнесу, у которого есть побочный заработок – торговля картинами – и который припоминает одного русского: он с ним играл то ли в гольф, то ли в крикет в Лайфорд-Ки, и этот русский тоже любит Миро. Почему бы не переслать ему фотографии, разумеется с собственной наценкой? Назвать цену, скажем, в шесть с половиной миллионов? Русский хмурится и показывает снимки своему арт-консультанту, по совместительству своей подруге. Она решает его провести и тайком пересылает фотографии богатому китайцу из Гонконга, который, как ей кажется, скорее готов заплатить за Миро рекордную цену; разумеется, она включает и свое вознаграждение: получается семь с половиной миллионов.
Клиент-китаец намерен убедиться, что его не надуют, и потому обращается к знакомому дилеру во Франции, который, в свою очередь, припоминает дилера в Лондоне – он-то как раз и говорил ему, что ищет позднего Миро для одного своего клиента, – и решает передать ему эту конфиденциальную информацию. Этот лондонский дилер – вы. Вот поэтому спустя месяц с небольшим, в тот самый день, когда вы звоните первому, нью-йоркскому коллекционеру, чтобы спросить, не покупает ли он в конце концов Миро, которого вы предложили ему за четыре миллиона девятьсот тысяч, дилер из Франции предлагает вам эту же картину за восемь с половиной миллионов.
Emerging markets Новые рынки
Первым оценил потенциал новых, зарождающихся рынков вездесущий парижский торговец Поль Дюран-Рюэль, который в 1886 году привез в Нью-Йорк доселе невиданные картины французских импрессионистов. Со времен Гражданской войны американская экономика переживала феноменальный бум, и страна была вполне готова воспринять и приобретать новое, авангардное европейское искусство. Примерно десять лет спустя внимание парижских антикваров привлекла бурно развивающаяся экономика Германии, ведь жизнь научила их, что там, где быстро наживаются состояния, нетрудно найти начинающих коллекционеров. Свидетельство успеха этой стратегии – большое число выдающихся картин и скульптур французского модернизма, оказавшихся в немецких коллекциях на рубеже XIX–XX веков.
Экономике свойственна цикличность, и новые возможности появляются снова и снова. Желая произвести впечатление на коллег по ремеслу, арт-дилер в конце восьмидесятых мог похвалиться количеством японцев среди своих клиентов и доскональным знанием их вкусов и капризов. К сожалению, относительно того, какими принципами следует руководствоваться, чтобы вести успешный бизнес в Токио, между западными дилерами не было согласия. «Ради всего святого, не предлагайте им пейзажи со скалами! – заверял меня один. – Японцам они внушают ужас». «Держитесь прямо! – наставлял другой. – Японцы испытывают почтение к высоким. Им кажется, что они ближе к богу». «Не пытайтесь продать им картины с воронами!», «Ни под каким видом никогда не смущайте их!», «Не спорьте, если они сбивают цену», «Ни за что не позволяйте им торговаться!».
Поэтому нет ничего удивительного в том, что, впервые оказавшись в апартаментах японского коллекционера, я не знал, как себя вести. Оказалось, что мистер А., один из самых известных покупателей импрессионистского искусства, раскован и обаятелен. Единственное, что приводило меня в некоторое замешательство, – это отсутствие картин на стенах. Их украшала только стайка каких-то невзрачных документов в рамочках. Может быть, господин А. принадлежал к японским коллекционерам старой школы, полагавшим, что выставлять напоказ свои приобретения вульгарно? Я предположил, что из секретного хранилища вот-вот доставят несколько сокровищ, чтобы я мог ими насладиться. Но мы вежливо беседовали уже минут двадцать, а шедевры мне показывать не спешили. Наконец я не выдержал и спросил, где картины.
– Картины?
– Да, картины. Я бы очень хотел их увидеть.
На лице его изобразилось смятение, как будто я задал не совсем приличный вопрос.
– Картин здесь нет.
– Гм… И где же они?
– Они слишком ценные, чтобы держать их дома, – терпеливо пояснил он. – Картины в банковском хранилище.
Вместо этого он показал на стайку документов в рамочках и поманил меня к ним. Оказалось, что это сертификаты подлинности, все аккуратно вставленные в бархатистые паспарту. Тут-то мне и стало понятно, что коллекционировать произведения искусства в наши дни означает всего лишь вкладывать деньги в ценные бумаги.
Рекорд, поставленный японским рынком: полотно Ренуара в 1990 году ушло за 78 000 000 долларов (Огюст Ренуар. «Бал в „Мулен-де-ла-Галетт“». Холст, масло. 1876)
В последние двадцать пять лет характерной чертой международного рынка предметов искусства стало растущее стремление молодых экономик формировать и увеличивать спрос на западноевропейские и американские картины и скульптуры. Японцы первыми за пределами Европы и Америки стали вкладывать деньги в произведения искусства. Мода на картины французских импрессионистов, охватившая Японию в семидесятые – восьмидесятые годы, зародилась за сто лет до этого. В конце семидесятых годов XIX века японские студенты стали приезжать в Париж, чтобы обучаться западной живописи на оригиналах. Они тотчас прониклись склонностью к импрессионизму и передали эту любовь своим соотечественникам. В последующие сорок-пятьдесят лет японские коллекционеры начали приобретать картины импрессионистов, а затем включили в число своих любимцев также Ван Гога и постимпрессионистов.
Совокупность экономических факторов привела к тому, что на конец восьмидесятых годов пришелся апогей интереса японцев к живописи. Благодаря послевоенному восстановлению хозяйства и политической стабильности в Японии начался период процветания. Значительно выросла стоимость иены, в 1985–1987 годы ее покупательная способность увеличилась на сто процентов. Картины Моне, Ренуара, Сезанна и Ван Гога наводнили японские коллекции. Западным арт-дилерам и аукционистам давно так не везло. Японские коллекционеры побили все мыслимые рекорды в мае 1990 года, когда господин Саито, глава компании «Дайсёва Пейпер Маньюфэкчеринг», приобрел на аукционе «Бал в „Мулен-де-ла-Галетт“» Ренуара за семьдесят восемь миллионов долларов и «Портрет доктора Гаше» кисти Ван Гога за восемьдесят два миллиона.
А летом 1990 года случилось неизбежное: японский фондовый рынок, с его спекулятивными продажами акций, обрушился, а его индексы устремились вниз. Внезапно японские дельцы утратили всякий интерес к искусству. Но господина Саито это совершенно не обескуражило. Он объявил, что приобрел Ренуара и Ван Гога не для того, чтобы впоследствии выгодно перепродать, а исключительно из любви к этим художникам. Более того, из любви столь великой, что потребовал после смерти похоронить их вместе с ними. Западные искусствоведы, услышав об этом, пришли в ужас.
Реакцией на уход японцев с рынка, естественно, стало падение цен на импрессионистов. Как только пыль улеглась, всплыла нелицеприятная правда о том, для чего многие японцы покупали их картины. Некоторые использовали баснословно дорогое западное искусство для переправления денежных потоков, именуемого по-японски «дзайтеку», проще говоря, для финансовых махинаций. В руках беспринципных дельцов картины становились инструментами отмывания денег или налоговых афер. Картину, купленную в Нью-Йорке, скажем, за два миллиона долларов, вскоре продавали в Токио за восемь миллионов, чтобы создать «смазочный фонд» для подкупа чиновников и политиков. Ренуара включали в качестве довеска в сделку с недвижимостью, дабы обойти ограничения, установленные законом для банковских ссуд на подобные операции. Картинами подкупали политиков. Посредственного Моне дарили политику, а потом выкупали за сумму, в десять раз превосходящую исходную стоимость.
Сегодня японцы по-прежнему покупают Моне на аукционах, однако это уже не одержимые жаждой наживы дельцы, а прекрасно образованные коллекционеры. А господин Саито, ныне, к сожалению, покойный, отказался от своего эксцентричного намерения и не унес импрессионистские трофеи с собой в могилу. Я счастлив сообщить, что две эти великие картины по-прежнему нас радуют.
Новыми, развивающимися рынками западного искусства стали Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, Ближний Восток, Россия и Бразилия. Глобализация воистину вступила в свои права: сегодня покупатель Моне или Уорхола может быть не только европейцем или североамериканцем, но и русским, китайцем или бразильцем. По-видимому, как только страна добивается существенного экономического роста, ее богатые граждане неизбежно начинают приобретать западное искусство. Не важно, где именно на земном шаре она находится: новых богатых в этих экономиках привлекают европейские и американские модернисты. Для них это символ статуса? Зачастую да. Реклама богатства. Для многих нуворишей стремительно развивающихся рынков Моне или Уорхол – еще один роскошный бренд, вроде сумочки от Гуччи, платья от Лакост или спортивного автомобиля «феррари». Обладание подобным трофеем подтверждает в их глазах принадлежность к наднациональной элите, к меньшинству, владеющему несметным богатством в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в Париже и Мумбаи, в Москве и Шанхае. Представителей этого избранного круга объединяет с подобными себе куда больше общих черт, нежели с соотечественниками.
Однако не все коллекционеры западного искусства в новых экономиках движимы желанием заполучить бренд. Существуют и покупатели, наделенные вкусом и эстетической проницательностью; они составляют хорошо продуманные коллекции и открывают музеи. Например, утонченные, хорошо образованные русские с удовольствием продолжают традиции великих дореволюционных коллекционеров Сергея Щукина и Ивана Морозова, московских собирателей западного искусства, которые восторгались Пикассо и Матиссом, приезжали в Париж и перед Первой мировой войной покупали шедевры прямо у них в мастерских. А на богатом Ближнем Востоке, вызывая лихорадочный восторг арт-дилеров и аукционистов, создаются с помощью западных консультантов музейные коллекции невероятного размаха и амбициозности. Кто следующий? Ныне хорошо информированный дилер должен непременно читать приложение к «Файненшнл таймс», посвященное новым рынкам.
Exhibitions Выставки
Выставки – это собрания предметов искусства, которые демонстрируются публике в течение ограниченного периода времени. Они могут с исследовательскими и просветительскими целями устраиваться музеями и объединять картины и скульптуры прошлого, которым иначе не встретиться. С другой стороны, их организуют галереи, экспонирующие последние достижения в сфере современного искусства, а иногда выставляющие в своих залах творения одного ныне живущего художника; в таком случае цели их коммерческие. Историю современного искусства можно написать, обозначив в качестве вех несколько эпохальных выставок авангарда: например, первая выставка импрессионистов в 1874 году, Осенний салон 1905 года, открывший миру фовистов, выставки постимпрессионистов, устроенные Роджером Фраем и потрясшие английские художественные круги в 1910 и 1912 годах, нью-йоркская Арсенальная выставка 1913 года, которая познакомила американцев с новейшими образцами европейского модернизма.
Для художника выставка – одновременно профессиональная необходимость и потенциальные страдания. Этимология английского слова «выставка», «exhibition», дает представление о стрессах и негативных эмоциях, которые испытывает живописец или скульптор. Выставка, «exhibition», – место, где произведения художника выставляют напоказ; «to make an exhibition of oneself» – выставить себя на посмешище; «exhibitionism» – эксгибиционизм; «self-exposure» – «обнажение», «откровение», «разоблачение» (ср. фр. «Il s’expose» – «он показывает на выставке свои картины»); «to die of exposure» – умереть от холода, солнечного удара и т. п.
Блокбастер XIX века (Ж. Б. Фортюн де Фурнье. Один из залов парижской Всемирной выставки 1855 года. Акварель. 1855)
Выставки-блокбастеры обыкновенно посвящены творчеству известных художников, как правило уже ушедших из жизни; экспонаты для них зачастую временно предоставляют различные владельцы, а устраивают их крупные музеи, превращая в важные культурные события. Рекламу подобных выставок можно увидеть в метро и на лондонских автобусах. На них выстраиваются очереди, а по своей популярности они сопоставимы с модными фильмами и пьесами. Более того, если вы признаетесь в том, что еще не побывали на такой выставке, в образованных кругах вас перестанут принимать всерьез. Их проведение весьма недешево, однако они окупаются и даже приносят прибыль, хотя бы от продажи большого числа билетов, а также сувениров: каталогов, открыток, календарей, мягких игрушек – так сказать, от «вспомогательного рынка». Владельцы известных картин, согласившись предоставить их на масштабную выставку в крупном музее, только выигрывают. Участие в ней повысит репутацию и цену шедевров, если они вознамерятся их продать. Я даже знаю нескольких любителей искусства, в свое время представивших на выставку картины, «жемчужины шоу», и потребовавших долю прибыли от ее проведения.
Транспортировка шедевров живописи по всему миру на временные выставки-блокбастеры иногда вызывает опасения. Ярким примером перестраховки может служить знаменитая выставка Вермеера, организованная вашингтонской Национальной галереей в 1996 году. В ее залах были представлены двадцать три картины из сохранившегося небольшого наследия живописца, две трети созданных им произведений. Раз в кои-то веки хвалебные отзывы не содержали преувеличений: выставка действительно давала уникальную возможность увидеть одновременно бóльшую часть картин безумно популярного старого мастера. В США выставку посетило рекордное число зрителей, а затем ей предстояло отправиться в гаагский Маурицхейс. Поначалу все двадцать три картины должны были лететь в Амстердам одним рейсом. Однако осторожность возобладала, их разделили и перераспределили по пяти трансатлантическим рейсам.
Главное на рынке предметов искусства – выбрать нужный момент, а если удается заранее узнать о готовящейся крупной выставке работ того или иного художника, это удачный повод предложить произведение означенного автора для продажи. Хитроумный и предприимчивый арт-дилер или аукционный дом выставит его на торги, как раз когда популярность автора, благодаря усилиям музея, достигнет пика. Другой способ, к которому прибегают аукционные дома, чтобы воспользоваться шумихой вокруг масштабной выставки, – предложить свое спонсорство: оно дает возможность принимать клиентов в музее во время проведения «шоу».
Пытаясь привлечь публику и получить прибыль, музеи постоянно испытывают соблазн устраивать выставки коммерчески привлекательных художников, а не экспериментировать с рискованными проектами. Можно придумать забавную салонную игру – состязаться, измышляя самые коммерческие названия выставок: «Моне: цвет и свет», «Ван Гог: годы страданий», «Женщины Пикассо». Несколько менее коммерческими покажутся на их фоне «Сэр Годфри Неллер и его школа», «Позднее творчество Вламинка», «Гений Адриана Броувера».
Experts Эксперты
Экспертиза в сфере искусства имеет свои нюансы. Вы можете проводить ее, будучи искусствоведом, арт-дилером, куратором музея, критиком, знатоком (дилетантом) или специалистом или даже художником. Однако результаты вашей экспертизы в каждом из этих случаев окажутся разными.
Британский художник Бенджамин Хейдон восставал против критиков, которые сами не являются художниками. «Нет ни одного поприща, кроме поэзии и живописи, на коем истинным бедствием явились бы так называемые знатоки, – сетовал он в 1815 году. Под „знатоком“ он понимал невежду, не имеющего даже практического опыта в избранной сфере, где полагал себя величиной. – Ведь нет знатоков ни в военном деле, ни в медицине, ни в хирургии. Оно и понятно: никто не доверит раненую руку или ногу „знатоку“ хирургии; ни одна чахоточная девица, болезненно исхудавшая, с угасающим взором, не решится для исцеления отдаться на милость „знатока“ медицины».
Отрицание дилетантизма, продемонстрированное Хейдоном, ставит ряд интересных вопросов. Неужели футбольные обозреватели хуже комментируют матчи оттого, что никогда не были профессиональными игроками? Разве оперные критики не имеют права судить о постановках, если сами не учились вокалу? Несомненно, Хейдон полагал, что экспертиза в той или иной сфере может быть дозволена только тем, кто сам занимается обсуждаемым искусством. Разумеется, его потрясли бы важность и надменность, которую в XIX–XX веках напустили на себя художественные критики, не державшие в руках кисти. Барнетт Ньюман, представитель абстрактного экспрессионизма, в 1951 году писал о таком же неприятии «экспертов»: «В художнике видят не оригинального мыслителя, прибегающего к средствам живописи, а некоего исполнителя самому ему непонятной воли, который, повинуясь одному лишь инстинкту, интуиции, по большей части даже не осознавая, что делает, проникает в тайну благодаря магии своего дара и так „воплощает“ истины. А вот интерпретировать эти истины профессионалы, по их убеждению, способны куда лучше, чем он сам». Ему вторит Ротко: «Терпеть не могу историков искусства, экспертов и критиков, не доверяю им. Стайка паразитов, пьющих кровь искусства. Все их потуги не только бесполезны – они просто лживы».
Впрочем, как считает критик Джон Канадей, опубликовавший обзор ретроспективы Ротко в музее МоМА, именно слабость современного искусства и наделяет критиков такой властью:
«Живописец ныне превратился в профессионального поставщика, время от времени снабжающего художественного критика материалом для эстетических упражнений. Это удручающий пример постановки телеги впереди лошади, однако подобная практика вполне оправданна в дни, когда другие искусства взяли на себя удовлетворение потребностей, прежде удовлетворявшихся живописью, и оставили ей лишь наиболее эзотерические функции. Совершенно естественно, что критик испытывает соблазн увидеть глубины и прозрения на картинах самого „немногословного“ художника, поскольку именно такое творчество дает наибольший простор для эстетических обманов».
Кажущаяся необходимость знатоков, критиков, а тем более такого современного феномена, как дилер-«интерпретатор», вызывает неизбежное негодование художников, склонных считать, что именно им пристало судить об искусстве в целом и, разумеется, о своем собственном. Однако, будучи уверены в своей эстетической проницательности, живописцы часто отказывают в оной коллегам по цеху: когда Уиндем Льюис ослеп, Огастес Джон послал ему телеграмму, в которой умолял ни в коем случае не бросать художественную критику.
Великие эксперты, дилеры, знатоки и критики обладают тем, что принято именовать загадочным словосочетанием «художественное чутье». Это способность угадывать ценность картины, хорошенько ее разглядев. Точно ли это картина Х. или только из его мастерской? Или это всего-навсего копия или подражание? Если это картина кисти Х., то средненькая или великая? Если вы арт-дилер или аукционист, у вас тотчас появляется вопрос: а сколько за нее дадут? (Если в последнем случае вы точно предскажете ее цену, значит обладаете «коммерческим чутьем».) А из чего складывается «художественное чутье»? Разумеется, плюсом будет безупречно натренированная, исключительно цепкая зрительная память, но, кроме того, нужно уметь определять качество и, подобно графологу, распознавать неповторимый почерк художников, их уникальную манеру. Эти способности в значительной мере интуитивны, однако их можно развивать учеными занятиями и постоянными упражнениями. В своих наиболее утонченных проявлениях чутье просто ошеломляет. В отделе старых мастеров «Кристи» у меня был коллега, поражавший своим дарованием. Он мог посмотреть на любую картину в подвальном хранилище аукциона и воскликнуть: «Кисти того же художника, что и третья, считая от двери в коридоре перед комнатой, которую мне отвели в Чатсворте!» И ни разу не ошибся.
В деятельности эксперта присутствует научный элемент, которого лишены легковесные суждения знатока или критика. В работе с картинами эксперта интересует не столько их качество, сколько подлинность. Поэтому эксперты приносят пользу рынку, а иногда и суду. Специализация экспертов с течением времени становится все ýже: ныне существует признанный эксперт по творчеству любого известного художника, и именно к такому эксперту обращаются за авторитетным мнением, за окончательным вердиктом [см. главу III раздел «Подлинность»]. Во Франции право решать, что считать подлинным, а что нет, издавна предоставляли членам семьи художника. Сейчас от этой практики отказываются, а большинство экспертов теперь независимы и в основном происходят из академической среды. Они находятся вне рынка, однако вынуждены рисковать, чтобы сохранить свое честное имя. От их суждения зависит, будет ли картина оценена в пять миллионов фунтов или признана ничего не стоящей, но сами они никаких денег не получают. Ни в одной другой сфере искусства академическая экспертиза не наделяет клиентов такой финансовой властью.
В этой области может возникать конфликт интересов, особенно если самый авторитетный специалист по творчеству художника одновременно и дилер. Например, галерея Вильденстейна устанавливает авторство полотен, приписываемых таким известным художникам, как Моне, Ренуар и Гоген. Ее владельцы стремятся достичь независимости суждений, воздвигнув китайскую стену между своими дилерскими операциями и своим исследовательским институтом. Эта китайская стена должна быть особо прочной. Время от времени соперники Вильденстейна в художественном мире напускают на него независимый стройнадзор: пусть проверит, не шатается ли его китайская стена. Кажется, пока она не дает трещин.
Если верхние ступени иерархии занимают эксперты, тяготеющие к научному подходу и изучающие объективные вопросы подлинности, то на нижних находятся художественные критики, весьма субъективные в своих эстетических оценках. Эксперт, подтверждающий подлинность картины, как я уже говорил, оказывает большее влияние на ее стоимость, нежели критик, этой картиной восторгающийся. Впрочем, мнение критиков отчасти способно повысить или понизить коммерческий статус картины. В частности, оно сыграло роль в знаменитом судебном процессе XIX века, касавшемся художественного вкуса. В 1877 году Рёскин написал о «Ноктюрне» Уистлера: «Я и не знал, что доживу до тех лет, когда самодовольный фат, плеснувший краской в лицо публике, потребует за это двести гиней». Уистлер подал против него иск. В дело вмешалась личная неприязнь, но Уистлер также осознавал, что негативная оценка из уст необычайно влиятельного Рёскина может сказаться на продажах его картин.
XIX век не знает недостатка в художественных критиках, однако едва ли кому-то из них под силу столь ощутимо влиять на общественное мнение и коммерческую стоимость картин, подобно Рёскину. Возможно, они утратили способность критически воспринимать анализируемые произведения искусства на фоне всеобщего подобострастия перед новым [см. главу II «Новаторство»], а отмена всех прежних правил и предписаний относительно того, что считать искусством, потворствует самовлюбленному «эстетическому шарлатанству» в художественной критике, но препятствует здравым суждениям [см. ниже раздел «Словарь терминов»].
Fairs Ярмарки
Ярмарки предметов искусства – ответный удар, наносимый дилерами аукционным домам с их устрашающей властью на рынке. На крупные международные ярмарки (в Базеле, в Майами, в Лондоне на «Фризе» демонстрируется современное и новейшее, а в Маастрихте – старинное искусство) свозят и предлагают вниманию европейских, американских и азиатских ценителей свои товары ведущие коммерческие галереи мира. Их цель – повторить лихорадку и даже безумие популярной аукционной недели в Лондоне или Нью-Йорке. Им это удается. В их стенах действительно собирается множество богатых коллекционеров, кураторов, критиков и сотрудников музеев. В местном аэропорту один за другим приземляются дорогие частные самолеты. На ярмарках кипит бурная деятельность, прежде всего коммерческая, но не обходится и без сплетен, хвастовства и установления нужных контактов. Иногда туда приезжают и художники, хотя подобные арт-события могут причинить им психологическую травму: недаром воздействие ярмарок уподоблялось шоку, испытанному ребенком, который подсмотрел родительское соитие.
Чтобы устроить ярмарку, организаторам требуются незаурядные дипломатические способности. Они должны каким-то образом привести к общему знаменателю интересы множества соперничающих коммерческих структур, а ведь свет не видывал бóльших индивидуалистов, чем арт-дилеры, совершенно несклонные подчиняться какой-либо власти. Во-первых, необходимо решить вопрос, кого допустить к участию в ярмарке, а кого нет. Зачастую подобный вердикт выносит комиссия, состоящая из наиболее уважаемых дилеров-участников; он может больно ранить эго тех, чьи работы не примут. Оскорбления наносятся и в процессе развешивания картин и размещения экспонатов в выставочном зале. И наконец, есть комиссия, осуществляющая «проверку на благонадежность»: она имеет право исключить всякого, кто представил работы низкого качества или сомнительной подлинности. Удивительно, что к открытию ярмарки участники еще разговаривают друг с другом.
На крупных ярмарках заключают сделки двух типов. Можно либо, не теряя времени, лихорадочно скупать картины и скульптуры высокого качества, впервые показанные теми или иными галереями; потребуется приложить максимум усилий, всячески преувеличивать собственную значимость и потратить немалую сумму денег, чтобы вас первым допустили в выставочный зал. Второй способ практикуют коварные завсегдатаи выставок: они дожидаются последнего дня работы ярмарки, и тогда, оскорбительно низко сбивая цены, скупают непроданное. В бытность свою арт-дилером в Маастрихте я убедился, что даже сделки второго типа воспринимаются с благодарностью, производящей жалкое впечатление.
Ярмарка предполагает иной подход к продажам, нежели аукцион [см. выше раздел «„Кристи“ и „Сотби“»]. На аукционе называют соблазнительно низкую стартовую цену и надеются ее поднять; теоретически нет верхнего предела цены, которого могут достичь соперничающие покупатели. Напротив, дилер, продающий картину на ярмарке, начинает с высокой цены и, возможно, продаст ее дешевле. Торг почти всегда заканчивается тем, что покупатель соглашается на цену, лишь немного уступающую первоначальной. Публика, расходящаяся из залов Базельской или Маастрихтской ярмарки под впечатлением высокого качества и столь же высокой стоимости, не в силах осознать это хитроумие и изворотливость дилеров.
Football Футбол
Мне часто снится один и тот же сон. Я на футбольном поле; важный матч; «Челси» играет на стадионе «Стэмфорд-бридж». Во сне я не футболист; когда-то я воображал себя игроком, но это было давным-давно. Нет, в сновидении я немолод, сед, в строгом костюме, но почему-то среди футболистов, с нелепым видом маюсь на линии ворот, а тем временем противник делает поперечный пас в штрафную, защитники «Челси» в панике. Один из бомбардиров противника сильно бьет по нашим воротам. Нашему голкиперу Петру Чеху удается перехватить мяч, но он выскальзывает у него из рук и неумолимо катится к линии ворот. И тут я, все еще прижимая к себе кейс, каким-то образом его отбиваю (между прочим, я в мокасинах с кисточками). Я испытываю невероятное облегчение, но потом мне становится не по себе. Посчитают ли мое вмешательство законным или сочтут, что я нарушил правила, и присудят гол противнику «Челси»? Разве может быть такое, если мяч не пересек линию ворот? Этот эпизод точно покажут в передаче «Главный матч дня», его там проанализируют футбольные комментаторы. И как они меня оценят? И что скажут в аукционном доме «Сотби», где мне, в конце концов, и платят жалованье? Увидят ли они в моей игре подобие рекламы бренда, о которой, по мнению нашего пресс-бюро, мы обязаны денно и нощно радеть?
Если оставить в стороне вопрос, почему самым ужасным кошмаром в безмятежном и уютном существовании немолодого арт-эксперта должен быть пропущенный «Челси» гол, очень интересно, как футбол проникает во все сферы современной жизни, даже, казалось бы, предельно от него далекие. Одна из них – искусство. Например, в последние сорок лет рекордные суммы, уплаченные за картины на аукционе, можно сопоставить с самыми дорогими футбольными трансферами. Вот какая наблюдается динамика:
Дата Стоимость футболиста Стоимость картины (в фунтах стерлингов) (в фунтах стерлингов)
1968 500 000 (Анастази. Куплен у «Варезе» «Ювентусом»)
1970 2 310 000 (Веласкес)
1973 922 000 (Кройф.
Куплен у «Аякса» «Барселоной»)
1976 1 750 000 (Росси. Куплен у «Ювентуса» «Виченцей»)
1980 2 700 000 (Тёрнер)
1982 3 000 000 (Марадона. Куплен у «Бока Хуниорс» «Барселоной»)
1984 5 000 000 (Марадона. 7 370 000 (Тёрнер) Куплен у «Барселоны» «Наполи»)
1985 8 140 000 (Мантенья)
1987 6 000 000 (Гуллит. 30 111 000 (Ван Гог) Куплен у «ПСВ Эйндховен» «ФК Милан»)
1990 8 000 000 (Баджо. 43 107 000 (Ван Гог) Куплен у «Фиорентины» «Ювентусом»)
1992 13 000 000 (Лентини. Куплен у «Торино» «ФК Милан»)
1996 15 000 000 (Ширер. Куплен у «Блэкбёрн Роверс» «Ньюкаслом»)
1997 19 500 000 (Роналду. Куплен у «Барселоны» ФК «Интер Милан»)
1998 21 500 000 (Денилсон. Куплен у «Сан-Паулу» «Реал Бетис»)
1999 32 000 000 (Вьери. Куплен у «Лацио» ФК «Интер Милан»)
2000 37 000 000 (Фигу. Куплен у «Барселоны» ФК «Реал Мадрид»)
2001 53 000 000 (Зидан. Куплен у «Ювентуса» ФК «Реал Мадрид»)
2004 60 000 000 (Пикассо)
2009 80 000 000 (Роналду. Куплен у «Манчестер Юнайтед» ФК «Реал Мадрид»)
2010 66 000 000 (Пикассо)
2012 74 000 000 (Мунк)
Криштиану Роналду дороже любого произведения искусства
Самая большая разница цен отмечалась в 1990 году, когда по милости одержимых импрессионизмом японцев картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» [см. выше раздел «Новые рынки»] была продана за сорок три миллиона фунтов, а мировой рекорд футбольного трансфера составлял всего восемь миллионов фунтов, уплаченных «Ювентусом» «Фиорентине» за Роберто Баджо. После падения японского антикварного рынка «Портрет доктора Гаше» оставался на недосягаемой коммерческой высоте в течение четырнадцати лет. За это время размеры футбольных трансферов, подпитываемые доходами клубов от телевизионных трансляций, постепенно сравнялись с ценами картин. Трансферы росли в цене, пока не превзошли Ван Гога в 2001 году, когда «Реал Мадрид» купил у «Ювентуса» Зинедина Зидана за пятьдесят три миллиона фунтов. В 2004 году Пикассо из Собрания Уитни («Мальчик с трубкой»), проданный за шестьдесят миллионов фунтов, снова потеснил футбольные трансферы, однако в 2009 году Криштиану Роналду был куплен клубом «Реал Мадрид» у «Ювентуса» за восемьдесят миллионов фунтов. Этот рекорд до сих пор не побит, хотя в мае 2012 году ему угрожал «Крик» Мунка, проданный за семьдесят четыре миллиона.
Сегодняшняя ситуация любопытна тем, что зачастую миллиардеры, готовые платить баснословные суммы за футболистов, покупают и картины, а ведь двадцать-тридцать лет тому назад подобное было неслыханно. Те же русские или ближневосточные деньги, которые в значительной мере решают судьбу Лиги чемпионов или премьер-лиги, ныне тратятся и на искусство. Совершенно очевидно, что это очень радует болеющего за «Челси» арт-эксперта. Однако, учитывая предпродажную стоимость картины и футболиста спустя десять лет, я (со своей выгодной позиции на линии ворот на стадионе «Стэмфорд-бридж») постоянно опасаюсь, что Роман Абрамович в конце концов решит, что вкладывать деньги в искусство безопаснее.
Glossary Словарь терминов
Это словарь-внутри-словаря, подобие глоссария, поясняющего термины, которые часто встречаются в монографиях и статьях об искусстве. Их постоянно употребляют в несвойственном им значении, чтобы вдохнуть жизнь в банальность, возвысить в глазах публики посредственность или просто продать тот или иной арт-объект. Некоторые из терминов, включенных в этот глоссарий, используются по отношению к искусству любых эпох, но большинство – применительно к новейшему. Их частое употребление свидетельствует о том, как трудно создать удобный словарь современного искусства и передать словесно его зыбкость и расплывчатость, почти ускользающую от любых вербальных определений. Лучшим профессиональным арт-критикам изредка удается найти формулировки, чтобы как-то описать смутную природу авангардного искусства и просветить зрителя, но многие ничтоже сумняшеся продолжают использовать к месту и не к месту перечисленные ниже термины.
Автореминисценция: удобный эвфемизм, позволяющий прямо не упоминать о том, что автор повторяется, а может быть, даже совершенно исписался.
Аллюзия: заимствование чужих визуальных образов. Лучше всего его иллюстрирует формула:
аллюзия – ирония = плагиат
аллюзия + ирония = поп-арт.
Ангст: всего-навсего гнев и экзистенциальный страх, мука, отчаяние. Впрочем, его германские обертона могут служить гарантией его подлинности.
Бескомпромиссный: это даже хуже, чем «гротескный». Употребляется, когда анализируемое произведение искусства настолько темно, непонятно или непристойно, что больше сказать уже нечего.
Беспорядок: иногда положительное качество – например, если описывать работы Сая Твомбли: «Пятна краски, в беспорядке испещряющие холст», – есть отражение неукротимых, агрессивных страстей.
Визуализировать: всего лишь «изобразить».
Визуальный опыт: тошнотворное словосочетание, описывающее всего-навсего разглядывание картины («захватывающий визуальный опыт»).
Вложение капитала в собственную страсть: эвфемизм для обозначения инвестирования в искусство.
Водораздел: место, где водный поток расходится на два рукава, иными словами, «поворотный пункт», «граница». «Водоразделом» становится для художника сознательный выбор одного пути из двух возможных. Противоположность «водоразделу» – «синтез» или «гибридизация» (см. ниже).
Галерист: модный термин для обозначения арт-дилера, владельца художественной галереи. Вот только галерея нынче обыкновенно именуется «пространством», что несколько сбивает с толку.
Гибридизация: смешение, порождение гибридов. Пригодится на случай, если нужно описать картину, в которой автор демонстрирует больше одной идеи, или темы, или «методологии» (см. ниже). Термин, приводящий на память сферу ботаники.
Гротескный: эпитет, заменяющий характеристики «жуткий», «зловещий», «мрачный»: «Серия гротескных офортов Х., изображающих бойни».
Деконструировать: например, «деконструировать стереотипы». Этап излюбленного модернистами процесса, описанного ниже применительно к контекстуализации. Сначала вы конструируете, потом деконструируете и, наконец, реконструируете. Все это можно обозначить как трансмутацию или трансформацию.
Декоративный: лишенный всякого интеллектуального содержания.
Дихотомия: модное слово, призванное охарактеризовать контраст или противоречие – например, «напряженная дихотомия далекого и близкого» (в переводе: «На этой картине есть передний и задний план»).
Доступный: эвфемизм, который принято использовать вместо нелицеприятных определений «очевидный» или «поверхностный» (см. «декоративный»).
Жемчужина, драгоценность: маленький, миниатюрный. «Настоящая маленькая жемчужина».
Зрелый: обнаруживающий признаки старческой слабости (если не старческого слабоумия). «Зрелое произведение художника» (перевод: «Господи, да он совсем выдохся»).
Икона: образ, изображение, чрезвычайно типичное, легко узнаваемое, немедленно вызывающее в памяти картины конкретного художника, а значит, бренд. Икона – символ бренда. Вместе с тем у этого термина есть и религиозные коннотации, ведь икона – ритуальный объект, предмет поклонения. «Икона» – едва ли не высочайшая похвала в современной художественной критике, но в этой похвале содержится намек на то, что типичность ценится на рынке наравне с оригинальностью.
Имагинативный: воображаемый.
Инверсия: процесс иронического переосмысления банального объекта, стараниями художника превращающегося в арт-объект (см. «аллюзия», «контекстуализировать» и т. п.). Например: «Багет Ман Рэя, великолепный пример инверсии».
Инсталляция: так можно глубокомысленно именовать любое нагромождение случайных объектов. Смысл второстепенен.
Интересный: определение, которое сгодится в любой ситуации, когда созерцатель не способен уловить смысл картины.
Багет, раскрашенный и помещенный Ман Рэем в плексигласовый контейнер, 1964: ироническая инверсия повседневного объекта
Интуитивный: слово, которое может пригодиться при описании эмоциональных реакций, особенно инстинктивного отклика на произведение искусства; противоположность ему – «интеллектуальный». Альтернативный вариант: «Наука тут и не ночевала – сплошные догадки».
Канон: совокупность эстетических приемов и правил, а также произведения искусства, отвечающие им по мнению критиков; весь объем художественных достижений мастера. Например, «канон творчества N.». Один из серьезных и торжественных терминов, неявно, подспудно сближающих искусство с религией. (Ср. богословский термин «канон», то есть совокупность книг Библии, признаваемых Церковью, а также установленных ею догматов, обрядов и правил.) Соответствующее прилагательное – «канонический»: «Данная инсталляция в жанре поп-арта – каноническая для творчества Муриками».
Кода: термин, заимствованный из музыковедения, где он обозначает заключительную часть музыкальной пьесы, не связанную с основной темой. Поэтому представляет собою удобный эвфемизм для описания поздних произведений художника, созданных в старости, а также бледных копий прежних шедевров.
Контекстуализировать: по мнению арт-критиков, современные художники постоянно что-то контекстуализируют, деконтекстуализируют и реконтекстуализируют. Вот, например, дадаистский шедевр Марселя Дюшана, его писсуар, – «Фонтан». Первоначально он был контекстуализирован как раковина со стоком для мочи, затем деконтекстуализирован и сделался всего-навсего предметом искусства, а в конце концов реконтекстуализирован как предмет искусства со стоком для мочи.
Концептопорождающий: термин в духе модного минимализма, обозначающий художественную деятельность. Иногда, в пику традиционному буржуазному искусствоведению, предпочитающему понятия «образ» и «картина», его заменяют еще более радикальным «идеепорождающий».
Концептуальный: зачастую характеризует напыщенную банальность.
Корпус: ученое слово, описывающее совокупность созданного художником. Например: «Этюд пуделя – уникальное явление во всем корпусе живописца».
Любопытный: с точки зрения истории искусства арт-объект, может быть, и важен, но продать его будет нелегко. Например: «Любопытная картина Х., изображающая резню в колонии прокаженных».
Методология: метод.
Миметический: термин, позволяющий избежать устаревших и вышедших из моды «реалистический» и «фигуративный».
Миниатюрный: маленький, меньше среднего. Попробуйте вполголоса произнести его, стоя возле «маленькой жемчужины» и подчеркивая, насколько вам чужда вульгарная одержимость размером и количеством. Однако, чтобы не попасть впросак, ни в коем случае не называйте так макеты Генри Мура.
Модальность: модный синоним слова «стиль».
Монументальный: слишком большой. «Впечатляющая монументальность композиции» (перевод: «Осторожно, в дверь не пройдет!»).
Нарративный: слово, несомненно, более модное, нежели скучное «сюжетный». Например, «нарративная живопись прерафаэлитов».
Немедиированный: вместо «прямой», «непосредственный». Претенциозное слово, в сущности означающее «простой». А ведь можно встретить что-то вроде «инсталляция устанавливает немедиированное отношение между полом и потолком» (перевод: «Инсталляция – пустая комната»).
Неподражаемый: характерный, знакомый, а потому весьма и весьма часто превращающийся в объект подражания.
Новаторский: эпитет, который может пригодиться при любых обстоятельствах (см. также «пионерский» и «прогрессивный»).
Обрести: купить произведение искусства, затем выгодно «поместить» его – вот чем ныне занят дилер, ах нет, прошу прощения, галерист, куратор или арт-профи. Одна из наиболее восхитительных уловок арт-дилерства – разница в цене между картиной «обретенной» и картиной «помещенной».
Опережая рынок: назначая слишком высокие цены. «Смелая ценовая политика галереи иногда позволяла ей опередить рынок» (перевод: «За последние полгода мы не продали ни одной картины»).
Очаровательный: избитое определение, описывающее картину, о которой можно сказать только одно: она стремится угодить вкусу зрителей (и не всегда достигает этой цели) (см. «интересный»).
Пионерский: эпитет, который может пригодиться при любых обстоятельствах (см. также «новаторский» и «прогрессивный»).
Поместить: продать картину в ту или иную коллекцию. Данный глагол подчеркивает благородство и возвышенность жеста и эстетический аспект сделки, одновременно затеняя коммерческий.
Предвосхищать: служить прообразом, прототипом, например: «Колористические эффекты Тёрнера предвосхищают цветовую гамму импрессионистов». Весьма лукавая характеристика, поскольку предполагает, будто Тёрнер делал это намеренно, словно осознавая, что ему на смену придет новое художественное течение, и стремясь с ним сблизиться.
Претекст (визуальный): все, к чему так или иначе отсылает более позднее произведение другого художника (так, «Алжирские женщины в гареме» Делакруа – визуальный претекст шедевра Пикассо). Иногда от него, вопреки всем грамматическим правилам, пытаются образовать прилагательное.
Приглушенный: темный. Например: «Приглушенные тона листвы у Теодора Руссо».
Примитивный: по отношению к искусству до 1890 года используется в значении «беспомощный», к более позднему – в значении «впечатляющий».
Прогрессивный: с успехом заменяет «новаторский» и «пионерский».
Пространство: галерея.
Радикальный: как и «гибридизация», заимствован из сферы ботаники. При необходимости заменяет любой усилитель.
Репрезентативный: почему не сказать «предметный»?
Сигнификант: само использование этого термина свидетельствует, что критик знаком с началами семиотики – модной науки о знаках, которая различает в знаке сигнификат (означаемое, понятие, идею) и сигнификант (означающее, материальную сторону, форму). При первой же возможности сигнификант дóлжно деконструировать, а потом реконструировать, осуществив таким образом трансмутацию или трансформацию.
Симулякр: снова латинский термин, модный синоним слов «имитация», «копия».
Синтез: в сущности, всего лишь соединение двух и более вещей. Полезно к нему прибегнуть, когда прискучит «гибридизация» (см. выше).
Спонтанный: недисциплинированный, неряшливый, беспорядочный.
Субверсия: полезный синоним «алогизма», «несоответствия», «противоречия». Да, субверсия должна входить в авторскую интенцию и являть собою ниспровержение изживших клише. «Баския намеренно пишет это слово на холсте с орфографической ошибкой, подвергая остроумной субверсии буржуазные стереотипы».
Сумрачный: почему сразу честно не сказать «темный»? (См. «приглушенный».)
Тематизация: еще одно претенциозное слово, которое сплошь и рядом используют вместо «выбор сюжета». «В центре тематизации Лаури – уличные виды Ланкашира».
Узнаваемый: типичный для того или иного художника, например: «Я ищу узнаваемого Моне». (Перевод: «Такого, чтобы друзья, войдя в мою гостиную, немедля как один воскликнули: „Моне“!»)
Уникальный: определение настолько избитое, что к нему стали добавлять нелогичные, совершенно лишние усилители: «абсолютно уникальный» или «чрезвычайно уникальный».
Хроматизм: удачно заменяет слово «колорит», например: «смелый хроматизм автора, как нельзя более соответствующий данной теме» (в переводе на общечеловеческий язык – «кричаще-яркие тона»).
Цайтгайст: термин, предполагающий, что художник тонко чувствует дух своей эпохи. О тех, кто, напротив, отвергает модные веяния, зачастую говорят, что они пытаются «изгнать цайтгайст».
Честный: эстетически беспомощный.
Шедевр: избитое до вмятин слово, утратившее всякий смысл и не производящее никакого впечатления. Посему необходимо отяготить его дополнительным балластом, например: «уникальный шедевр». Если и такое определение поднадоест по той же причине, можно иногда прибегнуть и к «уникальному и неповторимому шедевру».
Эволюция: это вместо «жизненного пути» или «карьеры».
Эйдетизм: почему нельзя сказать «яркая зрительная память»? На заднем плане трепещут эйдос («видимый образ») Гомера, Платона и Гуссерля.
Эмблематичный: еще один псевдоученый термин, без разбору использующийся вместо «служащий примером, образцом». Например: «Яркая палитра эмблематична для калифорнийских пейзажей Хокни с их неповторимым солнечным светом».
Эмфаза (визуальная): а почему бы просто не сказать «резкость контуров»?
Heritage Культурное наследие
Вполне понятно, что страны должны принимать меры по сохранению своего культурного наследия; возражать против этого не приходится. Некоторые известные произведения искусства из публичных и частных коллекций становятся неотъемлемой составляющей национальной культуры. Их необходимо защищать от посягательств рынка, иначе они будут вывезены из страны и навсегда утрачены. Куда труднее договориться о том, чтó включать в список «национального культурного наследия» и когда именно государству надлежит вмешаться в частные сделки.
Разные страны смотрят на эту проблему по-разному. На одном полюсе находятся США, где государство почти не защищает культурное наследие. Насколько мне известно, ни одному произведению искусства из американской коллекции никогда не запрещалось покидать страну по этой причине; предполагается, что в Америке всегда найдется достаточно богатых меценатов, которые, будучи частными лицами, возьмут на себя роль хранителей культуры. По-видимому, эта система неплохо функционирует. На другом полюсе – такие страны, как Италия и Испания, издавна владеющие множеством ценных предметов и радеющие об их сохранении, чтобы не допустить их вывоза за рубеж. Любая картина, скульптура или рисунок, дороже определенной стоимости и созданные более пятидесяти лет тому назад, должны получить экспортную лицензию, чтобы покинуть пределы страны. Экспортную лицензию дают чрезвычайно неохотно. А если в ее выдаче отказали, цена картины существенно снижается, поскольку отныне ее можно продать только на национальном, внутреннем рынке. Крупным коллекционерам из других стран она не достанется.
В Германии существует относительно небольшой (менее ста наименований) список произведений искусства, которые считаются частью национального культурного наследия и не могут быть вывезены за границу ни при каких обстоятельствах. Проблема в том, что власти оставляют за собой право негласно добавлять в этот список те или иные произведения искусства. Частные владельцы знаменитых картин пребывают в постоянном страхе, опасаясь, что их сокровища потихоньку включат в этот перечень; отсюда прискорбное, но понятное желание при первой же возможности вывезти картину в Швейцарию. Если произведение искусства уже вывезено за пределы Германии, задним числом внести его в список нельзя.
Рисунок Ван Гога, утраченный Британией (Винсент Ван Гог. Пейзаж с голубой повозкой. Карандаш, тушь, гуашь. 1888)
Ситуацию в Соединенном Королевстве можно описать как разумный компромисс. Любая картина, написанная маслом и оцененная более чем в сто тысяч фунтов, должна получить экспортную лицензию, чтобы покинуть границы Соединенного Королевства. Существуют бонзы художественного мира, члены Лицензионного комитета, которые регулярно решают на своих заседаниях, выдать ли вожделенное разрешение, и, как правило, соглашаются. Впрочем, не обладая полномочиями запретить вывоз ценной картины, комитет имеет право отложить его на срок от полугода до года, и тогда какой-нибудь общедоступный музей, если ему удастся в этот срок собрать деньги, может купить ее за объявленную сумму.
Когда экспортной лицензии дожидается картина, только что проданная на аукционе, и продавец, и покупатель-иностранец трепещут. Первый стремится как можно быстрее получить деньги, а второй опасается не получить картину. Выдача лицензии обычно сопровождается громким вздохом облегчения, хотя иногда в художественных кругах воцаряется грусть по поводу утраты национального достояния. Я хорошо помню, как в 1995 году один американский коллекционер купил за восемь миллионов фунтов прекрасный рисунок Ван Гога, может быть лучший в своем роде в британских частных коллекциях. После долгих размышлений Лицензионный комитет с прискорбием выдал разрешение, поскольку цена оказалась слишком высокой и ни один британский публичный музей или институт искусств не смог найти такую сумму. В утешение можно добавить, что небольшое число известных произведений искусства, выставляемых на продажу иностранными владельцами, каждый год оседает в частных коллекциях богатых британцев, так что это не улица с односторонним движением.
Investment Инвестиции
Когда на искусстве стали наживаться не только торговцы, наделенные эстетическим вкусом и красноречием, но и просто ловкие финансовые дельцы, для которых оно стало обыкновенным вложением капитала? Едва ли не первый пример покупки картин ради вложения денег – это синдикат британских аристократов, объединившихся, чтобы приобрести великолепную художественную коллекцию герцога Орлеанского, которую королевский дом был вынужден выставить на продажу во время Французской революции. Для представителей класса, провозглашавшего презрение к «торговле», британские аристократы могли проявлять удивительную предприимчивость: некоторые картины герцога Орлеанского были проданы на череде специальных лондонских выставок и принесли членам синдиката немалую прибыль. Другие они оставили себе, фактически бесплатно.
Во второй половине XIX века зарождающийся класс коммерсантов все более интересовался искусством как средством обогащения. Финансовый магнат господин Вальтер, герой романа Мопассана «Милый друг» (1881), тщеславно демонстрирует свою коллекцию картин и признается: «В других комнатах у меня тоже есть картины… только менее известных художников, не получивших еще всеобщего признания… В данный момент я покупаю молодых, совсем молодых, и пока что держу их в резерве, в задних комнатах, – жду, пока они прославятся. Теперь самое время покупать картины… Художники умирают с голода. Они сидят без гроша… без единого гроша»[60]. А Золя в 1886 году писал: «А цены все растут, и живопись становится нечистым занятием, золотыми приисками на холмах Монмартра, банкиры захватывают ее в свои руки, из-за картин сражаются дельцы с банковскими билетами в руках!»[61]
На первый взгляд произведение искусства – товар, в который опасно вкладывать деньги. Каждая картина, каждая скульптура уникальна, и эта пестрота ошеломляет организованные рынки и приводит в отчаяние финансовых аналитиков. Ценность предмета искусства определяет множество разнородных факторов: тенденции рынка, капризная эстетическая мода, место произведения в творческом наследии автора, его узнаваемость, провенанс, состояние. В стремлении создать хоть какое-то подобие порядка аналитики изобрели индексы продаж рынка искусства, показывающие, как за одно и то же десятилетие импрессионисты и современные художники поднялись в цене на Х процентов, а старые мастера – на Y. Подобные измышления на самом деле вздор. Лучший показатель – сравнение цен одного произведения искусства, выставлявшегося на продажу несколько раз за несколько десятилетий.
«Прекрасная римлянка» Модильяни, роскошная и доступная, стилистически типичная для его творчества обнаженная [см. иллюстрацию в главе II «Ню»], в наше время впервые была выставлена на аукционные торги в 1986 году и продана за четыре миллиона сто тысяч долларов. В ноябре 1999 года она вновь была выставлена на продажу, на сей раз «Сотби», и приобретена за семнадцать миллионов долларов. В 2010 году за нее выручили шестьдесят девять миллионов. Помню, как стоял перед нею, размышляя о приятном, в геометрической прогрессии возрастании ее цены. К 2021 году ее наверняка продадут за двести десять миллионов. За эту картину готовы были биться коллекционеры. Изображенная натурщица была очень и очень привлекательна. Обращала на себя внимание одна красноречивая деталь – порозовевшие ягодицы. «Знаете, отчего это? – предположил один восхищенный ценитель. – Раздражение от неумеренных занятий сексом».
Современные арт-дилеры совершают героические попытки создать рынок по образцу прочих, опираясь на конкретные, измеримые критерии и соответственно постепенно, умеренно повышая цены. Допустим, некий арт-дилер принимает под свое крылышко молодого, еще никому не известного художника А. На первой выставке он назначает среднюю цену за картину своего подопечного в пять тысяч фунтов. Новичок пользуется успехом, все картины распроданы. На второй выставке среднюю цену назначают уже в пределах восьми тысяч. «Смотрите, – в восторге кричит дилер, – у нас есть рынок, и он на подъеме!» Измеримом и умеренном. Возможно, это некое самовнушение, но в тех, кто стремится интерпретировать арт-рынок как фондовые рынки, подобные совпадения вселяют уверенность. Уловив психологический настрой покупателей и выждав нужный момент, дилеры выставляют на «Сотби» или «Кристи», в разделе «Современные художники», одно-два полотна, и вот они уже проданы за суммы, «подтверждающие» дилерские прогнозы.
Сегодня существует ряд инвестиционных фондов, с бóльшим или меньшим успехом помещающих средства вкладчиков в предметы искусства. Подобным фондам приходится бороться с обстоятельствами, так или иначе угрожающими их имиджу. Во-первых, вложения в картины или скульптуры редко окупаются, если их довольно долго, как минимум пять, а то и десять лет, прежде чем выставить на продажу, не держат в резерве. Во-вторых, на первом этапе произведения искусства совершенно не приносят прибыли, а требуют одних расходов: на страхование, хранение, реставрацию и т. д. Это тоже не радует. И наконец, инвесторы лишены тех радостей, которые искусство уготовило коллекционерам: эстетических дивидендов, возможности каждый день восторженно, испытывая едва ли эротическое наслаждение, созерцать шедевры.
Классический пример подобного фонда, изучаемый историками экономики во всем мире, – это Пенсионный фонд Британских железных дорог. В конце семидесятых, когда инфляция росла, а рынки ценных бумаг были ненадежными, его главы приняли рискованное решение – вложить часть активов в рынок предметов искусства. Это был нестандартный шаг, едва ли не акт отчаяния. Видимо, они считали, что им нечего терять. И вложили не более двух целых девяти десятых процента активов в самые разные произведения искусства, от картин старых мастеров до древностей. С некой старомодной чопорностью они исключили из своего списка только современное искусство, впрочем, возможно, поступив благоразумно. В конце восьмидесятых они стали постепенно продавать свои приобретения, получая прибыль от арт-бума, который пришелся как раз на эти годы. Распродав все фонды, они превратили изначальное вложение в размере сорока миллионов фунтов в прибыль в объеме ста шестидесяти восьми миллионов. Нестандартный финансовый шаг оправдал себя. Однако произведения искусства разных эпох и стилей продавались совершенно по-разному. Нетрудно догадаться, что самой прибыльной статьей их вложений были импрессионисты, на которых изначально было потрачено три миллиона сто тысяч: в 1989 году на одних особенно удачных торгах они принесли Фонду умопомрачительные тридцать три миллиона. Торжествовал и «Сотби», в свое время консультировавший железнодорожников и посоветовавший им купить импрессионистов. Я могу говорить об этом абсолютно непредубежденно, поскольку сам в ту пору работал на «Кристи».
Цена картины за десятилетие возросла с 220 000 до 6 100 000 фунтов. (Клод Моне. Церковь Санта-Мария делла Салюте, Венеция. Холст, масло. 1908)
Приведу лишь два примера картин импрессионистов в собственности Пенсионного фонда Британских железных дорог: вот весьма романтичный Ренуар, купленный в 1976 году за шестьсот восемьдесят тысяч фунтов, проданный в 1989 году за девять миллионов четыреста тысяч и ныне находящийся в Музее Гетти. Еще более поразительна судьба венецианского вида кисти Моне: он был приобретен за каких-то двести двадцать тысяч в 1979 году и продан за шесть миллионов сто тысяч в 1989 году. Здесь мне приходится на минуту остановиться: я мысленно истекаю слюной. Повторять и повторять цены, достигшие за короткий промежуток времени головокружительных высот, – это какое-то непристойное занятие, что-то вроде наркомании. Сколь радужные открывались перспективы! Какие финансовые чудеса еще возможны! Если бы Фонд вложил весь капитал в первоклассные картины импрессионистов, немалое число железнодорожных носильщиков на пенсии жили бы сейчас в собственных виллах на юге Франции.
Luck Случайность
Не так давно один японский коллекционер решил выставить свое собрание импрессионистов и современной живописи на международном аукционе. Он проконсультировался у экспертов и «Кристи», и «Сотби», а результатом стало их неизбежное соперничество. Оба аукционных дома прислали коллекционеру прекрасно подготовленный проект договора, убедительно доказывающий, что именно он, «Кристи» («Сотби»), в высочайшей степени обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы продать собрание, а также содержащий примерные финальные цены каждой картины и кратко излагающий маркетинговые планы, которые он намерен осуществить. Кроме того, оба проекта договора превозносили уникальный опыт, знания и энтузиазм «Кристи» («Сотби»), а также необычайно выгодные для клиента условия сделки. В документах не было недостатка ни в графиках и секторных диаграммах, ни в лирических описаниях самих картин. Проблема заключалась лишь в том, что они были почти неотличимы. Даже лично побеседовав с представителями каждого аукционного дома, коллекционер не мог выбрать.
В итоге он принял абсолютно иррациональное, неисповедимо восточное решение. «Пусть распорядится судьба!» – сказал он. Он пригласил к себе в офис директоров японских филиалов «Кристи» и «Сотби» и предложил им сыграть в «камень, ножницы, бумагу». Состязание закончилось быстро. Победил «Кристи», получивший право продать коллекцию, а в перспективе – и немалые комиссионные.
В штаб-квартире «Сотби» тем временем ломали руки и безутешно спрашивали себя, что же они сделали не так. Какой урок можно было извлечь из этой ситуации? Очевидно, отныне обучение любого руководящего сотрудника должно включать тщательно продуманный, обязательный для посещения курс азартных игр. Однако иные выводы не напрашивались. Элемент случайности присутствует в любом человеческом общении, даже в создании картин [см. главу II «Абстрактное искусство»].
Иногда этот элемент случайности проявляется в капризе импульсивного покупателя. Бывает, что двое участников аукциона во что бы то ни стало хотят приобрести один и тот же лот и вступают в состязание друг с другом. (Хорошо, если оба они сказочно богаты.) Помню, как пейзаж Моне, изображающий японский мостик в его саду в Живерни, был продан за девятнадцать миллионов фунтов, потому что один покупатель никак не хотел уступать другому. Их соперничество превратилось в выяснение, кто богаче. Но если бы один из них проснулся в то утро, скажем, с похмелья, мучимый головной болью, и послал бы аукцион ко всем чертям, то вполне приемлемой ценой Моне оказались бы восемь миллионов фунтов, с которых они и начали свое состязание.
Money Деньги
Деньги могут по-разному, причем весьма любопытно, соприкасаться с искусством, в том числе влиять на климат рынка например.
Финансовые рынки (и искусство)
Искусство далеко не всегда ведет себя подобно другим финансовым рынкам. Акции могут падать в цене, а картины расти. В финансовую засуху 2009 года спрос на высокое искусство действительно вырос, так как публика осознала, что вкладывать деньги в уникальные ценные предметы искусства выгоднее, чем хранить их в банках. Единственное, что важно учитывать на арт-рынке, – это процентная ставка. Пока она низкая, картины и скульптуры как объект вложения капитала чрезвычайно привлекательны. Но как только она начинает расти, цены падают. Никто уже не хочет тратить деньги на предметы искусства. Самый последний пример подобной зависимости – финансовая депрессия начала девяностых, когда процентные ставки поднялись вдвое. Арт-дилеры, достаточно взрослые, чтобы помнить эти годы, не могут без слез говорить о вызванной удвоением процентных ставок стагнации рынка.
Гарантии
Растущий и расширяющийся арт-рынок создает все более сложные финансовые механизмы, позволяющие ему эффективнее функционировать. На аукционах один из наиболее интересных механизмов подобного рода – это гарантия. С точки зрения продавца, недостаток аукциона заключается в том, что выставленная на торги картина может и не достичь условленной цены; а чем картина известнее, тем меньше шансов в ближайшие годы выручить за нее приличную сумму. Она словно запятнана. Поэтому аукционные дома придумали способ привлечь бизнес: они ввели так называемую гарантию, заранее установленную сумму денег, которую владелец получит за картину, вне зависимости от исхода торгов. Если картина продана за сумму, превосходящую гарантию, то разницу делят между собою владелец картины и аукционный дом.
С точки зрения аукционных домов гарантия, хотя и сулит дополнительную прибыль в случае удачной продажи картины, есть мера весьма и весьма рискованная. Когда рынок переживал подъем и на разнице между гарантией и финальной ценой можно было изрядно нажиться, все обстояло неплохо. Однако, когда цены обрушились в 2008–2009 годах, и у «Сотби», и у «Кристи» остались несколько дорогих картин, обеспеченных гарантией, но так и не проданных. Ситуация напоминала токсичные долги в банковском деле. Решено было прекратить выплату гарантий. Аукционные дома уже не могли себе этого позволить.
Однако проблема заключалась в том, что владельцы картин по-прежнему требовали гарантий. Не предоставляя гарантии, нельзя было рассчитывать на серьезные прибыли. Поэтому аукционные дома придумали хитроумную уловку – безотзывное обязательство, или гарантию третьих лиц. Фактически это означало, что финансовое бремя гарантии перекладывают на чьи-то плечи. Тактично, соблюдая конфиденциальность, аукционные дома заранее выясняли настроение потенциальных покупателей: не хотите ли купить эту картину? Если да, пообещайте нам сделать предложение на торгах, и мы продадим ее вам именно за эту сумму. Но если она будет продана за бóльшую стоимость, вы получите часть этой разницы, выше предложенной вами цены. Обеспечив гарантии за счет безотзывных обязательств, аукционы вздохнули свободнее. Теперь они зарабатывают меньше. Однако рискуют уже не они, а третьи лица. А гарантии, которые они предлагают, по-прежнему популярны у владельцев предметов искусства.
Недвижимость (и искусство)
Можно построить любопытный график, показывающий, когда ценность художественной коллекции превысит ценность дома или имения, в котором она размещена. Несметно богатые коллекционеры, исполненные решимости во что бы то ни стало приобрести лучшие картины и скульптуры, зачастую владеют предметами искусства дороже их недвижимости, хотя и живут во дворцах. В доме стоимостью более двадцати миллионов фунтов наверняка можно увидеть картины, превосходящие его по цене. Но какую минимальную цену должен иметь дом, в котором хранятся произведения искусства дороже его самого? Трудно вообразить дом дешевле миллиона фунтов, стены которого украшает коллекция картин стоимостью более миллиона фунтов. Однако бывает и такое. Скорее всего, подобное можно наблюдать в Швейцарии, где крупные коллекционеры часто ведут весьма скромный образ жизни, не выставляя свое богатство напоказ.
Относительные ценности
Как-то раз очаровательная сотрудница австрийского телевидения брала у меня интервью по поводу картины Климта, которую «Сотби» вскоре намеревался выставить на торги. Я ответил на ее вопросы о том, какое место картина занимает в творчестве художника, почему Климт столь популярен во всем мире и за какую цену мы надеемся его продать. И тут, без предупреждения, она мило улыбнулась и произнесла: «А чем вы можете оправдать человека, который тратит двадцать миллионов долларов на картину, если на эти деньги можно построить детскую больницу?» Я не был готов к такому выпаду, не парировал удар и только беспомощно и уклончиво пробормотал нечто вроде «„Сотби“ всего-навсего отражает тенденции рынка, а не создает их». Однако впоследствии я много об этом думал. Да, картины стоят дорого, на них тратят деньги, на которые можно было бы построить больницу и спасать человеческие жизни, и единственным оправданием такого выбора можно считать некую высшую цель, ради которой и стоит их спасать. На эту роль в том числе и притязает искусство. Поэтому сохранение великих произведений искусства, то есть исцеление духа, а не плоти, есть законное расходование средств в цивилизованном обществе.
Великолепный пейзаж кисти Густава Климта: равен ли он по стоимости детской больнице? (Густав Климт. Церковь в Кассоне. Холст, масло. 1913)
Если бы все это пришло мне в голову во время интервью…
Финансовые возможности
Проработав много лет на арт-рынке, я сделал ряд экспериментальных, принципиально недоказуемых заключений по поводу того, какой процент от своего совокупного состояния люди готовы потратить на отдельно взятую картину. Полагаю, около одного. Иными словами, чтобы у ценителя появилось желание купить картину за миллион фунтов, состояние его должно равняться как минимум ста миллионам. А если вы тратите на картину или скульптуру десять тысяч фунтов, значит у вас есть не менее миллиона. Конечно, бывают случаи, когда страсть коллекционера опровергает эти расчеты, но в принципе они применимы к любым владельцам частных собраний, даже к самым утонченным или одержимым. Человек, обладающий состоянием в один миллиард долларов, готов заплатить за предмет искусства не более десяти миллионов, а каждый из покупателей, героически бьющихся на аукционе за картину стоимостью сто миллионов долларов, вероятно, имеет состояние не менее десяти миллиардов долларов.
Оценка
Иногда эксперта просят дать оценку финансовой стоимости действительно несравненных коллекций, которые сделали бы честь любому крупному музею, а поскольку их никогда не выставят на продажу, он волей-неволей начинает фантазировать. Это совершенно упоительный процесс. На какое-то мгновение эксперт ощущает свою призрачную власть над предметом, который оценивает, ему даже может показаться, что эта картина или скульптура ему принадлежит. Как-то раз меня попросили оценить коллекцию Щукина, часть которой ныне находится в Эрмитаже, а часть – в Пушкинском музее. В нее входят несколько величайших творений ХХ века. Увидев «Танец» Матисса, я замер. С чего начать? Отправной точкой мне могла послужить самая высокая цена, когда-либо уплаченная за произведение искусства на аукционе, вторым ориентиром – самая высокая цена, уплаченная при частной сделке. Затем эксперт переносится в царство фантазии: насколько прекраснее и желаннее в глазах коллекционера «Танец», нежели эти «рекордсмены»? Потом эксперт припоминает самых могущественных коллекционеров мира и прикидывает, сколько они согласились бы потратить на «Танец». Если человек готов заплатить сотни миллионов за яхту, то за какую сумму он купил бы Матисса? Как я уже упоминал, по-моему, миллиардеры не потратят на отдельно взятую картину более одного процента своего состояния. Однако ради столь необычайного полотна, как «Танец», они могут и отступить от этого правила; парочка безумных коллекционеров точно на это решится.
Museums Музеи
Однажды я в шутку предложил музеям новый способ привлечь посетителей (а числом зрителей, переступающих порог общедоступной галереи, измеряется ее успех). На табличках, помещенных рядом с картинами, я предложил указывать не только имя автора и название, но и сумму, на которую они застрахованы. Разумеется, это было легкомысленно, однако я не ожидал, что моя шутка вызовет такой всплеск негодования в академических кругах. Я невольно разбередил рану.
Между арт-рынком и музеями существуют весьма непростые отношения, в которых находится место и взаимным подозрениям, и восхищению, и зависти. Профессионалы арт-рынка, взирая на музейных кураторов, восхищаются их знаниями и завидуют неторопливости, несуетности их работы и уровню предметов искусства, с которыми тем приходится иметь дело. Им претит в музейных кураторах стремление уклоняться от прямого ответа, когда они определяют статус картины, не давать окончательного вердикта или бесконечно менять свое мнение. Деньги удивительно способствуют сосредоточенности. Осознание того, что от вашей экспертной оценки зависит, получите вы (или по крайней мере ваша компания) крупную сумму денег или нет, обостряет все мыслительные способности, позволяет сконцентрироваться и принимать быстрые решения. Поэтому атрибуции, проводимые аукционными домами и дилерами, должны быть безупречными, безотлагательными и однозначными. Напротив, сотрудники музеев видят в аукционистах и арт-дилерах циников, одержимых прибылью, но завидуют их комиссионным. Иногда куратор музея решается перебраться через заграждение из колючей проволоки и переметнуться в стан противника. Стать перебежчиком непросто, многие пали под пулями на ничейной земле меж двумя станами. Еще реже случается, что арт-дилер приходит на работу в музей.
Пытаясь произвести впечатление на потенциального покупателя, дилер вполне может говорить о «музейном уровне» картины. Все мы знаем, что большинство величайших картин и скульптур находится в музеях, – значит, это высокая похвала. А если картину и в самом деле покупает музей, тут есть чем гордиться. Тот факт, что музей сделал все возможное, чтобы ее приобрести, свидетельствует не только об эстетических качествах картины, но и о профессионализме дилера или аукциониста, который сумел продать ее музею. С другой стороны, когда один дилер описывает другому картину как «музейное полотно», здесь возникают совсем иные нюансы. Обычно под этим понимают произведение искусства столь возмутительно некоммерческое, что может приглянуться лишь нескольким безумным музейным кураторам, одержимым своими академическими пристрастиями. Оно может изображать труп, сцену пыток, напоминающую ведьму беззубую старуху-крестьянку или аллегорию Смерти, вооруженной косой. В этом смысле «музейные картины» являют полную противоположность «декоративным»; ни один богатый буржуазный домовладелец по определению не захочет видеть их у себя на стенах.
Современный образ музеев – соборов культуры, их квазирелигиозный статус вселяет в посетителей священный трепет. Зрители приходят туда, исполненные благоговения, а в Великобритании директора лондонской Национальной галереи и галереи Тейт вызывают у нации чувства, сопоставимые с поклонением, которого некогда удостаивались архиепископы Кентерберийский и Йоркский. Впрочем, в глазах некоторых поборников эстетической строгости неоднородность музейных экспонатов не позволяет должным образом их оценить. Теофиль Торе-Бюрже подметил существование этой проблемы еще в 1861 году. «Музеи – не более чем кладбища предметов искусства, – писал он, – катакомбы, в коих останки того, что в прошлом было исполнено жизни, покоятся в могильном беспорядке: сладострастная Венера подле мистической Мадонны, сатир подле святого».
Кладбище искусства? (Джон Скарлетт Дэвис. Галерея Уффици, Флоренция. Холст, масло. 1834)
Человеческую природу не отменить, и потому музеи иногда вступают в состязание друг с другом. Наиболее крупные, такие как, например, музей Гетти в Малибу, располагающий немалыми средствами, или нью-йоркские Метрополитен-музей и МоМА с их влиятельными меценатами и щедрыми попечительскими советами, обладают немалой финансовой властью. Брендами становятся не только живописцы и художественные течения – в бренды превращаются и самые знаменитые музеи. Поначалу это выражалось лишь в расширении площадей их магазинов, но постепенно они стали с успехом утверждаться в других городах и даже в других странах. Например, Лувр ныне – не только достойное учреждение культуры, размещающееся в Париже: вскоре он откроет свой филиал на Ближнем Востоке, в Абу-Даби, и во французской провинции, в городе Лансе. «Уменьшенные копии» британской галереи Тейт существуют в Ливерпуле и Сент-Айвсе. Предполагается, что картины и скульптуры из фондов крупного музея словно освящены его именем, их эстетическая значимость словно возрастает в лучах его бренда, привлекая публику в музейные залы. У этой операционной модели есть противоположность. Она предполагает существование не отдельных музеев, а общего фонда, который объединяет все произведения искусства, принадлежащие государству. Он мог бы на равных правах предоставлять картины и скульптуры общедоступным галереям для постоянно меняющихся выставок. Возможно, это непрактичное и утопическое решение, однако сегодня два музея иногда объединяют финансы и усилия, чтобы приобрести одно произведение искусства в совместную собственность. И это только начало.
Зачастую особое очарование присуще небольшим, провинциальным музеям. Помню, как собрание маленького музея на американском Среднем Западе мне показывала пожилая дама-экскурсовод, трогательно старавшаяся не упустить ни одной детали. Она знала абсолютно все и оказалась совершенно непревзойденным гидом. Потом она остановилась у застекленных полок и указала на голову древнегреческой статуи.
– Ей две тысячи пятьсот семь лет, – объявила она.
– Удивительно! – воскликнул я. – Неужели это известно до года?
– Все просто, – пояснила она. – Я работаю здесь семь лет, а когда я пришла сюда, ей было две тысячи пятьсот.
Nature (imitating art) Природа (подражание искусству)
«Нам свойственно видеть в окружающей природе только то, что так или иначе напоминает искусство, – писали братья Гонкуры в дневнике в 1859 году. – Глядим на лошадь в стойле, и тотчас на память приходит этюд Жерико, а бочар, набивающий обручи на бочку в соседнем дворе, – ни дать ни взять рисунок китайской тушью размывкой, выполненный Буассье».
В таком восприятии реальности Гонкуры были не одиноки: Гёте с удивлением говорит о «своем даре видеть мир взором того художника, картины коего в последнее время произвели на меня самое глубокое впечатление».
«Откуда, как не от импрессионистов, – вопрошал Уайльд, – эта чудесная коричневая дымка, обволакивающая улицы наших городов […] Кому, как не им… обязаны мы чарующим серебристым туманом над реками, обращающим в неясные образы увядающего изящества изогнутые наши мосты и покачивающиеся на воде баржи? Поразительная перемена лондонского климата за последние десять лет полностью объясняется влиянием этой вот школы живописи […] Вещи такие, а не иные, оттого что так, а не иначе мы их видим, а как именно и что именно мы видим, определяется Искусством, оказавшим на нас свое воздействие»[62].
Если мы изо дня в день созерцаем, анализируем и обсуждаем произведения искусства, с нами действительно начинает происходить что-то странное. Если постоянно смотреть на картины, реальность и в самом деле предстанет уже через их посредство, а не наоборот. Боже мой! Вот крадется кошка, вылитая скульптура Джакометти. Посмотрите на этого человека – настоящий гротеск Домье. А у нее фигура как у Венеры с зеркалом Веласкеса (или как у рубенсовской женщины, но тогда это куда прозаичнее). А если на душе у вас невесело – надо же, да этих овец на поле словно написал Томас Сидни Купер (посредственный викторианский живописец, изображавший животных). Список можно продолжить: зимние ландшафты, ласкающие взор, потому что напоминают картины Брейгеля, реальные закаты, словно созданные Каспаром Давидом Фридрихом, толпы футбольных болельщиков, спешащие на стадион, точно сошли с холста Л. С. Лаури.
Торговля предметами искусства может и иным, неожиданным образом сказаться на восприятии экспертом окружающего мира. Томясь как-то в зале ожидания бизнес-класса Женевского аэропорта после неудачного визита к коллекционеру, изнывая в нетерпении, когда же объявят лондонский рейс, я подслушал разговор какой-то пары, скрытой комнатными растениями. «Первое, что нужно будет сделать утром, – произнес голос невидимки, – это сфотографировать Пикассо». О боже мой! Срочно сфотографировать Пикассо? Это может означать только одно: «Кристи» заключил сделку, о которой мы даже не знали. Я подкрался поближе и стал беззастенчиво подслушивать, таясь за комнатными пальмами и фикусами. Даже сейчас не все еще потеряно, вдруг удастся уговорить владельца принять наше контрпредложение и выставить картину на «Сотби»? Потом, осторожно выглянув из-за листвы, я понял, в чем дело. Двое участников Женевского автосалона склонились над фотографиями машины. Они обсуждали «пикассо-ситроен».
Status symbols (art as) Символ статуса (искусство как)
По словам Джона Бергера, прообраз европейской картины, написанной масляными красками, – это не столько окно в раме, из которого открывается вид на внешний мир, сколько вмонтированный в стену сейф, куда помещен фрагмент видимого мира. Живопись масляными красками прежде всего была торжеством частной собственности, а как вид искусства обязана своим появлением принципу «человек есть то, чем он обладает», говорит Бергер. Начиная с эпохи Ренессанса, когда в таких центрах коммерции, как Флоренция, стали накапливаться огромные состояния, элита возымела желание тратить деньги на предметы искусства, а их приобретение и публичная демонстрация стали рассматриваться как признак богатства и могущества. Разумеется, одновременно они служили свидетельством утонченности, глубоких познаний и высокой культуры.
С течением времени у искусства как символа статуса появился и третий аспект. Старинную картину можно было использовать, чтобы упрочить собственный имидж, манипулировать ею, словно намекая, что картиной-де ваше семейство владеет на протяжении многих поколений. Разумеется, все это не соответствовало действительности, вы только что ее купили. Но если вы приобретали предметы безупречного вкуса: английские портреты XVIII века (кто скажет, что на изысканном полотне кисти Гейнсборо изображены не ваши предки?), георгианское серебро, мебель эпохи Регентства, – они придавали вам аристократический лоск. Этот урок разбогатевшие коммерсанты конца XIX – начала XX века усвоили очень быстро. Приобретение картин и скульптур сделалось для них примитивной формой отмывания денег: потратив новые деньги на старинное искусство, они словно легализовали их, превращая в унаследованные от предков.
Искусство как утверждение финансового могущества: доллар Уорхола (Энди Уорхол. Знак доллара. Холст, акрил, шелкография. 1981)
Роль искусства как символа статуса, демонстрации богатства и власти прекрасно осознавал Энди Уорхол. Он отдавал себе отчет в том, что арт-объект, в буквальном смысле воспроизводящий образ денег, способен выразить весьма привлекательную идею искусства-денег и искусства-собственности. Создав подобный арт-объект, художник словно разгадывал намерения победителя. Поэтому-то невероятной популярностью пользовались арт-объекты Уорхола на тему доллара: и цикл, запечатлевший его знак, и холсты, на которых созерцателя гипнотизировал вид бесконечного множества долларовых купюр.
В наши дни сложился тип покупателя, не имеющего ничего общего с коллекционером, но невероятно, несметно богатого. Он готов состязаться за самые заманчивые картины и скульптуры, поскольку видит в них трофеи, свидетельство уникального высочайшего статуса. Торговец антиквариатом Ноде, герой романа Золя «Творчество», ловко манипулирует амбициями подобных покупателей, прибегая к хитроумному «специальному трюку для американцев… [Он] спрятал в глубине галереи одну-единственную, одинокую, как божество, картину, цену которой даже не хотел назвать, с презрением уверяя, что не найдется такого бога, у которого хватило бы на нее средств. И наконец согласился продать ее за двести или триста тысяч франков свиноторговцу из Нью-Йорка, который был в восторге, что увез с собой самую дорогую вещь сезона»[63].
Дело в том, что люди приобретают картины и скульптуры в силу самых разных причин, как показывает следующая секторная диаграмма:
Некоторые люди, покупая произведения искусства, руководствуются в большей степени первым и вторым мотивом, для других значительно важнее третий и четвертый. Не найдется двух ценителей, побудительные мотивы которых совпадали бы в равных пропорциях, однако можно утверждать, что любой покупатель картин или скульптур в какой-то мере движим всеми четырьмя причинами.
Taxation Налогообложение
Когда дело доходит до взимания налогов, правительства разных стран занимают по отношению к искусству совершенно разную позицию: иногда они стремятся заработать, повышая на него налоги, а иногда пытаются улучшить свой публичный имидж, эти налоги понижая.
В начале XIX века в Великобритании существовал налог на холсты для живописи. На обороте картин, написанных в этот период, можно увидеть клейма, подтверждающие его уплату. Справедливо ли было усложнять жизнь художникам, которым приходится нелегко даже в лучшие времена? Может быть, эту меру власти считали чем-то вроде дарвиновского естественного отбора, способного окончательно отсеять неталантливых или не добившихся успеха?
В XX веке Великобритания приняла законодательство, согласно которому известные произведения искусства освобождались от уплаты налога на наследство, а это можно было счесть прогрессивным шагом, так как он облегчал передачу картины или скульптуры в одной семье из поколения в поколение. Проблемы начинались, когда их выставляли на продажу. Тут уж налог требовалось уплатить в размере, существовавшем на момент освобождения картины или скульптуры от оного. Допустим, в 1975 году N. получает по наследству от отца прекрасного Сарджента стоимостью два миллиона фунтов и освобождается от уплаты наследственной пошлины, составляющей в ту пору восемьдесят три процента. Он экономит миллион шестьсот шестьдесят тысяч фунтов и оставляет себе картину. А спустя тридцать лет решает ее продать. За Сарджента предлагают двадцать миллионов, что само по себе восхитительно, несколько удручает лишь настигшее N. требование уплатить налог на наследство по ставкам тридцатилетней давности, то есть в размере шестнадцати миллионов шестисот тысяч фунтов. Если Сарджент заинтересовал один из британских национальных музеев или художественных институтов, может вмешаться правительство и подсластить пилюлю, отчего выиграют и продавец картины, и музей – потенциальный британский покупатель. Налог с N. уже не взимают и в соответствии со сложной формулой рассчитывают цену, которую предстоит уплатить музею, – в данном случае около пяти миллионов фунтов. После этого музею приходится скрести по сусекам и просить попечителей, собирая необходимую сумму. Но если ему это удается, он приобретает картину за четверть аукционной цены, а N. получает значительно больше, чем три миллиона четыреста тысяч, которые достались бы ему, если бы он продал картину на аукционе.
В США существует налоговое законодательство, зачастую более склонное защищать интересы владельцев картин. Принятое в начале XX века, оно позволяло тем, кто передает произведения искусства в музеи, вычитать из налогов тридцать процентов заявленной стоимости этих картин или скульптур, причем разрешало дарителю оставить их себе до конца жизни. Поскольку всю ответственность за оценку даримых произведений искусства нес облагодетельствованный музей, здесь открывались самые разные возможности. Весь фокус заключался в том, чтобы оценить картину как можно выше исходной стоимости, тем самым существенно снизив налоги и превратив дарение в прибыльную сделку для мецената. Неудивительно, что американские музеи в ту эпоху значительно пополнили свои фонды ценными экспонатами.
Европейский Союз ввел налог на добавленную стоимость, то есть, в сущности, налог на импорт, которым облагаются все товары, ввозимые в страны Евросоюза. НДС на старинные предметы искусства установлен в размере пяти-шести процентов от их стоимости, в общем-то, справедливо. Однако полный НДС на современное искусство иногда достигает двадцати процентов. Налоговые органы немало помучились, не в силах оценить слепки и отливки скульптур, существующие в нескольких экземплярах. В конце концов они приняли решение, что если со скульптуры выполнено не более двенадцати слепков или отливок, она будет облагаться НДС по минимальной ставке, как «произведение искусства», если же более двенадцати – не обессудьте, тогда это «предмет массового производства», извольте платить НДС в полном объеме. Представителей налоговых служб издавна смущала необходимость определять, что есть искусство, а что нет. В 1927 году предметом жарких дебатов в нью-йоркском суде стала абстрактная скульптура – «Птица» Бранкузи: юристы, искусствоведы и художники ломали копья по поводу того, считать ее произведением искусства (и тогда не облагать налогом при ввозе в страну) или металлической болванкой (и тогда взимать с нее налог в размере сорока процентов). Представитель налоговых органов придерживался мнения, что, поскольку птицу в этой скульптуре опознать невозможно, произведением искусства она не является. Ряд художников, в том числе Джейкоб Эпстайн, защищали ее художественный статус. После двухлетнего судебного разбирательства требование заплатить сорокапроцентный налог было отозвано.
Кроме того, существует droit de suite[64]: этот налог изобрели во Франции юристы, движимые сентиментальным желанием загладить историческое зло и как-то возместить потери художникам, при жизни не заработавшим ни гроша, но ныне добившимся посмертной – вы только посмотрите какой! – известности. Иными словами, налог этот введен, чтобы исцелить общество от синдрома вины перед Ван Гогом. Соответственно, продажа любого произведения искусства, созданного художником, который умер менее семидесяти лет тому назад, облагается четырехпроцентным налогом (но не выше двенадцати тысяч пятисот евро); он выплачивается наследникам. Практически эти деньги кладут себе в карман и без того богатые потомки Пикассо и Матисса. Подобная наследственная пошлина не взимается в США, которые весьма разумно предпочли ее не вводить.
Результатом введения высоких налогов стал побег хороших картин и скульптур в беспошлинные зоны: все большее число произведений искусства находит приют в тщательно оберегаемых, оснащенных новейшими системами безопасности хранилищах, хотя и расположенных на территории нейтральных государств, например Швейцарии, но, в сущности, представляющих собою «ничейную землю» вне любой налоговой юрисдикции. В них можно хранить картины и скульптуры, не уплачивая налоги или пошлины. Можно даже продать их в такой беспошлинной зоне, и, пока они не покидают ее пределов, а продавец нигде не осел, сделка не подлежит никакому налогообложению. Это означает, что ряд великих сокровищ томятся в беспошлинных хранилищах и никогда не предстанут взору ценителей искусства. Удручающий пример того, как искусство, некогда ценимое в силу своей привлекательности, ныне оценивается в силу своей привлекательности для налоговых служб и становится столь мощным финансовым механизмом, что его нужно скрывать, иначе на его владельцев обрушатся налоговые инспекторы.
Неужели на этой печальной ноте мне придется завершить словарь мира искусства? Ничего не поделаешь, буква «Т» (Taxation/Налогообложение) стоит в конце алфавита. Что же, я закончу книгу иначе, повторив вердикт Галли Джимсона [см. главу I «Литературные герои»] по поводу отношений искусства и денег. «Я художник, – говорит он, – пишу картины из любви к искусству и нуждаюсь в деньгах, чтобы поддерживать свою плоть»[65]. Его богатые покровители «дела[ю]т деньги из любви к искусству и нужда[ю]тся в художниках, чтобы поддерживать свой дух»[66]. Важно не забывать об этом различии. В конце концов, богатые всегда могут сделаться еще богаче, но картины и скульптуры, таимые в беспошлинных хранилищах, не помогут им поддержать свой дух.
Сноски
1
Мания величия (фр.).
(обратно)2
Они, в общем-то, правы (фр.).
(обратно)3
Дюрер А. Дневник путешествия в Нидерланды / Перев. с ранненововерхненем. Ц. Нессельштраус // Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма. СПб.: Азбука, 2000. С. 516.
(обратно)4
«Бобриком» (фр.).
(обратно)5
Бальзак О. де. Жизнь холостяка / Перев. К. Локса // Бальзак О. де. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 3. С. 634.
(обратно)6
В оригинале – «Прощай, импрессионизм, анархизм, нигилизм, дарвинизм и дуракаваляние – дурака скурутил ревматизм». Кэри Дж. Из первых рук / Перев. Г. Островской (главы 1–22) и М. Шерешевской (главы 23–44). СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 107.
(обратно)7
Там же. С. 75.
(обратно)8
Там же. С. 118.
(обратно)9
Там же. С. 148.
(обратно)10
Там же. С. 237.
(обратно)11
Элиот Дж. Мидлмарч (Картины провинциальной жизни) / Перев. И. Гуровой и Е. Коротковой. М.: Худож. лит., 1981. С. 245.
(обратно)12
Там же. С. 249.
(обратно)13
Моэм С. Луна и грош / Перев. Н. Ман // Моэм С. Луна и грош. Театр. Рассказы. М.: Правда, 1983. С. 132.
(обратно)14
Киплинг Р. Свет погас / Перев. В. Хинкиса // Киплинг Р. Собр. соч.: В 3 т. М.: Радуга, 2000. Т. 3. С. 39.
(обратно)15
Там же. С. 124.
(обратно)16
Там же. С. 21.
(обратно)17
Пруст М. Германт / Перев. А. Франковского // Пруст М. В поисках утраченного времени. Полн. изд.: В 2 т. М.: Альфа-Книга, 2009. Т. 1. С. 1151.
(обратно)18
«Сад в стиле дзен» (фр.).
(обратно)19
На месте преступления (фр.).
(обратно)20
Золя Э. Ругон – Маккары. Творчество / Перев. Т. Ивановой (главы I–VIII) и Е. Яхниной (главы IX–XII)) // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М.: Худож. лит., 1963. Т. 11. С. 193–194.
(обратно)21
Там же. С. 194.
(обратно)22
Дали С. Дневник гения / Перев. с фр. Л. Цывьяна. СПб.: Азбука, 2002. С. 224–225.
(обратно)23
«Плавучая прачечная» (фр. «Le Bateau-Lavoir») – дословно «прачечный корабль»; такое название дал зданию коммуны художник Макс Жакоб, иронически сравнив его с отслужившими свое баржами, с которых прачки стирали белье на Сене.
(обратно)24
Речь идет о Национальной галерее и галерее Тейт.
(обратно)25
Кандинский В. В. Ступени. Текст художника // Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. М.: Гилея, 2001. Т. 1. С. 273.
(обратно)26
Элиот Дж. Мидлмарч (Картины провинциальной жизни) / Перев. И. Гуровой и Е. Коротковой. М.: Худож. лит., 1981. С. 247.
(обратно)27
В оригинале – «that eminent Victorian». Видимо, характеристика иронически отсылает к известной книге Литтона Стрэчи «Выдающиеся викторианцы» («Eminent Victorians»). – Примеч. перев.
(обратно)28
В оригинале – «Thus Conscience Doth Make Cowards of Us All» («Гамлет», акт III, сц. 1). В русском переводе М. Л. Лозинского – «Так трусами нас делает раздумье».
(обратно)29
В оригинале – «Call Us not Weeds». Строка из стихотворения викторианской поэтессы Э. Л. Эйвлин (E. L. Aveline). – Примеч. перев.
(обратно)30
Пруст М. В сторону Свана / Перев. А. Франковского // Пруст М. В поисках утраченного времени. Полн. изд.: В 2 т. М.: Альфа-Книга, 2009. Т. 1. С. 220.
(обратно)31
Не нужна мне никакая ретроспектива (простореч. англ.).
(обратно)32
В оригинале – игра слов: картина носит название «Indulgence», которое можно прочитать не только как «индульгенция, платное отпущение грехов», но и как «потворство собственным слабостям». – Примеч. перев.
(обратно)33
Байрон Дж. Г. Дон Жуан / Перев. Т. Гнедич // Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 3. С. 28.
(обратно)34
Девиц для радости, проституток (фр.).
(обратно)35
«Гора Ног» (англ.).
(обратно)36
«Вставьте в раму № 9» (англ.).
(обратно)37
«Портрет маркизы Редингской» (англ.).
(обратно)38
«Lady Reading» (англ.): 1) леди Рединг; 2) дама за чтением.
(обратно)39
Уайльд О. Упадок лжи. Диалог / Перев. А. Зверева // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. М.: Республика, 1993. Т. 2. С. 238.
(обратно)40
От латинского «pluvia» (дождь).
(обратно)41
«Это не трубка» (фр.).
(обратно)42
«Это по-прежнему не трубка» (фр.).
(обратно)43
«Это не подлинное произведение Магритта» (фр.).
(обратно)44
«Пулемет» (фр.).
(обратно)45
«Right of Passage» (англ.) – 1) «церемония посвящения»; 2) «справа от коридора».
(обратно)46
Дидро Д. Опыт о живописи / Перев. Н. Игнатовой // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М.: Худож. лит., 1980. С. 350.
(обратно)47
Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция / Перев. Н. Я. Рыковой под ред. Н. П. Снетковой // Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959. Т. 9. С. 239.
(обратно)48
Игра слов: по-английски сочетание «Hertz van Rental» напоминает голландское имя (Герц ван Ренталь), а с другой стороны, может быть прочитано как «Компания „Герц“, аренда автофургонов».
(обратно)49
«Положите мазок и остановитесь» (фр.).
(обратно)50
Название «дня покрытия картин лаком непосредственно перед выставкой», по-французски «вернисаж», («vernissage», букв. «лакировка») было перенесено и на само торжественное событие.
(обратно)51
«Liber Veritatis» (лат. «Книга истины») – авторский каталог, содержащий сведения обо всех произведениях художника. Термин восходит к французскому живописцу Клоду Лоррену, который в 1635–1636 гг. назвал так перечень всех своих работ, которые он подробно документировал, сопровождая графическими копиями, а также указаниями на обстоятельства продажи, местонахождение и т. п.
(обратно)52
«Неаполь» (ит.).
(обратно)53
Речь идет о коллекции Макленнана, ставшей частью Художественной галереи и музея Келвингроув, ныне крупнейшего художественного собрания Глазго.
(обратно)54
«A genuine Constable» (англ.) – 1) «настоящий констебль»; 2) «подлинный Констебл».
(обратно)55
Глупая оплошность (фр.).
(обратно)56
Клэр де Люн (фр. «Claire de Lune») – лунный свет.
(обратно)57
Здесь: заторможенный (фр.).
(обратно)58
Игра слов: «General Felt» (англ.) – 1) войлочно-фетровые изделия; 2) генерал Фелт.
(обратно)59
Здесь: хоровод (фр.).
(обратно)60
Мопассан Г. де. Милый друг / Перев. Н. Любимова // Мопассан Г. де. Собр. соч.: В 6 т. СПб.: Индивидуальное частное предприятие Кузнецова «Издательство „Эпоха“», 1992. Т. 3. С. 190.
(обратно)61
Золя Э. Ругон – Маккары. Творчество / Перев. Т. Ивановой (главы I–VIII) и Е. Яхниной (главы IX–XII) // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М.: Худож. лит., 1963. Т. 11. С. 224.
(обратно)62
Уайльд О. Упадок лжи. Диалог / Перев. А. Зверева // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. М.: Республика, 1993. Т. 2. С. 238.
(обратно)63
Золя Э. Ругон – Маккары. Творчество / Перев. Т. Ивановой (главы I–VIII) и Е. Яхниной (главы IX–XII) // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М.: Худож. лит., 1963. Т. 11. С. 396.
(обратно)64
Авторское вознаграждение при перепродажах произведения искусства (фр.).
(обратно)65
Кэрри Дж. Из первых рук. С. 237.
(обратно)66
Там же.
(обратно)
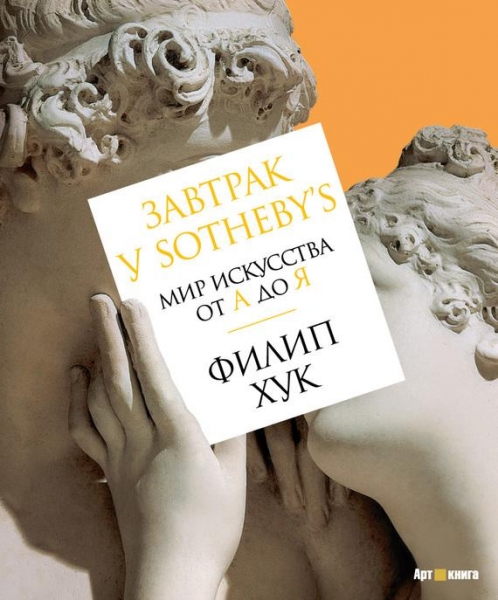

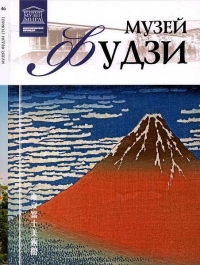

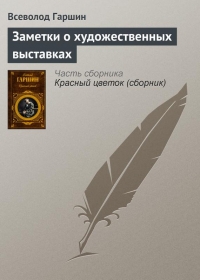


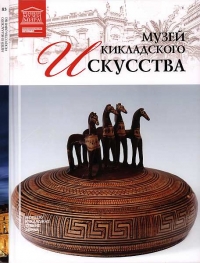

Комментарии к книге «Завтрак у Sotheby’s», Филип Хук
Всего 0 комментариев