Нина Александровна Дмитриева В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
От составителей
Имя Нины Александровны Дмитриевой – одно из самых ярких и крупных имен в отечественном искусствознании XX – начала XXI века. Написанные ею более двух десятков книг и множество статей стали чрезвычайно заметным и оригинальным вкладом в науку об искусстве. Создававшиеся на протяжении полувека труды Н.А. Дмитриевой существенно продвинули понимание целого ряда принципиальных явлений теории и истории искусства, глубоко раскрыли логику творческих поисков мастеров, определявших судьбы мирового искусства, – Ван Гога, Врубеля, Чехова, Т. Манна, Пикассо.
Перед составителями стояла непростая задача – собрать в одной книге статьи, наиболее ярко раскрывающие многогранный исследовательский и литературный талант НА. Дмитриевой.
Сборник открывается двумя теоретическими статьями: в первой исследуются проблемы интерпретации произведения искусства, во второй анализируется структура художественного образа. Концептуальная убедительность и сила теоретических построений НА. Дмитриевой проистекали не только из особого склада ее ума, умеющего отыскивать причинно-следственные связи и закономерности в запутанном историко-художественном процессе, но и из способности автора глубоко постигать своеобразие отдельного явления искусства. Теоретические обобщения у Дмитриевой всегда основывались на пристальном и вдумчивом изучении живого материала – на анализе отдельного произведения, на изучении творческой эволюции мастера, на исследовании художественной школы, эпохи, направления.
Закономерно, что этюды по истории искусства составляют большую часть сборника. От Данте до Пикассо – таков хронологический диапазон включенных в него работ. Географический охват – от России до Испании на Западе и до Китая на Востоке. Жанровый – от эссе или отклика на выставку до фундаментального трактата, где исследователь выступает одновременно в роли искусствоведа, литературоведа, эстетика, философа. Н.А. Дмитриева равно свободно обращается как к пластическим искусствам, так и к словесному творчеству, что, впрочем, неудивительно, если вспомнить ее блестящую книгу «Изображение и слово» (1962) и серию статей о Чехове, изданную в виде отдельной книги (2007).
Третья часть сборника показывает, что к искусству XX века Дмитриева подходит не только как историк и теоретик, но и как критик. В этом амплуа она откликается на заметные выставки и книги, размышляет о методологии художественной критики, а в годы оттепели пишет о современном стиле в живописи, пылко отстаивая необходимость расширения эстетических горизонтов советского искусства конца 1950-х – начала 1960-х годов.
Завершает книгу раздел мемуарно-публицистических статей, где Нина Александровна вспоминает о судьбах своего поколения, создает творческие портреты известных ученых, с которыми ей довелось общаться, предлагает свое осмысление некоторых злободневных тенденций современной общественной жизни.
С.Ф. Членова, МА. Бусев
Нина Александровна Дмитриева
Нина Александровна Дмитриева… Вряд ли найдется среди людей, интересующихся искусством, тем более среди ученых-гуманитариев, человек, который не знает и не помнит это имя. Что касается нас, историков изобразительного искусства, особенно тех, кто занимается XX веком, то все мы, подобно русским писателям, вышедшим из гоголевской «Шинели», вышли из таких книг НА. Дмитриевой, как «Изображение и слово» (1962), «Пикассо» (1971), «Винсент Ван Гог» (1980). Я считаю себя ученицей Нины Александровны, хотя формально ею не была. Думаю, что то же самое могли бы сказать многие искусствоведы и моего поколения, и поколений, следующих за нами.
С печатными трудами и устными выступлениями Дмитриевой я познакомилась задолго до нашей встречи. Случилось это в начале 1950-х годов. Я была тогда аспиранткой сектора эстетики Института истории искусств, напичканной всякого рода суррогатами мысли (времена-то были какие!). Не секрет, что в юности нередко кажутся привлекательными внешние приметы академической учености – зашифрованный «птичий» язык для посвященных и прочие благоглупости. Работы Нины Александровны меня поразили: оказалось, серьезная наука может быть живым словом всегда и во всем, она может, сохраняя глубину мысли, обладать обаянием художественной прозы, когда в каждом суждении чувствуется присутствие личности автора.
Пройдет время, и мне предстоит еще не раз убедиться в том, что, оставаясь блестящим аналитиком, Дмитриева, как никто другой, умела художественно анализировать художественные произведения. Как известно, она считала своим учителем Михаила Владимировича Алпатова. Думаю, не надо объяснять, что имело место прямое сродство этих двух творческих людей.
Как-то однажды, в день рождения Нины Александровны (24 апреля), я сказала ей: «А вы появились на свет не в обычный день – ведь по древнегреческому календарю это день рождения Афродиты». Мы посмеялись. Хотя чем черт не шутит – не потому ли и в самом деле Нина Александровна обладала безошибочным чувством красоты, гармонии, меры, что сказалось в ее внешности, манере общения, в содержании и стилистике ее работ?
Просто Нине Александровне посчастливилось родиться одаренным, даже всесторонне одаренным человеком. Она писала стихи и сказки, переводила зарубежных поэтов, сочинила продолжение неоконченной повести Диккенса «Тайна Эдвина Друда». Помню, как в один из осенних дней – дело было в Усове, где мы вместе снимали дачу, – я подбила ее отправиться «на этюды», и Нина Александровна написала, впервые сменив акварель на масло, красивый осенний пейзаж в манере Ван Гога.
Обаяние личности Нины Александровны было огромным. В устремленном на собеседника пристальном взгляде ее серо-голубых глаз светился живой, проницательный ум человека, наделенного редким даром всепонимания.
Она была внутренне независима, умела охранять свое «я» от предписанных догм, от модных тенденций и господствующих идей, вообще от любого насилия над волей. Внешне мягкая, она становилась непреклонной, когда речь шла о праве оставаться собой. В очень интересной статье о рисунке Пушкина Нина Александровна употребила по отношению к пушкинской Татьяне слово «самостояние», которое как нельзя лучше определяет ее собственную позицию[1]. Именно такое «самостояние» и придает в итоге ее работам удивительную естественность, свободное «дыхание», которые исчезают, стоит лишь «наступить на горло собственной песне».
Как-то однажды я спросила у Нины Александровны: «В чем смысл жизни?» – по молодости чего не спросишь. И она ответила: «Смысл жизни в том, чтобы прожить ее достойно». Она сама прожила свою жизнь очень достойно, сохраняя высокую нравственную позицию и внутреннюю независимость (что иногда казалось совершенно невозможным).
Нина Александровна была глубоко верующим человеком, и вместе с тем не слепым в своей вере. Смею предположить, что для нее самым важным и дорогим была идея самоусовершенствования, духовного роста человека. Недаром она очень дружила с Александром Менем, интеллектуалом, священником-просветителем, который, мне кажется, не мог бы удовлетвориться тезисом «верую, ибо абсурдно».
Каждый, кто с ней общался, ощущал особую внутреннюю духовную силу ее характера – внешне мягкого, лишенного давящего, по-мужски волевого начала, что, впрочем, лишь преумножало, но не умаляло эту его силу.
За абсолютной простотой и естественностью облика, манер и поведения Нины Александровны (она никогда не «лепила» свой имидж), скрывалась сложная, глубокая и даже загадочная натура. Столь же обманчива и простота ее работ, в которых прозрачная ясность мысли и изложения достигает, кажется, возможного предела, и в то же время под этой поразительной простотой и ясностью нередко таится глубокий и не вдруг различимый смысл.
Думаю, было бы неправильно, говоря о книгах и статьях Нины Александровны, составляющих золотой фонд нашей искусствоведческой науки, ограничиться общими, пусть даже самыми хвалебными словами. Работы эти заслуживают серьезного анализа. Попробую, в меру своих сил и возможностей, решиться на такой анализ, заранее зная, что Нина Александровна наверняка посмеялась бы над этой затеей.
Первым заметным трудом Н.А. Дмитриевой была книга «Московское училище живописи, ваяния и зодчества» (1951). Это ее кандидатская диссертация, написанная взамен первоначального исследования о Врубеле, которое в свое время отвергли – не тот герой! Спустя много лет Нина Александровна опубликует превосходную монографию об этом своем любимом живописце.
Время нашей совместной работы в секторе эстетики – а это период так называемой «хрущевской оттепели» – осталось в памяти как очень счастливое. Время надежд, бурных дискуссий и молодого нахальства. Мы читали и перечитывали Гегеля, Канта, молодого Маркса, подвергая многое сомнению, соглашаясь и споря с великими мыслителями и друг с другом. Нина Александровна описала эти годы в очерке о М.А. Лифшице[2], у которого она училась еще в ИФЛИ до войны и которого называла своим учителем.
Рассказ Дмитриевой проникнут драматизмом: перед читателем с неотвратимостью разворачивается картина триумфа и трагедии человека выдающегося ума и больших знаний (триумфа в довоенное время, когда – как пишет Нина Александровна – его ходила слушать вся Москва, и трагедии в послевоенные годы, когда он не смог (или не захотел?) отрешиться от идеологических догм, от мыслительных стереотипов и растерял свое дарование). В упомянутом очерке невольно получилось, что главное содержание секторной жизни в то время – спор Лифшица с «младомарксистами» (так Нина Александровна называет противников Лифшица, среди которых самыми активными и идейно вооруженными были Ю.Н. Давыдов, Л.Н. Пажитнов и Б.И. Шрагин). Мне же главное видится в другом. В те годы предметом наших споров стали кардинальные вопросы эстетики и философии (знай наших!) – что такое искусство? что такое прекрасное? что такое эстетическое чувство? каково отношение художественного творчества к труду и свободе? Мы дерзали эти вопросы ставить и решать, как нам казалось, по-новому. Это окрыляло. Не работа, расписанная в планкартах и рассчитанная в печатных листах, а творчество, можно сказать, коллективное творчество приносило нам настоящую радость.
Нина Александровна пишет, что в спорах не принимала ничьей стороны. Пожалуй, так оно и было. Просто она не очень любила перепалки (мы ведь нередко спорили до ночи) и ей, человеку безупречного вкуса, гармоничного душевного склада, внутреннего изящества, вероятно, претили наши перегибы и перехлесты, а бывало – и глупости. Но в стороне она ни в коем случае не стояла. Случалось так, что наиболее радикальные «младомарксисты» иногда были не прочь подчинить искусство собственно социальной задаче, после исполнения которой его существование становилось проблематичным. Нину Александровну никогда не соблазняли подобные теории, ее представление об искусстве как о величайшей (и вечной!) ценности культуры всегда оставалось незыблемым. При этом никак нельзя сказать, что и социальные (их можно назвать социально-утопическими) идеи тогдашней эстетической науки оставили ее совершенно равнодушной. Еще в 1956 году вышла в свет книга Дмитриевой «Вопросы эстетического воспитания», в которой речь идет о великой роли искусства и шире – творчества по законам красоты в жизни человека и человечества. Вот как она пишет о цели творческой работы (имеется в виду отнюдь не только работа художника, писателя, музыканта): «Заставить природу зазвучать как музыка, в которой всякое звучание является необходимым элементом общей мелодии; добиться, чтобы не было провалов и дисгармонии, не было немых, недействующих клавишей. А так как клавиатура природы безгранична, то и самому этому стремлению нет границ: каждая вновь достигнутая ступень открывает новые, ранее недоступные горизонты»[3].
В книге «О прекрасном» (I960), которая сразу же стала раритетом, Нина Александровна продолжала рассматривать искусство и красоту как детей гармонии, законы которой открываются человеку-творцу, чьи деяния способны приблизить время преобразования по эстетическим законам самой жизни. Но главным ответом на тревоживший всех нас вопрос о природе искусства стала ее книга «Изображение и слово» (1962). Я хорошо помню Нину Александровну в те годы – моложавую (ей около сорока пяти), улыбчивую, подвижную, находящуюся в расцвете творческих сил.
В «Изображении и слове» уже в полной мере проявились все главные достоинства ее работ: зоркость глаза, верность чувства, точность выражения и завидное изящество мысли и слога. Пожалуй, основной смысл затеянного Ниной Александровной сравнительного анализа литературы и изобразительных искусств заключался в исследовании и утверждении многозначности художественного образа, будь то словесный или пластический образ. Позднее эта идея особой многозначности художественного языка будет развита в ее книге об интерпретации искусства, книге замечательно интересной, но, к сожалению, так и не вышедшей в свет. Уже в «Изображении и слове» проявилась особая любовь Нины Александровны к литературе и глубокое понимание ею природы словесного искусства. Эта сторона ее дарования в полной мере раскрывается в книге «Послание Чехова»[4], в которой собраны замечательно интересные прочтения целого ряда прозаических произведений писателя, всю жизнь бывшего для нее образцом художника и человека.
Мне кажется, такие люди, как Дмитриева, являются своего рода последними могиканами из плеяды старой русской интеллигенции, для которой именно литература нередко была средоточием и философской мудрости, и этической нормы, и эстетического закона. Кстати говоря, Нина Александровна не любила, когда ее причисляли к сонму ученых (она говорила: «Я не ученый, я – литератор»), В этом ощущалась и скромная сдержанность самооценки, и особое отношение к литературе, и, вероятно, утверждение своего авторского права на своеобразие научного подхода.
В конце 1960-х годов, после унизительного следствия по делу так называемых «подписантов», поставивших свои подписи под письмами в защиту прав и свобод человека, наш сектор эстетики потерял лучших своих сотрудников и перестал существовать в прежнем составе и прежнем качестве. Мы с Ниной Александровной перешли в сектор современного западного искусства. Мне, помнится, было очень нелегко перестроиться, а Нина Александровна будто и не испытывала никаких трудностей и уже к 1971 году закончила книгу о Пабло Пикассо – первую в нашей стране обстоятельную монографию о великом художнике, который тогда еще многим представлялся если не злокозненным, то малопонятным «модернистом». Хочется повторить, что все мы, кто тогда и позднее занимался искусством XX века, шли по стопам Дмитриевой.
Книга «Пикассо» показала, как можно и как нужно писать о современном художнике. И первый из уроков заключался в том, что прежде всего следует постараться его понять, не измеряя непривычность образного языка ни готовой идеей, ни предвзятым мнением, ни преднамеренной оценкой. Позднее она напишет очень интересную статью «Некоторые мифы о Пикассо»[5], в которой будет опровергать односторонние и пристрастные суждения о его творчестве как о конце искусства, как о бессмысленной игре формами, как о следствии шизоидного тяготения к мраку и смерти. Нина Александровна всегда сохраняла огромное уважение и доверие к художнику, творцу искусства, никогда не становясь в позу ментора, стараясь постичь внутреннюю необходимость именно такого, а не иного образного решения.
Вспоминаю, как Нина Александровна работала над книгой о Пикассо. Мы жили вместе на даче, и каждый день я наблюдала одну и ту же картину: сидя за столом или полеживая на кровати, обложенная со всех сторон книгами и альбомами, она подолгу вглядывалась в репродукции произведений художника, неспешно раздумывая над каждой деталью, вживаясь в сложный образный язык его произведений. Надо сказать, что постоянное вдумчивое общение с искусством – в музеях или, если нет возможности увидеть произведение воочию, то по репродукции – было и оставалось до конца жизни насущной потребностью для Нины Александровны. Незадолго до смерти, почти лишившись зрения, она показывала мне кое-что из своих альбомов, и я снова поражалась ее способности буквально «высмотреть» в картине нечто, чего еще никто до нее не увидел.
Второй бесценный урок, который нельзя было не извлечь из книги «Пикассо», – продемонстрированное Дмитриевой умение видеть, как она сама писала, «незримое содержание в зримых формах». Без такого умения искусство авангарда осталось бы для нас закрытым.
Но в чем и где искать это «незримое содержание»? «Искусство XX века, – пишет Нина Александровна, – оказалось перед сложной дилеммой, заблудившись в коварной диалектике “субъект – объект”. Видимо, органичный для него путь состоял в том, чтобы именно диалектику, именно противоречивую связь, отношение этих начал сделать непосредственным предметом изображения»[6]. Мысль, дающая ключ к методу исследования современного искусства, которого придерживалась и сама Дмитриева. Это, пожалуй, третий урок, невольно (именно невольно) преподанный нам, искусствоведам, да и вообще любому любознательному читателю.
Интересно, что Пикассо – художник драматичный, непредсказуемый, постоянно совершающий, по словам Нины Александровны, «прыжки в неизвестность», – все-таки предстает в ее книге почти гармоничным в своих «безумствах». Как же так? Со временем, мне кажется, удалось разгадать эту загадку. Просто исследователь, вживаясь в мир образов Пикассо (или другого современного художника), раскрывала необходимость именно такого образного языка со всеми его деформациями и неправильностями. Необходимость для художника и для тех, кто захочет и рискнет его понять. Тогда становятся лишними разговоры о произвольности, безумии, демонизме, хулиганстве (какие только грехи не приписывали тому же Пикассо!), и его творчество обретает смысл, логику и, как ни странно, гармонию.
Надо сказать, что исторический метод исследования (принципиальный для марксистской науки, он в те времена нередко искажался вульгаризмами и схематизмом) применен в книге Дмитриевой блестяще. Творчество художника рассмотрено в широкой исторической перспективе, и реалии времени – а Пикассо жил и работал долго – буквально «прорастают» в ткань его художественных образов. Они таковы, ибо такова жизнь и таково ощущение жизни человеком XX столетия. «Чем сложнее современная действительность, – пишет Нина Александровна о Пикассо, – тем сложнее и его искусство»[7]. Ненавязчиво, как бы исподволь, в книге высказывается мысль о самопознании человека в искусстве и через искусство. Позднее эту мысль она разовьет в статье «Опыты самопознания»[8].
В сущности, именно многообразным художественным опытам самопознания посвящена и написанная Дмитриевой замечательная книга об интерпретации искусства (не только современного). К величайшему сожалению, по ряду бюрократических причин она так и не вышла отдельным изданием, но знакома читателям по циклу блестящих статей.
В своих размышлениях о природе и смысле современного искусства Нина Александровна идет еще дальше, ставя перед собой вопрос: а где же цель, в чем же высший смысл мучительных деформаций, уродливых дисгармоний, сопровождающих опыты художественного самопознания в XX веке? Достаточно ли просто констатировать, что они – отражение дисгармонии реального мира? Снова хочется обратиться к цитате из книги Дмитриевой: «…Пикассо обнажил незавершенность нынешнего мира. Мира с нарушенными пропорциями, нестабильного, расплавленного, текучего, находящегося в становлении, мира, в сущности еще младенческого, еще “предысторического”»[9]. Мысль о пересоздании, нет, скорее – о преображении мира, названного еще классиками марксизма «предысторическим», о неминуемом движении от дисгармонии к гармонии опять-таки очень ненавязчиво высказывается Ниной Александровной (разумеется, ни о каких социальных переворотах и революционных утопиях речи нет), нигде не приобретая доктринерского характера, а лишь просвечивая в тончайших анализах искусства.
Дмитриева пишет о «живом единстве» (другое имя гармонии) как о возможном идеальном состоянии мира, которое предвосхищает и готовит все создаваемое человеком-творцом. В этих чаяниях слышен отзвук соловьевских мыслей о «всеединстве» (Нина Александровна еще в молодые годы увлеклась философией Владимира Соловьева). В них отозвались и те извечные вопросы, которые сама Дмитриева называла типично русскими: зачем? что делать? куда идти? – вопросы, составлявшие идейный стержень любимой ею русской литературной классики.
Что касается художников, близких сердцу Нины Александровны, то мне, признаюсь, казалось странным увлечение ее, человека редкой душевной гармонии, драматическими творческими натурами, такими, как Врубель, Ван Гог, Пикассо. Сейчас я понимаю, что именно такие художники, не избегающие трагических истин жизни, в высшей степени способные на те самые «прыжки в неизвестность», о которых она писала в книге о Пикассо, – именно они в муках самопознания сражались за искомую гармонию.
Еще об одном моем со временем изжитом недоумении. Много лет назад Нина Александровна как-то сказала на заседании сектора, что собирается писать о юморе в современном искусстве. Я удивилась, ведь она не принадлежала к людям ироничным, любителям поострословить, пошутить, рассказать свежий анекдот. Теперь же мне это решение Дмитриевой представляется вполне логичным. Давно известную истину – которая сводится к тому, что, когда человеку открывается несовершенство мира и своей собственной природы, возникает потребность в очистительном смехе, необходимом для того, чтобы выжить, – она рассмотрела на примере (вернее, примерах) современного искусства. Получилась увлекательная книга, которая, к сожалению, тоже так и не увидела свет. В главе этой книги, опубликованной в виде статьи, Нина Александровна пишет о «карнавальном чистилище», через которое проходит современный человек[10]. Речь идет о вещах, о потребительском вещизме, о дизайне и моде – во всем этом автор находит смеховой «карнавальный» аспект, скорее обнаруживающий, чем скрывающий дисгармонию мира. (Она и о Пикассо писала: «Силой своего всеохватывающего “космического” юмора Пикассо обнажил незавершенность нынешнего мира»[11].) И в данном случае в характере современного смеха Нине Александровне удалось найти оригинальный способ обнаружения скрытых, глубинных особенностей искусства XX века.
Хочу подчеркнуть, что Дмитриева – серьезный ученый-аналитик (ее работы, безусловно, принадлежат к смысловому искусствознанию) – была в то же время талантливейшим просветителем. Она никогда не забывала о своем долге перед людьми, которым не посчастливилось приобщиться к высотам культуры, что тоже безусловно является продолжением давней демократической традиции русской интеллигенции. «Великие книги, даже самые мудрые, создаются не только для посвященных», – пишет Нина Александровна в статье «Эпизоды из истории “Божественной комедии” Данте»[12]. Насколько мне известно, Нина Александровна не любила преподавать (хотя, разумеется, ей не раз приходилось читать лекции и даже курсы). Но это и неважно. Все равно она всегда была и оставалась Учителем с большой буквы. Ведь даже самым глубоким, самым теоретическим ее работам свойственна особая открытость, когда, казалось бы, немыслимо сложные проблемы под ее пером – легким и точным – оказываются близки и понятны каждому.
А потому не удивительно, что именно Дмитриевой написана лучшая, можно сказать, образцовая, популярная книга об искусстве. Я имею в виду «Краткую историю искусств», которая много раз переиздавалась и всегда очень быстро исчезала с прилавков магазинов. Легко заметить, что часто Нина Александровна не просто отстраненно излагает свои мысли, а как бы ведет разговор с читателем (речь идет не только о «Краткой истории искусств»). Не потому ли в ее текстах постоянно встречаются вопросы, обращенные и к себе, и к своему потенциальному собеседнику, который приглашается поразмышлять над какой-либо проблемой? Иногда вопросы сыплются как из рога изобилия. Вот, к примеру, отрывок из «Карнавала вещей»: «Но какова современная личность “постиндустриального” капиталистического общества XX века и что ей требуется? Где ее действительные потребности, где мнимые? Где преходящие, где устойчивые? Как отделить потребности, рожденные духовным богатством, от снобистской избыточности?»[13]
Впрочем, великая сила такого автора, как Нина Александровна, проявлялась не только в умении побуждать читателя к активному размышлению, не только в замечательной способности излагать самые сложные вопросы кристально ясным языком, но еще и в удивительной образности и поэтичности самой мысли об искусстве. В доказательство хочется привести цитату из «Краткой истории искусств» (я ее не выбирала, книга случайно открылась на этом месте): «Крылатая Ника Самофракийская – воплощение радостного пафоса, утро эллинистического мира, она была создана в конце IV столетия до н. э. Когда-то она стояла, трубя в рог, на утесе на берегу моря, открытая ветру и брызгам морской пены. Сейчас она встречает посетителей Лувра на площадке широкой лестницы. Обезглавленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим пространством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканием солнца, синевой неба»[14].
Вот такое живое чувство поэтической прелести произведения, наверное, является лучшим способом научить всех и каждого видеть, понимать и любить искусство.
С.П. Батракова
Многозначность художественного образа
К проблеме интерпретации[15]
I
Пабло Пикассо. Фигура. 1928
Действительно ли существуют вечные, непреходящие ценности искусства, сохраняющие свою силу во все времена? В этом трудно сомневаться – имена «классиков» тому порукой. Однако сомнения высказывались не только в приступах погромных революционных страстей, не только бунтарями-футуристами или представителями «контркультуры». Задолго до них утонченные писатели XIX века братья Гонкуры, вовсе не расположенные ничего уничтожать и крушить, позволили себе усомниться: возможно ли что-то неизменное в этом изменчивом и превратном мире? В дневнике Гонкуров от 10 ноября 1862 года читаем:
«После долгих размышлений я прихожу к убеждению, что в литературе не существует вечно прекрасного, иначе говоря – абсолютных шедевров <…>. Профессора и академики уверяют, будто существуют произведения и авторы, над которыми не властно ни время, ни изменения вкуса, ни обновление духа, чувств, интеллекта, происходящее в разные времена у разных народов. Они говорят так, ибо нужно же им хоть на что-нибудь опереться, спасти хоть какой-нибудь Капитолий! <…> Если все в мире изменилось, если человечество пережило столь невероятные превращения, переменило религию, переделало заново свою мораль, – неужели же представления, вымыслы, сочетания слов, пленявшие мир в далекие времена его детства, должны пленять нас так же сильно, так же глубоко, как пленяли какое-нибудь пастушеское племя, поклонявшееся многим богам…»1
Мысль, характерная для позитивистских тенденций XIX века. Тут отголоски бунта против всяческих абсолютов, вотум недоверия «профессорам и академикам», отходная и классицизму с его культом Античности, и романтизму с его средневековыми грезами; тут слышится и голос Курбе, восклицающий: для искусства существует только настоящее! А – и голос нашего В.В. Стасова, восклицавшего нечто в этом же роде.
Прошло больше ста лет, человечество пережило дальнейшие превращения, куда более невероятные, но не потеряло восприимчивости к «абсолютным шедеврам» многовековой давности. Мысль Гонкуров не подтверждается ходом вещей. Она, впрочем, была бы логически неуязвима, если бы верна была ее исходная посылка, а именно: что однажды созданные произведения искусства остаются теми же и такими же, как в момент их создания. В самом деле, общество переживает ломку воззрений, социальные перевороты, коренные перемены образа жизни, перед ним встают неведомые прежде проблемы, а «шедевры» каменеют в своей изначальной данности, и человечество зачем-то перетаскивает этих идолов из одного столетия в другое.
Но предпосылка неверна: произведения искусства сами видоизменяются, получая приток новой жизни от восприятия их новыми поколениями. Исторический опыт бросает на них обратный свет.
В общей форме это относится не только к произведениям художественного творчества. Значение любого исторического события неоднократно переосмысливается, карта истории подправляется; переоцениваются и пересматриваются в свете нового опыта идеи, концепции, научные теории. Однако есть нечто очень специфическое в «бессмертии» художественных шедевров: они становятся резервуаром ценностей, не пустеющим по мере того, как из него черпают, – чем больше черпают, тем больше он наполняется. Этого не происходит при переоценке научных построений: там раньше или позже обнажается дно.
Загадочное свойство искусства – не убывать, заново возрождаться, иногда внезапно молодеть. Очевидно, черпающие из его источника одновременно и пополняют его, присоединяя свой духовный опыт к духовному опыту художника. Для чего, разумеется, нужно, чтобы произведение художника обладало силой притяжения, магнетизмом. Тогда оно становится накопителем духовной энергии поколений.
Эстетическое восприятие как соучастие
В том же 1862 году, к какому относится приведенная запись в дневнике Гонкуров, молодой украинский филолог А.А. Потебня в работе «Мысль и язык» поставил проблему апперцепции как эстетическую проблему. Он писал: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих <…>. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании. Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника…»2
Потебня дает ключ к решению проблемы, которая Гонкурам представлялась тупиковой: произведения искусства, созданные в прошлом, продолжают действовать в настоящем, так как пробуждают в воспринимающих их собственные, принадлежащие настоящему, переживания и мысли. Если выразить идею Потебни в современных терминах, то речь у него идет о бесконечной потенциальной информации («неисчерпаемом содержании»), заложенной в художественном произведении, и об обратной связи между произведением и воспринимающими.
Мысль, что произведение искусства не есть что-то раз навсегда созданное, а «нечто постоянно создающееся», подразумевает всеобщий процесс сотворчества, соучастия. Не будь этого процесса, произведение искусства, даже и при первом его создании, оставалось бы исключительным достоянием автора. Ведь плоды искусства не могут «внедряться в практику» в том же смысле, как плоды науки и техники. Последними можно пользоваться и без приобщения к творческой мысли ученых и конструкторов. Чтобы вскипятить воду в электрическом чайнике, не обязательно иметь представление об устройстве чайника и вообще об электричестве – вода все равно закипит. Пользование искусством подобных осязаемых результатов не дает. Предполагается, что его результат – эстетическое переживание, а главная цель – «последействие» – духовное обогащение воспринимающего. Но и первое, не говоря уже о втором, не бывает простым автоматическим следствием встречи с произведением искусства, наподобие того, как нагревание воды является следствием включения вилки в розетку. Можно иметь в поле зрения живописное полотно, ровно ничего при этом не переживая и не воспринимая его как эстетический предмет. Причем это еще не значит, что картина плоха или что данный зритель не способен понимать живопись, а только то, что между ними не состоялся контакт. Для контакта нужен зов и отклик. Допустим, и картина хороша, и зритель знаток живописи – но все-таки этого недостаточно. Как раз у знатоков вырабатывается своего рода иммунитет к эстетическому воздействию, как у врачей – к человеческому страданию. Зритель-знаток может бегло взглянуть на картину, определить, что она относится к такой-то школе, и равнодушно пройти мимо.
Возможность эстетической реакции возникает, если зритель улавливает исходящий от картины зов, как бы обращенный лично к нему. Тут от него требуются и самостоятельные дальнейшие усилия: готовность пойти навстречу произведению, его зовущему, исключительная сосредоточенность на нем. Тогда приходят в деятельное состояние резервы собственного духовного опыта зрителя, и он соотносит их с тем, что открыла ему картина, чувствует себя ей сопричастным. Это и есть феномен сотворчества, составляющий суть эстетической реакции. Он практически довольно редок, но лишь посредством его картина, музыка, стихи способны возвысить кого-либо кроме самого живописца, композитора, поэта.
Современный человек «потребляет» искусство в довольно большом количестве – кинофильмы, телефильмы, спектакли, книги, концерты, выставки. Но только небольшая доля увиденного, прочитанного, услышанного вызывает у него эстетическое переживание. Не нужно отождествлять с ним реакции другого рода, например заинтересованность в развитии действия (узнать, «что будет дальше», «чем кончится», «кто убийца»), приобретение тех или иных сведений или моральных наставлений, простое чувственное удовольствие, захваченность музыкальным ритмом и пр. Все это тоже имеет свой смысл, в известной мере оправдывая избыточность поглощаемого искусства (или его суррогатов). Но лишь акт своеобразного соучастия, протекает ли он скрыто или выражается в активной интерпретации воспринятого, делает встречу с произведением искусства событием в духовной жизни.
Понятно, что для возникновения подлинного эстетического контакта с произведением искусства у воспринимающего должно быть некое предварительное потенциальное с ним сродство. Если нет сродства – не будет услышан зов. Отсюда та пристрастная избирательность в оценках искусства, которая иногда кажется странной. Как мог Толстой, спрашиваем мы себя, не оценить до достоинству Шекспира? Почему Бунин не признавал поэзию Блока? Отчего Цветаева не любила Чехова, а любила Ростана? Не странно ли, что Сезанн пренебрежительно отзывался о живописи Ван Гога? Неужели они «не понимали»?
Нет оснований думать, что Толстой осуждал Шекспира только из вне-эстетических, прежде всего религиозно-нравственных, соображений. Такие соображения у Толстого были, однако он выделял их в особый ряд, не смешивая с оценкой художественных качеств. По всей вероятности, произведения Шекспира действительно не вызывали у Толстого эстетического отклика. Последний зависит не столько от какого-то абстрактного «понимания» искусства вообще, сколько от избирательного сродства именно с этим художником, этим произведением. (По-другому это можно назвать психологической совместимостью.)
Но и когда имеется такое сродство, образ произведения, данный в эстетическом восприятии, не будет вполне тождествен авторскому, а будет от него чем-то отличаться. Потебня сравнивал процесс восприятия с зажиганием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которого зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы». Он цитировал В. Гумбольдта: «Всякое согласие в мыслях – разногласие», «В душе нет ничего, кроме созданного ее самодеятельностью»3.
Эстетическая реакция на произведение искусства как бы творит его новый вариант из собственного «горючего материала». Не так же ли поступает и художник по отношению к явлениям действительности, пробуждающим его творческую волю? Он их не воспроизводит, но преобразует. Волевое начало заложено и во вторичном творческом акте, то есть в восприятии художественного произведения: возникает потребность в каком-то действии, направленном на предмет восприятия. Чисто пассивное созерцание оставляет осадок неудовлетворенности, не насыщает, так же как живописца не насыщает смотрение на полюбившийся предмет: он должен взять кисть. А что может сделать зритель, смотрящий на его картину? «Что делать нам с бессмертными стихами?»
Чем эстетическое переживание интенсивнее, тем настоятельнее ищется выход к действию, тем сильнее тревога от бездействия, порою мучительная. Она описана Толстым в «Крейцеровой сонате»: «Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет».
Позднышев, герой повести Толстого, испытывает муки эстетической безысходности, слушая музыку «в гостиной среди декольтированных дам». Другие гости их не испытывают, они не реагируют на музыку эстетически, а разве что получают от нее чувственное удовольствие, им достаточно «похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне». По другой причине не испытывает их скрипач Трухачевский, в той же гостиной среди тех же дам исполняющий Крейцерову сонату. Он-то делает как раз то, «что надо делать в этом раздражении», давая ему выход, – он исполняет произведение Бетховена, становясь его прямым соучастником. Поэтому Позднышев завидует ему – сальерианской завистью. Тема музыки и тема ревности объединены не внешне: в безумной ревности Позднышева именно к этому человеку, музыканту, сублимируется зависть бессильного к сильному, Сальери Моцарту. Сальери не меньше Моцарта «чувствует силу гармонии», но воплотить не может, и в том его мука. Мука того, кто слышит «зов», но не в силах ответить. В случаях Сальери и Позднышева стремление уничтожить – уничтожить произведение или его творца – извращенная форма эстетической реакции, не находящей выхода в сотворчестве.
Музыкант – исполнитель, интерпретатор создания композитора, сам, в своем исполнительстве, творец. Не все искусства рассчитаны на исполнение, но к действенному отклику зовут все. Вопреки мнению о полном бескорыстии эстетического переживания, элемент «корысти» в нем есть: эстетический предмет возбуждает желание его присвоить (не в прямом смысле, хотя часто и в прямом тоже), сделать своим достоянием, довести ощущение причастности до соавторства. Детское восприятие, вероятно, могло бы дать интересный материал для изучения ранних эстетических реакций. У восприимчивых детей жажда присвоения полюбившегося произведения проявляется открыто. Ребенок пересказывает известную сказку и утверждает, что сам ее сочинил. Он не лжет: сказка ему понравилась, и он признал ее за свою. Марина Цветаева вспоминала, как она в одиннадцатилетнем возрасте по нескольку раз переписывала из хрестоматии в тетрадку стихотворение Пушкина «К морю». Зачем бы переписывать, если всегда под рукой книжка? «Чтобы мое было, чтобы я сама написала».
Есть разные возможности. Стихи можно продекламировать. Картину срисовать. Прочитанное пересказать «своими словами» (именно своими!). Можно сделать иллюстрацию к прочитанному. В каждом подобном акте проявляется воля к присвоению чужого творчества и одновременно к присоединению, привнесению себя, своего понимания и чувства. Здесь лежат истоки всевозможных интерпретаций художественных произведений, начиная с исполнительства и кончая написанием книг о работе художников, писателей, композиторов, режиссеров, актеров.
Благодаря вновь и вновь возобновляющимся интерпретациям художественное произведение вновь и вновь возрождается. «Произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп» (А. Блок). Как отдельные люди, так и целые поколения слышат (или не слышат) исходящий от него зов.
Обратная связь
Совокупность индивидуальных и коллективных интерпретаций не проходит без обратного влияния на интерпретируемое произведение: они образуют ауру, в которой оно отныне живет. Они повышают или понижают его общественное значение, сообщают ему дополнительные обертона, делают его сосудом новых истин. Оно не только отражается в наших сознаниях, но само отражает наши сознания в их смене. И они не только мимолетно отражаются в нем и потом исчезают, но вживаются в ткань художественного произведения, иные так прочно, что становятся от него неотъемлемы. Можно ли сейчас представить себе Дон Кихота Ламанчского, созданного в XVII веке испанцем Сервантесом, не соотнося его с образами, созданными в XIX веке французами Домье и Доре? Эти два художника довоплотили сервантесовского рыцаря, хотя не были причастны к испанской художественной традиции, и возможно, Сервантес представлял своего героя иначе.
Кто первый сказал, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи загадочна? Во всяком случае, не сам художник и не его современники. Вазари подробно описывал эту картину, но о загадочности – ни слова: говорится только об ее удивительном жизнеподобии. Но когда слово было произнесено, оно стало характеристикой Джоконды, ее взора, ее улыбки. Мы смотрим и видим: да, она загадочна. И наше восприятие направляется по этому руслу.
С другой стороны, бывают трактовки «конъюнктурные» или просто произвольные, анекдотические. Они со временем «спадают ветхой чешуей», становясь, однако, на какой-то период фактом биографии произведения. Его жизнь во времени – не равномерное восхождение, а путешествие по пересеченной местности с риском провалиться в болото китча или сорваться в яму забвения, откуда его извлекут не скоро. Не исключено, что эти неприятные приключения оставят на его теле шрамы. Даже в обстановке всенародного культа Пушкина кто-то может вспомнить: а вот Писарев говорил о Пушкине другое. Еще тяжелее отзываются на судьбе классиков штампы школьных программ: «Онегин – тип лишнего человека», «Грибоедовская Москва», «Лев Толстой – зеркало русской революции» и пр.
Мы подчас не отдаем себе отчета, как сильно влияют на наше восприятие все предварительные знания о произведении и его прежних оценках, начиная со знания имени художника, знаменитого или не очень (по-иному смотрелось бы полотно, подписанное Тицианом, если бы под ним была подпись: «Неизвестный мастер венецианской школы»). Все наслоения, образовавшиеся исторически, сказываются на нашей апперцепции. Быть может, этим объясняется нередкое охлаждение, падение интереса к «вчерашнему», то есть к близкому прошлому. Успех «сегодняшнего», только что появившегося, может вызываться его актуальностью, новизной. Когда же сегодняшнее становится вчерашним, актуальность исчезает, новизна блекнет, а «наслоения» еще не успели образоваться. По мере того как они появляются (если появляются, это момент очень важный!), общественный интерес возгорается снова и произведение искусства как бы растет, отдаляясь во времени – своего рода «обратная перспектива».
Так или иначе, художественное произведение живет, «развиваясь в понимающих», на что и обратил внимание Потебня. Научный авторитет Потебни как лингвиста впоследствии заслонил его краткие экскурсы в область эстетики. Все же они были подхвачены в первые десятилетия XX века литературоведами, занимавшимися вопросами психологии творчества. Нужно вспомнить А. Горнфельда, автора большой статьи «О толковании художественного произведения».
«Художественное произведение, – писал Горнфельд, – есть, так сказать, сгусток душевной жизни, настроений, запросов, мысли. Чьей мысли? Разве только автора? Разве только предшествовавших ему и его подготовивших поколений? Конечно нет; конечно, когда художественное произведение дошло до нас, оно уже вобрало в себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас от его появления»4.
Утверждая и аргументируя идею динамической жизни художественного произведения, Горнфельд, однако, выступал против неограниченного произвола интерпретаций. Он полагал, что интерпретаторы, вольно сочиняющие нечто свое по канве чужого произведения, разрушают его как целостный мир, как систему, а с ним следует сообразовываться именно как с целостной системой. Особенно плохо, считал Горнфельд, когда интерпретатор выдает свое личное толкование за общеобязательное или приписывает его самому художнику.
И сама тема статьи этого незаслуженно забытого исследователя, и высказанные в ней здравые мысли не менее актуальны в наши дни. Бурное развитие кино, а затем телевидения с его сериалами, с тенденцией экранизировать все на свете литературные произведения окончательно вывело проблему истолкования из области теоретических умозрений в повседневную практику. И при всех неумолкающих спорах вокруг этой проблемы «вольные» интерпретации множатся.
Но наряду с большой свободой экранных, сценических, критических и графических интерпретаций прогрессировали методы академических исследований, цель которых – понять и изучить явление в строго историческом контексте. Здесь домыслы в принципе отвергаются, если их и не удается избежать вовсе. Здесь любое суждение должно быть обосновано документальными свидетельствами, проверенными фактами, научным (а не вкусовым) анализом. Научный аппарат исследователей поражает своей основательностью: иные труды состоят больше чем наполовину из ссылок на источники и примечаний.
Правда, обнаруживается, что и при всей возможной фактологической точности из той же самой совокупности фактов можно сделать различные, даже противоположные выводы. Факты оказываются эластичной материей. Предварительная установка, приверженность определенной научной традиции и эмоциональные предпочтения властвуют над голыми фактами, да в сущности факты никогда не бывают голыми, их сразу же одевают в тот или иной костюм. Можно сослаться хотя бы на проблему происхождения искусства: все, кто ею занимаются, имеют дело примерно с тем же кругом предметов – наскальные росписи, сосуды, орнаменты, «палеолитические венеры». Но как различны гипотезы относительно их первоначального смысла: магическая, религиозная, трудовая, познавательная, игровая, коммуникативная. И каждая находит, на что опереться. Проблема интерпретации, таким образом, не снимается и при самых объективных методах исследования.
Тем не менее стремление к научной объективности, конечно, ценное завоевание новейшего времени. Там, где сохранились не только безмолвные предметы или их скудные фрагменты, но и достаточное количество письменных источников, есть возможность реконструировать, более или менее приближенно, историческую быль и постараться представить самоощущение исчезнувшей эпохи. Этим занимается герменевтика – учение об адекватном понимании древних текстов.
Меж тем «современное прочтение» памятников прошлого идет своим чередом. У сценических интерпретаций Шекспира заведомо другие задачи, чем у научного шекспироведения. Разумеется, исторический Шекспир не имел отношения ни к фашизму, ни к антифашизму, шекспировский Гамлет не был похож на «рассерженного молодого человека» XX столетия, не носил джинсы и т. п. Все это прекрасно известно постановщикам шекспировской драматургии. Однако они сознательно ставят не того Шекспира, который когда-то был, а того, каким он стал для современных людей. Потому что прошлое, прорастая в будущее, ветвится и дает начало иным побегам.
Сохранение произведений искусства в их первоначальном, неприкосновенном виде стало аксиоматическим требованием только в XIX, а еще больше в XX веке, то есть тогда, когда воцарилась свобода субъективных интерпретаций. Интерпретации совершаются вокруг памятника. Можно как угодно трактовать классика на сцене или в кино, как угодно его иллюстрировать, но сам оригинал, не измененный ни на одну букву, ни на один штрих, со всеми черновиками и предварительными эскизами, если они, по счастью, уцелели, блюдется свято в специальных хранилищах, как эталон в Палате мер и весов. Даже перестройка архитектурных сооружений с целью приспособить их к современным потребностям – чем беззаботно занимались наши предки – теперь в принципе осуждается. Архитектурный памятник бережно реставрируют, возвращая ему первоначальный вид. С икон, картин и фресок опытные реставраторы удаляют позднейшие записи, а покушение на дописывание утраченных частей оценивается как вопиющее бескультурье.
Бережное сохранение оригинала «во плоти» и свободная интерпретация его «духа» – вот два лика современного отношения к искусству прошлого. Некой общей для них подразумеваемой формулой, по-видимому, является -
Неизменная форма и текучее содержание
Вещественная сторона поэзии остается неизменной, идеальная, наоборот, осуждена на вечное изменение и в пространстве и во времени,
Ин. АнненскийЧто сберегает архивариус, реставратор, музейный работник – подлинные хранители культуры? Они сберегают «вещественную сторону» памятников искусства, то есть сами памятники в их форме, созданной раз и навсегда, остающейся и поныне такой же, какой вышла из рук художника (не считая, конечно, повреждений, нанесенных временем). Но она, эта неизменная форма, становится возбудителем новых переживаний, новых мыслей, носителем нового содержания. Неподвижная, кристаллизовавшаяся форма художественного произведения, коль скоро ее кто-то воспринимает, излучает подвижные смысловые волны. Содержание не заперто в форме, как в глухой клетке, оно развивается, оно-то и является динамическим началом, «вечно создающимся», вечно обновляющимся, хотя вызываемым к жизни все той же формой.
На это возразят: но ведь при активной интерпретации (постановке на сцене, иллюстрировании и пр.) изменяется и форма, вернее, создается уже другая форма. Это так. Но импульс к созданию другой формы исходит не от чего иного, как от формы первоначальной, – ведь только она реально дана восприятию, только ею создание художника «говорит» и посылает сигналы новым поколениям.
Потебня говорил о «силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание». Что он разумел под внутренней формой и чем она отличается от внешней? Эти термины ученый вводил по аналогии с языком. В слове он различал «внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание»5. Усматривая «те же стихии» и в произведении искусства, он приводил такой простейший пример: «Это – мраморная статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма), представляющая правосудие (содержание)»6.
Разберемся в этой модели. Идея правосудия была в замысле художника, и в соответствии с ней он строил внутреннюю форму. Но для зрителя реально существует не Правосудие, а фигура женщины с весами. Допустим, зрителю неизвестно, что меч и весы – атрибуты правосудия. Тогда, глядя на статую, он будет вкладывать в нее, по собственному разумению, какой-то иной смысл. Или пусть даже он знает, что перед ним аллегория правосудия, но это для него несущественно, его интересуют другие смысловые аспекты, читаемые им в позе статуи, ее лице и пр. Меч и весы – здесь то же, что забытая или пренебрегаемая этимология слова, первоначально выражаемое ими содержание для зрителя утратилось, но они же, вместе с женской фигурой, вызывают у него иные ассоциации и, следовательно, продуцируют иное содержание.
Полной аналогии со словом здесь нет. Этимологическое значение слова забывается и со временем совсем перестает осознаваться. В искусстве же «внутренняя форма» всегда налицо, независимо оттого, насколько актуально или стерто первоначально связанное с ней содержание. В искусстве «внутренняя форма» означает попросту все то, что открыто непосредственному восприятию, – все, кроме смысла или содержания (интеллектуального, эмоционального, эстетического, нравственного). Последнее выводится из всей совокупности воспринятого, но само по себе не обладает самоочевидностью. Оно не закреплено жестко во внутренней форме, а прочитывается в ней, как незримый подтекст.
Применительно к искусству под «внутренней формой» можно понимать художественно организованную форму, включая сюда и «внешнюю форму», то есть материал (мрамор, краски, звуки), которая связана с внутренней, а через нее с содержанием гораздо теснее, чем фонетика слова с его этимологией и значением. Приведенный Потебней пример аллегорической статуи вообще слишком упрощает дело, так как значение, зависящее от атрибутов (меч и весы), не тождественно содержанию. Обратимся к другому примеру широко известная статуя Родена «Бронзовый век». Она представляет обнаженную мужскую фигуру в состоянии колеблющегося равновесия: одна рука приподнята, другая закинута за голову, повернутую к плечу, колени слегка подгибаются. Название подсказывает: это образ первобытного человечества, медленно восстающего от полусна к деятельной жизни. Но сначала название было другое – «Побежденный». Раненый человек опирался левой приподнятой рукой на копье. Роден удалил копье, больше ничего не изменив. То есть он удалил подсказывающий атрибут и тем открыл путь к разному пониманию созданной им формы, продемонстрировал ее гибкость, способность внушать различные и даже противоположные представления: ведь побежденный должен вот-вот упасть, тогда как человек бронзового века, напротив, преодолевает инертность и распрямляется. Движение фигуры может быть истолковано как по восходящей, так и по нисходящей траектории, что отчасти предопределяет «оптимизм» или «пессимизм» идеального содержания статуи, но не исчерпывает возможных ассоциаций. Если бы Роден не дал своей статуе никакого названия, диапазон ее допустимых истолкований был бы еще шире. В ней могли видеть, например, воскресающего Лазаря или человека, приговоренного к смерти. Можно усмотреть в ней символ зарождения мысли: один из героев Моэма вспоминает эту скульптуру при чтении Спинозы. Какое толкование избрать или предпочесть – зависит от душевного опыта и склонностей воспринимающего, да и просто от запаса познаний. Ассоциация с сочинениями Спинозы могла возникнуть только у того, кто читал их; с воскрешением Лазаря – только у того, кто знает евангельский текст; с бронзовым веком – у того, кто знаком с периодизацией истории человечества, и т. д. Так или иначе, все эти толкования оправдываются данной пластической формой; она их, во всяком случае, допускает.
Но она допускает не любые толкования. Если бы кто-нибудь сказал, что статуя Родена изображает, положим, проповедника, – против такого понимания форма решительно восстает (ср. с другой статуей Родена, «Иоанн Креститель», действительно изображающей проповедника). В «Бронзовом веке» виден мотив перехода от одного состояния к другому, конфликт неустойчивого положения ног и выпрямленного торса. При всех возможных разночтениях правомерны, очевидно, лишь те толкования, которые исходят из этой конфликтности позы, ибо она открыта восприятию, и тут можно только сказать: имеющий глаза да увидит.
Форма оставляет достаточно широкое, но не беспредельное поле для интерпретаций. Она задает им направление. По нему можно двигаться далеко, но именно по этому направлению: тогда трансформации содержания будут подобны естественному прорастанию зерна. И они будут бесплодны, если идут мимо изначально данной формы, не считаясь с нею. Объективное (по возможности объективное) рассмотрение формы художественного произведения до некоторой степени уясняет диапазон его «законных» интерпретаций и позволяет отсеять те, которые основаны на слепоте, непонимании, предубеждении.
Примерно такую задачу ставил выдающийся психолог Выготский в труде «Психология искусства». Он применил метод, названный им объективно-аналитическим, – раскрытие «анатомии» художественного произведения, – при котором можно индуцировать эстетическую реакцию «в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике. <…> Анализируя структуру раздражителей, мы воссоздаем структуру реакции…»7.
Однако на этом пути встают большие трудности. Их не удалось преодолеть и Выготскому; как ни блестящи его анализы, они все же в конечном счете не достигают желанной объективности. «Разночтения» все равно неизбежны – и не только в индивидуальной психике, но и в коллективной, исторически изменяющейся. В какой мере вообще возможен объективный анализ формы? Речь ведь идет не просто о форме, которой обладает любой предмет, а о форме художественной, эстетически организованной; эстетические же свойства – будь то гармония, целостность, экспрессия – не обладают такой же чувственной самоочевидностью, как «прямоугольное», «круглое», «красное»; представления о них, в свою очередь, относительны.
Во многих случаях совсем не просто определить: вот эта интерпретация художественного произведения правомерна, а та произвольна. Способность художественного произведения впитывать меняющиеся идеи, чувства, вкусы превращает его в довольно причудливую амальгаму смыслов. Маленькая новелла-притча на этот счет есть у В. Вересаева, приведу ее целиком:
«Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:
– Вот перед окнами вашего кабинета – церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. “Какая замечательная церковь! Подлинно русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!
Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!.. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исходил, благословляя…Это нужно зарисовать”. Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа. Зашел потом другой художник. “Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие русского народа ко всем небесным делам! В готике, – какой там могучий порыв к небу, все устремление – высоко вверх, к Богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и то-оненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!” Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.
Третий художник пришел. “Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!”
Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И – ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление его глазами»8.
В этом шутливом рассказе, затрагивающем нешуточную проблему, три художника выступают как активные интерпретаторы одного и того же произведения архитектуры. Каждый, рассуждая о нем, а потом рисуя, внес что-то от себя. «Что-то», но не «всё», как говорит Вересаев. Нельзя утверждать, что кто-то из них решительно неправ, слеп по отношению к предмету. Их суждения (видения), если применять термины логики, являются не контрарными (то есть такими, которые не могут быть истинными оба), а лишь разделительными. В сущности, «долготерпение и смирение» не исключают озабоченности земными делами, которая не исключает христианскую веру и уж подавно не исключает ни того, ни другого «игра фиолетовых тонов». Никто из художников не идет мимо предмета, мимо данной формы, они только по-разному расставляют акценты, различаются их апперцепции; у христианина, атеиста и эстета они и не могут быть одинаковыми.
Но как же проверить, чья интерпретация наиболее адекватна самому предмету? Очевидно, объективным, чуждым предвзятости созерцанием предмета. В рассказе эту функцию выполняет беспристрастный фотоглаз. И вот оказывается, «ничего нет» – ничего, что виделось художникам. Осталась форма пустотелая, неодушевленная. Примерно так видит ее боковым зрением равнодушный прохожий, проходящий мимо этой церкви по своим делам.
Отсюда, однако, следует не тот вывод, который делает Вересаев, – что в объекте кактаковом действительно «ничего нет», а художники «все внесли от себя». Если бы в объекте «ничего не было», он бы их и не привлек. Вывод нужно сделать другой: значит, объективное созерцание, которое, как мы предположили, одно может дать точку опоры, еще не означает созерцания пассивного, незаинтересованного. Незаинтересованный прохожий не может быть объективным судьей в споре художников, ибо только в силу их заинтересованности произведение зодчества с ними говорит. Кто у него ничего не спрашивает, тому оно ничего не ответит, оставаясь, в эстетическом отношении, «вещью в себе».
Таким образом, ситуация парадоксальная. С одной стороны – мы хотим иметь критерий для большей или меньшей оправданности толкований. Для этого нужен объективный подход. С другой стороны – чтобы судить, надо быть эстетически заинтересованным самому, а где заинтересованность, там и пристрастность, там нет и не может быть полной объективности. Видимо, это противоречие неустранимо, поскольку им и живет во времени произведение искусства. Никакие точные измерения, никакие математические методы здесь несостоятельны; природа искусства диалогична, она подразумевает множественность и неодинаковость откликов.
И все же: продуктивный диалог возможен только с тем собеседником, который слышит обращенную к нему речь, а не с тем, кто, не умея или не желая вслушиваться, твердит свое. Если невозможна полная объективность в истолковании художественного произведения, то тем менее уместен релятивизм.
Когда-то, во времена «вульгарной социологии», на наших экранах шел фильм, поставленный по «Капитанской дочке». Своеобразие этой интерпретации пушкинской повести состояло в том, что положительным персонажем кроме Пугачева был Швабрин. Логика постановщика, основанная на догмате «классовой борьбы», понятна: четкая расстановка сил – на одном полюсе вождь крестьянского восстания и его сторонники, на другом – классовые враги. Швабрин решился порвать со своим классом и перейти на сторону народа: это делает ему честь и возвышает над жалким дворянским недорослем Гриневым. Взятую извне социологическую схему создатели фильма наложили на произведение Пушкина, вовсе не считаясь с его «внутренней формой», не смущаясь тем, что у Пушкина нельзя найти ни одного штриха, ни одной фразы в пользу такой трактовки.
Подобные волюнтаристские интерпретации (вернее, компрометации) классиков – а их было много, особенно пострадали от них пьесы Чехова – не лишены исторического интереса. Они позволяют судить о субъекте, то есть о том состоянии общественной мысли, которое сделало такие интерпретации возможными. Фильм с «положительным» Швабриным – своего рода лакмусовая бумажка для метода вульгарной социологии или классового подхода к искусству. Становится ясно, насколько метод беспомощен, если вынуждает интерпретатора стать слепым и глухим к художественной форме. Но этот метод имел место и имел распространение, из истории общественной мысли его вычеркнуть нельзя.
Вот другой пример интерпретации «Капитанской дочки» – у Марины Цветаевой. Уже при первом чтении, в отрочестве, ее заворожил Пугачев – таинственный чернобородый «вожатый», и пугающий и влекущий, который, откуда ни возьмись, появляется из метельной мглы. И его странное отношение к Петруше Гриневу. Ни сам Гринев, ни его Маша, ни все связанное с семейством капитана Миронова Цветаеву – она в том признается – не занимало, да и Пугачев пленял ее не как исторический деятель, а как некий романтический дух вьюги и мятежа. Цветаева не думает скрывать своей пристрастности: она называет собрание своих эссе «Мой (выделено мной. – Н.Д.) Пушкин». В ее трактовке «Капитанской дочки» столько же Цветаевой, сколько Пушкина, и даже больше Цветаевой, чем Пушкина, это ее собственное, личное. И при всем том ее субъективный подход ценнее иных «объективных» анализов: он и в Пушкине раскрывает новые глубины. Подходя к тексту «Капитанской дочки» избирательно, Марина Цветаева в близких, облюбованных ею мотивах замечает такие нюансы, которые там действительно заложены и ждут родственного отклика. Пушкин умел смотреть на предмет с разных точек зрения. Цветаева выбрала одну – но также пушкинскую: «Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья…» Она любила песнь Вальсингама, но не песню Мери; Пугачева, но не Гринева. Запас собственного «горючего материала» у нее был велик, постоянно готов воспламениться, потому и отношение ее к многогранному образному универсуму Пушкина не могло не быть избирательным, как и вообще к искусству. Что-то для нее как бы не существовало совсем, а что-то становилось органической частью ее страстной и пристрастной натуры, срасталось с нею.
Можно представить себе столь же избирательную, но противоположно ориентированную трактовку повести Пушкина (и вполне оправданную текстом), где на первый план выступит трагическая и трогательная участь семьи капитана Миронова и наибольшим обаянием будет обладать юный Гринев с его естественной человечностью. Можно, кажется, ожидать именно таких интерпретаций классиков при том умонастроении, какое охватывает все более широкие круги наших современников при повороте к общечеловеческим ценностям и забытым религиозным заповедям. Предаваемый анафеме на протяжении семидесяти лет «абстрактный гуманизм» способен многое заново высветить в искусстве прошлого и заменить окостеневшее, формально-почтительное отношение к русской классике на живое. Дать ей новую жизнь.
Разумеется, и тут не исключены «волевые» интерпретации, подобные вульгарно-социологическим, только с другим знаком – скажем, вульгарно-патриотические или вульгарно-благочестивые. «Волевым» интерпретациям всегда сопутствуют нечувствительность, невосприимчивость к художественной форме интерпретируемого произведения. Только она, во всем богатстве ее оттенков и деталей, предуказывает плодотворную эволюцию содержания. Даже такую, которая «могла вовсе не входить в расчеты художника».
Художник – человек своего времени: он не может предвидеть, в каком историческом контексте предстоит жить его произведению. Но он закладывает в его структуру органы, способные к саморазвитию, к излучению новых смыслов. Невозможно, чтобы «Божественная комедия» Данте воспринималась и понималась одинаково людьми XIV, XVI, XIX и XX веков. Однако все исходили из ее образной структуры и в ней черпали близкое себе. Последнее же слово о великой поэме, к счастью, никем не сказано – оно стало бы для нее надгробным словом. Толковать художественное произведение не значит истолковать до конца, до дна; оно этому противится. В процессе своей исторической жизни оно то «отводит» от себя, когда начинает казаться, что все в нем уже понято, то вновь к себе возвращает, когда оказывается, что там «все иначе» и нужно заново вчитываться, вслушиваться, вглядываться, углубляясь в его поэтическую ткань.
II
Далеко не всем произведениям искусства выпадает счастливая доля – жить в веках и изменяться, как свойственно живому организму. Хотя эта потенция заложена в природе искусства, полностью она реализуется в сравнительно немногих его созданиях. Другие не обязательно обречены на забвение: они тоже сохраняются в исторической памяти, но остаются прочно прикрепленными к своему времени, и интерес к ним последующих поколений – преимущественно ретроспективный, не побуждающий к обновленному пониманию и соучастию. Они более интересны для познания их эпохи, чем сами по себе. Тогда как для «классических» произведений – обратное: изучают эпоху, чтобы лучше понять их.
И вот возникает неизбежный «детский» вопрос (а на детские вопросы труднее всего ответить): чем же вызвана долговечность именно этих, а не других созданий? В чем тайна их магнетизма? Что, какие качества, имманентно присущие произведению, делают его «открытой системой» – открытой навстречу многообразным толкованиям? Чем обусловлена неисчерпаемость содержания таких произведений?
Может быть, условием «открытости» является масштабность и общечеловечность коллизий и типов? В самом понятии «общечеловечность» разве не содержится указание на способность будить отклик у всех, вживаться в иные времена, иные нравы? При этом мы уже по определению должны допустить, что «вечные», «всеобщие» типы и коллизии не слишком крепко привязаны к определенному месту и времени, не детерминированы локальной средой, национальной спецификой, конкретными условиями. Таковы на самом деле образы Шекспира. Его герои действуют в более или менее приблизительной исторической обстановке. Властолюбие короля Лира, любовь Ромео и Джульетты, нравственное падение Макбета, сомнения Гамлета – извечные матрицы человеческого существа, они воспроизводятся на всех уровнях бытия.
Но как быть хотя бы с маленьким чиновником николаевской эпохи, чьи горести, связанные с украденной шинелью, могут быть понятны только в соотнесении со службой в департаменте, с иерархией чинов в России, с петербургским колоритом и пр.? Или как быть с Чеховым, чьи рассказы и пьесы погружены в очень конкретный локальный быт? А ведь произведения Чехова интерпретируются с нарастающей энергией, в том числе в странах, не имеющих и не имевших никакой связи с русским бытом, например в Японии. Значит, и такие произведения могут обладать громадным запасом прочности и являть собой «открытую систему». С другой стороны, установка на эпическую масштабность и все-человечность еще вовсе не обеспечивает произведению долгую жизнь: было множество «эпических поэм», мистерий, загробных странствий, подобных дантовскому, не переживших своих авторов.
Проще всего, конечно, сказать: неисчерпаемое содержание несут великие произведения искусства. Но это будет объяснение одного неизвестного через другое неизвестное: критерий «величия» столь же загадочен. Получается замкнутый круг: произведение искусства долговечно, потому что оно – художественный шедевр, а шедевром оно является потому, что оно долговечно.
Вопрос об «открытой системе» остается, таким образом, открытым. Вероятно, разумнее всего было бы так его и оставить – как неразрешимый, а потому праздный. Но велик соблазн задаваться детскими вопросами; вреда от этого, во всяком случае, нет. Так полагал и А.П. Чехов. В одном из писем к Суворину, упоминая о критической статье Мережковского, Чехов писал: «Для тех, кого томит научный метод, кому Бог дал редкий талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход – философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо составляет conditio sine qua non всякого произведения, претендующего на бессмертие»9.
Чехов, сам не склонный к теоретизированию, обронил это искусительное замечание походя и больше к нему не возвращался. Однако он ничего не говорил попусту. Он действительно считал, что у бессмертных произведений «общего очень много». Но что же может быть общего между бессмертными творениями разных эпох, разных народов и разных видов искусства?
Жизненный материал, тематику, стилистику, мировоззрение, «технику», политические и прочие убеждения авторов приходится сразу же исключить. По этим параметрам обнаруживается много общего у великих художников с их менее великими и вовсе не великими современниками и соотечественниками (на чем, собственно, основываются и социологические, и формальные периодизации истории искусства). Но сходство с другими великими – через бездны времени и пространства – не зависит от материала, миросозерцания и стиля: оно где-то вне и поверх этих категорий.
Полисемия
Если мы признаем, что величие художественного произведения и его неиссякаемая жизненность (бессмертие) взаимообусловлены, если согласимся, что жизненность предполагает развитие и изменение, то наиболее очевидным ее условием будет потенциальная многосмысленность, заложенная в форме. Ведь развития не могло бы быть, если бы образы искусства обладали недвусмысленностью таблицы умножения и не содержали в себе неких антиномий, создающих предпосылки для множественности эстетических реакций. Назовем это полисемией или полифонией образной структуры. Можно обнаружить ее на разных уровнях: характеров, ситуаций, эмоций, пластики.
Мы не можем, следуя совету Чехова, «собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века», но для проверки гипотезы вспомним некоторые общепризнанные шедевры.
Многозвучность, многоголосие отличает «Божественную комедию» – О. Мандельштам недаром сравнивал ее с органом, построенным задолго до Баха. Те различные источники света, которые в течение последующих веков направлялись на великую поэму Данте, высвечивая в ней то одни, то другие стороны, уже заготовлены, как потенция, в ее структуре. Герои отражаются во многих зеркалах. Обитатели трех царств рассказывают сами о себе, а также друг о друге, кроме того, о них говорит автор, который, в свою очередь, раздваивается на собственно автора и героя-путешественника. Первый, распределяя персонажей по трем царствам и двадцати семи кругам, выражает тем оценку их грехов и заслуг. Второй выражает непосредственные реакции свидетеля, обнаруживает симпатии и антипатии, далеко не всегда совпадающие с приговором первого. Есть еще Вергилий, комментирующий увиденное и часто поправляющий Данте, но и Вергилий не может быть носителем окончательной истины, так как доступ в божественные сферы ему закрыт. Он открыт для Беатриче, олицетворяющей высшую мудрость и справедливость, однако она же – земная возлюбленная поэта, и сквозь небесную ее сущность просвечивает земная женщина, осыпающая ревнивыми упреками неверного друга.
Различного рода интеллектуальные и аффективные противоречия переполняют поэму Данте. Из исповедей казнимых и кающихся душ видно, что их загробная участь не вытекает однолинейно из их прижизненных деяний и неоднозначно ими переживается. Неукротимость духа гордецов и еретиков создает нечто вроде иммунитета к боли; Франческа и Паоло не отрекаются от своей любви; Брунетто Латини и в Аду сохраняет достоинство; Улисс и Диомед величаво плавают в своем «двурогом огне», горящем «прямым и ровным светом», – он для них больше факел славы, чем орудие пытки. Сам Ад, как гласит надпись на его вратах, создан не только высшим могуществом и знанием, но и высшей любовью.
Будь Данте поэтом меньшего масштаба, он бы, наверно, постарался устранить или по меньшей мере сгладить противоречия. Он бы сделал так, что все казнимые в Аду вызывали бы только законное отвращение и ничего больше; он не стал бы обрекать адским мукам тех, кого чтил, он принял бы чью-то сторону и последовательно ее держался, и т. д. Так и поступали авторы других «видений» – жанра, распространенного в Средние века. Но только полифоническая «Комедия» стала произведением для всех времен.
Что общего между средневековым визионером Данте и трезвым «бытописателем» новейшего времени Чеховым? Ничего на первый взгляд и много при взгляде внимательном. И прежде всего многомерность образных построений: «двойное освещение», антиномичность коллизий, диалектика характеров, запрограммированная возможность различных оценок. Как и Данте, Чехов не говорит только от себя или только с позиции «положительного» героя: он дает сполна высказаться антагонистам. Диалоги и монологи действующих лиц подобны исповедям душ у Данте. Осуждены они или оправданы – автор показывает их изнутри, ставит себя на место каждого, «говорит, думает и чувствует в их духе». Характеры и ситуации многоплановы – «открытая система». Эмоциональная оценка не навязывается читателю принудительно, она колеблется между сочувствием и осуждением, иронией и лиризмом, нежностью и насмешкой. Чеховская Душечка достойна и смеха, и любви, как и героиня «Вишневого сада»; герой «Дуэли» Лаевский и жалок, и способен к высоким душевным движениям. Противоречивые и разнообразные черты выступают как грани единого образа, который остается разомкнутым, допуская различные догадки, призывая к различным толкованиям.
Под этим углом зрения обнаруживаются и некоторые параллели судеб дантовских и чеховских персонажей. У Данте мудрый и праведный Вергилий обречен скорби, ибо не знал истинного Бога. У Чехова в «Скучной истории» конец жизни умного и достойного профессора омрачен отсутствием высшей «общей идеи», «Бога живого человека». В обоих случаях – вина без вины: ведь оба героя, по условиям своего существования, и не могли обрести того, чего им так мучительно недостает. Но оба несут возмездие и оба лишь до известного предела могут быть спутниками другой души, нуждающейся в руководительстве. Вот извечная загадка, извечная антиномия.
Рассказ Чехова «Гусев» уже самой своей структурой вызывает ассоциации с «Божественной комедией». Здесь дано сопоставление низа и верха. Низ, подобный аду, – душный пароходный лазарет и сам пароход, «носатое чудовище», которое, «если бы у океана были свои люди… давило бы их, не разбирая святых и грешных». Еще ниже – глубь океана, где шныряют рыбы-лоцманы и акулы, куда поочередно бросают тела и солдата-картежника, и скучного правдолюбца Павла Ивановича, и Гусева. Верх – бесконечное небо над океаном. В то время как тело Гусева рвут хищные рыбы, в вышине развертывается необычайная, прекрасная симфония цвета и океан «сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные…». От красоты неба участь больных солдат в трюме не становится лучше, также как обитателям Дантова Ада не легче оттого, что существует Рай. Но есть между ними какая-то рассудку неподвластная таинственная связь. Зрелище дивной космической выси, торжественная кода рассказа, создает особый музыкальный настрой, катарсис, родственный первой песни «Чистилища», – когда Вергилий и Данте выходят из подземного дупла, проделанного Люцифером, на вольный воздух и видят над собой небо, полное звезд, «отрадный свет восточного сапфира».
В образной полифонии сходствуют антиподы – Толстой и Шекспир. Толстой считал недостатком «Гамлета» непоследовательность поведения героя и заключал отсюда, что у него попросту нет никакого характера. Между тем сам Толстой сказал однажды: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором ясно высказать текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо»10. Разве не происходят неожиданные метаморфозы с героями «Войны и мира» – князем Андреем, Пьером, Наташей? Пьер Безухов, каким мы видим его в начале и в конце романа, также не равен самому себе, как Гамлет. Средствами своей поэтики, иной, чем у Шекспира, Толстой создавал впечатление естественности этих метаморфоз. Реалистическое повествование Толстого показывает постепенное развертывание событий и характеров; в трагедии Шекспира действие уплотнено, спрессовано – неизвестно, продолжалось ли оно день, месяц, год (во времена Шекспира действие шло без антрактов). Постепенное сводится к мгновенному, уже это исключает обстоятельную мотивировку поведения героя: почему он то намерен мстить за отца, то колеблется, то любит Офелию, то дразнит ее и пр. К тому же стихотворная речь, декламация, «сцена на сцене», вторжение шутовской, бурлескной стихии, перебивка действия посторонними эпизодами, сцены безумия Гамлета, то ли настоящего, то ли притворного, нагромождение трупов в конце – эта барочная стилистика раздражала Толстого: она противоположна его собственной. Но при всем несходстве стилистики и «Гамлет», и «Война и мир» оставляют ощущение, «что мы пережили тысячи человеческих жизней» (по выражению Л. Выготского). Не потому, что описаны многие лица и многие события, но потому, что жизнь предстает в своих превращениях, в своей текучести и многосмысленности, в полном наборе противоречий и противочув-ствований. Как у Шекспира, так и у Толстого.
Полисемия не предполагает непременной сложности построения. «Божественная комедия» – произведение сложное, местами темное; сочинения Чехова внешне прозрачны, просты. «Страшный суд» Микеланджело в грандиозной композиции воплощает сложную и необычную концепцию мироздания; «Джоконда» Леонардо да Винчи – всего лишь портрет женщины, спокойно сидящей, не выражающей каких-ли-бо страстей и не особенно красивой. Однако ни один портрет в мире не создавал вокруг себя такую ауру, как таинственная луврская дама. Своей «внутренней формой» Джоконда источает бесконечные смысловые флюиды. В этой женщине есть и мужское начало, как бы некая андрогинность. Она молода, но обладает умудренностью не только зрелого, но какого-то древнего существа, поэтому она вне возраста или совмещает разные возрастные состояния. Она улыбается, но улыбка, едва трогающая уголки губ, при несмеющихся глазах, не выражает определенно ни приветливости, ни насмешливости, ни ласки: как тени облаков на ее спокойном лице проплывают тени многих затаенных чувств. Благодаря тончайшей светотени выражение кажется меняющимся на глазах зрителя, и эти изменения впечатлительный зритель относит на свой счет: ему начинает казаться, что Джоконда наблюдает за ним. Она сидит в кресле, безмятежно сложив холеные руки, одета и причесана как положено даме, с вдовьей траурной вуалью на волосах, но за ее спиной вместо дамского будуара расстилается пустынный ландшафт со скалами и ручьями, лишенный признаков человеческого обитания. И с этой безлюдной планеты Джоконда вот уже около пяти веков созерцает протекающую перед ее взором историю людей.
Наше восприятие портрета незаметно переходит в фантазирование. Леонардо, по всей вероятности, не думал изображать безлюдную планету, равно как не собирался сделать портретируемую даму свидетельницей веков – все это домыслы. Но и всякая интерпретация есть домысел – до-мысливание. Пейзажный фон «Джоконды» тем легче вызовет у современного зрителя ассоциации с опустевшим миром, что сам современный зритель живет в атмосфере тревог за участь мира, грозящей тотальной гибели жизни. Джоконда может вообразиться чем-то вроде «мировой души», оставшейся одинокой и вобравшей в себя «все жизни» – как в пьесе Константина Треплева. Да, это домысел, как и все медитации, связанные с «Джокондой»: они и не претендуют на то, чтобы уяснить изначальный замысел художника. Каким он был, мы не знаем, не знаем даже, с кого был написан портрет. Но что в нем несомненно есть, дано в его художественной форме – это антиномии, о которых сказано выше. Они и создают открытость образа навстречу его досозданию.
Едва ли меньше «домыслов» вызывали полотна Рембрандта. Самая большая и самая притягательная тайна этого великого мастера – в стирании границ между низменным и возвышенным, тривиальным и прекрасным, натуральным и волшебным, в конечном счете между человеческим и божественным. Он пишет своих персонажей так, что обе стороны антитезы выступают наглядно: перед нами бедняки из амстердамского гетто – и они же герои библейского эпоса, апостолы Христа или полубоги античной мифологии. Это не значит, что Рембрандт просто переодевает своих сограждан в экзотические одеяния (как делали многие художники) или, напротив, низводит мадонну до нидерландской крестьянки. По верному определению болгарского искусствоведа Богомила Райнова, «все они в буквальном смысле не герои легенды и не люди будней, ни то и ни другое, а в то же время и то и другое…»11. Винсент Ван Гог находил в персонажах Рембрандта «сверхчеловеческую бесконечность, кажущуюся тем не менее такой естественной»12.
Рембрандт написал десятки автопортретов; на каждом он узнаваем и на каждом другой. Он показал многоликость одного и того же человеческого существа. То он предстает беспечным кутилой, то солидным бюргером, то одержимым гамлетовской рефлексией. Он бывает и простоватым и мудрым, и непричесанным и элегантным, и любящим и холодным. Самый поразительный автопортрет – поздний, тот, что хранится в музее Кёльна. Здесь художник написал себя очень старым, морщинистым, сгорбленным, с запавшими, но все еще зоркими глазами, с кистью в руках – и смеющимся. Что значит этот смех старца, «беззубый смех старого льва Рембрандта» (по выражению Ван Гога), не менее таинственный, чем улыбка Моны Лизы? Об этом гадали и продолжают гадать, разгадке же окончательной он не поддается. Знаменитая рембрандтовская светотень играет важнейшую смыслообразующую роль в его картине. Ее хорошо описал Эжен Фромантен (настолько, насколько такие вещи могут быть описаны словами): «Все обволакивать, все затопить тенью, даже погрузить в нее самый свет с тем, чтобы, извлеченный оттуда, он казался более далеким, более лучистым; окружать волнами тьмы освещенные места картины, нюансировать их, углублять и сгущать, но так, чтобы мрак казался призрачным, а полумрак – воздушным; наконец, придавать самым темным цветам своего рода “проницаемость”, которая мешала бы им стать черными». Особый смысл пучка золотого света, неизвестно откуда исходящего, в том, что он позволяет, как дальше говорит Фромантен, «осветить реальную сцену нереальным светом, то есть придать факту возвышенный характер видения»13 (речь идет о картине «Ночной дозор»).
Так же богаты потенциальным содержанием, непредсказуемым и многозначным, «формальные» особенности произведений великих художников: тающее «сфумато» Леонардо да Винчи, контрапосты фигур Микеланджело, интенсивные цветовые контрасты Ван Гога, шокирующие деформации Пикассо. Только у подражателей они становятся внутренне опустошенными приемами, не выражающими ничего, кроме примет той или иной «школы». (Вот почему нужно с большой осторожностью давать качественные оценки школам, направлениям, течениям. Внутри каждого течения много званых и мало избранных.)
Можно ли сомневаться в бессмертии творений Пушкина и надо ли доказывать полисемию их образных построений? Многомерность, альтернативность, диалектические антитезы присутствуют в его лирике («Мне грустно и легко – печаль моя светла», «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»), в «Евгении Онегине», где характеры героев многогранны, а судьбы загаданы, в «Капитанской дочке», в маленьких трагедиях. Классический пример – «Медный всадник». Роковой разлад между потребностями личности и велениями истории нигде не показан с такой художественной мощью, как в этой «петербургской поэме». И Пушкин не произносит в ней окончательного суждения, не берет на себя самонадеянного решения того, что не решено жизнью. Поэма, сама словно вылитая из бронзы, в которой нет ни одного лишнего слова и каждое необходимо, является «открытой системой». Одни видели в ней «апофеозу Петра» (Белинский), другие – протест против самодержавия (Мицкевич). Она может дать основания и для того и для другого суждения, но если бы Пушкин унизил одного из антагонистов, померкла бы и историческая истина, и художественное величие поэмы. Она трактована Пушкиным, по точному выражению писателя Андрея Платонова, в «духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам, отношения к Медному всаднику и Евгению»14. Выход (катарсис) – «в существе его поэзии, объединившей в этой своей “петербургской повести” обе ветви, оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души. Разъедините их: получатся одни “конфликты”, получится, что Евгений – либо убожество, либо “демократия”, противостоящая самодержавию, а Петр – либо гений чудотворный, либо истукан. Но ведь в поэме написано все иначе»15.
Далее Платонов заключает: «За его сочинениями – как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу – остается нечто еще большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан. Произведение кончается, и новые, еще большие темы рождаются из него сначала. Это семя, рождающее леса»16.
«Семя, рождающее леса» – это относится к «Медному всаднику» и к поэзии Пушкина в целом, и, по-видимому, вообще к произведениям, «которые зовутся бессмертными», в том числе к лучшим произведениям Андрея Платонова. За великими созданиями всегда «остается нечто еще большее, что пока еще не сказано».
Односторонность, дидактика, претензия на безусловное и окончательное решение «конфликта» ставят заслон вечно ищущему сознанию, закрывают бесконечную смысловую перспективу – жизнь таких произведений недолга.
Та смысловая многоплановость, которую мы находим в великих художественных произведениях, означает и многоплановость эмоциональную – не одно какое-нибудь чувство, а сложный их спектр, включающий и чувства контрастные; их совмещение, наложение способно потрясти душу сильнее и плодотворнее, чем однородная эмоциональная окраска. Л. Выготский в упоминавшемся выше исследовании уделил особое внимание закону эмоциональных антитез. Он считал неверным мнение, что сущность действия искусства – в заражении определенным чувством. «Как безотрадно было бы дело искусства в жизни, – писал Выготский, – если бы оно не имело другой задачи, кроме как заражать чувством одного – многих людей. Его значение и роль были бы при этом чрезвычайно незначительны, потому что в конце концов никакого выхода за пределы единичного чувства, кроме его количественного расширения, мы не имели бы в искусстве <…>. Если бы стихотворение о грусти не имело другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства»17.
Автор приходил к другому выводу: истинное художественное произведение, выдержавшее проверку временем, «заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств и приводит их к короткому замыканию и уничтожению. Это и можно назвать истинным эффектом художественного произведения, и мы при этом подходим совершенно вплотную к тому понятию катарсиса, которое Аристотель положил в основу объяснения трагедии и упоминал неоднократно по поводу других искусств»18. Наилучшим образом иллюстрируется этот вывод анализом новеллы Бунина «Легкое дыхание». Житейская муть печально кончившейся беспутной жизни гимназистки Оли Мещерской контрастирует с ощущением легкого дыхания, весеннего ветра, каким пронизан рассказ об этой жизни.
Выготский справедливо усматривает причинную связь между эмоциональной многоплановостью художественного произведения и его способностью вызывать плодотворную эстетическую реакцию. «Автор считает твердо установленным, что художественное наслаждение не есть чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики. Переживания искусства не воспринимаются душой, как куча зерен – мешком, скорее они требуют такого прорастания, какого требует семя на плодородной почве…»19
Замечательный труд Выготского имеет, однако, и уязвимые стороны. Трудно, если не невозможно, согласиться со следующим его положением: наличие антитез и противочувствий в художественном произведении никак не связано со свойствами жизненного материала и принадлежит исключительно форме, которая призвана преодолеть этот жизненный материал. Л.С. Выготский называет материалом искусства (не разделяя понятий «материал» и «содержание») «все то, что поэт взял как готовое – житейские отношения, истории, случаи, бытовую обстановку, характеры, все то, что существовало до рассказа и может существовать вне и независимо от этого рассказа, если это толково и связно пересказать своими словами. Расположение этого материала по законам художественного построения следует называть в точном смысле этого слова формой этого произведения»20. Анализируя рассказ Бунина, очень тонко показывая, как переплетается в повествовании ощущение ужасного с доминантой «легкого дыхания», исследователь заключает, что первое («житейская муть») идет от материала, который сам по себе беспросветно тягостен, а второе («легкое дыхание») – от формы, и форма, таким образом, преодолевает сопротивляющийся ей материал. Искусственность вывода довольно очевидна. Даже если допустить, что Бунин взял историю гимназистки прямо из жизни, «как готовую» (чего на самом деле не было), то и тогда мы вправе усомниться: неужели в ней не содержалось ничего, кроме сплошной «житейской мути»? Речь идет о юной девушке: почему бы и не быть в ее жизни «весеннему ветру» вместе со всем пошлым и страшным, чем ее жизнь запятнана.
Выготский как бы предполагает, что «натуральный смысл» действительности – событий, поступков, характеров и пр. – определен и однозначен, двойственность и сложность привносятся искусством. Но ведь если бы это было так, то «преодоление» материала художественной формой было бы всего лишь психологической иллюзией. В лучшем случае – возвышающим обманом: почувствовать «прозрачность жизни» там, где в действительности одна муть. Тогда просветляющее действие искусства, о котором говорит и на котором настаивает Выготский в заключительной главе своей книги, так же иллюзорно и обманчиво и сводится лишь к психологической разрядке в момент общения с искусством. И это также было бы грустно для искусства.
Но если столкновение противоположных чувств вытекает из существа жизненных реалий, тогда эффект искусства оказывается не столь эфемерным: он побуждает просматривать жизненные явления в глубину, в их действительной сложности. Не довольствуясь возвышающим обманом – искать истину. Отсюда и потребность соучастия в художественном произведении, его обновленного понимания в свете обновленного опыта.
Строго говоря, никакой художник ничего не берет «как готовое» (за исключением документальных жанров, которые, кстати, совсем не вмещаются в концепцию Выготского). «Материал» расплывается в бесконечности; материал – вся жизнь. А жизнь сложнее искусства, но и гораздо аморфнее. Искусство неизбежно спрямляет ее извилистые ходы, избирательно выделяет некоторые из ее многочисленных потенций, ограничивает визуальную картину мира избранной системой видения – живописной, графической, монохромной и пр. Неупорядоченную стихию жизни оно кристаллизует. Если бы история Оли Мещерской произошла в действительности, она обладала бы смыслом не менее противоречивым, чем в рассказе Бунина, но более сумбурным и запутанным, зависящим от множества привходящих обстоятельств, а также взглядов, оценок, отношений со стороны ее участников и наблюдателей. Противоположные ряды чувств, возбуждаемых новеллой Бунина, есть образ самопротиворечивости самой жизни, но образ емкий и сжатый; неуловимое «броуновское движение» жизненных процессов сконцентрировано в некой кристальной двуединой формуле. Великое искусство формирует жизненный материал с наибольшей энергией сжатия и одновременно с наименьшим его упрощением.
Поэтому оно подчас воспринимается «более живым, чем сама жизнь». Как бы далеко оно ни отстояло от эмпирического жизнеподобия, ему свойственно то, что можно определить как
Эффект реального бытия
Многозначность художественного образа наличествует в истинных долгоживущих произведениях искусства, но не только ею определяется их ценность. Разве мало встречается посредственных произведений, в которых противоречия прямо-таки громоздятся, концы с концами не сходятся, где поступки персонажей немотивированны, высказывания несбалансированны, свойства характера между собою не согласованы, лица не воспринимаются как личности, и их трудно отличить друг от друга. Такого рода «дурная сложность» вызывает лишь реакцию недоверия: знаменитое «не верю!» Станиславского. Чаще всего она является признаком художественной несостоятельности автора. Бывают также произведения, где противоречивость и парадоксальность создаются автором умышленно, не без таланта и остроумия, но и в этих случаях «встреча зонтика и швейной машинки на операционном столе» – любимый символ сюрреалистов – никак не может быть патентом на бессмертие. Больше шансов остаться в области курьезов. Полисемия не граничит с бессмысленностью; хаотическое и аморфное не способно долго жить.
Великие произведения живут долго, потому что на долгую жизнь запрограммировано их эстетическое строение. Эстетически совершенная форма родственна структурам и ритмам природы, ее коренным формообразующим принципам, действующим и в большом, и в малом – от строения атома до строения Солнечной системы, от циркуляции соков в растениях до циркуляции крови в человеческом организме. Чехов в цитированном выше письме говорил: «Кто владеет научным методом, тот чует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным простым законам». Но, добавлял он, «порядок этого сочетания скрыт от нас»21. Скрыт он и от художников, интуитивно постигающих потаенные законы эстетической формы. Их чувствовал Данте, выковывая цепь непрерывно льющихся терцин, угадывая «музыку сфер». Их чувствовал Андрей Рублев в плавных дуговых ритмах «Троицы». Прекрасная художественная форма обладает в себе законченной гармонической структурой, представляя аналог той тенденции, которая присуща самоутверждающейся жизни и противодействует тенденции к распаду, к возвращению в лоно хаоса. Такая форма работает на жизнь независимо от того, изображает ли ее светлые или темные стороны; она внушает безграничное доверие и является залогом того, что запечатленные в ней антитезы и противоречия действительно входят в состав жизни. Само произведение обладает бытийственной убедительностью, выглядит безусловно сущим или, по выражению Тургенева, «несомненным».
В хвалах, воздаваемых художественным шедеврам, неизменно звучал мотив: «Это сама жизнь!» или «Это более правдиво, чем сама жизнь!». Так говорили об античных мраморах, о картинах Рафаэля, о Данте и Шекспире, о Веласкесе и Рембрандте, о Толстом и Достоевском.
Один из исследователей Данте писал о нем: «Он не поет песни ужасов о далеком грядущем Аде, не возносит хвалебного гимна Раю, но в великую пятницу 1300 года, когда ему самому было ровно 35 лет, он очутился у врат, ведущих к умершим, и в течение всей Страстной недели странствовал по царствам мертвых, и что он там видел и переиспытал, он сам передает нам с неподражаемой пластикой и в необычайном возбуждении. Мы можем проверить каждый его шаг и события каждого часа, с его слов были составлены отчетливые планы адских и райских областей; каждое место описывается при помощи самых точных сравнений; вся поэма поражает прямо устрашающей реальностью»22.
Устрашающая реальность. Мощь подлинности. Данте не был ни в Аду ни в Раю, но описано воистину пережитое странствие. Критически анализировать текст, доискиваться до источников – это все уже потом, но первая эстетическая реакция, если она состоялась, совпадает с наивным возгласом веронской женщины: «Он был там!»
Не простодушная горожанка XIV столетия, но утонченный поэт Нового времени Теофиль Готье, подойдя к «Менинам» Веласкеса, воскликнул: «А где же картина?» Суриков, покидая Рим, прощался с веласкесовским портретом Иннокентия X, как с живым человеком. Скажут: ведь это Веласкес – для него законом было «следовать во всем натуре». А как с теми великими мастерами, кто не признавал этого закона? Например, Пикассо?
Как ни странно, подобное же чувство («А где же картина?») овладевает зрителем перед «Герникой». Мистерия гибели, развернутая на грандиозном полотне, производит впечатление доподлинной яви: слышим рыдающее ржанье лошади и вопль матери с мертвым младенцем на руках, ощущаем страшную тесноту подполья, где мечутся и погибают живые существа, видим мелькание зловещих вспышек света… Нет, это не придуманное, это настоящее. Эффект реальности «Герники» со временем еще усиливается – ее смотрят современники атомных катастроф (когда художник писал «Гернику», о них никто не мог догадываться) и видят в ней материализованный образ зла, разлитого в сгустившейся атмосфере XX столетия – зла анонимного, где вина раскладывается на всех. И тут уже ощущению подлинности происходящего не мешают, а интенсифицируют его искаженные квазичеловеческие фигуры с вывернутыми конечностями, безлобыми лицами, разбросанными глазами: может ли быть «нормальным» шоковое видение в момент глобальной катастрофы? Такова «устрашающая реальность» великого произведения Пикассо.
При этом его форма чеканна и, как ни малоуместным кажется здесь это слово, гармонична. Сильно вытянутая в длину, картина построена наподобие триптиха. В центральной части ясно выделен классический треугольник, основание которого – вся нижняя часть картины, а вершина – светильник. Как в классических барельефах, формы, расположенные по обе стороны от центра, между собою рифмуются. Смятение гибели взрывает классическую архитектонику, она не заявляет о себе прямо, но подспудно действует, возводя «Гернику» в сферу монументального, вечного. В «Гернике» слышится не просто вопль отчаяния, но трубный глас трагической музы. И вот исчезает стена, окружающее отходит, «рукотворность» картины перестает замечаться: остается, как нечто само по себе сущее и пребывающее, наяву увиденный Апокалипсис.
Феномен «исчезновения картины» (в литературе – исчезновения строчек, в театре – исчезновения сценических подмостков) – знак высочайшего качества искусства. Юрий Олеша, читатель тонкий и чуткий, рассказывал, как однажды ему попался в руки какой-то роман Шеллера-Михайлова. «Бойко написано, но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки… И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает страница, исчезает комната, и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке… Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же “нивско-го” издания сочинений Достоевского. Страницы были из “Идиота”. <…> Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!»23
Хотя Шеллер-Михайлов, вероятно, не хуже Достоевского знал среду, которую описывал; хотя речь идет не о концепциях и идеях романа Достоевского, а всего о нескольких случайных страницах – «таяние строчек» уже определяет разницу между рядовым и великим.
Силой неотразимой достоверности обладают произведения Чехова. Как бы ни относиться к герою «Скучной истории», как бы ни оценивать его жизнь, поступки, взгляды – одно несомненно: этот человек, писателем вымышленный, подлинно существует, стоит перед нами как живой, мы его видим, слышим и ни с кем не спутаем. Как бы ни судить о Душечке – умиляться, смеяться или возмущаться ею, – она именно такая, как описана в рассказе; кажется, что мы ее встречали, были знакомы с ней. И то же удивительное чувство «узнавания» испытываешь, читая у Чехова, как в холодное весеннее утро узкой багровой полосой занимается заря, как стучат по мостовой копыта верховых лошадей, как пахнет белой акацией и сиренью, как играет музыка в городском саду. Все с такой же отчетливостью сна наяву, как Ярцев (в повести «Три года») видит набег половцев, леса, розовые от пожара, и старика с обожженным лицом, привязывающего к седлу молодую пленницу. Чехов не только «был там» – он «был ими», ими всеми. Даже собакой Каштанкой, даже голодной волчихой, за которой увязался белолобый щенок.
Глубок по философскому смыслу, исполнен аффективных противоречий, великолепно оркестрован роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – и все же: он не имел бы такой покоряющей магнетической силы, не брал читателя в плен так властно, если бы не создавал иллюзию подлинного бытия невероятных событий и лиц, в нем описанных. Читатель действительно воочию видит, как на Патриарших прудах подсаживается к Ивану Бездомному и Берлиозу странный незнакомец и ведет с ними странную беседу; а потом сразу, почти без перехода, видит, как «в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой» идет прокуратор древней Иудеи Понтий Пилат. Галлюцинирующая яркость картин захватывает с первых же страниц, не отпускает до последней страницы: мы не просто читаем – мы присутствуем. Иначе бы не поверили. А не поверив, не стали бы вникать, «расшифровывать», интерпретировать.
Кто интересуется психологией творчества, пытается постичь логику творческого процесса (что редко удается), те знают, что самих художников, по их собственным признаниям, посещают «сны наяву». Образ предстает перед ними в какой-то момент в своей целостности, зримо и слышимо, опережая сочинение, то есть разработку. Это «магический кристалл» Пушкина, это знаменитая «волшебная коробочка» Булгакова. Не говоря уже о Данте, который в «Новой жизни» упоминает о «дивном видении» – источнике «Божественной комедии».
Блок не мог объяснить, почему Христос идет впереди отряда красногвардейцев: по его словам, он увидел его в столбах метели. «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа»24. Чехов косвенно приоткрыл тайну своих внутренних созерцаний, описав «сны». Суриков рассказывал, как ему явился образ стрелецких казней при виде Красной площади – сразу целиком, включая композицию и цвет. Ворона, сидящая на снегу с отставленным в сторону крылом, вызвала в его воображении «Боярыню Морозову».
Вероятно, все большие художники были в той или иной степени визионерами. Рембрандт не оставил никаких высказываний о своей работе, но Ван Гог, как никто глубоко чувствовавший его «метафизическую магик», говорил: «Рембрандт действительно ничего не выдумывал – он просто знал и чувствовал рядом с собой и этого ангела, и этого странного Христа»25.
Рассказы о видениях, озарениях, наитиях, посещающих художников, имели широчайшее хождение в Средние века; появляются они и в новейшие времена, особенно в лоне романтической эстетики. Вакенродер, вольно истолковав одно из писем Рафаэля, создал легенду о явлении Рафаэлю мадонны: художник будто бы увидел ее образ ночью на стене своей комнаты и написал картину, известную под именем Сикстинской мадонны26. Через сто лет молва создала сходную легенду о Врубеле: Демон являлся Врубелю ночью и требовал написать его портрет.
Те, кто не верил в возможность чего-либо подобного, тем не менее признавали, что в произведениях, порождающих легенды, есть особенная убедительность «естества». К. Зольгер писал по поводу Сикстинской мадонны: «…Мне всегда кажется, что не просто степенью, но и самой сутью своей эта живопись отличается от всей остальной <…>. Мне кажется, что другие художники пытались возвысить до божественности человеческие лица, а Рафаэль – черпал из самого источника, и свел на землю божество, чтобы воплотить его в образе человека»27.
Называть ли такие вещи плодом вдохновения или обостренной интуиции – они обладают известной долей независимости от суждений и расчетов автора. Они не сочинены, а явлены. Для зрителя (читателя, слушателя) эстетически восприимчивого они представляются сами по себе сущими, как бы имеющими самостоятельное бытие. В этом качестве они и становятся возбудителями активной психологической деятельности воспринимающих.
Надличное
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
А.К. ТолстойИспокон веков великие произведения воспринимались как нечто такое, что художник не измыслил с начала до конца сам, черпая из ресурсов своей личности, но чему он был передатчиком, что ему дано было увидеть и услышать. «Гений» означал субстанцию, отдельную от человека: она им управляет, внушает ему; человек не сам гений, но одержим гением. Стершееся этимологическое значение слов «дар», «одаренность», «талант» (серебряная монета, которую, по евангельской притче, хозяин дает рабу, чтобы он ее приумножил) начинает просвечивать всякий раз, когда люди выражают наивысшее восхищение произведением искусства. Подразумевается: художник не сам его сотворил, он только записывал открывшееся ему, передавал дарованное ему; собственная заслуга художника не в изобретении, а в сверхвосприимчивости, сверхчуткости.
В древности способность художника «видеть и слышать» понималась как богоявленность и боговдохновенность. То был дар божества и явление божества. Античные авторы, желая воздать хвалу статуе Афродиты, говорили, что это и есть сама Афродита, представшая перед ваятелем, ее точнейший двойник. Благоволение Аполлона и муз, то есть опять-таки вне художника находящихся сил, дарует ему возможность внимать голосу богов, созерцать их воочию. Обращение к Аполлону и прекрасным парнасским сестрам с просьбой о покровительстве долго оставалось поэтической традицией.
В средневеково-христианском представлении об искусстве как хранителе священных подлинников почти совсем элиминируется личность художника, она смиренно растворяется в функции сохранения первообразов, реальность которых не подвергается сомнению. Поэтому иконографические схемы блюдутся на протяжении веков; нарушать их – святотатство.
Возрождение практически отвергало идею божественных «подлинников»: пришел культ мастера как личности. Но и при этих изменившихся воззрениях шедевры искусства почитаются как что-то надличное. Они «сама природа», «сама жизнь», «похищены у жизни». Мадригалы картинам, скульптурам, эпитафии знаменитым художникам сплошь построены на этих настойчиво повторяющихся формулах. Из них можно сделать парадоксальный вывод: творец произведения тем более велик, чем меньше он творит сам и чем больше «похищает у жизни». Только теперь это не прямое откровение божества, а откровение природы, которая сама божественна (Леонардо называет живопись «внучкой природы и родственницей Бога»).
«Сама действительность», «истина самой действительности» – эти понятия в Новейшее время вытеснили «богоявленность». Но и они выражают представление о великом произведении искусства как явлении более объективном и провидческом, чем может создать индивидуум, оставшийся в пределах личного опыта и личного разумения.
Реалистическая русская эстетика XIX века мало интересовалась озарениями и видениями, однако не только не отрицала, а настаивала на том, что художник велик не из себя, не через себя, а через действительность, которую передает. То есть в другой терминологии снова утверждалась посредническая роль художника по отношению к некоему целому, которое неизмеримо больше его, художника, как отдельной личности. На таком постулате основывалась теория «реальной критики», развитая Добролюбовым. Добролюбов рассуждал так: чем выше талант художника, тем полнее схвачена в его произведениях жизнь в ее объективности. Отсюда для критика-социолога открывается возможность, минуя разбор «поэтических красот», судить о художественном произведении как о подлинном явлении жизни. Теоретических же выводов из своих правдивых картин художник не обязан делать: это уже дело критики. «Для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказалась сама собою, а не по заранее придуманной автором программе»28. Так подходил Добролюбов к произведениям Островского, Гончарова, Тургенева.
Русскую демократическую критику много корили за недостаточное внимание к собственно художественной ценности словесного искусства, корили не зря – после Белинского она, собственно, и не ставила перед собой такой задачи. Но надо отдать справедливость – важное значение придавали эти критики искусству, раз почитали его создания за модель живого мира, за носителей его «натурального смысла». Не меньше ли уважения к искусству проявляется, когда его рассматривают исключительно как самовыражение личности художника?
Взгляд на искусство как на самовыражение в наше время достаточно распространен. Афористически выразил его Станислав Лем, сопоставляя по этому признаку науку и искусство. «Можно сказать, что человек в тем большей степени является ученым, чем лучше умеет подавлять в себе человеческие порывы, как бы заставляя говорить своими устами саму природу. Художник же тем более является художником, чем сильнее навязывает нам самого себя, все величие и ничтожность своего неповторимого существования»29.
Более чем спорный тезис. Во-первых, он оттесняет за пределы искусства всю огромную область словесного и изобразительного народного творчества и творчества средневекового, где безымянные авторы никогда не «навязывают себя». Во-вторых, он неверен и в отношении индивидуального творчества: оно тем более велико и значительно, чем больше художник способен подняться над своей эмпирической личностью, всячески ограниченной и условиями существования, и краткостью жизни, и несовершенством своей природы.
Можно ли сомневаться в самовыражении лирического поэта? Конечно нет; однако та личность, которая предстает в поэзии Фета, несводима к личности Афанасия Афанасьевича Шеншина. Лирический герой не тождествен своему создателю. Эмпирическая личность художника, как и всякая человеческая личность, «самовыражается» помимо творчества во всем своем жизненном поведении и во многих отношениях может быть не выше, а то и ниже других. «И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». Парадокс художника, который обыкновенен как личность, но велик, когда его требует к священной жертве Аполлон, был предметом глубочайших медитаций Пушкина. Он заострил его до предела в «Египетских ночах», показав личную ничтожность гениального бродячего импровизатора. Когда итальянец начинает импровизировать, он и не думает навязывать слушателям «самого себя» – он отрешается от себя, «чувствуя приближение Бога».
Естественен интерес к биографиям замечательных художников. Но их «неповторимое существование», как бы детально оно ни было изучено, еще не дает ключа к их творчеству. Последнее всегда шире, полифоничнее; оно возвышается над «любимыми идеями» автора, нередко противореча им, превышает и опыт автора. О жизни и личности Шекспира известно очень мало, о жизни и личности Пушкина – много, но ни скудность биографических сведений, ни их изобилие не отражается на самостоятельной жизни творений этих художников. И обратное: на основании их творчества трудно судить об их «житейской» личности. Если бы мы ничего не знали о Пушкине, кроме его сочинений, то, несмотря на множество лирических высказываний от первого лица, нам бы это едва ли удалось: скорее, представилось бы какое-то несметное множество лиц. Личный мир Пушкина, известный по письмам, документам и воспоминаниям, со всеми его событиями, с отношениями к друзьям, к женщинам, к царю, к текущей политике, с дуэлями, ссорами, увлечениями и т. д., лишь частично соотносим с грандиозным, чуть ли не вселенским миром его поэзии. В искусстве великий художник живет тысячами жизней, реальная жизнь у него, как у всех, только одна. В этой одной жизни художник, как и все, может быть революционером или консерватором, бродягой или домоседом, гулякой или отшельником; характер и образ жизни у каждого свой, и тут найти между ними что-то общее, установить, так сказать, жизненный «тип» большого художника, видимо, невозможно. Общая у них лишь способность «видеть и слышать», таинственная интуиция, позволяющая в искусстве выходить за пределы своего «я». Быть не своим собственным глашатаем, но глаголом «универсума» (в романтической терминологии) или «самой действительности» (в терминах реалистической эстетики).
Те произведения, где эта способность достигает кульминации, отделяются от создателя. Эстетическое чувство откликается на них, как на некую безусловную реальность, «несомненную», как явление природы, возникшую спонтанно, а не сконструированную в угоду личной мысли художника. Она несет в себе не одну, а множество мыслей (иные только в потенции), не одно чувство, а целый спектр чувств. Эта множественность находит синтез в целостном образе, чередование чувств обретает свой исход в эмоциональном аккорде, в котором противоречивые переживания гармонизируются. Гармонией снимается односторонность аффекта, и возникает то «очищение» (катарсис), о котором говорил Аристотель.
Очищение возможно, видимо, тогда, когда художник творит не под гнетом какого-то владеющего им чувства, но высвобождаясь, поднимаясь над ним. Тогда и собственные переживания художника для него объективизируются, он претворяет свою личную субъективность в объект. Это дано не всем. Пушкин изобразил поэта субъективного («самовыражающегося») в Ленском: «Он пел любовь, любви послушный…» О себе же Пушкин говорит иначе: «Но я, любя, был глуп и нем. / Прошла любовь, явилась муза, / И прояснился темный ум. / Свободен, вновь ищу союза / Волшебных звуков, чувств и дум».
Ленский изливает в стихах свой «пыл души». Пушкин предполагает одну из альтернатив его будущей судьбы: пройдет юность, пыл души охладеет и Ленский расстанется с музами. Великому поэту такая участь не грозит: как художник, он не подвластен своим страстям, они для него такой же предмет творческого созерцания, как мир чувств Онегина, Татьяны, скупого рыцаря, Сальери.
Конечно, велика разница между фольклором – до-личным искусством и авторским творчеством, возвысившимся до надличности. В последнем печать индивидуальности неизгладима, но сама эта индивидуальность (не житейская, а творческая) в высокой степени универсальна. В моменты вдохновения ей дано расширяться далеко за пределы своей эмпирики. Значение творческой личности при этом возрастает, и художник сознает свою избранность («Не на простых крылах, на мощных я взлечу…»). Но его гордость умеряется смирением слагателя священных текстов или иконописца, который не мнит себя ни чем иным, как лишь орудием высшей воли («не нам, не нам, но имени Твоему!»).
Вот то общее, что, кажется, можно почувствовать в бессмертных произведениях всех времен. Сверхличностные, они многозвучны – их создатели, отрешаясь от личных пристрастий и предубеждений, вслушиваются в звучания «мирового оркестра», о чем так часто говорил Александр Блок.
Гениальные создания редки. Их свойства не могут быть мерилом ценности всякого вообще искусства. Природа искусства плюралистична, границы его размыты, оно сопряжено со всевозможными видами жизнедеятельности, вплетено в быт и воздействует на души по разнообразным каналам. Это воздействие может быть и кратковременным, и частным, однако люди в нем нуждаются; было бы смешным ригоризмом предъявлять непомерные требования ко всему, что в повседневной жизни именуется искусством. Тем более что и великое не возникает без опоры на малое, являющееся для него питательной почвой. И все же. Когда неисчислимое множество различных «систем видения» самонадеянно предлагает себя ошеломленному зрителю, когда отовсюду, от телевизионного экрана до спичечного коробка, они взывают: и я тоже искусство, и я тоже очень похоже на искусство – наступает некая девальвация художественных ценностей. И в этих условиях, для искусства небезопасных, как противовес им возникает стремление снова и снова обращаться к ценностям настоящим, пытаясь понять тайну их долговечности.
Ссылки
1 Гонкур Э. и Гонкур Ж. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. В 2 т. Т. 1.М., 1964. С. 390–391.
2 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 181.
3 Там же. С. 307.
4 ГорнфельдА Пути творчества. Пг., 1923. С. 116.
5 Потебня АЛ Указ. соч. С. 175.
6Там же. С. 175.
7 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965. С. 34-
8 Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1961.
9 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем.: В 20 т. Т. XIV. М., 1949. С. 217.
10 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 53– М.; Л., 1953– С. 187.
11 Райнов Б. Волшебный фонарь. М., 1986. С. 102.
12 Ван Гог В. Письма. Л.; М., 1966. С. 478.
13 Фромантен Э. Старые мастера. М., 1966. С. 221, 225.
14 Платонов А Размышления читателя. М., 1980. С. 12.
15 Там же С. 14.
16 Там же. С. 19.
17 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 317–318.
13 Там же. С. 278.
19 Там же. С. 265.
20 Там же. С. 191.
21 Чехов А.П. Указ. соч. С. 216.
22 Федерн К. Данте и его время. М., 1911. С. 164–165.
23 ОлешаЮ. Ни дня без строчки. М., 1965. С. 213.
24 Ечок А Собр. соч. Т. 3– М.; Л., I960. С. 628.
25 Ван Гог В. Указ. соч. С. 549.
26 См… Михайлов AB. Вильгельм Генрих Вакенродер и романтический культ Рафаэля // Советское искусствознание 79– Вып. 2. М., 1980. С. 212.
27 Цит. по: Михайлов AB. Указ. соч. С. 219–220.
28 ДобролюбовНЛ Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1952. С. 207.
29Лем С. Сумма технологии. М., 1968. С. 70–71.
Диалектическая структура образа[16]
Внутренняя логика произведений искусства изобилует неожиданностями. Неожиданности пронизывают всю художественную ткань, обнаруживаются в развитии характеров.
Когда убийца Раскольников в мучительном трансе бродит возле места своего преступления, всего несколько дней как совершенного, и случайно наталкивается на уличное происшествие – лошадь раздавила пьяного чиновника, почти вовсе не знакомого Раскольникову, – он вдруг принимает в нем горячее, деятельное участие, хлопочет, уговаривает полицейских, посылает за доктором. Как это вытекает из предшествующего состояния Раскольникова и из его характера, угрюмого и мизантропического? Ведь только что перед тем «сердце его было пусто и глухо», проникнуто отвращением ко всему и не ведало иного желания, кроме как «все кончить».
Поворот, казалось бы, парадоксальный. Из всех возможных вариантов поведения Раскольникова (пройти мимо «происшествия», не заметив; заметить и остаться равнодушным; заметить и почувствовать брезгливое отвращение) он наименее вероятен, но наиболее истинен. Истинность его неотразима, и нам уже кажется, что именно этого мы и ждали как единственно возможного: тут не просто неожиданность, но тайно ожидаемая неожиданность.
Художник добирается до истины, подвергая сомнению «самоочевидное», вопреки тому, что лежит на поверхности и более всего поддается однолинейному суждению. Художественное исследование по существу своему диалектично, оно движимо глубокой диалектикой противоположностей, противочувствий.
Мы, например, привыкли, исходя из «однолинейного» понимания вещей, считать смех, смешное инструментом отрицания: осмеивается плохое. Но М. Бахтин в своей книге о Рабле показал «возрождающую» сущность «смеховых», «карнавальных» форм народной культуры Средних веков и Возрождения. А Достоевский в одном из писем высказывает совсем уж поразительную по своей кажущейся парадоксальности мысль о том, что изобразить «положительно прекрасного человека» можно, лишь представив его… смешным. Он упоминает о Дон Кихоте: «Он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но все-та-ки огромная) тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а стало быть, является симпатия и в читателе»1. У самого Достоевского смешны и князь Мышкин, и Аркадий Долгорукий – его любимые герои.
Может быть, пример Достоевского для данного случая тенденциозен? Но вот Пушкин – светлый, классический Пушкин, «Пир во время чумы». Этот краткий драматический этюд – настоящий апофеоз противоречий, венчаемый грозно-веселым гимном в честь чумы: «Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья…»2 Его поет Вальсингам – самый бестрепетный, дерзостный, кощунственный из пирующих. Но он же оказывается и самым ранимым и потрясенным отчаянием. Две женщины присутствуют на пире. Одна – хрупкая, слабая, кротко жалующаяся. Но не она теряет сознание при виде страшной телеги с трупами, а другая – резкая, насмешливая. «…B ней, я думал, / По языку судя, мужское сердце. / Но так-то – нежного слабей жестокой, / И страх живет в душе, страстьми томимой!»3
«Нежного слабей жестокой»! – разве это не удивительно и разве это не правда? Правда искусства – всегда удивительная правда. Искусство просвечивает насквозь покровы, «системы фраз», ищет трудного, ищет скрытого, отвергает ходячее – отсюда его «великолепные нелепости», его ожидаемые неожиданности, страсть к антиномиям и его собственная волшебно-антиномическая структура.
Все это до такой степени характерно для всякого большого искусства (не только «психологического»), что иной раз кажется непонятным, почему исследователи искусства так мало уделяли внимания столь замечательным его свойствам. Не потому ли, что мы склонны слишком уж распрямлять смысл художественных образов, переводя их на язык логически-понятийный? И неизбежно ли такое упрощающее распрямление – особенно теперь, когда само научное мышление оперирует дифференцированными и утонченными диалектическими категориями?
Проблема антиномичности художественных структур поставлена и предельно заострена в недавно изданном труде Л.С. Выготского «Психология искусства»4. Написанное в 1920-х годах, это исследование читается сейчас так, будто оно предпринято не сорок лет тому назад, а сегодня.
Когда писалась эта книга, что главным образом находилось в центре внимания, вернее сказать, лежало на поверхности художественной жизни и эстетической теории? Воинственные «левые» течения искусства и их споры с «консерваторами», отстаивавшими права классического наследия. Идеи искусства как жизнестроительства. В теории – вульгарная социология.
Может показаться, что Л. Выготский стоит как бы в стороне от этих кипучих процессов, если не как психолог, то, во всяком случае, как эстетик. Он занимается тем, что едва ли было тогда модно, – изучением постоянных основ эстетического переживания, не подразделяя искусство на «левое» и на «правое», на «наследие» и «новое». Жгучий тогда вопрос об отношении к классикам (сбрасывать или не сбрасывать их с корабля современности?) такой постановкой просто снимается, оказывается пустым. Однако на основе своих анализов механизма эстетического восприятия Л. Выготский приходит к идее искусства как жизнестроительства – в самом настоящем, не поверхностном понимании, вполне свободном от вульгарностей, которыми эта идея обрастала у многих «левых» теоретиков.
То же в отношении социального анализа. Л. Выготский всем своим ходом мысли утверждает социальную действенность и социальную активность искусства, но его подход бесконечно далек от примитивного разыскания «социальных эквивалентов».
Короче говоря, Л. Выготский занимался теми самыми проблемами, которые выдвинула и поставила эстетическая мысль 1920-х годов, но он никак не участвовал в их вульгаризации, происходившей тогда же, – в конъюнктурной ли суете, или в полемическом запале, или в приступах мнимо «революционного» максимализма. Л. Выготский, идя путем независимого и спокойного исследования, всего этого избежал.
Богатую содержанием, блистательно написанную книгу Л. Выготского нельзя, конечно, пересказать – ее надо прочесть, страницу за страницей, ничего не пропуская. Но резюмировать ее в кратких словах можно, потому что она очень цельна и пронизана с начала до конца единой доминирующей мыслью. Эта мысль-доминанта представляется необычайно плодотворной5 – с оговорками, о которых скажу дальше.
Л. Выготский – психолог и предметом своего исследования считает психологические законы воздействия искусства на человека. Он исходит из того, что методы такого исследования должны быть объективными, то есть направляться оно должно не столько на акт создания или восприятия художественного произведения, сколько на само произведение, на его структуру. «…Анализируя структуру раздражителей, – говорит Л. Выготский, – мы воссоздаем структуру реакции <…> природу эстетической реакции в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике»6.
Центральную свою идею Л. Выготский уже во введении формулирует как «признание преодоления материала художественной формой…»7. Анализируя структуру басни, новеллы и трагедии, он показывает, что во всех них заключено некоторое аффективное противоречие: взаимно противоположные ряды чувств, которые, нарастая, приходят в конце к «короткому замыканию» и самосгоранию. Этот итог и есть, собственно, решающий эстетический эффект произведения, и Л. Выготский определяет его аристотелевским понятием «катарсис».
Противоречие, разрешающееся в катарсисе, есть, по Л. Выготскому, противоречие между характером, смыслом материала, взятого в произведении, и формой произведения. Нужно особо заметить, что именно автор понимает под материалом и формой, – это очень важно. «Все то, что художник находит готовым, будь то слова, звуки, ходячие фабулы, обычные образы и т. п., – все это составляет материал художественного произведения вплоть до тех мыслей, которые заключены в произведении. Способ расположения и построения этого материала обозначается как форма этого произведения…»8
Л. Выготский пользуется здесь категориями, выработанными формальной школой литературоведения: он считает их ценными, но расходится с формалистами в оценке эстетической значимости материала. Формальная школа считала материал эстетически нейтральным и единственно форме («приему») приписывала действенную художественную силу. Л. Выготский же, критикуя теорию «искусства – приема», замечал, что «форма в ее конкретном значении не существует вне того материала, который она оформляет»9, и указывал на самостоятельную эстетическую значимость материала.
Однако самое определение материала, принимаемое Л. Выготским, кажется неверным; но об этом несколько позже, а пока будем временно употреблять этот термин в том же значении.
Свою мысль о преодолении «материала» «формой» Л. Выготский наиболее блестящим и убедительным образом развивает на примере новеллы Бунина «Легкое дыхание». Он сопоставляет фабулу и сюжет рассказа (понимая под фабулой материал, а под сюжетом – организацию фабулы, то есть форму) и показывает, что они противоположны по звучанию, по настроению. Характер фабулы можно определить словами «житейская муть»: это «история путаной жизни провинциальной гимназистки»10 – и писатель ее нисколько не прикрашивает, не затушевывает. Но характер сюжета и всей формы рассказа выражается словами «легкое дыхание». «Его основная черта – это то чувство освобождения, легкости, отрешенности и совершенной прозрачности жизни, которое никак нельзя вывести из самих событий, лежащих в его основе»11.
«Мы приходим как будто к тому, – заключает Л. Выготский, – что в художественном произведении всегда заложено некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, который оказывает сопротивление своими свойствами всем стараниям автора сказать то, что он сказать хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается он для автора более пригодным»12.
Из этих предпосылок Л. Выготский делает широкие и далеко идущие выводы о роли искусства в жизни. Не могу не привести место, где он, критикуя теорию «заражения чувствами», выдвигает собственное понимание эмоционального действия искусства как действия катартического, разрешающего.
«Как безотрадно было бы дело искусства в жизни, если бы оно не имело другой задачи, кроме как заражать чувствами одного – многих людей. Его значение и роль были бы при этом чрезвычайно незначительны, потому что в конце концов никакого выхода за пределы единичного чувства, кроме его количественного расширения, мы не имели бы в искусстве. Чудо искусства тогда напоминало бы безотрадное евангельское чудо, когда пятью-шестью хлебами и двенадцатью рыбами была накормлена тысяча человек, и все ели и были сыты, и оставшихся костей набрано двенадцать коробов. Здесь чудо только в количестве – тысяча евших и насытившихся, но каждый ел только рыбу и хлеб, хлеб и рыбу. И не то ли же самое ел каждый из них каждый день в своем доме без всякого чуда?
Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, кроме как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства. Чудо искусства, скорее, напоминает другое евангельское чудо – претворение воды в вино, и настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, просветляет их, претворяет воду в вино, и таким образом осуществляется самое важное назначение искусства. Искусство относится к жизни, как вино к винограду, – сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится»13.
Искусство, считает Л. Выготский, возникает не просто из живого и яркого чувства: оно есть творческий акт преодоления чувства, его разрешения, победы над ним. В этом социальная роль искусства. «Искусство есть <„> организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней»14.
В этом, и только в этом смысле Л. Выготский принимает формулу «левых»: «искусство как метод строения жизни».
Теперь попробуем отвлечься от того, кого Л. Выготский цитирует и с кем полемизирует, и посмотреть на основные положения книги совершенно непредвзято, без груза историко-теоретических ассоциаций.
Мы, с одной стороны, чувствуем какую-то вещую истину в законе эмоциональной антитезы и разрешающего преодоления чувства, «превращения воды в вино», а с другой стороны, кажется, что Л. Выготский чересчур настойчиво изыскивает антитезу в любом художественном явлении. Иногда как будто и с натяжками. Рассказ «Легкое дыхание» на первый взгляд идеально ложится в концепцию автора. Но ведь это один рассказ, а так ли обстоит с другими рассказами того же Бунина, например с «Господином из Сан-Франциско», где материал и форма, по-видимому, звучат в унисон? Кое-где ощутимы натяжки и в трактовке басен.
Но вот что мы замечаем: натяжка, нарочитость ощущается, лишь если полагать противоречие существующим именно между «материалом и формой» в том значении этих терминов, которое принимает Л. Выготский. Если же от него отвлечься, то оказывается, что аффективное противоречие, «антитеза», действительно обнаруживается везде в искусстве, но противоречие лежит, скорее, внутри самого материала, формою же оно вскрывается.
В «Господине из Сан-Франциско» противочувствие, рождаемое самим материалом, вполне очевидно. Господин из Сан-Франциско, под старость разбогатевший, предпринимает комфортабельное увеселительное путешествие «единственно ради развлечения». Он плывет в люкс-каюте на громадном пароходе с ночным баром и восточными банями, он посещает люкс-места – Неаполь с его прославленным заливом, Капри с его лазурным гротом, он ест обильные изысканные обеды и носит нарядный смокинг. Но в Неаполе и на Капри – дождливо, грязно и холодно, но обеды отягощают желудок, но тугой воротничок смокинга мучительно режет шею и качание парохода вызывает тошноту – увеселительная поездка, в сущности, сплошная мука; и жалкая смерть настигает разбогатевшего сноба в самом разгаре его вымученных удовольствий. На том же комфортабельном пароходе, только уже в гробу, запрятанном в трюм, господин совершает обратный путь. В это время наверху, в бальном зале, сверкание ламп, оркестр, танцы, лучше всех танцует изящная «пара влюбленных», нанятых хозяином за деньги. «И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак, океан, вьюгу…»15 Так кончается рассказ.
Он весь, как видим, построен на иронической антитезе; грозная ирония нарастает, доходит до кульминации и завершается мрачным заключительным аккордом. Но вот вопрос: разве форма этого рассказа создает что-либо такое, «что в самом материале не содержится»? Ведь очень близоруко и наивно было бы считать путешествие господина из Сан-Франциско «объективно» веселым и приятным и лишь на долю художественной обработки относить тот ужас и холод тления, которым от него веет.
Если посмотреть под этим углом зрения на рассказ «Легкое дыхание», то и там мы вправе усомниться: правда ли, что «житейская история о беспутной гимназистке» сама по себе, в своей действительной сущности, не содержит ничего, кроме гнетущей мути? Речь ведь идет о юной, переполненной жизнью девушке, почти ребенке. В преддверии жизни, от которой она ждет чудес и счастья, ее встречает душный мирок гимназии, старые развратники и казачьи офицеры.
Нет, чувство «легкого дыхания», «весеннего ветра» идет от характера Оли Мещерской, то есть от глубинной сути «жизненного материала», взятого писателем. Волшебная же форма рассказа обнаруживает двойственную, противоречивую сущность его, которая проходит незамеченной для эстетически непросветленного взгляда.
Л. Выготский прав: «эмоциональная антитеза» и ее катартическое разрешение составляют суть эстетической реакции. Но он не прав, когда приписывает ее конфликту материала и формы, всегда будто бы противоположных по своему смыслу и настроению. Противоречие коренится внутри материала: скрытая сложность жизни – вот нерв искусства.
Однако необходимо наконец оговориться: «внутри материала» – это очень неточно; нужно было бы сказать – внутри содержания. Неточность идет от неопределенности, расплывчатости понятия «материал», как оно употребляется самим Л. Выготским.
В самом деле, что это такое: материал искусства? Выше мы видели, что автор заимствует этот термин у формальной школы и понимает под ним «все то, что художник находит готовым». В том числе слова, звуки и даже мысли. В применении к жанру рассказа он уточняет это таким образом: «…Все то, что поэт взял как готовое – житейские отношения, истории, случаи, бытовую обстановку, характеры, все то, что существовало до рассказа и может существовать вне и независимо от этого рассказа, если это толково и связно пересказать своими словами. Расположение этого материала по законам художественного построения следует называть в точном смысле этого слова формой этого произведения»16.
Все это, конечно, совсем не точно, и думается, что здесь-то и кроется уязвимое место замечательного исследования.
Строго говоря, никакой художник ничего не может взять «как готовое». «Натуральный смысл» явления (если воспользоваться термином Добролюбова) постигается художником через свое к нему отношение, через свое понимание, переживание – как же иначе? Если предмет воспринят и пережит художником и стал предметом его творчества, то это уже не просто нейтральный по отношению к художнику материал – он стал содержанием его произведения. Л. Выготский напрасно отождествляет понятия содержания и материала: это не одно и то же. И как видно, не так уж схоластичны и пусты «споры о словах» (как что называть), если из разного употребления слов могут вытекать существенно разные выводы.
Если содержание и материал – синонимы и между ними нет разницы, тогда выводы Л. Выготского радикально расходятся с известными «аксиомами» эстетики о соответствии формы содержанию, и сам автор не без удивления констатирует свой разрыв с традиционной эстетикой. Он пишет: «…Всей традиционной эстетикой мы подготовлены к прямо противоположному пониманию искусства: в течение столетий эстетики твердят о гармонии формы и содержания, о том, что форма иллюстрирует, дополняет, аккомпанирует содержание, и вдруг мы обнаруживаем, что это есть величайшее заблуждение, что форма воюет с содержанием, борется с ним, преодолевает его и что в этом диалектическом противоречии содержания и формы как будто заключается истинный психологический смысл нашей эстетической реакции»17.
Заметим, что здесь автор подставляет слово «содержание» вместо слова «материал», значит, эти понятия для него совершенно равнозначны.
Но они не равнозначны, и положения эстетики о гармонии формы и содержания остаются в силе: открытие Л. Выготского их не опровергает, а только углубляет. Эстетики никогда не утверждали, что форма адекватна материалу, – они говорили об адекватности формы содержанию, то есть материалу, уже переработанному творческим сознанием художника, а это другое дело. Форма действительно гармонирует с содержанием художественного произведения, то есть она его выражает, переводит его из идеального плана в реальный. Она выражает, делает явными и те самые антитезы, которые заложены в содержании и представляют собой не что иное, как внутреннюю самопротиворечивость явления, ставшего фактом искусства, достоянием художника.
Ну а что же представляет тогда собою собственно «материал», существующий до искусства и вне искусства? Есть же у него «натуральный смысл», независимый от толкования художника? И правда ли, что художник его непременно преодолевает своим толкованием?
Здесь надо условиться прежде всего о том, что речь идет не о каких-либо естественных свойствах предмета, вроде химических или физических его свойств, а о его смысле, то есть о духовном осознании предмета, которое, понятно, не существует помимо человеческого сознания. Его «натуральный смысл» может быть лишь равнодействующей множества взглядов, оценок, отношений, основывающихся на множестве факторов. Нужно было бы «запрограммировать» необозримое, астрономическое количество больших и малых, общих и частных факторов, чтобы получить в итоге эту равнодействующую, то есть подлинный смысл явления, – хотя бы такого, как история Оли Мещерской, если допустить, что она была в действительности.
Представим на минуту, что эта история действительно была и события в жизни развертывались в точности, как описано Буниным, что Бунин взял фабулу и действующих лиц «в готовом виде». Но разве и в этом случае можно сказать, что «натуральный смысл» событий тоже взят в готовом виде?.. Нет, потому что он не задан, не определен и, во всяком случае, не прояснен. Эта же самая история должна была иметь разную духовную окраску в глазах разных ее участников и наблюдателей. В сознании начальницы гимназии, в сознании классной дамы, приходившей на Олину могилу, в сознании офицера, который убил Олю, в сознании Олиных родителей, Олиной подруги она должна была рисоваться по-разному, причем каждый имел реальные основания воспринимать ее так, а не по-другому. Теперь вообразим себе совершенно постороннего, незаинтересованного наблюдателя, – может быть, ему и принадлежит право объективного суждения? Но оно опять-таки зависит от того, кто этот наблюдатель, каков его жизненный опыт, его взгляды, отношение к людям, характер, а также от того, что он знает о случившемся и что осталось от него скрытым (ведь никто же не мог знать досконально, что происходило в душе злополучной гимназистки). Так что и суждения наблюдателей оказались бы далеко не одинаковыми.
Вероятно, большинство наблюдателей, воспринимая канву событий, сошлось бы на впечатлении мутного и ужасного. Это какая-то часть истины, наиболее наглядная, но ведь не вся же истина. Уже одно обращение не только к внешнему рисунку событий, но и к характерам, главное к характеру самой героини, привнесло бы и другие эмоциональные оттенки. Может быть, ужас, смешанный с состраданием, может быть, тоску по «легкому дыханию», появившемуся в мир для того только, чтобы тотчас рассеяться «в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Вот мы уже невольно заговорили цитатами из Бунина – словами писателя, написавшего об этой истории. Потому что он уже предопределил направление наших эмоций по отношению к факту. Но сам-то факт, очевидно, заключал в себе и возможности многих иных отношений.
Писатель, художник и есть тот глубокий и дерзостно-вдохновенный наблюдатель, который из бесчисленного множества сошедшихся в жизненном факте переплетенных и перепутанных нитей вычленяет некое доминирующее противоречие – движущий эмоциональный нерв – и его именно делает содержанием произведения искусства, основанного на этом материале. Он берет факт не однозначно, а в его реальной многослойности; видит и тот слой, что лежит снаружи, и те, что просвечивают в глубине. В качестве содержания он принимает эмоциональную антитезу внешнего и просвечивающего. По всей вероятности, в материале было как возможность заложено что-то еще, и еще, и еще – совсем иные аспекты. Художник, однако, выбирает только то, что ему нужно, что совпадает с его собственной творческой волей.
Таким образом, художник поднимается над материалом, отходит от него, «преодолевает» его – не формой, а уже содержанием, извлекаемым из материала, как образ статуи из глыбы камня. Причем «преодолевает» в данном случае совсем не значит, что он поступает вопреки тенденциям материала, а только то, что он относится к этим тенденциям избирательно и творчески активно. Материал предстоит перед ним, как сфинкс, который загадывает загадки, допускающие различные ответы, как кусок мрамора, в котором таятся возможности многих статуй, а не одной-единственной. Материал почти ничего «готового» не дает художнику.
В приведенном выше отрывке Л. Выготский уподобляет «чудо искусства» превращению воды в вино и тут же вспоминает слова Грильпарцера о том, что искусство относится к жизни, как вино к винограду. Но нетрудно заметить, что оба эти уподобления выражают мысли, не вполне совпадающие. Превратить воду в вино – не то же самое, что превратить виноград в вино. Первое – действительно чудо, и чудо необъяснимое, так как в воде не содержится ничего, предвещающего вино. Но виноград уже заключает в себе возможность вина, и такое сравнение, несомненно, лучше выражает суть дела.
Мы условно допустили, что фабула и действующие лица рассказа «Легкое дыхание» взяты Буниным в готовом виде, из жизни. На самом деле так случается редко и, по всей вероятности, история эта вымышлена писателем. Не знаю, как было, но, может быть, толчком послужило какое-нибудь газетное сообщение об убийстве, где реальные персонажи вовсе не походили на персонажей рассказа Бунина. Тогда материал и содержание рассказа расходятся еще дальше, разница между ними еще очевиднее. Тогда уже вообще нельзя сказать, что описанная история представляет материал рассказа, – что же это за материал, которого не было? Она вся целиком представляет содержание произведения Бунина, а материал… Материалом, очевидно, являются разрозненные фрагменты, обрывки, отпечатки жизненного опыта писателя. Собственно, вся жизнь – материал. Материал расплывается в бесконечности. Он гораздо сложнее, но и гораздо аморфнее искусства, посредством которого он организуется, кристаллизуется, чеканится, и из него создается новая – художественная – «чувствующая вселенная».
Однако эта новая вселенная создается не из чего другого, как из жизненного материала, и фиксируемые в ней диалектические противоречия извлекаются в конечном счете из него. Тем самым искусство есть и познание мира – познание через пересоздание, через творческое обращение с материалом.
Одним словом, претензии наши к концепции Л. Выготского сводятся к тому, чтобы переакцентировать ее в свете теории отражения. Тогда многое становится на свои настоящие места: оказывается, что форма не воюет с содержанием, но обнаруживает те противоборствующие и противоречивые начала, которые даны в содержании искусства и как возможность заложены в материале жизни. А далее весь ход рассуждений Л. Выготского сохраняет свою убедительность. Действительно, эта реализованная формой противоречивость содержания приводит к катарсису, приводит к разрешению, позволяет подняться над поверхностным слоем чувства и его преодолеть.
Ведь если бы дело обстояло так, что известное жизненное явление обладает собственным ясным и однозначным смыслом, а художественная форма этот смысл отрицает, преодолевая сопротивление материала, и на место его ставит прямо противоположный, тогда такое «преодоление» было бы психологической иллюзией, рожденной формой. И едва ли оно могло бы иметь то просветляющее и возвышающее действие, о котором так хорошо говорит наш автор. В лучшем случае это был бы возвышающий обман: почувствовать «прозрачность жизни» там, где в действительности одна только житейская муть и ничего больше. Зачем же? Чтобы, столкнувшись с подлинной житейской мутью, убедиться, что искусство нас попросту обманывало, манило призраками?
Но если столкновение противоположных чувств вытекает из существа самих жизненных реалий, претворенных в искусстве, – тогда другое дело. Тогда при встрече с явлениями жизни мы, умудренные опытом искусства, будем просматривать явление в глубину, в его действительных сложностях и движущих противоречиях, не поддаваясь поверхностному впечатлению. И добывать уже не возвышающий обман, но возвышающую истину.
Истины жизни так же не поверхностны, не однозначны, как истины искусства. Смешной Дон Кихот, оставаясь смешным, обладает нравственным величием, и его безумие, оставаясь безумием, прозорливее плоского рассудка. Беспутный и буйный Дмитрий Карамазов хранит в душе чистоту и наивность «шиллеровских» идеалов, а чистейший Алексей Карамазов смутно чувствует в себе шевеление карамазовского «злого насекомого». Романтическая Наташа Ростова превращается в прозаическую мать семейства. «Бесчеловечный» Адриан Леверкюн ничего так не жаждет, как братства и единения людей.
Припомним любое значительное произведение литературы из тех, что выдерживают испытание временем и остаются в истории самосознания человечества некими вехами, – мы в каждом из них – без преувеличения в каждом! – найдем эту многослойность образа, эти противочувствия и внутренние контрасты. В искусстве они сгущеннее, чем в «жизненном материале». Пути художественного познания дерзостны: оно берет мир одновременно в различных плоскостях и разных срезах, сближая далекое, объединяя разъединенное, сопоставляя разнородное, перекидывая между ними ассоциативные мосты, улавливая потаенные связи между макро– и микроявлениями человеческой жизни. Диалектическая сложность жизни при этом выступает как нечто осязаемое.
Выражением ее является диалектическая структура самого художественного образа – этой модели «мира в соотношении с человеком» (по выражению Гёте). В том, что Л. Выготский на нее указал, – исключительная ценность его исследования.
В одной из глав книги Л. Выготский делает попытку беглой «проверки формулы» на других видах искусства, помимо литературы. Это сделано им действительно очень бегло, на примерах полуслучайных, особенно в отношении изобразительных искусств. Но намеченное им в самом деле могло бы «составить предмет целого ряда дальнейших исследований, специальных для каждой области искусства»18.
В пластических искусствах, может быть, яснее всего видно, что искусство творит свою «вселенную», подобную, но не тождественную реальной, через выявление и преодоление многообразных конфликтов. Некоторые на первый взгляд кажутся чисто «техническими»: например, конфликт между глубиной и плоскостью, монохромностью и много-цветностью, между ограниченностью цветовой гаммы на палитре художника и огромным количеством цветовых переходов в натуре, между движением и неподвижностью и так далее. Но и такого рода «столкновения» между натурой и произведением искусства имеют философский смысл и восходят к каким-то глубинным противоречиям реальности.
Вот простой и очевидный конфликт – между материей изображаемого и материей изображенного. Камень, из которого делается статуя, не только не тождествен материи живого тела, но противоположен ей всеми своими свойствами: тут конфликт твердости и мягкости, тяжести и легкости, статики и динамики. Природа живого тела вступает в борьбу с природой камня, и возникает нечто третье – статуя как исход борьбы и синтез. Возьмем любую статую Микеланджело: она не есть камень и не есть тело, она – каменное тело. Ее анатомия такова, какая возможна лишь у каменного человека: шея утолщена, конечности приближены к торсу, все формы утяжелены, глыбисты и компактны. Изображенный человек движется – камень неподвижен, а статуя? Она и движется и нет, причем ее движению сообщен характер устойчивости, а в ее фактической недвижимости ощущается динамический заряд, потенция движения. В конечном счете тут противоречие живого и мертвого, быстролетного и долговечного. Разве преходящесть, бренность живого, мимолетность прекрасного не составляют извечную тоску человечества, а потребность как-то воспротивиться этой бренности – его извечную мечту? В самой скульптурной идее (не какой-нибудь отдельной статуи, а скульптуры вообще) это противоречие реализовано как гипотеза «нетленной жизни».
Когда изобразительное искусство «отходит» от натуры (а оно всегда так или иначе от нее отходит), то у подлинного художника это проистекает не из желания отрицать натуру, а из стремления утвердить ее человеческий аспект, что-то за нее договорить, восполнить и продолжить творчество природы творчеством сознания. Китайский живописец Ци Байши любил писать лепестки пионов черной тушью, сохраняя зеленый цвет листвы. Его черный тон обладал несравненной воздушностью, и Ци Байши казалось, что именно черный цвет способен лучше всего выразить нежную и хрупкую природу цветка. Настоящие пионы черными не бывают, они красные или белые. Но, изображая их черными, художник не игнорировал их подлинную природу, он только слил ее со своим обостренным переживанием той же природы и создал новое явление, новый пион, принадлежащий миру искусства.
В этом мире цветут черные пионы, камень оживает, а живая плоть получает свойства камня; здесь мгновение останавливается на века, а целая жизнь порой уплотняется в сгусток, измеряемый минутами; здесь сквозь житейскую муть слышен звон весеннего ветра, а «тучные радости» дышат смертью и тлением. И этот парадоксальный мир не противостоит реальному – он выражает его.
Диалектический состав художественного образа включает в себя и противоречие между формой и содержанием, но думается, что оно не там, где его видит Л. Выготский: тут не взаимная противоположность их смысла, а, скорее, противоречие конкретной определенности формы и динамической неисчерпаемости содержания, благодаря чему искусство в состоянии, по выражению Гумбольдта, «посредством всестороннего ограничения своего материала произвести неограниченное и бесконечное действие»19.
Форма сама по себе есть ограничение. Содержание произведения искусства выступает как форма, как ограничение по отношению к материалу действительности, но оно, в свою очередь, подвергается ограничительному формированию в линиях, звуках, красках. Форма произведения, пластическая ли, словесная или звуковая – это законченный в себе кристалл, она именно вот такая, а не другая; кажется, что от нее нельзя ничего отнять и ничего к ней прибавить, – чем сильнее это впечатление, тем форма совершеннее. Между тем содержание, ею выражаемое, как удачно сказал как-то Репин, «дифференцируется до неуловимости», оно эластично и подвижно, подобно струящемуся потоку, и для него твердая однолинейность является признаком художественной скудости. Это, кстати сказать, хорошо показывает Л. Выготский на примере басенного жанра: соль басни не в поучении, а в самом сюжете, и чем определеннее, неоспоримее дидактический вывод, на который она наталкивает, тем менее поэтичен сюжет; сюжет поэтический (художественно организованный) допускает множественность толкований.
Вместе с тем Л. Выготский явно преувеличивает (в угоду своему тезису о преодолении материала формой), когда утверждает, что, например, басня «Ворона и лисица» создает у читателя «впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль»20. То есть: мораль гласит, что «лесть гнусна, вредна», а читатель восхищен остроумием лисицы, по заслугам наказавшей глупую ворону. Но это ведь не противоположно высказанной морали, а лишь расширительнее, богаче смысловыми оттенками.
Нельзя сказать, что содержание противоположно впечатлению, производимому формой, или что оно вообще неуловимо по своим тенденциям, – нет, оно направляет восприятие по определенному руслу, только русло это широкое и разомкнутое. В отличие от формы к содержанию можно до бесконечности что-то «добавлять», и это, собственно, делает каждый воспринимающий произведение искусства. В этом смысле
А. Потебня говорит о художественном произведении, что оно есть не что-то раз навсегда созданное, а «нечто постоянно создающееся»21.
Оно не содержит однозначной, твердо обозначенной истины, зато является резервуаром истин. Оно состоит из многих просвечивающих покровов: один приподнимается, за ним обнаруживается другой, третий. Каждый воспринимающий находит в содержании художественного произведения что-то интимно свое; в одну эпоху его понимают так, в другую – несколько иначе, прибавляя к пониманию то, что привнесено временем, а вместе с тем как бы уже таилось изначально в произведении, как растение в зерне. Произведение искусства, то есть содержание его, живет и развивается во времени, развивается в миллионах сознаний. Всхожесть, плодоносность зерна – критерий его истинности.
Между тем форма произведения остается все время неизменной, созданной раз и навсегда, и в своей неизменности она излучает самодвижущееся, вечно обновляющееся содержание. Ее неизменность ревниво оберегается. Считается кощунственным всякое нарушение формы: перестроить прекрасное старинное здание – хотя бы и в интересах удобства, видоизменить фреску по произволу реставратора, переиначить стихи Пушкина – хотя бы заменить «менее удачное» слово «более удачным», – в этом видится нам оскорбление искусства. Однако никто не находит ничего плохого в трансформации содержания этих же памятников. Сколько «добавили» XIX и XX столетия к «Гамлету» и «Дон Кихоту»! Поставить на сцене «Горе от ума», дописав от себя новый текст, которого не было у Грибоедова, – это вызывает справедливый протест и возмущение. Поставить же «Горе от ума» с точным сохранением текста, но с новым «прочтением» бессмертной комедии – не только право, а творческий долг режиссера. Тут воочию видно, как прорастает, ветвится и плодоносит изначальная художественная мысль.
Кстати сказать, Л. Выготский, критикуя положение Потебни об апперцепции, о «силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание», возражает на это: «…Субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл ни в какой мере не являются специфической особенностью поэзии – он есть признак всякого вообще понимания»22. Здесь Л. Выготский, видимо, не прав. Сообщение, заключенное в деловой информации, в научной формуле, рассчитано на однозначное восприятие: оно не требует и даже не терпит субъективного понимания со стороны воспринимающего. Между тем содержание искусства по самой природе своей как раз требует динамического к себе отношения; то есть обогащения индивидуального высказывания художника новыми и тоже индивидуальными аспектами. Именно их включение (незримое и постепенное) в первоначальную художественную идею сообщает последней особое качество прочности и долговечной действенности.
Итак, форма – кристалл, содержание – поток, нечто текучее или растущее, или волны, испускаемые кристаллом. Произведение искусства, в единстве его содержания и формы, предстает как противоречивое целое – потому и живое, что противоречивое. Парадокс здесь в том, что насколько содержание тяготеет к безграничности, настолько форма – к ограничениям, это выражено в известном афоризме: «Чтобы словам было тесно, а мыслям просторно». Казалось бы, дай и словам простор, если хочешь простора мыслям, но по такому пути следует лишь незрелое художественное сознание.
Художник, достигший творческой зрелости, обычно хорошо сознает пользу ограничительных условий для своего труда, знает, что поиски совершенной формы нуждаются не столько в бесконтрольной свободе, сколько в чувстве границ, в добровольном подчинении «законам», будь это законы стиля, «ремесла», функции. Как важна для Данте безупречная архитектурная композиция «Божественной комедии» и строгая обусловленность формы в терцинах; какой притягательностью для поэтов обладает форма сонета, казалось бы «сковывающая» вольное течение поэтической мысли (как, впрочем, и «онегинская» строфа). Нет, это не сковывает, напротив. Архитектор Райт говорит: «Что касается меня, я считаю абсурдным или даже совершенно недопустимым воспользоваться возможностями так называемой “свободы действия” <…>. Если передо мной не выдвигают четко определенные ограничения или требования (и чем более специфические, тем лучше), я не вижу проблемы, не знаю, над чем работать и что вырабатывать…»23 Может быть, это только в архитектуре? Но вот свидетельство графика Фаворского: «…Меня увлекает искусство, ограниченное в средствах, обусловленное местом, как то: стенная живопись, книжная графика, театральная постановка, а также труднообрабатываемый материал»24.
Вместе с тем Фаворский ценит «ограниченность в средствах», например ограниченность черным и белым, именно за возможность «изобразить черным и белым все цвета, все разнообразие оттенков. Изображать не снег, потому что он белый, и голые деревья и ворон, потому что они черные, а все многообразие природы, все богатство цветное выразить черным и белым»25. С этой точки зрения увлекательную область исследования составляет прикладное искусство, включая современное художественное конструирование. «Конфликты» здесь обнажены. Как властный фактор ограничения выступает функция создаваемого предмета, и форма сосуда, стула, автомобиля, не считающаяся с функцией, оказывается художественно бессильной из-за своей случайности и произвольности, как бы ее ни украшали. Форма выражает функцию, но вместе с тем она выражает и нечто большее, чем функция, которая сама по себе элементарна и однозначна. Поэтому форма не только выражает функцию, но и противится ей и в известном смысле преодолевает ее. «Голый функционализм» в прикладном искусстве в конечном счете также, как уход от функциональности, оборачивается художественным бессилием. Он подобен тому, как если бы в черно-белой графике изображались лишь те предметы, которые в натуре являются черными или белыми: белый снег, черные вороны. Между тем изображение белого снега и черных ворон представляет более увлекательную и художественно благодарную задачу как раз для живописца, располагающего цветовой палитрой, а для графика интереснее выразить в черно-белом многоцветность.
Также и для создания художественных утилитарных предметов важно выразить не просто функцию, а через нее – «многоцветность», потенциальное богатство связей человека с вещами, наконец, его мироощущение. И вот «стиль» вещей, их линии, их декор, начинает спорить с функциональным назначением вещи, но успех, видимо, зависит не от победы или поражения той или другой стороны, а от разрешающего синтеза.
Так или иначе, к какой бы области искусства мы ни прикоснулись, мы действительно встречаемся со сложной диалектикой самой структуры художественного образа и творческого процесса, призванного, по крылатому слову Пришвина, «заключить ягоду жизни в сосуд вечности».
Ссылки
1 Достоевский Ф.М. Письма. Т. II (1867–1871). М.; Л., 1930. С. 71.
2 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 5. С. 419.
3 Там же. С. 416, 417.
4 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
5 Ею и подсказана тема настоящей статьи (рассмотрение других аспектов концепции
Л. Выготского не входит в мою задачу, тем более что его книга уже рецензировалась в «Вопросах литературы» – 1966. № 3).
6 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 34.
7 Там же. С. 7.
8 Там же. С. 70.
9 Там же. С. 80.
10 Там же. С. 202.
11 Там же.
12 Там же. С. 211.
13 Там же. С. 317–318.
14 Там же. С. 331–332.
15 Бунин И.А. Собр. соч. Т. 4. Произведения 1914–1931. М., 1988. С. 71.
16 Там же. С. 191.
17 Там же. С. 210.
18 Там же. С. 282.
19 Цит. по: Потебня А. Мысль и язык. Харьков, 1913. С. 158.
20 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 157.
21 Потебня А. Указ. соч. С. 155.
22 Выготский Л.С. Указ. соч. С. 58.
23 Райт Франк Ллойд. Будущее архитектуры. М., 1960. С. 82.
24 Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. М., 1965. С. 28.
25 Там же. С. 27.
Мировое наследие
Чистилище[17] (О «Божественной комедии» Данте)
Огюст Роден. Идущий человек. 1900
Идея Чистилища близка человеческой душе. Чистилище понятнее, чем Ад и Рай. Хотя Ад легко вообразим чувственно из-за многих ему подобий в жизни. Кто-то даже высказывал мысль, что наше земное существование – это и есть стадия Ада, которую проходит душа.
У Данте не было недостатка в моделях Ада, и первая кантика «Божественной комедии» получилась у него самой пластичной. Но нравственное чувство противится Аду, отказывается признать его проявлением Божественной справедливости. Отсюда двойственное настроение Данте, путешествующего по отверженным селеньям, его постоянные колебания между осуждением грешников и жалостью к ним, а то и нескрытым восторгом – например перед Фаринатой или Улиссом. Без этой двойственности дантовский Ад немногого стоил бы. Ад абсолютный, вечный, исключающий сострадание, нравственно непредставим.
С другой стороны, абсолютное и вечное блаженство – Рай – слишком противоречит всему нашему опыту, чтобы воображение могло с ним справиться. О нем можно догадываться по моментам видений, снов, мистических озарений (всегда – мгновения, и никогда – что-то длительное). Бытие вне времени даже в визионерском опыте не дано: и там есть «сначала» и «потом». «Но мчится время сна, и здесь пристало поставить точку» – говорится в предпоследней песни «Рая». Если и в Раю оно мчится, то какие перемены приносит? Если же никаких, то не подстерегает ли и праведников «божественная скука»? Вечно под кущами райских садов, вечно воспевать хвалу и осанну… Кажется, только Черный монах в рассказе Чехова сказал нечто иное. На вопрос Коврина, какова цель вечной жизни, монах ответил: «Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в дому Отца Моего обители многи суть».
Это загадочное и прекрасное обещание многих обителей «в дому Отца» заставляет думать, что вечное блаженство не есть неподвижность, а лишь «новая земля и новое небо». В него нужно поверить, но как представить себе?.. Оба полюса – Ад и Рай – труднодоступны: первый – человеческому сердцу, второй – человеческому разумению.
Но Чистилище соразмерно человеку. Оно утоляет его жажду справедливости, искупления и движения. Ведь мы всегда в дороге, всегда ждем. В молодости нам кажется, что мы знаем, чего ждем. Но и в старости продолжаем ждать, уже не ведая чего, а в сущности, ждем и жаждем Чистилища. Что желаннее возможности взглянуть с новой высоты на прожитое, понять, где была ошибка, добровольно искупить ее, расплатиться за дурное в твердой надежде лучшего? Пускай даже просто ждать и терпеть, как в Предчистилище, только бы знать, что дотерпишься и дождешься.
Не так уж и плохо ждать у подножия той горы, которая привиделась в вещем сне Данте Алигьери. Громадный усеченный конус высится среди океана в Южном полушарии Земли, где во времена Данте еще не бывал никто из европейцев. Посейчас ученые теряются в догадках, откуда узнал поэт о сверкающем созвездии Южного Креста, пленившем его взор, как только он вслед за Вергилием выбрался из земных недр и увидел ночное небо – «отрадный цвет восточного сапфира, накопленный в воздушной вышине».
Вся первая песнь «Чистилища» – как бы глубокий, блаженный вздох облегчения. После блужданий по кругам адской воронки под рев и вопли казнимых, после того как путники ползком, ощупью пробирались сквозь толщу земную, цепляясь за косматую шерсть Люцифера со вмерзшими в нее корками льда, – наконец-то просвет! Наконец они выходят из подземного дупла на морской берег. Берег пустынен, но такой отрадный, трепещущий живыми огнями простор над ними и вокруг них! В эту минуту Данте ни о чем не спрашивает, кажется, ему ничего не надо – только стоять, дышать, смотреть на незнакомые светила.
Но вот к ним приближается старец с исчерна-седой бородой – Катон Утический, непреклонный римский республиканец, покончивший с собой, когда республика пала. Хотя он был язычником, да еще и самоубийцей, так что по всем правилам место его в Аду, он «изведен силою чудесной» за свою преданность свободе и сделан стражем Предчистилища, как Минос – стражем Ада. Стражу подобает суровость. Катон сурово спрашивает прибывших, откуда и почему они здесь. Вергилий отвечает поспешно, даже подобострастно, заставляет Данте преклонить колени – прямо рукой пригибает его. Чувствуется, что Вергилий опасается, как бы Катон не воспретил им посещение «семи царств». Катон всего только сторож – но кто же не знает, как много иной раз зависит от простого сторожа!
Чтобы умилостивить его и смягчить, Вергилий упоминает о Марции – любимой жене Катона, которая находится вместе с ним, Вергилием, в Лимбе, и передает от нее привет Катону. Но это не производит впечатления на Катона: он сухо говорит, что к Марции теперь безучастен, однако если Вергилий действительно послан женой небесной (то есть Беатриче), значит нечего и толковать и тратить время на неуместные льстивые речи. Пусть только Вергилий опояшет Данте тростником смирения и как следует вымоет ему лицо, а когда взойдет солнце, они сами увидят дорогу. С этими словами старец удаляется; можно догадаться, что он не очень-то доволен женскими прихотями Беатриче, хотя и повинуется им.
Вергилий и Данте обрадованно спешат сделать, что им сказано, рвут гибкий тростник, свивают пояс. Тем временем наступает рассвет. Все яснее различимы зыблящаяся поверхность моря и тропа, ведущая по косогору. Зоркие глаза Данте замечают на море летучий белый блеск. Это ангел, «Господней птицей» взвевая огромные белые крыла, как ветрила, ведет к берегу ладью со вновь прибывшими душами, хором поющими псалом. Высадив их на берег, небесный кормчий тотчас же уплывает, а души растеряны: не знают, куда идти. Кто-то спрашивает у Вергилия, где же путь в гору и как им подняться на почти отвесный обрыв. Вергилий отвечает, что они и сами только что прибыли и им тоже все внове.
Души с любопытством рассматривают Данте, заметив у него «дыханье на устах», дивясь, что он, живой, затесался среди теней. Одна из них выступает из толпы и направляется к Данте с улыбкой и раскрытыми объятиями. Данте узнает своего друга, музыканта и певца Каселлу. Он хочет обнять его, но руки охватывают пустоту: Каселла бесплотен. Это не мешает им дружески, радостно разговаривать. Данте говорит, что он надеется вернуться сюда снова (то есть после смерти), а Каселла рассказывает, что ему пришлось долго дожидаться отъезда к горе Чистилища, но теперь ангел-кормчий свободно берет всех, кроме осужденных на вечные муки (в 1300 году отмечался юбилей католической церкви: отпущение грехов живым и облегчение участи умершим). Речь идет о юбилейном годе – короткое объяснение.
Каселла не сетует и не считает обидой, что его долго не брали: он знает, что ангел действует согласно велениям высшей правды. А все же – почему ему пришлось столько ждать, и даже не в Предчистилище, а где-то «в устье Тибра»? В поэме причина не объясняется. По древним поверьям, душа какое-то время остается вблизи того места, где пребывала физически, и тем дольше, чем более она привязана к земному. Каселла, наделенный даром песнопения и умерший молодым, наверное, был крепко предан земным радостям.
Данте просит его спеть одну из тех нежных песен, которые на земле успокаивали тревогу и снимали усталость. И Каселла, не заставляя себя долго просить, поет «Любовь, в душе беседуя со мной…» – канцону Данте из «Пира». Данте, Вергилий и вся толпа теней слушают с наслаждением, впивая каждый звук. В самом деле, как это прекрасно – восход солнца над морем, встреча старых друзей, музыка…
Но суровый Катон недоволен. И так уж порядок нарушен беззаконным появлением Вергилия и Данте, а тут еще и песни. Он прерывает пение сварливым окриком, упрекает нерадивые души за то, что они мешкают, вместо того чтобы идти, куда им положено. Тени бросаются врассыпную, подобно тому как голуби, клюющие зерно, разлетаются, когда их что-то испугает.
«Была и наша поступь тороплива…» Вергилий почти бежит, Данте еле поспевает за ним. Он видит, что учитель смущен, недоволен собой, упрекает себя за то, что заслушался, поддался сладостному соблазну. Быть может, это лишний раз напомнило поэту о его языческой природе, из-за которой он обречен на туманный Лимб и никогда не удостоится лицезрения Божества. Данте же этого горького чувства не ведает и, как видно, не находит греха в том, что слушал пение Каселлы. Он бежит не потому, что гоним угрызениями совести, но просто стараясь не потерять из виду Вергилия, боясь остаться без вожатого.
Вергилий умерил шаг, и они идут рядом. И вдруг Данте начинает казаться, что он все-таки один. Потому что он видит у себя под ногами только одну тень – свою, а Вергилий тени не отбрасывает. И Данте, живому человеку, становится страшно; он словно впервые уразумел, что идущий рядом с ним его вождь и любимый учитель – мертв: его нет, он не существует.
В аду Данте об этом забывал – там стоял вечный мрак и падающих теней не было. А теперь, при солнечном свете, на твердой земле… Данте ничего не говорит, но Вергилий, заметив взгляд, полный ужаса, угадывает его мысли. Да, говорит он, отвечая на невысказанное, мой прах давно почиет там, где сейчас вечер, в Неаполе. Но я-то здесь, с тобой. Удивляться нечего, что я «не затмеваю день»: ведь и через небесные круги луч проходит беспрепятственно. Удивительно другое: что мы, бестелесные, все же подвержены стуже, зною и телесным скорбям. Это одна из великих тайн, непостижимых уму. Уму не все доступно, он не должен прорываться за поставленные ему пределы: пусть люди ограничатся познанием того, что есть, не допытываясь – почему. Платон и Аристотель жаждали все постичь разумом – и жажда оказалась тщетной, неутолимой, обернулась вечной печалью, на которую они обречены в Лимбе. Вспомнив о Платоне и Аристотеле, Вергилий с горечью умолкает, потупив взор. Данте не возражает ему – он никогда не спорит с учителем, но, судя по его постоянным пытливым расспросам, он и сам не чужд аристотелевской жажды всепонимания, всеобъяснения и втайне надеется, что разум с Откровением примирим.
И в аду, и в чистилище Вергилий отвечает на вопросы Данте как может – а может он в пределах разума. Но как только вопрос упирается в эти пределы, Вергилий говорит: это тебе лучше объяснит Беатриче. Чем ближе к вершине чистилища, тем чаще он отсылает не в меру любознательного ученика к Беатриче – носительнице Божественного Откровения.
Так они идут дальше, разыскивая дорогу вверх, но везде наталкиваясь на крутой обрыв. Снова им встречается толпа теней – эти уже не новички, они тут давно, и Вергилий спрашивает у них, как пройти. Эту толпу Данте сравнивает с овечьим стадом: «как выступают овцы из загона…» Все гурьбой идут за теми, кто впереди, а стоит передним остановиться – и все останавливаются, стоит первым отпрянуть назад – отступают все. Робкие и кроткие, как овцы, они совсем не так вели себя на земле: там они были строптивы, но успели принести покаяние перед смертью, хотя были от Церкви отлучены. Они должны теперь пребывать в Предчистилище, у подножия горы, в течение срока, в тридцать раз превышающего время их отлучения.
Среди них красавец Манфред – сын Фридриха II Гогенштауфена, непримиримый противник папства. Манфред рассказывает свою историю и просит Данте, чтобы, вернувшись на землю, он передал его дочери Констанце, что ее отец – не в Аду; и пусть она молится за него, так как молитвами праведных срок ожидания в Предчистилище может быть сокращен. Опять новый повод к любопытству Данте – он вспоминает, что в одном стихе «Энеиды» сказано: «Властную волю богов преклонить не надейся мольбами», – и спрашивает: так не тщетны ли надежды ожидающих душ? Вергилий отвечает: нет, не тщетны, ибо молитвы христиан действенны, в отличие от молитв язычников. Впрочем, Беатриче объяснит тебе лучше.
Вергилий и Данте проходят через расщелины, с трудом перебираются с уступа на уступ, но все еще остаются в пределах Предчистилища. Вергилий ободряет Данте, говоря: гора так устроена, что поначалу подъем труден, а чем выше, тем будет легче. То и дело им встречаются толпы и группы теней, обреченных на разные сроки ожидания: тут и погибшие без покаяния насильственной смертью, и просто «нерадивые», беспечные, которые вообще мало помышляли о покаянии, хотя и не слишком грешили. Среди последних Данте с веселым удивлением видит своего приятеля, флорентинца Белакву, искусного мастера музыкальных инструментов, отъявленного лентяя. Белаква и тут сидит в позе ленивой истомы, опустив голову в колени, и никуда не торопится: все равно предстоит ждать долго – срок земной жизни, – прежде чем ангел допустит его к мытарствам. Он из тех, кого ожидание не тяготит.
Другие же, узнав в Данте живого, окружают его, забрасывают просьбами, дают поручения к родным. Он чувствует себя как удачливый игрок в кости, которого после выигрыша теснит толпа просителей – «кто спереди зайдет, кто сзади тронет, кто сбоку за себя словцо ввернет», – а он отделывается от них подачками (этим сравнением начинается шестая песнь). В конце концов Данте настолько входит в роль, что Вергилий вынужден строго одернуть его: «Следуй своим путем, и пусть люди говорят что хотят».
Они встречают в Предчистилище еще многих, знакомых и незнакомых, выслушивают истории их жизни и смерти, присутствуют при ночной мистерии в долине «земных властителей»: там те, кто враждовал при жизни, согласно поют гимны, а зеленокрылые ангелы с пылающими клинками охраняют их от древнего змия вражды и распри, подстерегающего и здесь былых королей. Потом Данте погружается в глубокий сон.
Во время сна Лючия, одна из его небесных покровительниц, переносит его к заветному входу в Чистилище, где он поднимается по трем ступеням: белой, черной и алой – и страж порога с лучезарным ликом отпирает перед ним врата, начертав мелом семь «Р» на лбу Данте. «Р» означает «peccatum» – грех. В дальнейшем восхождении после каждого круга очередной ангел стирает крылом одно «Р»: к вершине горы – к земному раю – путник приходит очистившимся от грехов. В сопровождении верного Вергилия и на правах как бы небесного туриста Данте проходит все семь кругов в кратчайший срок, но очищающиеся души искупают свои грехи долго, столетиями. Правда, по сравнению с вечностью что значат века? И что значат страдания, когда впереди свет?
Искупительные страдания в Чистилище совсем не шуточные: гордецы бредут, согбенные под тяжестью каменных плит; у завистников веки зашиты железной нитью, «как для прирученья их зашивают диким ястребам»; гневные блуждают в густом горьком дыму; скупцы (равно как и расточители) повержены лицом к земле («Прилита к праху душа. моя» – поют они); чревоугодники искупают грех муками голода и жажды.
Вергилий говорит Данте, что «вся тварь… полна любви, природной иль духовной». «Природная не может погрешать» – то есть она стремится к тому, что для нее благотворно: к свету, к пище. Но вторая – духовная – может ошибаться в цели, поэтому любовь – источник и блага, и зла. Гордецы, завистники и гневные любят «чужое зле», то есть видят в нем условие собственного счастья: им нужно «попрать соседа» или отомстить ему, чтобы утвердиться самим. Другой вид «дурной любви» – любовь к обманным, пустым наслаждениям: ей предаются чревоугодники, скупцы и расточители, сладострастники. Посередине между теми и другими находятся «унылые», чья любовь к благу была недостаточной, вялой: они «хладно и лениво медлили в свершенье добрых дел», а здесь, в Чистилище, не знают покоя, без устали мчатся.
Наказание сладострастников здесь едва ли не тяжелее, чем в Аду: они идут стеной бушующего огня, сквозь которую Данте долго не решается пройти, даже во имя встречи с Беатриче.
Однако мытарства Чистилища переживаются совсем иначе, чем мучения Ада, – и не только потому, что облегчены надеждой. Муки Чистилища символизируют раскаяние; кающиеся добровольно отдаются тому, чему сопротивлялись при жизни: гордые – самоунижению, обжоры – голоду. А в Аду казнимые делают, в сущности, то же, что при жизни: алчут, дерутся, кусаются, обманывают, обмениваются естеством со змеями. Им свойственна нераскаянность, поэтому они в Аду. Как видно, различие между обитателями Ада и Чистилища не столько в степени греховности, сколько в том, что одни испытывали позыв к раскаянию, греша, другие – нет. Иначе непонятно, почему почтенный образованный Брунетто Латини, учитель Данте, оказался в Аду за содомитский грех, тогда как другие, повинные в том же, искупают его в седьмом круге
Чистилища. Надо полагать, Брунетто Латини не находил ничего плохого в своем «насилии над естеством», не стыдился его – поэтому в Чистилище не допущен. Но он и в Аду держит себя с достоинством.
Данте как бы предполагает, что именно нераскаянность – непокоренность – может служить грешникам поддержкой в муках, иной раз делает даже нечувствительными к ним. В первой кантике поэт намечает целую иерархию нераскаянных, начиная с нижайшей ступени: вор и убийца Ванни Фуччи показывает обеими руками кукиши небу, его шутовской вызов – от непроходимой черноты души, однако Ванни Фуччи находит в нем какое-то средство обезболивания. Уже выше стоит гордый богохульник Капаней, восклицающий: «Каким я жил, таким и в смерти буду!» И полон высшего благородства надменный вождь гибеллинов Фарината, который презирает Ад и больше страдает от мысли об изгнании из Флоренции его приверженцев, чем от пожирающего огня. А Улисс и Диомед – те и вовсе не кажутся страдающими: величаво и победно плавают они в своем двурогом огне, горящем «прямым и ровным светом», не думая о злополучных хитростях с троянским конем, за которые несут наказание, помня только о славных странствиях.
Наконец, Паоло и Франческа. Они получают награду – единственную, кажется, награду в Аду: их не разлучают, и они продолжают быть вместе, любить друг друга. Незримая справедливость как бы говорит им: если ваша любовь была чем-то высшим, чем вожделение, то вот, она вам оставлена. Понятно, почему эта пара не в Чистилище. Ведь там бы они раскаивались в том, что произошло между ними, а этого они не могут. Во втором круге Ада они страдают, но не променяли бы это страдание на блаженство в разлуке.
В случаях с Фаринатой, Улиссом, Франческой, Латини нераскаянность импонирует Данте. Сам он предвидит, что ему предстоит после смерти пройти через два круга Чистилища – гордецов и сладострастников: он знает за собой эти грехи. Поэтому они вызывают у него сочувствие: он сопереживает гордым и страстным. Но все-таки осознает то и другое как порок – и, значит, достоин искупления.
Добровольность приятия страданий, более того – неотвратимое к ним стремление отличают очищающихся. Данте никогда не забывает о великом постулате свободы воли. Душа сама жаждет расплаты за собственное зло, сама себя приговаривает к испытаниям и сама устанавливает срок. Об этом прямо говорит путникам Стаций, покидающий Чистилище для Рая.
Встреча со Стацием описана необычайно эффектно. Где-то на переходе из пятого круга в шестой гора, которую в этот момент путешественники огибают узкой тропинкой, внезапно сотрясается, налетает студеный ветер, и по всем уступам Чистилища раскатывается мощный возглас: «Gloria in excelsis!» Данте не понимает, что значит это землетрясение, не понимает и Вергилий. Однако все стихло, и они идут дальше, пока их не нагоняет, приветствуя, некая тень. Как всегда, тень удивляется присутствию телесного Данте. Вергилий, которому, как видно, уже наскучило каждый раз давать объяснения по этому поводу, отвечает кратко, не входя в подробности, и тут же спрашивает нового спутника, не знает ли он, почему сотряслась гора. Тот отвечает – а Данте, насторожась, жадно слушает, – что так происходит всякий раз, когда одна из душ «познает себя чистой» и ею овладевает воля «переменить обитель». Это и случилось сейчас с ним, Стацием, после многих столетий, проведенных в Чистилище. «Душа и раньше хочет; но строптив/Внушенный Божьей правдой, против воли,/Позыв страдать, как был грешить позыв». Тонкая диалектика: душа и хотела бы скорее подняться в райские обители, но вместе с тем и не хочет, пока не утолит до конца свою потребность в искупительном страдании. Когда настает этот момент, ей никто не говорит: довольно, ступай, – она сама чувствует «свободное желанье лучшей доли», поднимается и идет – и тогда вздрагивает гора Чистилища, и духи воспевают славу.
Стаций – римский поэт I века н. э„автор «Фиваиды». Охотно рассказывая о себе, но не зная еще, кто его собеседники, он говорит, что Божественную искру заронили в нем творения Вергилия – и как жалеет он, что не жил в одно время с ним. Вергилий и Данте лукаво переглядываются; Вергилий делает знак Данте, чтобы он молчал, но Данте не может сдержать улыбки, а Стаций спрашивает, чему он улыбается, и тогда Данте с позволения учителя (которому это явно приятно) раскрывает его инкогнито. Пораженный Стаций падает к ногам Вергилия и хочет их обнять, забыв на радостях, что и сам он, и его любимый поэт не имеют тела. «Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат», – напоминает Вергилий, отстраняя пылкого поклонника.
Вергилий, как выясняется, тоже слышал много хорошего о Стации – от его современника Ювенала, когда тот спустился в Лимб. Теперь он просит Стация по-дружески разрешить его недоумение: как это он, Стаций, совмещал мудрость с корыстолюбием? Вергилий думает, что Стаций повинен в корыстолюбии, так как они встретили его в пятом круге. Стаций с улыбкой говорит, что наказывался за противоположную вину – расточительство. Ошибка Вергилия понятна – скупцы и расточители здесь, как и в Аду, находятся вместе: их грех имеет общую природу, несмотря на внешнюю противоположность; и у тех и у других он связан с любовью к «праху» – к деньгам ли или к тому, что можно получить за деньги, расточая их. Все же Данте, как видно, считал грех мотовства не то что более простительным, но более благородным, более совместимым с мудростью, нежели скупость.
Стаций искупал в Чистилище еще и другую вину, кроме расточительства. Оказывается, он принял при жизни христианство, но, убоявшись гонений Домициана, хранил это в тайне, прикрываясь «показным язычеством». Вот за это малодушие он четыре с лишним века пребывал в четвертом круге Чистилища (среди «унылых»'), прежде чем перейти в пятый.
Он говорит, что к христианству его обратила четвертая эклога Вергилия, которая в христианской традиции считалась пророчеством о пришествии Христа и, согласно преданию, способствовала принятию христианства императором Константином. В свое время ее перевел на русский язык Владимир Соловьев. Написанная в конце I века до н. э. как послание к консулу Поллиону, четвертая эклога, упоминая о близком появлении некоего младенца, содержала предвестие обновления мира:
Новых великих веков чреда зарождается ныне. Вот уж ii Дева грядет, грядет и Сатурново царство. Новое племя уже с небес посылается горних.И дальше:
Оного века краса при тебе, Поллион, зародится. Консульство узрит твое начатки времен величайших, И хоть еще при тебе следы греха рокового Будут у нас, но вотще: мы вечного страха избудем. Жизнь богов восприняв, он вместе с богами увидит Всех героев земли и сам будет зрим между ними. Мир примирив, воцарит он отчую силу над миром.В. Соловьев в примечании к своему переводу писал: «Общий смысл стихотворения ясен. Объединение тогдашнего исторического мира в Империю Августа вызывало в поэте ожидания еще более великого переворота – наступления золотого века или Сатурнова царства с возвращением на землю девы Астреи, богини правды и мира. Знакомство Вергилия с мессианскими пророчествами евреев не представляет ничего невозможного. Загадочным остается только отношение всех этих грандиозных предсказаний к тому действительно римскому младенцу (был ли это сын консула Поллиона или кого-либо другого), с которым связано это стихотворение».
Пророчества четвертой эклоги – достаточная причина, чтобы именно Вергилию поручить сопровождать Данте до Земного Рая. Но тем не менее Вергилий, предвидевший и предсказавший христианство, должен пребывать в Лимбе, то есть все-таки в Аду, а обращенный им Стаций направляется в Рай. (Правда, зато Вергилию не пришлось выносить искупительных мук, которые Стаций терпел как-никак в продолжение двенадцати столетий.) Здесь автор «Комедии» находит сильный образ – один из тех великих образов-афоризмов, какие, рассыпанные в тексте поэмы, отделяются от нее и живут в веках уже как бы самостоятельно: «Ты был как тот (говорит Стаций Вергилию. – Н.Д), кто за собой лампаду /Несет в ночи и не себе дает,/Но вслед идущим помощь и отраду».
В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна его герой, композитор Леверкюн, дает музыкальную интерпретацию этого места – притчи «о человеке, несущем на спине светильник, который не светит ему в ночи, зато освещает дорогу идущим сзади». Горестно-героическая доля пророков.
Итак, спутники, теперь втроем, следуют своей тропой, непринужденно беседуя. Стаций спрашивает Вергилия о судьбе других прославленных римлян. Извечное сочувственно-любопытствующее: ну, как там все наши? «Где старый наш Теренций, где Цецилий,/Где Варий Плавт? Что знаешь ты про них:/Где обитают и осуждены ли?» Вергилий удовлетворяет сполна интерес Стация, не забывает упомянуть, что и многие из воспетых Стацием, в том числе Антигона, Йемена, также находятся вместе с ним в Лимбе. А потом оба римских поэта переходят на специальные, профессиональные разговоры о поэзии, содержания которых Данте не излагает и из скромности не вмешивается в них, но прислушивается и мотает себе на ус.
Зато подробно, хотя и не очень ясно, передает он объяснения Стация – каким образом бестелесные души могут страдать от голода, жажды, испытывать боль и прочее. Ход рассуждений приблизительно такой: зиждительная сила (душа) формирует тело еще в утробе матери, предсоздает будущий плод со всеми его свойствами и сама с ним сливается; окончательное слияние происходит, когда у зародыша «мозговая ткань вполне развита». Подобно тому как в виноградной лозе жар солнца превращается в вино, душа становится телом. Когда же «у Лахезис весь лен ссучи́тся», то есть приходит конец телу душа спешит из него прочь, «но в ней и бренное и вечное таится». И так же, как она наделяла свойствами плотский покров, так теперь она наделяет ими окружающий ее воздух – возникает новый облик, подобный прежнему телесному, но «теневой». «У нас владеют речью и смеются,/Нам свойственны и плач, и вздох, и стон,/Как здесь они, ты слышал, раздаются. /И все, чем дух взволнован и смущен,/ Сквозит в обличье тени; оттого-то /И был ты нашим видом удивлен».
В этих поучительных беседах Вергилий, Стаций и Данте приближаются к вершине горы. Последний перед нею круг – стена полыхающего огня, где, подобно рыбам в водоеме, всплывают и ныряют души сладострастных, на ходу обмениваясь лобзаньями и объятиями. Здесь много поэтов. Данте встречает Гвидо Гвиницелли, основателя «нового сладостного стиля», спешит выразить ему свой восторг, но Гвидо указывает на провансальского поэта Арнальда как лучшего певца любви; последний отвечает на приветствие Данте стихами на провансальском языке.
Доступ в Земной Рай Данте получает, только сам пройдя очистительный «укус огня»: после этого с его чела стирают последнее «Р», настает тихая благостная ночь, он засыпает и видит во сне ветхозаветных сестер Лию и Рахиль – аллегории жизни деятельной и жизни созерцательной, предваряющие встречу наяву с Мательдой и Беатриче. После пробуждения Вергилий венчает Данте символическими митрой и венцом в знак того, что теперь он сам себе хозяин, произносит короткое напутствие, а о себе говорит: «Отныне уст я больше не открою». Но до сознания Данте как будто еще не доходит, что его наставник с ним прощается навсегда. Вергилий не сразу покидает его: проходит с ним по лугам и рощам Земного Рая, но идет позади и молча – постепенно истаивающая тень. Очарованный красотою ландшафта, встречей с Мательдой, Данте не замечает минуты его исчезновения. Только когда появляется Беатриче на своей царственной колеснице, глубоко взволнованный Данте оборачивается к Вергилию – но того уже нет, и слезы Данте льются, «как черный дождь».
Земной Рай с расстилающимися коврами трав и цветов, пением птиц, чистейшими прозрачными реками – место, доступное восприятию смертных; оно отличается от подобных же прелестных уголков земной природы только тем, что не подвержено увяданию: царство вечной весны. Это тот самый Эдем, в котором жили до изгнания первые люди, и Данте, гуляя по его рощам, про себя досадует на Еву: не вкуси она запретный плод, радость «несказанных сеней» была бы доступна всем и всегда. Другое дело – Небесный Рай: там иные блаженства, неведомые на земле, там нет ни земного притяжения, ни плотности тел и постоянства форм; там непроницаемое вещество претворено в свето-цветомузыку, а души праведников – в хороводы живых огней, причем они могут одновременно находиться в разных пространственных сферах.
Но пока Данте все еще на земле. И здесь, на грани земли и неба, предстает перед ним та, которую он так любил еще восьмилетней девочкой, а потом молодой женщиной, – Биче Портинари, Беатриче, Благословенная. В зеленом плаще и огненно-красном одеянии, окутанная белым покрывалом, она стоит на колеснице, влекомой грифом; колесницу окружают танцующие девы и увенчанные лилиями и розами старцы; звучат песнопения, сияют светильники, облаком ниспадают цветы.
Кажется, что до сих пор обещанная Вергилием встреча с Беатриче все же представлялась Данте чем-то отвлеченным; по правде говоря, он не очень много помышлял о ней во время путешествия по Аду и Чистилищу. Ведь «умчались времена, когда его ввергала в содроганье одним своим присутствием она». Даже теперь, восхищенно следя за приближением ослепительной процессии со всеми ее световыми эффектами, замечая каждую подробность, Данте не сразу понимает, кто эта величавая женщина на колеснице, с лицом, закрытым покрывалом. И вдруг – внезапное потрясение: он ее узнает!..
Конечно, процессия состоит из библейских персонажей и имеет аллегорический смысл, точно выясненный комментаторами «Божественной комедии», да и сама Беатриче – символ небесного Откровения, явленного людям. Но Данте в ту минуту не до символов. Он силится разглядеть сквозь покрывало дорогие черты, не виденные уже десять лет (десять лет, как Беатриче умерла), чувствует прилив былой любви, трепет былого огня. Это узнавание, блаженная боль, мгновенно воскресшая любовь, смешанная с угрызениями совести (он не был верен ее памяти!), – вот что для него сейчас главное. Возлюбленная Данте является ему сохранившей земное обаяние в небесном величии: он поистине говорит о ней «то, что никогда еще не говорилось ни об одной». Ни до него, ни потом.
«С той мольбой во взоре,/ С какой ребенок ищет мать свою /И к ней бежит в испуге или в горе» Данте ищет взглядом Вергилия, чтобы поделиться с ним своим потрясением, – но Вергилия нет. Вот только что он еще был здесь, когда близилась колесница, еще ответил тогда взглядом на вопрошающий взор Данте… Теперь он исчез. И начинает говорить сама Беатриче. Ее речь замечательна тою же слиянностью небесного и земного, как и чувства Данте, ее увидевшего, – как вся кантика, посвященная Чистилищу.
Смысл Чистилища – раскаяние; раскаяния требует от Данте и Беатриче. Но в повелительное обращение небесной посланницы к земному грешнику странно и трогательно вплетаются интонации женщины, упрекающей неверного возлюбленного. О, она осталась той же моной Биче, благородной донной, которая некогда на улице Флоренции не ответила на робкое приветствие своего поклонника, потому что узнала о сопернице, «даме-ширме», а потом посмеялась над ним вместе со своими подругами, видя его крайнюю убитость ее немилостью. Она и сейчас негодует, язвит, подсмеивается.
Сначала она, «сдерживая гнев», строго вопрошает Данте: как он осмелился взойти сюда, «где обитают счастье и величье»? Вопрос, по-видимому, излишний, ведь сама же Беатриче спускалась в Лимб к Вергилию и со слезами просила вывести заблудшего Данте к свету. Но как истинная женщина, она спрашивает: «Зачет ты пришел?» – хотя пришел он по ее зову.
Далее она упрекает Данте за то, что после ее смерти «его душа к любимой охладела,/Он устремил шаги дурной стезей,/К обманным благам, ложным изначала». Беатриче подразумевает не только суетные устремления к политической карьере, но и романы Данте с другими женщинами. Слушая Беатриче, Данте изнемогает от стыда и раскаяния; ангелы из ее свиты умоляют простить его, но она настаивает, чтобы он вслух признал свою вину: «Скажи, скажи, права ли я!»
Но уже ясно, что она давно готова простить и непременно простит. По ее знаку Мательда погружает Данте поочередно в воды Леты и Эвнои, он становится «чист и достоин посетить светила». Ему предстоит посетить их вместе с Беатриче.
И когда пройдет все мимо, Чем тревожила земля, Та, кого любил ты много, Поведет рукой любимой В елисейские поля.Библейские эскизы Александра Иванова[18]
Понимание искусства как жизнестроительной миссии наложило своеобразный отпечаток на русскую культуру XIX столетия. Не только для Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, но и для передвижников художественный труд имел важность постольку, поскольку служил духовному совершенствованию людей. В этическом максимализме русских художников, возможно, сказывалась преемственность с многовековой культурой Древней Руси, где эстетическое сознание не отчленялось от религиозного. Преемственность, конечно, неосознаваемая: в XIX веке образ мыслей круто переменился, старинную иконопись позабыли, новый художественный язык, ориентированный на европейское Возрождение, не имел с ней ничего общего. Но где-то в потаенных генах прошлое продолжало жить. Древние благочестивые иконописцы не мыслили свое искусство вне служения Богу; их вольнодумные потомки, даже и не верящие в Бога, видели в искусстве служение чему-то высшему, чем оно само. Если не Богу, то нравственному обновлению человечества, не меньше.
Живописец Александр Иванов представляет такой тип художника в самом чистом выражении. Идея художественного мессианизма владела им повелительно, превратила его жизнь в подвижническое житие. Это произошло с ним не благодаря полученному воспитанию, скорее вопреки. Он был воспитанником императорской Академии художеств, обучавшей своих питомцев в духе эпигонского неоклассицизма и прививавшей им довольно формальное отношение к делу искусства. Учеников набирали только из низших сословий, приученных к послушанию; обучение начиналось с детского возраста и длилось двенадцать лет. Вырваться из-под пресса жесткой академической системы удавалось немногим.
Поначалу биография Александра Иванова складывалась традиционно: поступил в академию еще ребенком, занимался по классу исторической живописи (самому высшему в академической иерархии жанров) под руководством своего отца Андрея Иванова, профессора академии, и профессора Егорова, слывшего русским Рафаэлем. По окончании курса
Общество поощрения художников отправило Александра пенсионером в Италию. В отличие от своего старшего товарища Карла Брюллова Иванов в годы учения особенно не блистал, хотя работал прилежно, выполнял задания, получал медали. Писал «Приама перед Ахиллом», «Иосифа, толкующего сны», «Беллерофонта, отправляющегося в поход против Химеры» – картины, не слишком отличающиеся от принятых академических стандартов. Он был медлителен, тих, серьезен, был тяжелодум; какая-то сосредоточенная душевная работа шла в нем подспудно. Может быть, он и уступал Брюллову в яркости, искрометности дарования, но тот как будто родился готовым Брюлловым и со временем мало изменялся, а Иванов, двигаясь неуклонно и непрерывно, не только вырос впоследствии из академических пелен, но перерос лучшие живописные достижения своих современников, выработал новое художественное зрение и новый взгляд на искусство.
Заметный сдвиг и в мыслях и в творчестве наступил уже в первые годы жизни в Риме, куда Иванов прибыл в 1830 году. В Петербурге среда художников, вербовавшихся из семей мещан и мастеровых, была обособлена от той напряженной умственной жизни, которой жила тогда дворянская интеллигенция. К ней были так или иначе причастны лишь немногие живописцы, в том числе «видописец и перспективист» (то есть пейзажист) Карл Рабус современники отзывались о нем как о самом просвещенном художнике. Иванов дружил с Рабусом, снабжавшим его списками книг для чтения; других тесных знакомств вне академического круга у него, по-видимому, не было. В Риме же молодые русские художники, пенсионеры академии, имели возможность общаться и с иностранцами, и со своими земляками – писателями, артистами, музыкантами, наезжавшими в Вечный город. Здесь Александр Иванов стал бывать в салоне Зинаиды Волконской, у нее свел знакомство с молодым философом Николаем Рожалиным, участником кружка любомудров. Как много значили для Иванова их беседы, можно судить по письму к Рожалину, где он пишет: «Отцу моему я обязан жизнью и искусством, которое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его – душе».
Рожалин, умерший от туберкулеза совсем молодым, был одним из ранних русских романтиков, вкусивших плоды германской философии. Незадолго до приезда в Рим он слушал в Мюнхене лекции Шеллинга по философии искусства. Очевидно, они занимали не последнее место в разговорах с Ивановым, еще в Петербурге читавшим некоторые сочинения Ваккенродера, Новалиса, Августа Шлегеля. Возможно, идеи шеллингианства были не совсем по плечу выученику российской Академии художеств, дававшей более чем скудное общее образование (о чем Иванов всегда сокрушался), но то главное, что отвечало складу его творческой личности, он принял всей душой: мысль о великой миссии искусства в приближении духовного возрождения общества. Искусство, согласно Шеллинговой философии тождества, воссоединяет в себе начала, которые в теоретическом мышлении разобщены – всеобщее и единичное, природу и дух, идеальное и реальное, – являясь в этом смысле подобием творчества Бога, создавшего Вселенную. Сознание высокого предназначения искусства, его единства с религией и философией укоренилось в миросозерцании Александра Иванова. Его окрыляла мысль, что и пластические искусства не сводятся к ремеслу, а «есть такая же умственная отрасль в человечестве, как поэзия и музыка».
Под впечатлением бесед с Рожалиным Иванов написал картину «Аполлон, Кипарис и Гиацинт» – лучшее произведение своей молодости. Он написал его во славу искусства. Предводитель муз обучает пению и игре на свирели двух прелестных мальчиков-пастухов (они же олицетворяют природные начала: Кипарис – дерево, Гиацинт – цветок). Художник неспроста выбрал этот малоизвестный сюжет греческой мифологии. Музыка в представлении романтиков была парадигмой всех искусств, сосудом мировой гармонии.
Картину эту Иванов не отсылал в Петербург – оставил у себя и никогда с ней не расставался: она была его заветным, интимным творением, а для отчета перед Обществом поощрения художников надо было найти другой сюжет. Художник намечал несколько возможных и наконец остановился на эпизоде из истории библейского Иосифа – «Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина».
Эта многофигурная композиция должна была показать петербургским меценатам умение их подопечного компоновать, группировать, драпировать, справляться со сложными ракурсами и с достаточной отчетливостью (это слово любили в академии) представить драматическую суть происходящего – удивление и растерянность братьев. Иванов послал в Петербург два эскиза, получил в ответ одобрение одного из них и несколько замечаний, касающихся частностей. Оставалось приняться за картину. Но художник не спешил, по-видимому, замысел мало удовлетворял его самого. С присущей ему добросовестностью он сделал еще двадцать вариантов композиции, показывал их другим художникам, ожидая советов. Слушал многих, но послушался одного.
Им оказался не ученик Давида Камуччини и не прославленный ваятель Торвальдсен (оба жили тогда в Риме), а немецкий живописец Фридрих Овербек, глава «назарейцев». Назарейцы отрицательно относились к методам европейских академий. Они ориентировались на «дорафаэлевскую» эпоху XV века, когда искусство, по их мнению, было искренним и непосредственным выражением религиозных чувств. Иванов питал большое уважение к Овербеку: он импонировал ему не столько своей живописью, довольно сухой и постной, чего Иванов не мог не замечать, сколько взглядами, суждениями, образованностью. Образ мыслей Овербека формировался под влиянием немецкой романтической философии, к которой Иванов приобщался через Рожалина. Именно от
Овербека Иванов услышал решающее слово, подсказавшее ему выбор пути. Рассматривая эскиз «Братьев Иосифа», Овербек заметил (цитирую письмо Иванова от 1833 года в Общество поощрения художников): «…предмет мой есть эпизод истории Иосифа: всякий эпизод не достоин быть большой картиной, ибо есть привходящая часть истории, и потому лучше выбирать сюжеты для больших произведений, составляющие целый объем чего-либо (поэму). С этой мыслью занялся я снова отысканием для себя сюжета, прислушивался к истории каждого народа <…> и нашел, что выше евреев ни одного народа не существовало, ибо им вверено было свыше разродить Мессию, откровением коего начался день человечества! Таким образом, идя вслед за алканием пророков, я остановился на Евангелии – на Евангелии Иоанна! Тут на первых страницах увидел я сущность всего Евангелия – увидел, что Иоанну Крестителю поручено было Богом подготовить народ к принятию учения Мессии, а наконец и лично Его представить народу. Сей-то последний момент выбираю я предметом картины моей, то есть когда Иоанн, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу: “Се агнец Божий, вземляй грехи мира!..”»
Так Иванов определил дело своей жизни: создать произведение общечеловеческой значимости, которое проложило бы русскому искусству дорогу в будущее. Вера в возможности русского искусства наполняла его чувством ответственности. Сравнивая своих соотечественников с современными итальянскими художниками, он находил, что последние уступают русским: они выдохлись, отцвели, не достойны своих великих ренессансных предшественников; русские же, по мнению Иванова, только начинают, они еще «новорожденные», но силы у них большие и им суждено стать наследниками мировой классики и пойти еще дальше. А для этого требовалась, помимо школы, масштабность целей. Замечание Овербека упало на подготовленную почву.
Скромный в жизни, в искусстве Иванов строил великие планы. Художественный максимализм был свойством его натуры, подогреваемым идеями романтиков. Исследователь немецкого романтизма Н.Я. Берковский пишет: «Ранний романтизм стремился к большим поэтическим формам, к роману со всесветным содержанием, если не к эпопее, к развернутым театральным зрелищам, к многоэпизодным драмам, к феериям и мистериям». В дальнейшем, говорит Берковский, романтикам пришлось разочароваться в идее преобразования мира через искусство, и большие формы вытесняются лирическими жанрами. Но Иванову лирическая стихия осталась чуждой. Он утвердился на стадии романтическо-эпической, на «всесветном содержании», на универсуме. В этом отношении философия романтизма была для него не просто преходящим увлечением молодости – она прочно укоренилась в сознании, оплодотворив не только подвижнический труд над «Явлением Мессии», но, как увидим дальше, и работу над библейскими эскизами.
Отсюда, впрочем, не следует, что Иванов был умозрительным художником, философствовавшим с кистью в руках. Нет, он был не слишком-то силен в отвлеченных умозрениях, хотя перед «ученостью» благоговел. Философия подсказывала ему общее направление, а в живописи он вырабатывал свои методы и совершал свои открытия благодаря исключительному дару, великому труду и художественной интуиции.
Итак, на третьем году жизни в Италии Иванов твердо решил писать «Явление Мессии» – «сущность всего Евангелия». Этот замысел не вызвал сочувствия в Петербурге, показался неподходящим для живописного оформления. «Смысл всего Евангелия – предмет довольно важный, но как ты оный изобразишь?» – недоумевал Андрей Иванов, отец Александра. Григорович, конференц-секретарь Общества поощрения художников, прямо запретил работать над таким сюжетом. Тогда Александр Иванов, не думая расставаться с замыслом «Мессии», довольно быстро написал картину «Явление Христа Марии Магдалине» и отправил ее в Петербург в качестве отчета. Картина эта несла отблеск его главного замысла. В выражении лица Магдалины, увидевшей живым того, кого она считала мертвым, в ее улыбке сквозь слезы проступала тема радостного потрясения, блеснувшей надежды, доминирующая в психологическом решении задуманной большой картины. Но фигура Христа, поставленная в позу Аполлона Бельведерского, трактована слишком академически, да и лицо незначительно. Сам художник говорил, что здесь «только начаток понятия о чем-то порядочном». Однако «Явление Христа Магдалине» всем очень понравилось и произвело фурор в Петербурге. Художнику присудили звание академика. Он мог теперь вернуться на родину и занять в академии достойное место. Его отец, к тому времени отстраненный от преподавания по необъяснимой прихоти Николая I, очень рассчитывал на скорое возвращение сына. Вместо этого от сына пришло письмо, где говорилось: «Вы полагаете, что иметь жалование в 6–8 тысяч руб. по смерть, получить красивый угол в Академии с отопкой и освещением есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастие. Русский исторический живописец должен быть бездомен, совершенно свободен <…> никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного <…>. Купеческие разсчеты никогда не подвинут вперед художества, а в шитом высоко стоящем воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять вытянувшись».
Александр Иванов стал «невозвращенцем». Правда, пенсион ему выплачивали еще три года сверх положенного. Он много ездил по Италии, открывал для себя новые художественные миры – не только венецианских колористов Тициана, Веронезе и Тинторетто (а также Беллини и Чима да Конельяно), которых в российской академии не очень жаловали, но и много такого, о чем там не имели понятия или считали недостойным внимания: Джотто, мастеров Кватроченто, средневековые мозаики и фрески. Рафаэля и Леонардо да Винчи Иванов по-прежнему ставил превыше всего, но это не мешало ему впитывать и совершенно иные впечатления. Главное же для него – быть «вечно в наблюдениях натуры». Он не считал себя пейзажистом, но в «Явлении Мессии» нужно было изобразить берег реки, дерево, пустыню, дальние горы – и он писал горы в Неаполе, «реку чистейшей и быстро текущей воды» в Субиако, старую Аппиеву дорогу в Риме, Понтийские болота. Писал этюды почвы, камней, веток. Никогда не сбивался на банальную сладость в изображении итальянской природы: его пейзажи, несмотря на небольшие размеры, эпически величавы и могут напомнить о классических ландшафтах Пуссена, с той разницей, что у Иванова все прослежено и проверено на природе. Камни в горном ручье, ветка дерева на фоне лиловеющих далей учили его тайнам цвета, определяющего форму и пространственные планы, меняющего оттенки в зависимости от освещения. Он замечал самые тонкие эффекты: как «скачущая пена, соединяясь с росой, кроет лиловато-седоватым цветом и зелень, и скалы, и все, возле находящееся». Постоянно работая на пленэре, стал писать синие тени, цветные рефлексы в тенях, предвосхищая видение импрессионистов, но предметы у него не подвергались «развеществлению», сохраняли осязаемую материальность, цвет оставался звучным и насыщенным, композиция – строго построенной. В искусствоведческой литературе Иванова иногда не без основания сопоставляют с Сезанном. Но то, что для Сезанна было целью, для Иванова было средством. Он утверждал, что отдельно от большой картины его этюды, особенно ценимые художниками, «мало значат».
Он не считал себя и портретистом, даже презирал портретный жанр как самостоятельный, но в поисках нужного для картины типажа писал множество разнообразных лиц. При этом действовал методом «сравнения и сличения», стремясь «согласить творчество старых мастеров с натурой». Это не значит, что он «поправлял» свои натурные этюды по античным или ренессансным образцам (такой метод он решительно отвергал), он искал в жизни лица, подобные тем, что могли вдохновить старых мастеров. Вглядываясь, например, в античную голову фавна, словно задавался вопросом: какова была натура, претворившаяся в этом образе? И сквозь ужимки мраморного козлоногого божества ему виделось сморщенное лицо раба с жалкой улыбкой. Наблюдения над живыми людьми вносили новые обертоны: среди этюдов головы раба есть головы нищих с изуродованными лицами, клейменых каторжников, есть лица забитые и мятежные, приниженные и вызывающие, есть даже женские и детские, смеющиеся. Так он работал почти над каждым персонажем «Явления Мессии», проводя его через ряд перевоплощений.
Он мечтал посетить Палестину – место действия своей картины – и еще в 1834 году, а потом снова в 1837-м обращался в Общество с просьбой командировать его туда, но ему решительно отказали, а собственных средств на поездку не было. Художнику пришлось удовольствоваться поисками нужного типажа и ландшафта в Италии. Как Рембрандт для своих библейских сюжетов писал обитателей еврейского гетто в Амстердаме, так и Иванов искал прообразы для картины в синагогах. Он сообщал сестре: «Я им (евреям. – Н.Д) очень, очень нравлюсь моею начитанностью Библии, и они мне очень, очень нравятся в своих синагогах, где я вижу гораздо более набожности, чем в нынешних церквах христианских».
Шли годы; художник трудился с неостывающим жаром: вся его жизнь сосредоточилась на работе над грандиозным полотном, а конца все не было видно. Он обрек себя на крайнюю бедность, так как больше не получал денежной помощи, а брать ради заработка посторонние заказы не хотел – это отвлекало бы его от главного дела. Так он и отвечал на увещания друзей и родных. В 1840 году писал брату: «Ты говоришь: оканчивай скорей картину, чтобы начать другую. Сыщи мне сюжет выше. Что ты скажешь? Ну, подобный! – трудно; нет, я думаю, и невозможно. Так чем же ты меня заманишь к следующей картине?» Что было делать с упрямцем? Он не обзавелся семьей, видя в привязанности к женщине «страшное препятствие для занятий», хотя к женщинам его влекло. О возвращении в Петербург, в ненавистную академию не хотел и слышать, но, неисправимый утопист, измышлял проекты устройства быта русских художников, один другого фантастичнее.
Об Иванове с его никак не кончавшейся картиной в России ходили всевозможные толки: его считали не то чудаком, не то святым или тем и другим вместе. Художники в Риме, знавшие Иванова, иногда над ним подшучивали, но в общем любили римского затворника, возвышенного и простодушного, хотя, кажется, никто не решался ставить его как художника наравне с пожинавшим лавры Брюлловым.
Любил Иванова и Гоголь, с которым он близко сошелся в Риме. В 1846 году Гоголь написал в форме письма к М.Ю. Виельгорскому статью «Исторический живописец Иванов» – она вошла в «Выбранные места из переписки с друзьями». Практической целью статьи было привлечь внимание русского общества к бедственному положению художника и дать ему средства для окончания картины – «ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, какого не затевал доселе никто». Гоголь говорил, что вся материальная часть картины Ивановым уже исполнена, и исполнена в совершенстве, но, чтобы «изобразить на лицах… ход обращения человека ко Христу», мало неустанной работы, натуры, воображения, нужно, сверх всего этого, истинное всецелое обращение ко Христу самого художника. «И это было предметом сильных страданий его душевных и виною того, что картина так долго затянулась».
Возможно, Гоголь был прав: Иванова посещали сомнения. Как видно из его записей, он все время пытался осмыслить в свете разума евангельские откровения. Ведь он с самого начала осознавал себя историческим живописцем, а картину свою – исторической картиной, не только в смысле «точностей антикварских», но, главное, в том, что изображаемое эпохальное событие является звеном человеческой истории, связано и с ее прошлым, и с будущим. Значит, большой путь исканий истины этому событию предшествовал и еще больший простирается впереди, теперь уже на путях разума, науки, «посредством математики», как выражался Иванов на своем тяжеловесном языке. Ищущей мысли художника постепенно становилось тесно в границах одного «Явления Мессии»: ведь и этот сюжет был только частью, только моментом истории.
Уже с конца 1830-х годов он стал позволять себе некоторые отходы в сторону от работы над картиной. До 1848-го (года «перелома») таких отходов у него было немного, но каждый так или иначе подводил его к будущим библейским эскизам.
В 1839–1842 годах он написал несколько акварелей (впервые воспользовавшись этой техникой) на бытовые темы: «Жених, выбирающий кольцо для невесты», «Пение Ave Maria на городской площади», «Октябрьские праздники в Риме», – то есть произведения бытового жанра, к которому всегда относился осуждающе. В данном случае он проявил непоследовательность, но, как известно, жесткая последовательность не всегда хороша и, во всяком случае, не является добродетелью художественных натур. В неожиданном обращении Иванова к жанру могла сказаться и просто потребность дать себе некоторую разрядку, и его любовь к римской уличной жизни, к экспансивной, веселой итальянской толпе; могло здесь быть и влияние Гоголя. Наконец, работая над этими вещами, художник тренировал свою наблюдательность, что отозвалось потом в библейских эскизах, где и житейские мотивы находили место. Но когда Общество поощрения художников предложило Иванову сделать еще несколько жанровых композиций, он решительно отказался, мотивируя опять-таки невозможностью отвлекаться от главной работы.
Еще раз он отвлекался в 1845 году, также на дело для него необычное – создание запрестольного образа «Воскресение» для храма Христа Спасителя, возводимого в Москве по проекту К. Тона.
В XIX веке многие светские живописцы писали образа для церквей, отец Александра Иванова после увольнения из академии зарабатывал этим на жизнь. Писали образа в академической манере, не имеющей ничего общего с древнерусской традицией. Александр Иванов к академической «иконостасной» живописи относился резко отрицательно, а старинной иконописи, как и все его современники, почти не знал, кроме поздних икон XVIII века. Но убранство храма Христа Спасителя предполагалось «в византийском вкусе», и это настолько заинтересовало художника (он видел в Италии византийские памятники), что он по собственному почину, не дожидаясь официального заказа, начал работать над эскизами «Воскресения», со свойственной ему основательностью добираясь до исторических корней – до «прадедной символики церковной». Он просил отца и своих друзей из числа славянофилов присылать ему иконные прориси и книги об иконописании. Славянофилы так же мало знали о русской иконе, как и западники, а отец не одобрил намерения Александра, считая, что придерживаться старого иконного стиля – значит потакать необразованности народного вкуса.
Однако Иванову удалось получить некоторые материалы через посредство младшего брата, архитектора. Прежде всего он изучил иконографию. В византийской и древнерусской живописи воскресение Христа изображалось не прямо, а косвенно: или жены-мироносицы у опустевшей гробницы, где их встречает ангел, или нисхождение воскресшего Христа в ад, откуда он выводит ветхозаветных праведников и прародителей человечества Адама и Еву. Иванов остановился на «Сошествии во ад», различно варьируя композицию. В окончательном эскизе он достиг, сколь возможно, органического объединения иконописного «апотеозического» стиля с элементами современного видения. Как и в древних иконах, изображение ориентировано на плоскость, перспективное построение отсутствует. Но есть ощущение фактурности, вещественности, которого в иконописи обычно нет. В верхней части – облака и звезды, подобие космического пейзажа, внизу – тяжелые разломанные адские врата, кого-то придавившие под обломками, выглядят как след мощного землетрясения. В разверзшейся мрачной бездне ангелы связывают и изгоняют бесов.
Иванову не пришлось предъявлять свой эскиз – заказ на запрестольный образ получил Брюллов, а Иванову предложили написать четырех евангелистов. Он отказался: теперь он не мог писать ничего заданного, а только то, что облюбовал сам. Единственная попытка работать для церкви не состоялась, но Иванов не слишком об этом жалел: зато работа над «Воскресением» дала ему новую идею – идею необычного храма, где иконостас был бы исполнен в традиционном «апотеозическом» стиле, а в стенной росписи, посвященной евангельской и ветхозаветной истории, стиль постепенно переходил бы в современный исторический; ограда храма должна была быть украшена «мозаическими изображениями всех важнейших происшествий нашей истории до сего времени», наружная ее часть – «всемирными эпохическими предметами». Этот громоздкий утопический проект предвосхищал более поздний замысел «храма человечества» (уже не церкви), для которого предназначались библейские эскизы.
В альбомах Иванова все чаще появляются наброски композиций на сюжеты из Библии, не связанные с «Явлением Мессии», среди них иллюстрации к Книге Бытия. Сделанные в 1846–1847 годах, они предваряют позднейший библейский цикл и могут рассматриваться как его начало (так называемые протобиблейские эскизы). Рисунки, посвященные грехопадению Адама и Евы, сравнительно малооригинальны: в них Иванов сбивается на привычные академические методы композиционных решений. Но исключительно интересны монохромные акварели «Дни творения». Здесь художник дает волю фантазии, не следуя никаким образцам. Он отдается во власть изначальным космогоническим представлениям о Творце как мудром мастере, который любовно лепит и оживляет мир, вызванный им из небытия. Сама манера рисунка – скупые линии, компактные очертания, без растушевки и проработки объемов – призвана выразить величавую простоту древнего предания. В наброске «Дух Божий носился над водами» возникает образ довременного хаоса, Мирового океана; Дух, носящийся над бурными беспорядочными волнами, не имеет определенной формы: то ли руки, то ли крылья, распростертые над бездной. Но вот хаос усмирен, сотворена земная полусфера, бескрылые ангелы бережно поддерживают руки Саваофа – большие чуткие руки скульптора: он вкладывает в новосозданный мир солнце и месяц, потом маленьких людей и животных. Истинно монументален небольшой по размерам лист – оживление Адама. Длинными тянущимися горизонталями, горизонтальной грядой облаков создается впечатление бескрайней пустынной равнины: земля без человека. Посередине лежит Адам – еще безжизненная кукла. Саваоф приникает к его лицу, чтобы вдохнуть душу.
В те же годы Иванов усердно читал Библию и делал записи в особой тетради. Его «Мысли при чтении Библии» фрагментарны, в них не сразу можно обнаружить систему. На своем трудном духовном пути он возводил и рушил многие воздушные замки. Часто он возвращается к мысли о провиденциальном назначении России и русских художников в обновлении человечества и наступлении золотого века. Большие надежды возлагает на царя – при условии, что тот будет прислушиваться к пророческому голосу художников, призванных смягчить нрав государя и расположить его к милосердию, как Давид смягчал своей музыкой Саула, а сами художники будут избавлены от «подлейшего чиновничества, нас на каждом шагу угнетающего». Нужно заметить, что в 1845 году Николай I приезжал в Рим и посетил мастерскую Иванова; Николай умел при желании обворожить собеседника – так было и с Пушкиным, а с доверчивым Ивановым и вовсе не составляло труда. Иванов потом писал Языкову, что приход царя дал ему «чувство собственной значимости». Больше прежнего он чувствует себя призванным проложить новый путь в искусстве. Как ему мыслился этот путь? Теперь он полагал нужным разграничить сферы живописи иконной и исторической. Иконники пусть следуют традиции, «вчитываясь в греческих пастырей», то есть в сочинения Отцов Церкви. «А образованным художникам нашим предстоит поприще чисто исторической живописи, в которой они долженствуют соединить развитие искусства итальянского в 15-м столетии с глубокими сведениями древности, взвешиваемыми беспрестанно чистейшим критическим разумом русским». Задуманный им «храм» будет представлять «результат всех верований, отданных на разбор последней нации на планете Земле».
Такова общая программа, которую Иванов считал желательной для современного искусства. А философический подтекст библейских эскизов, к которым он вскорости приступил, выражен в следующей записи: «Человек чувствует божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Но он не в силах его изобразить иначе, как приписав ему свои человеческие качества, составляя таким образом себе идеалы. Отсюда художник начинает свои действия…»
Мысль эта близка идеям немецкого философа Людвига Фейербаха. Но есть и существенная разница. Фейербах, считавший, что «религия есть сон человеческого духа», видел в ней возвышение и обожествление собственно земных, человеческих качеств. Иванов же думал, что человек приписывает Божеству эти качества, так как иначе не в силах выразить невыразимое и только так может облечь в форму свой внутренний религиозный опыт.
Революционные события 1848 года нарушили тихое затворничество Александра Иванова. Общественные потрясения, кипение политических страстей, от которых «римский отшельник» всегда был далек, подступили к порогу его кельи. Сначала он лишь беспокоился, как бы все это не помешало его работе над картиной. А.И. Герцен позже вспоминал: «Я познакомился с ним в Риме в 1847 году. При первом свидании мы чуть не поссорились. Разговор зашел о “Переписке” Гоголя. Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением. Влияние этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Настал громовой 1848 год; я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его; я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились.
В Париже была провозглашена республика, престол папы покачнулся, вся Европа приподымалась, – я забыл Иванова и поскакал в Париж».
Однако Иванов не был таким уж смиренным монахом от искусства, как обрисовал его Гоголь в своей статье. Может быть, не сразу, но события его расшевелили. Он сочувствовал воле итальянского народа к освобождению от австрийского господства, сочувствовал романтическому основателю «Молодой Италии» Мадзини, возглавившему кратковременную Римскую республику. Знакомство и беседы с Герценом также оставили след в мировоззрении художника: мощный ум Герцена не мог не привлекать его, оттесняя влияние Гоголя. Помогало и присутствие младшего брата Сергея, настроенного достаточно радикально. Десятилетие спустя, уже после смерти художника, Сергей Иванов писал В.В. Стасову, отвечая на вопрос, не Гоголь ли содействовал замыслу библейских эскизов: «Могу вас уверить, что ошибаетесь сильно: этот переворот не Гоголь произвел, а 1848 год. Не забудьте, что мы с братом были в Риме личными свидетелями всего тогда происшедшего. Мы с ним читали в то время все печатавшееся, как в Риме, так и во французских газетах. В этом году все книгопродавцы римские доставляли очень дельные, до того строго запрещенные книги с необычайной скоростью и легкостью; мы же со своей стороны не спали. Гоголь же от 1848 года нисколько не переменился <…>. Вспомните только то, что Гоголь все более и более впадал в биготство[19], а брат, напротив, все более и более освобождался и от того немногого, что нам прививает воспитание».
Дальше С. Иванов сообщал о самом главном: «У брата была мысль сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа. Проектировалось исполнение всего живописью на стенах особо на то посвященного здания, разумеется не в церкви. Сюжеты располагались следующим образом. Главное и большое поле каждой стены должна была занимать картина или картины замечательнейшего происшествия из жизни Христа; сверху же ее или их (так сказать, по бордюру, хотя это слово не совсем тут верно) должны были быть представлены, но в гораздо меньшем размере, относящиеся к этому происшествию или наросшие на него впоследствии предания или сказания, или же сюжеты на те места Ветхого Завета, в которых говорится о Мессии, или происшествия подобные, случившиеся в Ветхом Завете, и т. д. Эти композиции, наполняющие все альбомы и большую часть отдельных рисунков, рождались, набрасывались углем и потом отделывались – все одновременно, хотя все это происходило в продолжение восьми лет, то есть с 1849 года до начала 1858 года, года его поездки в Петербург и кончины».
Значит, по достоверному свидетельству самого близкого человека, Александр Иванов начал работу над «храмом человечества» в 1849 году (а задумал еще раньше, как видно из «Мыслей при чтении Библии») и мыслил ее как историю жизни и деяний Христа с привлечением «наросших» преданий и параллелей из Ветхого Завета. Претерпел ли этот замысел существенные перемены после знакомства с книгой Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», которую Иванов прочитал не ранее конца 1851 года во французском переводе? По-видимому, нет: проект в своей основе остался тем же. Все эскизы, числом более двухсот (включая и завершенные в цвете листы, и наброски), исполнены на сюжеты Ветхого и Нового Заветов, причем преобладают евангельские эпизоды – история Христа. Нельзя сомневаться, что все та же идея – «сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа» – владела художником и в последний год его жизни, когда он привез наконец в Петербург свою большую картину. Стасов свидетельствовал: «Придя ко мне, в 1858 году, незадолго до смерти своей, в Публичную библиотеку, он меня просил показать ему все, какие мне только известны, достовернейшие и древнейшие изображения Христа на мозаиках, фресках и других монументах, – причем, скажу мимоходом, оказалось, что он уже давным-давно все существующее в этом роде знает лучше меня».
Что же дала или подсказала Иванову книга Штрауса, которую он очень стремился заполучить, а получив, тщательно изучал?
Сначала несколько слов об этой книге. Ее автор – представитель так называемой либеральной теологии, ставившей задачу освободить Евангелие от легендарных наслоений, от метафизики, выявив реальное историческое зерно. Главным камнем преткновения здесь были сверхъестественные явления и чудеса, о которых повествуют евангелисты. Штраус в «Жизни Иисуса» полемизирует со своими предшественниками, пытавшимися найти естественное объяснение чудесам. Так, чудо хождения по водам они объясняли тем, что ученикам только показалось, будто Иисус идет по воде, а на самом деле он шел по кромке берега; преображение истолковывали как оптическое явление; воскрешение Лазаря – как пробуждение от летаргии, и так далее. Подход Штрауса был более радикальный – он прямо утверждал вымышленность евангельских чудес. Много места в его книге занимают доказательства их невозможности. По его мнению, рассказы о сверхъестественных событиях жизни Иисуса возникли из мессианистских чаяний еврейской общины. Поэтому все они имеют прообразы в Ветхом Завете, а также перекликаются с другими религиозными и мифологическими системами. В книге эти аналогии рассматриваются. Штраус впервые применил к христианской истории понятие миф, хотя в отличие от позднейшей мифологической школы не сомневался в реальном существовании Иисуса Христа.
Иванова не могло не заинтересовать уже само название книги, «Жизнь Иисуса», совпадавшее с его собственной темой. О книге этой, вышедшей первым изданием в 1835 году, много говорили, в папском Риме она была запрещена; художник надеялся почерпнуть в ней дополнительные знания о предмете. И действительно, приводимые Штраусом параллели с Ветхим Заветом ему очень пригодились: ведь он и сам задумывал показать их в эскизах росписей, чтобы представить христианство как «результат всех верований», но чувствовал себя недостаточно эрудированным. Тут он часто прямо следовал Штраусу, как доказано В. Зуммером на основании таблиц, где художник схематически намечал расположение композиций на стене. Например, в центре – «Искушение Христа», а «по бордюру» – «Иегова искушает Давида», «Змей искушает Еву», «Ариман искушает первых людей». Или вокруг «Благовещения» – «Три ангела у Авраама», «Бог является родившемуся Моисею» и другие.
Экскурсы Штрауса в область языческих религий и митраизма также привлекли внимание Иванова: судя по таблицам, он намеревался ввести в росписи «Вознесение Геркулеса», «Леду и лебедя», некоторые другие античные мифы. Однако ни один из них не получил даже предварительной разработки. Все листы посвящены только библейским событиям: более всего – евангельским, меньше – ветхозаветным.
Преувеличивать влияние книги Штрауса на работу Александра Иванова не следует, и тем более трудно согласиться с выводом Зуммера, будто цикл Иванова ее иллюстрирует. Не говоря уже о том, что цикл был задуман и начат задолго до знакомства с книгой, а также о том, что пластические образы художника вообще несопоставимы с отвлеченными рассуждениями ученого, они иные и по смыслу. Иванов направляет усиленное внимание как раз на то, что Штрауса занимает только в отрицательном аспекте, – на атмосферу чудесного и таинственного, окутывающую евангельские повествования.
Если бы Иванов действительно следовал ходу мыслей Штрауса, подчинился логике его доказательств, он изобразил бы демифологизированную историю Христа примерно так как через несколько десятилетий сделал В.Д. Поленов в серии полотен о жизни Иисуса – очень поэтических, но лишенных элемента сверхъестественного. По такому пути шел французский историк и писатель Эрнест Ренан в широко известной книге «Жизнь Иисуса» (она вышла через несколько лет после смерти Александра Иванова). «Освобождал» от чудес историю Христа и Лев Толстой, по-своему переложивший Евангелие, – «евангелие от Льва», как его в шутку называли. Но Иванов подходит совсем иначе, собственно, вразрез с позитивистскими течениями. Он представляет события в полном согласии с евангельскими текстами, где чудесное вплетено в ткань реального.
Сакраментальный вопрос: могли ли чудеса быть на самом деле? – для Штрауса был первостепенным, а для Иванова как художника словно бы не существовал, он мыслил в иных категориях. Практически книга Штрауса послужила ему лишь путеводной нитью для отбора сюжетов, окружавших евангельскую основу. Однако чтение ее, а также и других книг, ранее запретных (может быть, среди них были и сочинения Фейербаха), несомненно, влияло на него, истребляя последние остатки догматического мышления. Так широко раздвинулись мыслительные горизонты, что померк замысел большой картины «Явление Мессии», в которую он прежде думал вместить «смысл всего Евангелия», – идеи духовного возрождения человечества. Ведь и сюжет «Сошествия во ад» внутренне аналогичен «Явлению Мессии» (не потому ли он его и выбрал?) – и там и здесь является Христос-искупитель, неся грешному человеческому роду милосердие и надежду. Но где же путь, пройденный человечеством? Где история?..
В письме 1855 года неизвестному адресату Иванов писал: «Мои труды: большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 185 5 г., в мыслях наших тем, что перед последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется… Вы, может быть, спросите: что ж я извлек из последних положений литературной учености? Тут я едва могу назваться слабым учеником, хоть и сделал несколько проб, как ее приспособить к нашему живописному делу».
Под пробами художник разумел библейский эскизы, над которыми работал уже несколько лет с таким же полным страстным погружением, как раньше над большой картиной. Но никому, кроме брата, эскизы не показывал и мало кому о них говорил, а если говорил, то обиняками.
В 1857 году он поехал в Лондон, чтобы свидеться с Герценом и у него «зачерпнуть разъяснение мыслей моих». Беседуя с Герценом и Огаревым, Иванов, по-видимому, больше слушал, чем говорил; об эскизах из жизни Христа упоминал только как о давнем намерении, умалчивая о том, что они уже наполовину сделаны. Из разговора с художником Герцен и Огарев вынесли одно: он разочарован в прежних идеалах искусства (религиозных?), ищет новых (каких?), но сомневается в своей способности их воплотить. Герцен в некрологе Иванову так передавал (по памяти) слова художника. «Я утратил ту религиозную веру, которая мне облегчала работу, жизнь, когда вы были в Риме… Я мучусь о том, что не могу формулировать искусством, не могу воплотить мое новое воззрение, а до старого касаться я считаю преступным, – прибавил он с жаром. – Писать без веры религиозные картины – это безнравственно, это грешно; я не надивлюсь на французов и итальянцев: разбирая по камню католическую церковь, они наперехват пишут картины для ее стен. Этого я не могу, нет, никогда, никогда!»
Нет оснований не доверять свидетельству Герцена. И все же, не странно ли: Иванов с жаром утверждает, что утратил веру, что писать религиозные картины без веры преступно, – а в то же самое время самозабвенно работает над огромным циклом религиозных картин и продолжает эту работу, вернувшись из Лондона в Рим. Даже при том, что его собеседники о ней просто не знали, они должны были почувствовать противоречие в словах Иванова. Если Герцен в это противоречие не углублялся, приветствуя художника уже за его поиски новых идеалов, то Огарев не преминул указать на него в статье «Памяти художника». Отказ Иванова от старой религиозной живописи, разочарование в собственной картине, но в то же время нежелание расстаться с библейскими сюжетами Огарев воспринял как вопиющую непоследовательность художника, которой он не намерен был уступать. «Да! это была лазейка глубокого отчаяния, – писал критик, – но не выход».
Между тем Иванов занимался библейскими эскизами вовсе не с отчаяния, а вдохновенно и увлеченно. Что он к ним нисколько не остыл и в самый последний год жизни, ясно показывают строки из его письма
В.П. Боткину, написанного из Петербурга всего за несколько недель до смерти: «…При первом случае тотчас же завернусь опять в ту улочку, в которой так спокойно зрели в продолжение 8-ми лет мои новые думы и к олицетворению которых еще нужно по крайней мере года четыре римской жизни».
В этих словах нет и следа смятенности и неуверенности, высказанных ранее в беседе с Герценом. Напротив: художник говорит о многолетнем спокойном созревании своих «новых дум» и намерен вернуться к их осуществлению как можно скорее. В петербургской художественной жизни конца 1850-х годов он не нашел ничего, что могло бы их обесценить или предложить взамен новые идеалы. А то, что предлагалось, – обращение к жанровой живописи – было ему чуждо. В том же письме он писал: «Tableaux de genre в России есть совершенное разрушение наших лучших сил, и яснее: размен всех сил на мелочи и вздоры».
Особое мнение о «вопиющей непоследовательности» Иванова сложилось у Стасова, который встречался с ним в том же 1858 году, а вскоре после его смерти имел возможность познакомиться с библейскими эскизами (они привели его в восторг), переписывался с Сергеем Ивановым, вообще знал о последних трудах художника больше, чем другие собеседники и критики. Как известно, Стасов был горячим пропагандистом искусства, отражающего современную жизнь, и ему хотелось найти у позднего Иванова хоть какие-нибудь шаги в этом направлении, хоть какой-нибудь отход от религиозной темы. Не найдя ничего подобного, Стасов честно сделал вывод, что Иванов вовсе не терял религиозную веру. Он, по словам Стасова, «оставался религиозным и благочестивым даже в последние годы своей жизни, когда вдруг вообразил про себя, что перестал “верить” и “быть религиозным”. Он говорил и думал одно, а, судя по всем его делам, предприятиям, планам и намерениям, выходило совсем другое. Даже в последние дни жизни он только об одном и мечтал: поехать в Палестину и писать жизнь Христа». В свойственной Стасову энергичной манере он заключал: «В чем же, спрашивается, состоял бы тот переворот в искусстве, который проповедовал Иванов? Он явно сводился к нулю».
У Иванова и Стасова были разные понятия о «перевороте» и «новом пути» в искусстве. Иванов видел его не в отказе от религиозной темы, но в ее новом осмыслении и наполнении – масштабном, философическом и одновременно строго историческом, связанном с «живым воскрешением древности». Он полагал, что это несовместимо с живописью культовой, церковной, и потому задуманные им циклы картин должны были помещаться отнюдь не в церкви. По той же причине он негодовал на итальянских художников, которые, «разбирая по камню католическую церковь», получают у нее заказы на роспись церковных стен.
Однако, беседуя с Герценом и Огаревым, художник говорил не только о внецерковности своей работы, но и о том, что «утратил веру». Если так, значит, он действительно находился в жестоком разладе с самим собой. Можно ли было в таком состоянии духа создавать гармонический библейский цикл? Ведь Александр Иванов был не из тех, кто мог творить вопреки убеждениям.
Однажды А.П. Чехов высказал такую мысль: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало». Русский человек Александр Иванов по условиям времени, среды, воспитания приучен был к четкой бинарной формуле: «верую» – «не верую», середины не дано. (Хотя в Евангелии есть знаменательные слова: «Верую, Господи, помоги неверию моему».) Но обладая ищущим умом, хотел знать много и, отдаляясь в умственных поисках от одной крайней точки, временами готов был считать себя оказавшимся в другой крайности, исключающей веру, что приводило его в смятение. Не противоречило ли вере отцов уже одно то, что он подходил к христианству аналитически? Он мог так думать, так «вообразить про себя», по выражению Стасова.
По-видимому, все обстояло сложнее: религиозное миросозерцание Иванова эволюционировало, но не разрушалось. Он расставался не с верой, а с той крайней конфессиональной традицией, которая не допускает отступлений от догмы, от буквы, нетерпима к инакомыслию, страшится ересей, отбрасывает легенды и мифы как почву для ересей. Словом, Иванов освобождался от того, что его брат называл биготством. И это совершилось не внезапно, не вдруг. Он и в прежние годы, работая над «Явлением Мессии», предавался рефлексии, которая уже по определению несовместима с верой нерассуждающей, слепой. «Разъяснения своих мыслей» он постоянно искал у тех, кого считал мудрее себя, – у Рожалина и Овербека, у Гоголя, у Штрауса и Мадзини, у Герцена и Чернышевского. В конечном счете надежнейшим проводником оставалась его художественная интуиция: в работе он ей доверялся и обретал спокойную цельность, которой недоставало его умозрениям.
Располагая библейские композиции на стенах воображаемого здания в соответствии с книгой Штрауса, Иванов как бы подтверждал тезис о мифологическом элементе в христианстве (что также могло представляться ему отходом от веры). Но, по существу, в своем понимании мифологии оставался ближе Шеллингу, чем Штраусу. Для рационалиста Штрауса миф – то, чего не могло быть, небылица. Для Шеллинга первичный принцип – тождество идеального и реального, изначально заложенное в мироздании и предстающее в смыслообразах мифологии как подлинная вселенная. Мифология, по Шеллингу, есть первоначальное и необходимое условие всякого искусства. Вырастая из мифологии, искусство творит духовную реальность, равноправную с материальной.
Исключительно рационалистический взгляд на мир несовместим с религией – религия метафизична. Он плохо уживается и с искусством: последовательно проведенный рационализм логически вынуждает признать создания творческого воображения чистой фикцией, в лучшем случае – аллегорией. Философия тождества Шеллинга для рационалистически настроенного ума представляется весьма туманной, но художественной деятельности она родственна, так как снимает жесткую преграду между сущим и идеальным. «Она всюду видит единую творимую жизнь». И напротив, рационалистическая концепция Штрауса такова, что «формулировать искусством» ее положения нельзя без ущерба для искусства, в чем и признавался Иванов Герцену.
Вплоть до настоящего времени миф, мифотворчество, мифология понимаются далеко не однозначно. В зависимости от общей мировоззренческой установки существуют различные точки зрения на соотношение мифологии и религии, мифологии и истории, мифологии и фантастики. Проблема осложняется разнохарактерностью явлений, относимых к категории мифов – от космогонических сказаний первобытных народов до мифов-обманов, творимых, так сказать, на глазах в современном обществе. Отношение мифа к истине также варьируется в широком диапазоне: от шеллингианского понимания мифа как высшей истины до позитивистского – как искажения истины, проистекающего из наивности донаучного мышления. Последнего мнения теперь придерживается мало кто из серьезных ученых. Символический язык мифа присущ, по-видимому, человеческому мышлению постольку, поскольку оно способно подниматься над чистой эмпирикой.
Александр Мень пишет: «Миф в философском смысле слова есть неизбежная форма для выражения сверхрассудочных истин. Каждое мировоззрение подразумевает некие аксиомы или постулаты, которые являются мифическими, и, следовательно, по-настоящему демифологизировать человеческое сознание невозможно».
Очевидно, нельзя полностью демифологизировать и историю. В дымке мифа предстает каждое большое событие прошлого; чем дальше в глубь времен, тем более размыты границы между мифом и историческим фактом, причем, как говорит русский писатель Борис Зайцев, «миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки».
Особенность подхода Александра Иванова к библейской истории в том, что он, стремясь к исторической достоверности, к «живому воскрешению древнего мира» со всеми «точностями антикварскими», доступными современной науке, не отбрасывал мистический и мифологический элемент как недостоверный, но трактовал его как духовную реальность бытия.
Художник рассчитывал еще по крайней мере на четыре года, чтобы завершить весь цикл, где, напомню, предполагалось около 500 композиций. Этих четырех лет судьба ему не отпустила. В Петербурге он заразился холерой и умер.
В том, что он успел сделать, – наряду с большими отделанными акварельными листами, – множество предварительных проб, схематических наметок беглых набросков в альбомах. Весь этот богатейший материал еще ждет своего исследователя. Есть своеобразное очарование в нон-финито великого мастера: даже просто проглядывая черновики, зритель в какой-то мере приобщается к процессу творчества. Даже относительно законченные композиции не всегда являются окончательными: в большинстве случаев художник разрабатывает несколько вариантов одного сюжета – это позволяет угадывать внутреннюю логику его поисков.
Александра Иванова было принято считать художником одной картины, а между тем он был создателем сотен картин. В долгой работе над «Явлением Мессии» целый мир образов созревал в сознании, откладывался в памяти – образовался избыток художественных идей, требовавших выхода. И вот рождаются одна за другой композиции, не повторяющие одна другую. Предварительные наброски к ним – это творческие, а не технические штудии. (Исключение составляют только вычерченные в альбомах детали архитектуры, скопированные из увражей по искусству Древнего Востока.) Как мастер Иванов чувствовал себя как никогда уверенно, уже не нуждаясь в том, чтобы тщательно штудировать анатомию, ракурсы, драпировки. Его рука приобрела ту чудесную верность, когда технические трудности перестают существовать, и художник без напряжения переносит на бумагу образы, встающие перед мысленным взором, – недаром в библейских эскизах находили нечто визионерское: словно бы мгновенно запечатленные видения.
По сравнению с «Явлением Мессии» Иванов как живописец становится в библейских эскизах иным. Остережемся сказать «выше», «лучше» – его огромный холст со всеми этюдами остается бесспорным шедевром, принижать значение шедевра бессмысленно. Но в библейском цикле дар художника раскрывается новой гранью: великий пластик, извлекший из классицистической школы все, что она могла дать, теперь совершает прорыв к новым живописным ценностям. Он пожинает плоды многолетнего опыта работы на природе, проникновения в тайны цвета, света, воздуха, пространства. Это сказалось в поздних этюдах маслом обнаженных мальчиков, но еще более – в акварелях. С трудом верится, что Иванов впервые начал работать в этой технике только в 1840-х годах и за сравнительно короткое время достиг в ней такого артистизма. Его акварели воздушны, светоносны, дышат какой-то особенной свежестью. Во времена Иванова работали многие превосходные акварелисты, в том числе Карл и Александр Брюлловы. В уровень с ними стоят ранние акварели Иванова – его «жанры», но в библейских эскизах он пошел дальше: в вариативности, смелости, легкости акварельного приема у него нет равных. Тонкая прорисованность соединяется с живописной обобщенностью. Стадии рисунка и расцветки не разделены: как правило, Иванов не делал предварительного рисунка карандашом, а рисовал цветные контуры тонкой кисточкой и погружал фигуры в среду мягкими тающими пятнами краски. Лишь изредка встречаются рецидивы академической манеры – в условном повороте фигуры или в жесткости красочных сочетаний. За очень немногими исключениями в акварелях Иванова отсутствует плотная густая окраска: цвет зыблется, фосфоресцирует, свет пронизывает человеческие фигуры, становящиеся полупрозрачными, как бы слегка размытыми, не утрачивая при этом рафаэлевской благородной ясности очертаний.
Вероятно, не стоит жалеть о том, что эскизы не были претворены в большие картины маслом, как художник замышлял, а остались в акварельных листах. Перевод в масло их отяжелил бы и огрубил. Прозрачность, трепетность акварели, легкая эскизная недоговоренность тут уместнее – это как бы дымка времени, сквозь которую видятся образы легендарного прошлого.
Не слишком много теряем мы и оттого, что Иванов не успел до конца разработать общую композицию своего «храма человечества», то есть систему расположения картин на стенах. Это расположение сюжетов «по Штраусу» отдает рассудочностью, в общем-то чуждой Иванову. Органического художественного, ансамблевого единства, каким отличаются старинные храмовые росписи, здесь получиться не могло, тем более что и сам Иванов, художник новейшего времени, все же был мастером станковой, а не монументальной живописи. По существу, каждая его композиция самоценна, замкнута в себе, а связь между ними, намечаемая в таблицах, довольно условна и необязательна. Вполне допустимо рассматривать его листы по отдельности, как последовательные звенья библейской истории, отвлекаясь от штраусовских параллелей и аналогий. Весь цикл при этом естественно разделяется на ветхозаветную и новозаветную истории.
И та и другая иллюстрировалась на протяжении веков многократно, в том числе художниками XIX столетия. Но, кажется, никому не удавалось сделать то, что смог Александр Иванов: соединить реализм с духом Библии, представить историю и миф, реальное и чудесное как бы в изначальном синтезе.
Есть некоторые различия в интерпретации Ивановым Ветхого и Нового Заветов, прежде всего в изображении чудес. М.М. Алленов замечает: «Чудесные явления, как они даны в библейских эскизах, вовсе не стоят над бытом и повседневностью, не противоречат этому быту, а сосуществуют с самыми что ни на есть простыми и будничными делами и вещами… мир обычный и мир сверхъестественный принципиально не разграничены, чудо неотделимо от повседневной действительности и ожидается в любую минуту». Тонкое наблюдение, но оно справедливо только по отношению к ветхозаветным сценам, не к евангельским. В последних повседневное и трансцендентное разграничены больше: чудеса изображаются как нечто необыкновенное, вторгающееся в нормальную жизнь и нарушающее ее привычный ход. Они сопровождаются потоками нездешнего света, сдвигами пространства; люди, пораженные, не знают, видят ли они это наяву или во сне. Ведь это люди уже новой эры, их склад ума, их менталитет не столь далек от нашего. Другое дело во времена седой древности, когда, согласно библейским преданиям, участие небесных сил в жизни пастушеских племен проявлялось постоянно и непосредственно: ангелы сходили на землю и брали в жены дочерей человеческих, патриархи и пророки получали от Бога руководительные указания, Бог сам шел перед войском в виде огненного столпа или облака. В представлении той среды чудеса также реальны, как повседневные события. Иллюстрируя Ветхий Завет, Иванов действительно показывает чудеса вплетенными в быт. Величие и простодушие – вот основной тон его пластических повествований об Аврааме, Иакове, Моисее, Илии.
Иванов избегает трактовать ветхозаветные сюжеты в свете их позднейших толкований богословами, не ищет в них аллегорического значения. Его занимает другое: приникнуть к истокам, услышать «звук умолкнувшей речи» древних народов. Но он все время помнит, что в словах и деяниях ветхозаветных пророков предвозвещался приход Мессии, подготовлялось христианство с его проповедью любви. Он смягчает жесткие черты библейской истории: Бог карающий и грозный, Бог – мститель, «огонь испепеляющий», не находит отражения в библейских эскизах. (Надо заметить, что Иванов вообще не любил и избегал сюжетов, связанных с разрушительными катаклизмами, к которым тяготел Брюллов.) Пафос ивановского ветхозаветного цикла можно было бы передать словами Томаса Манна (из предисловия к роману «Иосиф и его братья») о «присущей Ветхому Завету идее союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку – без Бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой». Это согласуется и с записями Иванова, где он говорит, что человек не может изобразить божество иначе, как через призму высоких человеческих качеств.
Ветхозаветный цикл Иванова начинается, не считая протобиблейских эскизов о сотворении мира, с легендарного прародителя Авраама. Знаменитую сцену явления Аврааму трех путников художник решает почти как идиллическую пастораль. В жаркий солнечный день Авраам гостеприимно принимает странников; один из них старик, два других молоды; они расположились за трапезой под сенью дуба в самых непринужденных позах. Из шатра выходит жена хозяина, Сарра, и старший гость, обращаясь к ней, говорит, что скоро у нее родится сын. Авраам удивлен – ведь он и Сарра бездетны и стары; но, может быть, гость просто хотел сказать приятное хозяйке? Нет никакого намека на позднейшее отождествление странников с Пресвятой Троицей христиан: Авраам ведь не мог ничего об этом знать. Кажется, он даже еще не догадывается об ангельской природе своих гостей. (Сравним этот лист с «Ангел поражает Захарию немотой» евангельского цикла, близким по мотиву: там все необыкновенно и торжественно, а здесь – бесхитростно.)
Другая, тоже «бытовая» сцена: пожилая Сарра, и улыбаясь, и досадливо морщась, кормит грудью новорожденного Исаака. Согбенный Авраам задумчиво смотрит на сына, очевидно вспоминая визит троих незнакомцев и приходя к мысли, что то были не простые странники.
Но вот кульминация истории Авраама – «Призвание Авраама». Два величественных старца, почти одного роста, стоят на вершине на фоне расстилающегося внизу ландшафта. Они заключают завет – священный договор между Богом и человеком. Саваоф распростирает руки, как бы охватывая этим широким жестом пространства, предназначенные во владение потомкам Авраама. Авраам прикладывает руку к сердцу и склоняет голову, но в его жесте нет подобострастия, он исполнен достоинства. (В одном из предварительных рисунков художник изобразил Авраама «павшим на лицо свое» перед Саваофом, но в окончательном варианте от этого отказался.) В ответ на доверие к нему Бога Авраам отвечает безграничным доверием: это показано в рисунке «Жертвоприношение Авраама», где он без колебаний готов принести в жертву своего сына. Ангел указывает на овна: доверие человека Богу подверглось самому трудному испытанию и выдержало его; отныне и навсегда человеческие жертвы отменены.
В листе «Борьба Иакова с Богом» – снова равноправная встреча-поединок божественного и человеческого. Они не столько борются, сколько познают друг друга прикосновениями, как будто преодолевая невидимую преграду.
Вся группа рисунков, относящихся к Книге Бытия, выдержана в тоне спокойного эпического рассказа – еще не об истории, но о предыстории народов Израиля. Здесь даны только простые и древние пласты человеческого бытия: шатры кочевников, стада, рождение и смерть, юность и старость, мужчина и женщина. Все это художник показывает обобщенно и крупно, не индивидуализируя, не вдаваясь в детали. По-иному он подходит к иллюстрированию второй книги Пятикнижия – «Исход», связанной с деяниями Моисея, возглавившего исход евреев из Египта. Это событие историки относят к эпохе Рамзеса II, к XIII веку до н. э., его отделяет от легендарных времен Авраама не менее шести столетий. Теперь исторический колорит сгущается: Иванов вносит в свои композиции приметы конкретного времени, основываясь на данных археологии, на изучении египетских памятников. С большим художественным тактом он привносит элементы древнеегипетского стиля – чеканные ритмы, своеобразные развороты фигур. Детально проработанная акварель «Фараон просит Моисея вывести евреев из Египта» смотрится как настоящая историческая картина. Интерьер дворца фараона представлен со всеми «точностями антикварскими», стволы и капители колонн покрыты типичным египетским орнаментом. Фараон, спускаясь по ступеням, горестно закрывает лицо рукой, его подданные также охвачены отчаянием от постигших страну бедствий – одни заламывают руки, другие простирают руки к Моисею и Аарону, некоторые падают на колени и склоняются до земли. В их бурной, но ритмической, как бы ритуальной жестикуляции узнается экспрессия «плакальщиков» древнеегипетских рельефов.
Не то замечательно, что русский художник, воспитанник академии, смог оценить художественный язык памятников, столь далеких от академических традиций, а то, как органично он вводит элементы этого языка в контекст современного решения многофигурной композиции. В пространственном, перспективно построенном интерьере «плакальщики» не выглядят чужеродными. Как удавалось Иванову соединить в непротиворечивое художественное целое далекие стилевые принципы? Им двигало не стремление к стилизации: он хотел через призму стиля понять, каким был мир древних художников. Это его испытанный метод, применявшийся еще в работе над этюдами к «Явлению Мессии»: «согласить творчество старых мастеров с натурой». Глядел ли он на античные мраморы, на полотна ренессансных художников или на египетские рельефы – он мысленным взором созерцал их жизненный первоисточник, их «натуру».
В листе «Поклонение золотому тельцу» группа пляшущих очень похожа на древнеегипетские изображения танцоров: плечи в фас, лица в профиль, такие же движения рук. В альбомах Иванова имеются заготовки – танцующие фигуры, срисованные с атласа по египетскому искусству. Интересно, что скопированы они не совсем точно, но заметно снижены: в позах придворных танцовщиц есть что-то напоминающее пляску подгулявших простолюдинов. Так это и вошло в композицию «Поклонение золотому тельцу»: беженцы в отсутствие Моисея воздвигли языческий золотой кумир и предаются разгулу. Пляшут, бьют в бубны, пьют; какой-то упившийся голый старик заснул, лежа на животе; есть тут и довольно недвусмысленная сцена пьяного соития.
Скитаниям израильтян в пустыне посвящены многие листы: сбор манны, ловля перепелов, поиски воды, медный змий – все в нескольких вариантах. Видимо, художника увлекала задача показать бедствия и неразумие толпы. Люди суетятся, мечутся, ползают по земле, жадно загребая пищу, согласия между ними не видно. Массовая психология людей, которые долго были рабами и теперь могут только взывать к вождю, роптать и чаять манны небесной (что и побудило Моисея водить их по пустыне до тех пор, пока не вырастет новое поколение – не знавшее рабства), – многозначительная тема, не устаревшая за века.
Особый лист – Моисей на горе Синайской перед Ягве, пишущим заповеди на скрижалях. Если Авраам стоял перед Богом лицом к лицу, почти как равный, то здесь несколько иное решение. Ягве, чей лик не дано видеть никому, является Моисею «в облаке», как некая призрачная статуя. Он восседает на пьедестале, охраняемом керубами (крылатыми грифонами с телом льва и головой человека). Моисей стоит с опущенной головой, внимая словам Бога, но не дерзая поднять на него глаза. Дистанция между ними подчеркнута манерой рисунка, бесплотно-контурного в изображении Ягве и объемного в фигуре Моисея.
Обращаясь к иллюстрированию Книги Царств, Александр Иванов усиливает черты быта и психологии, индивидуализирует образы героев: мудрого судии Самуила, порывистого и необузданного царя Саула, юного пастуха и песнопевца Давида, призванного покинуть свои мирные стада и помазанного Самуилом на царство. С особенным чувством изображена в серии эпизодов история пророка Илии – этого нищенствующего анахорета, одинокого борца против языческого культа Ваала, введенного неправедным царем Ахавом. Хотя Илия в фольклорной традиции сближался с древним громовержцем Перуном, Иванов рисует его кротким и незлобивым – ведь именно Илии было впервые открыто, что Господь приходит не в грозе и буре, но в «веянии тихого ветра». Сюжет состязания Илии со жрецами Ваала у Иванова отсутствует, главное внимание уделено эпизодам встречи с бедной сарептской вдовой и воскрешения ее умершего мальчика. Казалось бы, для реализации общего замысла библейских эскизов не было нужды рассказывать эту историю так подробно, но художник выбирал те сюжеты, которые ему были особенно дороги и интересны, – совсем не только «по Штраусу». В Библии о сарептской вдове говорится коротко, однако Иванов посвящает ей целую серию рисунков, грациозных и нежных, – создает как бы самостоятельную лирическую новеллу о сочувствии и помощи друг другу бедных одиноких людей. Чудо воскрешения совершается без всяких громов и молний, выглядит актом милосердия и веры. Вот Илия молится над распростертым телом ребенка, призывая Всевышнего воззреть и сжалиться: видно, что он вкладывает в мольбу все свои душевные силы. Потом приникает к лицу ребенка, стараясь вернуть ему дыхание. И в заключительном рисунке возвращает живого мальчика матери.
Прекрасны листы, изображающие Илию в пустыне. Вот он сидит, одинокий и смертельно усталый, среди голых скал, прося у Бога смерти: «…довольно уже, Господи: возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 кн. Царств 19) – На другом листе к нему является ангел, приносит ему пищу: «…встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». Показано, как с трудом опоминается старец от тяжелого забытья: он не в силах поднять голову и неуверенными, нащупывающими движениями ищет, на что опереться, чтобы встать. Ангел же исполнен сострадания, он заботливо склоняется над стариком, указывая на котелок с едой. Кажется, что в таких сценах, максимально приближая их к естественным человеческим переживаниям, художник стремился выразить одну из своих заветных идей: укрепить падшего духом, дать надежду отчаявшемуся.
Однако «жанровости» он не допускает, строго выдерживает возвышенный эпический тон. Как аналог напевному библейскому ладу, он сообщает плавность и благородство движениям и жестам, уравновешенность композициям. В этом отношении Иванов остается верен заветам Высокого Возрождения, Рафаэля и Леонардо. Посмотрим на рисунок с изображением матери Самуила (во исполнение данного ею обета она посвящает Богу своего первенца). Простая композиция из нескольких фигур исполнена такого величавого этоса, какой является достоянием классических эпох искусства. При этом ни следа нарочитости и ходульности, свойственных ложноклассическим перепевам старинных образцов. Ничего напоминающего инсценировку. Иванов действительно дышит воздухом древнего эпоса, действительно переносится в мир Библии.
Эффект подлинности и соприсутствия нарастает в новозаветном цикле. Здесь картина мира изменяется, становясь взволнованной, динамичной; здесь широко раздвигается пространство, перспективные планы уводят вглубь, своды огромного Соломонова храма тонут в вышине, появляются многолюдные толпы – рыбаков, мытарей, фарисеев, бедняков, женщин, детей. И среди них – загадочный проповедник в тем-но-синем плаще, как магнитом притягивающий эти людские скопища. Порой кажется, что художник сам бродил под жгучим палестинским солнцем вслед за пестрой толпой, прислушиваясь к волнующим речам проповедника.
Для каждого события из жизни Христа Иванов делал по нескольку вариантов, варьируя композицию, цвет, испытывая все средства своего богатого художественного арсенала – линию, пятно, светотень, перспективные ракурсы, эффекты освещения.
С особенным вдохновением он писал сцены чудес – эти прорывы в бесконечное, эти маяки светлой надежды на трудном пути людей. Он находит для них необыкновенный художественный язык. Один из лучших эскизов – «Ангел поражает Захарию немотой» (ангел возвещает священнику Захарии о грядущем рождении у него сына, будущего Иоанна Предтечи; старый Захария не может поверить, и ангел поражает его за неверие немотой). Штраус в своей книге не уделяет большого внимания этому эпизоду, ограничивается тем, что отмечает его эпигонский характер по отношению к Ветхому Завету. Но Иванов посвящает ему великолепный лист. Быть может, художника захватила тема сомнения и веры, внутренне ему близкая: сомнение сковывает уста, вера освобождает. Сомневающийся Захария умудрен опытом, стар, спина его сгорблена, божественный вестник могуч и молод, у него прямая величественная фигура, сильные раздвоенные крыла, как у ассирийских божеств. Его жест властен и непреложен. Эта замечательная акварель – настоящая поэма света, бледно-золотого, белого, голубоватого. В волнах сияния, исходящих от архангела, сливающихся со струящимся светом семисвечника, утопают своды, растворяются предметы храмовой утвари. Нет отчетливых очертаний, контуры слегка двоятся – но это не от незаконченности (лист принадлежит к наиболее завершенным): под кистью художника непроницаемая материя вещества как бы изменила свою природу, став трепетной материей света.
В «световом» ключе Иванов пишет и «Благовещение». В мировом искусстве произведения на этот сюжет неисчислимы, некоторые из них Иванов зарисовывал (например, «Благовещение» Симона Мартини, утонченного сиенского мастера XIV века), но никого не повторил. Благовещение он представляет в двух различных композициях – по Евангелию от Луки (ангел возвещает Марии о рождении Спасителя) и по Евангелию от Матфея (ангел является Иосифу во сне и говорит ему: «Не отвергай Марию»). Мотив волшебного света присутствует везде: сияние исходит из лона Марии, образуя круг с расходящимися лучами. В вариациях сюжета по Луке фигуры ангела и Марии разномасштабны: рядом с благовестителем Мария миниатюрна – женщина-дитя, но архангел Гавриил (тот же, что являлся Захарии) не повелевает ею, но благословляет. Она же принимает весть Гавриила без тени сомнения или испуга, с непоколебимым доверием. Тихая и стойкая, скромная и твердая – такой ее рисует художник и в прелестной сцене встречи с Елизаветой, и в трагической «Голгофе».
Один из шедевров библейской серии – «Благовещение по Матфею». Композиция совершенно оригинальна, не имеет прообразов. Мария мирно спит на своем бедном ложе, идущие от нее лучи волшебно преображают убогую комнату; пронизанная ими, появляется перед полуспящим в углу Иосифом прозрачная и призрачная фигура бледно-голубого ангела. Он указывает на Марию. Ложе Марии – в глубине комнаты, но благодаря его яркому свечению оно как бы выступает вперед, приподнимается и парит в пространстве. Реальность ощущается чудом, чудо – реальностью. В другом варианте ангел подводит Марию за руку к Иосифу; здесь фигура ангела отбрасывает огромную тень на стену. Мотив больших падающих теней, создающих впечатление фантастическое, Иванов использовал не раз.
Мы найдем разнообразные и удивительные световые фантасмагории в таких сюжетах, как «Преображение», «Вознесение», «Ангел возвещает женам-мироносицам о воскресении Христа», «Явление воскресшего Христа ученикам». Мандорлы, нимбы, молнии, радуги образуют магическую световую стихию, особую космическую среду, где невозможное становится возможным. Но лишь изредка Иванов позволяет себе прямое нарушение законов перспективы, оптических законов. На эту смелость он отваживается в акварели «Ангел благовествует пастухам о рождении Христа». Белый силуэт ангела с распластанными крыльями, внезапно возникающий в воздухе над ошеломленными пастухами, никак не связан с пространственным, уходящим в глубину вечерним ландшафтом, с облаками, тенями и предметами земли: он, кажется, принадлежит какому-то иному измерению, фрагмент которого вдруг стал видим.
Рисуя чудесные явления, Александр Иванов создает атмосферу мистическую, не допускает будничных приземленных мотивов, избегает даже таких житейских подробностей, какие встречаются в иконах, например присутствие служанки в сцене Благовещения. Зато в композициях собственно исторических, посвященных земным деяниям Христа, он нисколько не пренебрегает бытовыми реалиями: тут он становится реалистом в большей мере, чем когда писал «Явление Мессии». Это можно почувствовать, сравнивая ту большую картину с многочисленными библейскими эскизами на сходный сюжет – проповеди Иоанна Крестителя и Креститель, указывающий людям на Иисуса. Здесь художник перепробовал всевозможные способы расположения фигур, а в некоторых эскизах возвращался к общей композиционной схеме «Явления Мессии» (лишнее подтверждение тому, что он не отрекался от своей большой картины). Но и сам Креститель, и паломники приближены к исторической достоверности. Креститель теперь лишен классической красоты – это диковатого вида аскет в короткой препоясанной власянице, волосы у него косматы и всклокочены, жесты порывисты. И уж конечно, в руках у него нет креста, ставшего священным символом лишь после Голгофы. Среди внимающих «голосу вопиющего в пустыне» преобладают люди бедные и простые, больше всего здесь длиннобородых старцев, которых томит груз прегрешений, скопившихся за долгую жизнь. Они сидят, опустив голову в колени, вид у них удрученный – ведь неистовый пророк предсказывает «великий будущий гнев». Те, кто помоложе, не так устрашены словами проповедника, некоторые пользуются случаем, чтобы вымыть голову в чистой воде Иордана – занятная подробность, повторяющаяся в нескольких композициях. Когда Иоанн указывает на Иисуса, чей тонкий силуэт появляется вдали, на вершине холма, люди возбуждены, заинтересованы, но еще ничто не говорит об их начавшемся обращении к вере в Христа. Им еще только предстоит слушать его притчи, внимать его слову, присутствовать при чудесных исцелениях, которые он совершит.
Этому посвящены десятки композиций. Христос проповедует в Соломоновом храме, на горе, на лодке, исцеляет больных и изгоняет торгующих из храма, произносит слова осуждения «Иерусалиму, избивающему пророков», садится за трапезу с бедняками, призывает к себе детей, обличает лицемерие фарисеев. За ним следуют его ученики, ему внимают народные толпы; фарисеи и священники задумывают расправу с диковинным проповедником, но исходящая от него неодолимая духовная сила парализует их попытки. Возбужденную, накаленную атмосферу этих сцен удачно характеризует М.М. Алленов: «Евангельские сцены Иванова овеяны духом дискуссий и словопрений. Люди здесь прислушиваются, вопрошают, удивляются, негодуют и жаждут немедленной справедливости». Алленов выделяет из всего множества листов акварель, названную «Проповедующего в притчах Христа хотят схватить первосвященники и фарисеи». Здесь Иисус спокойно стоит перед своими недругами, заграждающими ему вход в храм, а за его спиной, на площади до самого горизонта – несметные толпы: зримый символ народов мира, которые в будущем примут учение Христа.
Достойны удивления разнообразие и смелость композиционных решений. В зависимости от образной задачи художник избирает угол зрения снизу или с высоты, сопоставляет дальние и ближние планы, дает неожиданные диагональные срезы, располагает большие массы людей то кругами, то волнами, то радиально. Архитектурные мотивы – колоннады храма Соломона, его пристройки, портики, решетки, лестницы – не остаются лишь статичной обстановкой, а вовлекаются в действие, организуют его. Эксперименты с пространством в эскизах Иванова предвосхищают многое, что составляло предмет специальных поисков для более поздних художественных течений.
Национальная характерность – вот что еще является несомненным новаторством Иванова как исторического живописца. Кажется, никто до него не рисковал сообщать национальный колорит евангельским событиям: это должно было представляться чем-то кощунственным. По поводу «Явления Мессии» враждебные Иванову академические критики с возмущением говорили, что он представил на своей картине «семейство Ротшильдов». В библейских эскизах черты семитического типа еще более очевидны, характерные позы и жесты изучены художником в синагогах, которые он усердно посещал. Он находил в них несравненную выразительность, силу чувства: руки заломленные, простертые, поднятые над головой; «падение на лицо», лицо, опущенное в колени, – выражение мольбы, тоски, раздумья, раскаяния, надежды… Вне этой национально окрашенной пластической стихии Иванов не мыслил евангельский цикл. Посмотрим на лист «Немой Захария перед народом» – на жест Захарии и на головы слушателей внизу; на рисунок скорбящего Петра – склонение его головы и положение рук; наконец, на «Разряженных женщин», которые «ходят, обольщая взорами». Последний лист стоит в библейской серии особняком, выделяясь своей «жанровостью», остротой бытовых психологических характеристик, тонким юмором, с каким написаны красавицы-щеголихи и переглядывающиеся за их спиной молодые люди. При всем неодобрении бытового жанра как самостоятельного и тем более главного рода живописи Иванов мог быть при желании отличным жанристом – там, где находил это уместным. Но в умеренных дозах. Элементы жанровости не должны были мельчить высокий смысл событий, им надлежало оставаться побочными. Как ни уважал Иванов Овербека, ему очень не нравилось, когда тот изображал маленького Иисуса, работающего пилой. «В пору тому, что “Христос метет стружки из-под Иосифова столярного станка”. Нельзя, нельзя так вольничать, да и зачем?»
Свой дар проникновения в психологию личности, индивидуальную психологию, Александр Иванов также несколько приглушает в библейских эскизах по сравнению с «Явлением Мессии» – приглушает, но не отказывается. М. Алленов в своем исследовании пишет, что в библейских эскизах «действует стихия, толпа, человеческий род, руководимый инстинктом вдохновения, коллективная психология преобладает над психологией индивидуальной. Чрезвычайно знаменательно в этом смысле, что при создании позднего библейского цикла работа велась исключительно над иконографией сюжетов и общими очерками композиций, понятными в целом как зрелище, из которого не выделялись лица». Это только отчасти верно. Конечно, в каждой из нескольких сотен библейских композиций не было и не могло быть такого же скрупулезного распределения психологических ролей и такого же разнообразия лиц, как в большой картине, которая мыслилась художником как единственная. Имело значение и то простое обстоятельство, что в эскизах маленького размера вообще невозможно прорисовывать отдельные лица. Но это еще не значит, что Иванов считал ненужной их индивидуализацию, – она должна была выявиться сильнее при переводе акварельных эскизов в монументальные картины, но и в эскизах намечена с достаточной определенностью, особенно в новозаветном цикле. И особенно по отношению к тем персонажам, которые не составляют «хор», но выступают протагонистами. Хрупкая и стойкая Мария, пылкий Иоанн Креститель, скептический Пилат, властный Павел – это личности, а не просто носители коллективной психологии. В альбоме Иванова есть зарисовки лиц (именно лиц!) апостолов, каждое со своим индивидуальным складом и выражением.
Как же трактует Александр Иванов центральный образ – Иисуса Христа? Трудная задача; вдвойне трудная для исторического живописца, желавшего показать в едином лице богочеловеческую сущность основателя христианства, не отделяя его от реальных условий земной жизни, но и не отвлекаясь от его сверхземной божественной природы.
Художник пристально изучал старинные изображения Христа на византийских мозаиках и фресках, стараясь, как всегда он делал, синтезировать эти впечатления с наблюдениями натуры и работой воображения. Еще трудясь над «Явлением Мессии», он писал этюды головы Христа – несколько этюдов на одном полотне; здесь же головы античных статуй – Аполлона Бельведерского, Аполлино, старческой маски. В 1840-х годах был написан и портрет женщины с серьгами и ожерельем, в серо-лиловых тонах – суровое, замкнутое лицо, взгляд в сторону, который, по общему признанию, имеет нечто общее с ликом Христа: в нем есть тайна, неразгаданность. Христос таинственен на всех этюдах Иванова, что же касается внешности, черт лица – перед нами два типа: один эллинистический, классически правильный, с рыжеватыми волосами, другой – тип аскета, худощавое продолговатое лицо, высокий лоб, скулы, волосы темные. Христос в «Явлении Мессии» ближе к первому типу, Христос библейских эскизов – ко второму, только с белокурыми волосами. По словам Стасова, Иванов принял в качестве основного прототипа изображение на одной из мозаик Палермо.
Еще один образ, по-видимому, вспоминался ему – Христос «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Не лицо – Леонардо не дописал лицо Христа, а время его окончательно стерло, – но внутренний характер, как он выражен в жесте: брошенные на стол раскинутые руки, левая ладонью вверх. При этом глаза потуплены. Мистическую неясную глубину этого жеста, смысл которого словами непереводим, Иванов чувствовал. Сходное движение рук у его Иисуса в «Выходе с Тайной вечери», в ночной сцене беседы с Никодимом и некоторых других эскизах.
Условно говоря, образ Христа у Иванова предстает в нескольких ипостасях. Первая, где художник, кажется, чувствует себя наиболее уверенно, – Христос-проповедник, исполненный энергии и воли. Даже если он виден издали или со спины, взоры и движения окружающих устремлены к нему, но никто не подступает вплотную, пространство вокруг него словно заряжено столь сильными токами, что переступить невидимую границу нельзя. Руки его чаще всего спокойно сложены или он разводит их жестом широким и решительным – как бы развертывая мощные крылья. Он человек, сын человеческий, но знающий цель, знающий истину, – и человек, и нечто большее. Примечательно, что в образе, созданном Ивановым, совсем нет той искусственной мягкости, доходящей до сентиментальности, какую нередко приписывали Иисусу художники XIX века и поздние иконописцы. Иисус Иванова милосерден, но не мягкотел, он мог сказать, что принес не мир, но меч.
В сценах сокровенных бесед и таинств образ отсвечивает иными гранями: сын человеческий предстает рефлектирующим, погруженным в раздумья, скорбным. Здесь особенно значительно изображение Тайной вечери – центрального евангельского рассказа о заключении Нового завета между Богом и людьми. О священном событии великого четверга, положившем начало христианской церкви, единодушно повествуют все четыре евангелиста; сомневаться в его исторической истинности Иванов не мог. Оно не сопровождалось какими-либо сверхъестественными знамениями, а вместе с тем полно неизъяснимой тайны, и это надо было выразить. Световые феерии, как в «Благовещении» или «Преображении», тут были бы неуместны, а простое, «реалистическое» изображение трапезы недостаточно. «Тайная вечеря» Леонардо не могла не повлиять на решение композиции, но у Леонардо вечеря происходит при полном дневном свете, что для Иванова неприемлемо. Он занялся поисками вечернего освещения. После ряда предварительных набросков он остановился на варианте с темным коричневатым фоном, передающим полумрак горницы. Высоко под потолком помещенный светильник освещает стол и бросает отсветы на фигуры апостолов, возлежащих вокруг стола на низких ложах. Эти отсветы художник обозначает не размытыми пятнами, а резкими линейными пробелами наподобие иконных «оживок» или «движков». Белильные вьющиеся штрихи, выступающие из сумрачного фона, могут напоминать о фресках Феофана Грека (которого Иванов, конечно, не знал, но знал византийские росписи). Они-то и создают атмосферу тайны и внутреннего напряжения при внешней тишине. Таким же приемом написана отдельно сцена изобличения Иуды (здесь фигуры Христа и Иуды вынесены на первый план) и с наибольшей впечатляющей силой – «Выход с Тайной вечери». Здесь появляется «леонардовский» Христос с его прекрасным и странным жестом самоотречения, покорности воле Отца.
Меньше удались художнику сцены в Гефсиманском саду, хотя они закончены в цвете и впечатление глубокой, томительно-синей ночи достигнуто. Но цвет отяжелен, а поза Христа, склоняющегося перед белоснежным ангелом, явно искусственна.
«Скорбящий смертельно» Христос Гефсиманского сада предшествует страдающему и униженному Христу следующего дня. Это тот этап земной жизни Спасителя, когда он предельно умален, низведен до последнего из смертных, так что и ученики его покидают. Рисуя сцены Страстей Господних, Иванов не боится быть грубым, почти брутальным (хуже то, что он становится прозаичным). В жалком замученном человеке, которого осыпают оскорблениями и насмешками, который сидит, некрасиво расставив ноги, неловко падает, придавленный тяжелым крестом, почти не остается сходства с прекрасным, повелительным проповедником. Он словно сам забыл, кто он. «Се человек», – говорит о нем Пилат, и это в интерпретации нашего художника звучит горькой насмешкой над человеческим родом. В сценах бичевания Иисус изображен совершенно обнаженным – последняя степень унижения.
Особую группу образуют листы, изображающие искушения Христа сатаной. Их также нельзя отнести к лучшим. Они остаются на поисковой стадии: чувствуется, что их концепцию художник сам для себя не окончательно уяснил, колеблясь между «апотеозическим» и символическим истолкованием. Сатана-искуситель изображен традиционным бесом с копытами, рогами и крыльями нетопыря – примерно так же выглядели черти на иконе, которую Иванов писал для храма. Это далеко не тот «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия», о котором говорит великий инквизитор у Достоевского. Соблазны мелкого беса, нарисованного Ивановым, не могут быть серьезными искушениями для Христа, и поэтому он как бы слегка подсмеивается, иронизирует над своим неудачливым антагонистом. Демоническое было чуждо художественной натуре Александра Иванова, в отличие от Врубеля, близкого ему по многим параметрам.
Но один лист из этой сюиты полон мистической значительности. Христос, один, сидит под сенью шатра, окруженный свитками ветхозаветных пророчеств. Поза, собранная и неподвижная, отдаленно напоминает ритуальные позы индийских будд, лик странен, непроницаем. Можно подумать, что художник хотел показать Иисуса, не постигнутого до конца людьми, с печатью вечной тайны – тайны его личности, его появления на земле, предсказанного древними пророками. Может быть, здесь нашли отражение собственные усилия художника, сопровождаемые мучительными сомнениями, постичь связь христианства с религиозными исканиями человечества.
Всю жизнь Иванов изучал Библию, всю жизнь бился над загадкой Богочеловека, терпя многие неудачи, – иначе не могло и быть. Но все его срывы на этом пути искупаются гениальным эскизом «Хождение по водам», написанным без предварительных вариантов и проб, быстро, огненно, в порыве вдохновения. В основе лежит рассказ евангелиста Матфея о том, как ученики, плывя ночью в лодке по волнующемуся морю, увидели Христа, идущего к ним по воде. Христос позвал Петра и велел идти ему навстречу; Петр пошел, но, испугавшись, начал тонуть; тогда Христос поддержал его словами: «Маловерный! зачем ты усомнился?»
Эскиз выполнен на тонированной темно-желтой бумаге. Незакрашенные места, перемежаясь с зеленовато-голубым грозовым цветом неба и моря, образуют силуэт лодки, взметнувшейся на гребне волны, летящие в небе тучи и провалы волн. Фигуры Петра, упавшего на одно колено, и Иисуса, подающего ему руку, очерчены прерывистым белым штрихом и прозрачны. Иисус не ступает по воде, а мчится над ней, развевается его надутый ветром плащ – он в отблесках молний, в трепете сквозных отражений. Поразителен артистизм исполнения: в сущности, всего несколько пятен краски и несколько энергичных штрихов белилами, а между тем остается неотразимое впечатление ночной бури на море, смятения пловцов, спасения тонущего, присутствия великого Спасителя.
Штраус в книге «Жизнь Иисуса» упоминает о мысли Гёте по поводу этого евангельского сказания: «Эккерман передает, что Гёте считал этот рассказ самой красивой и для него по крайней мере самой ценной из легенд, поскольку в ней наглядно выступает наружу та высокая истина, что вера и бодрость духа ведут человека к победе и в самых трудных его предприятиях, между тем как возникновение малейшего сомнения влечет за собой неминуемую гибель». Иванов, внимательно читавший Штрауса, конечно, не прошел мимо этих строк, созвучных и его собственному состоянию духа. Но в его интерпретации хождения по водам есть и другой оттенок. Не столько идея гибельности сомнений вообще – ибо через горнило сомнений неизбежно проходит человеческая душа, – сколько спасительная опора, даруемая сомневающемуся Христом. Его протянутая рука. Доверие к его словам, обращенным к ученикам: «Я с вами остаюсь во все дни до скончания века». И вот здесь возможна параллель с Достоевским. Один из его героев, «философский деист» Версилов, рассказывает, как однажды привиделась ему картина «осиротевшего мира», мира без Бога. «Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, “Христа на Балтийском море”. Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: “Как могли вы забыть его?”»
Иванов едва ли соглашался с Гёте (по крайней мере в приведенном изложении его мысли) в том, что «возникновение малейшего сомнения влечет за собой неминуемую гибель». Он сам был подвержен бесконечным сомнениям. Если он подсознательно отождествлялся с кем-либо из героев своего библейского цикла, то, скорее всего, с Петром. Петр и сомневался, и устрашался, и трижды отрекся от Христа в роковую ночь. Однако Христос, которому были открыты глубины человеческого сердца, завещал Петру паси овец моих.
Наряду с «Хождением по водам», «Ангел поражает Захарию немотой», «Благовещением» (заметим, что тема сомнения во всех этих вещах присутствует) к шедеврам новозаветного цикла принадлежит «Голгофа» (развернутое название: «Богоматерь, ученики и знавшие Иисуса смотрят на распятие»). Большой акварели предшествует ряд рисунков, представляющих Распятие крупным планом, как и было всегда принято в иконографии от византийских мозаик до произведений Новейшего времени на этот сюжет. Но в окончательном варианте композиция необычна: действие происходит по ту сторону каменной стены, огораживающей лобное место; три креста с распятыми виднеются лишь издали, через ворота, которые открывает один из учеников Христа, по-видимому Иоанн. Другой рукой он поддерживает под локоть Марию – она направляется к страшной двери, ей предстоит пройти обширное пространство, усеянное человеческими костями, чтобы приблизиться к сыну, умирающему на кресте. Ее уста замкнуты, лик неподвижен. Контрастом трагическому спокойствию Богоматери выглядит смятение молодой женщины, заломившей руки над головой; еще одна, одетая в белое, бросается к воротам. Мужчины же не хотят смотреть на ужасное зрелище; собравшись в тесную группу, они закрывают лица от горя и стыда, а один (Петр?) в приступе отчаяния пал на землю. Двое сохранивших самообладание взобрались повыше и смотрят через ограду хотя они видны со спины, заметно, что ими движет скорее любопытство, чем скорбь. Таким образом, показана вся гамма переживаний «знавших Иисуса». Для их выражения художник находит такие отточенные пластические «формулы», что драматические порывы, оставаясь человечески-естественными, как бы монументализируются, словно в античной трагедии. Эту акварель Иванов довел до полнейшей законченности в рисунке и цвете.
Почему он остановился на таком решении композиции, при котором главное событие отнесено на дальний план? Едва ли из желания дать оригинальную трактовку традиционному сюжету. Быть непохожим или похожим на других – это всегда мало заботило Иванова: его занимала суть дела. В данном случае он мог руководствоваться вот каким соображением. Согласно евангельским текстам Матфея и Марка, при казни Иисуса присутствовали только несколько преданных ему женщин (они «смотрели издали»), учеников же не было. Только в Евангелии от Иоанна говорится, что возле креста стояли мать Иисуса Мария и его «любимый ученик», то есть Иоанн, и что Иисус, умирая, поручил мать его заботам. Другие же ученики отсутствовали, и о них вообще не упоминается. Это «белое пятно» должно было беспокоить художника: он хотел представить реакцию учеников на позорную казнь их любимого учителя, он не мог допустить, что страх, малодушие и разочарование побудили их – даже Петра! – сразу от него отвернуться. И он выбрал компромиссную версию евангелиста Луки «Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Под «знавшими Его» можно было подразумевать и учеников. Хотя стояли они на территории лобного места, Иванов поместил их вне, за оградой. Он показал всех учеников, общим числом двенадцать, столпившихся у грозных врат и не решающихся войти, – растерянных и удрученных, простых людей, рыбаков, еще не апостолов, какими они сделались потом. И среди них выделил тех, кто готов идти на Голгофу, – Марию, Иоанна и женщин, которые действительно были там, согласно четвертому Евангелию. Так Иванов создал психологически убедительную версию поведения учеников Иисуса.
В композиции «Голгофы» есть и художественно-символический смысл. Еще в «Явлении Мессии» Иванов изобразил Христа вдали, в глубине, на большом расстоянии от указующего на него Крестителя и всей группы людей ближнего плана. Это не вытекает из евангельского текста: ни в Евангелии от Иоанна, ни у синоптиков не сказано, что Креститель увидел Иисуса издалека. Его пространственная отдаленность, помещение главной фигуры на заднем плане – находка художника, сделанная не сразу: в самом раннем эскизе «Явления Мессии» Христос стоит рядом с Крестителем, окруженный взволнованной толпой, а пространство не имеет глубины; слабость этой первоначальной композиции по сравнению с окончательной очевидна. М.М. Алленов справедливо пишет: «Глубина и перспектива внесли в картину не только само по себе пространство, пейзаж, но и нечто вовсе отсутствовавшее в первоначальных эскизах – а именно время, длительность, – окончательно выдвинув в качестве доминирующего мотив преодоления стабильного бытия, идею открытого пути, стремления вдаль. Пространственная перспектива сообщила перспективу внутренним процессам мысли и чувств, представив их в ракурсе предчувствий и надежды».
В библейских эскизах прием многозначительной удаленности встречается часто. В сцене первого появления Христа перед народом (по Евангелию Иоанна) его фигура, так же как в большой картине, возникает вдали. Композиция «Рождества» (несколько предварительных вариантов): на первом плане пастухи или волхвы, а ясли виднеются в глубине. Во многих сценах проповедей в храме проповедник виден в далекой перспективе. Нагорная проповедь, наиважнейшая в учении Христа, – снова аналогичное «Явлению Мессии» пространственное построение: Христос показан сидящим на отдаленном холме, народ располагается широким полукольцом внизу. Незаполненное пространство, отделяющее народ от проповедника и изолирующее его фигуру, – как бы промежуточная среда, через которую должны пройти слова проповеди, неясно слышимые и смутно понимаемые толпой. Когда Христос спускается с горы (лист «Возвращение с нагорной проповеди»), толпа в молчании расступается – композиция оказывается перевернутой: теперь фигура Христа на первом плане и движется на зрителя «наплывом», по сторонам от него немного позади идут ученики, а еще дальше, расходясь лучами от центральной фигуры, следуют остальные. Христос впереди всех, но один: остро чувствуется его отъединенность, обособленность, пронзительное одиночество среди завороженно следующих за ним людей.
Пространственные построения – ближе, дальше, выше, ниже – у Иванова не бывают случайными и всегда несут в себе глубокий внутренний смысл. Так и в «Голгофе». Как при первом появлении перед людьми, так и в последний трагический момент своей земной жизни Христос виден издалека. Он – та точка схода, к которой устремляются линии человеческих судеб и надежд, но от нее отделяет труднопреодолимый путь. Здесь он символизируется мрачным пространством лобного места, где лежат непогребенные кости, куда ведут тяжелые врата – не те ли, о которых Христос говорит в Нагорной проповеди: «…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Конец трудного пути – не гибель, а нетленная жизнь, и это также выражено в композиции «Голгофы». Обратим внимание на то, как нарисован далекий крест с распятым Христом: общим абрисом он напоминает фигуру белого ангела с распластанными крыльями, являвшегося пастухам с вестью о Рождестве Спасителя. Этот далевой образ видится образом полета, освобождения. Если бы художник изобразил Распятие вплотную, такого впечатления нельзя было бы достигнуть: тогда мы увидели бы страдающего, замученного человека на кресте, и только.
Сюжет «настоящего» полета в небо – Вознесения Христа – нашел в эскизах Иванова лишь предварительное и приблизительное воплощение: эти композиции далеко не завершены, так же как и сцены явления воскресшего Христа ученикам. Но понять замысел можно и по наброскам. В «Вознесении» художник точно следует тексту Евангелия от Луки благословив учеников, Христос «стал отдаляться от них и возноситься на небо». В «Деяниях апостолов», также написанных Лукой, добавлено, что «облако взяло Его из вида их», и когда они смотрели на небо, перед ними предстали «два мужа в белой одежде», сказавшие, что Иисус вернется на землю. Этих «двух мужей в белом», то есть ангелов, но без крыльев, Иванов написал бесплотными, как видения; Христос едва различим в белом сиянии облака, ученики, стоя на коленях и защищая глаза от яркого света, всматриваются в тающий, растворяющийся в небе силуэт, напоминающий силуэт распятого в «Голгофе».
Александр Иванов намеревался продолжить свой новозаветный цикл деяниями апостолов. Несколько композиций посвящены Павлу, пламенному миссионеру, «апостолу язычников». Павел был беспощадным гонителем христиан до тех пор, пока на пути в Дамаск не услышал голос с неба: «Савл, Савл! почто ты гонишь меня?», – сопровождавшийся ослепительным светом. Иванов изобразил не самый этот момент, но последующий – спутники Павла ведут его за руки, потерявшего зрение и потрясенного, что ясно прочитывается в его фигуре, хотя она видна со спины. Другие эскизы изображают деяния обращенного Павла в Риме и в эллинистических городах, заслужившие ему славу «учителя вселенной». Образ его в трактовке Иванова вполне индивидуален и не похож ни на ветхозаветных пророков, ни на Иоанна Крестителя, ни на проповедующего Христа: «дерзновенный» проповедник, с осанкой «римского гражданина» (каким он действительно был), с фигурой массивной и мощной, напоминающей статуи Микеланджело. В одном эскизе у ног его лежит записывающий его слова евангелист Лука – спутник Павла в далеких путешествиях. Он посещал и Афины; возможно, что несколько «античных» сцен среди библейских эскизов имеют отношение к истории Павла.
В течение последних десяти лет жизни Иванов редко обращался к своей большой картине: «У меня едва достает духу, чтоб более совершенствовать ее исполнение». Он был человеком одной, всепоглощающей творческой идеи: если уж она овладевала им, то овладевала всецело. Работе над библейскими эскизами он отдавался целиком; все, что он в эти годы делал, было с ней так или иначе связано: пейзажные кроки, которые, по определению Алленова, «изображают как бы пустую сцену, на которой предстояло развернуться действию библейских легенд», зарисовки животных (лошади, быки, овцы – без них не мыслится быт библейских народов), зарисовки костюмов, утвари, архитектуры. Есть, однако, серия этюдов маслом, которая как будто бы от библейских эскизов независима: знаменитые «Обнаженные мальчики», написанные с высочайшим живописным мастерством и, как многие исследователи отмечали, без всякого «психологического привкуса» (по выражению Н.Г. Машковцева). Но действительно ли они не имеют отношения к библейской серии? Самый ранний этюд «Семь мальчиков в цветных одеждах», безусловно, имеет отношение к «Явлению Мессии»: это проверка композиции на натуре, в пленэре. Этюды более поздние соотносимы с композициями на библейские темы. Гибкие тела мальчиков, их телодвижения подсказывали художнику нужные пластические мотивы. Ему не требовалось ставить мальчиков, как натурщиков, в определенные позы – важнее было наблюдать те естественные позы, которые они принимали без напряжения, греясь на солнце, сидя, стоя, вставая, лежа на спине или на животе. Эти позы находили отголосок в сценах странствий израильтян в пустыне, слушания проповедей, крещения в Иордане. Не воспроизводились в точности, но варьировались. Впрочем, встречаются и прямые соответствия: например, поза голого мальчика, стоящего спиной к зрителю с приподнятыми руками (рисунок) совпадает с позой апостола в эскизе «Апостолы отвязывают ослицу». Таким образом, серия «мальчиков» была, скорее всего, серией этюдов для библейских композиций. При этом «психологизм» действительно исключался: ведь если бы художник дал какую-то сюжетно-психологическую мотивацию сценам с мальчиками, она бы пришла в противоречие с содержанием библейских сцен. Пластические мотивы «мальчиков» должны были служить чистыми сосудами для дальнейшего содержательного наполнения в системе библейских эскизов (также внепсихологичны и внесюжетны «Семь мальчиков» – вспомогательный этюд большой картины). Предполагать же, что «Обнаженные мальчики» создавались без всякой связи с последними или даже «в противовес» им (как думал М.В. Алпатов) трудно: Иванов ничего не делал иначе как в русле основного творческого замысла. Проблема человеческой фигуры внутри пейзажа, так блистательно решенная в этих этюдах, также имела прямое отношение к библейским эскизам, где действие очень часто происходит на открытом воздухе при свете солнца.
Замысел Александра Иванова остался более чем наполовину незавершенным даже в эскизах, не говоря уже о претворении эскизов в монументальные картины для «храма человечества». Неизвестно, были ли у Иванова какие-либо предварительные соображения относительно архитектурного облика этого храма. Вероятно, его сооружение мыслилось лишь в идеале, в далекой перспективе времени. При всей своей склонности к грандиозным проектам Иванов сознавал, что задуманное им – не для одной человеческой жизни. «Если б, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди, и это уже много и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец», – писал он брату из Петербурга в 1858 году, последнем году своей жизни. Хотя смерть художника была неожиданна и скоропостижна, в незаконченности библейского цикла чудится провиденциальный смысл. Незаконченность воспринимается как напутствие будущим поколениям: начало положено, а продолжение вверяется им.
Есть недосказанность и в самом замысле. Стремясь к систематизации, Иванов пытался опереться на Штрауса, но идеи художника не укладываются в рамки ученой схемы, да и с научной точки зрения построения Штрауса были сомнительны. По-видимому, круг сюжетов для предполагаемых пятисот композиций не был четко определен – а ведь Иванов придавал выбору сюжетов большое значение. Надо было выбирать из необозримого множества коллизий, содержащихся в Книге книг – Библии. О предпочтениях художника, более интуитивных, чем логических, можно только догадываться на основании того, каким сюжетам он отдает наибольшее любовное внимание, а какие опускает.
Во многом его выбор определяется приверженностью историзму. Это особенно заметно в новозаветном цикле, который Иванов собирался сделать как можно более полным. Хотя Сергей Иванов упоминал о намерении брата включить в цикл деяний Христа «наросшие» впоследствии предания и легенды, это, по-видимому, так и осталось намерением: в имеющихся эскизах мы их не найдем. Нигде не изображены, например, детские годы Иисуса, а о них рассказывается в апокрифических легендах, явно сочиненных. Художник вообще не обращается к апокрифам, а следует лишь текстам Нового Завета, погружая их в атмосферу подлинной истории тех лет, включая сюда пейзаж Палестины, архитектуру, костюмы, обстановку жилищ, бытовые детали. Он решительно избегает сближения с иконописными канонами и не принимает во внимание догматы, установленные христианскими мыслителями через несколько веков после евангельских событий. В эскизах Иванова отсутствует даже такой укорененный в религиозной традиции образ, как Богоматерь с Младенцем. Очевидно, потому, что культ Пресвятой Девы был введен позднее, на вселенских церковных соборах, в Евангелиях же о нем речи нет. Иванов создает трогательный женственный образ Марии, но не изображает ни ее последних лет жизни, ни Успения, ни принятия в «небесную славу» – все это добавлено позже; он рисует только те эпизоды, о которых повествуют современники Марии, евангелисты: Благовещение, Рождение Христа, Сретение, встреча с Елизаветой, бегство в Египет, Голгофа.
Как исторический живописец, Иванов хочет оставаться на почве истории, и только истории, и, видимо, Новый Завет представляется ему единственным надежным источником: там ведут рассказ свидетели событий, происшедших в Палестине при римском наместнике Понтии Пилате. Художник стремится воссоздать события так, как их воспринимали люди той эпохи, чтобы и нынешние зрители увидели их словно бы собственными глазами. В таком «чисто историческом» подходе к Священному Писанию, исключавшем доктринерство и догматизм, было по тем временам вольномыслие, которое, как думал Иванов, могло навлечь на него гонения. По словам Н.Г. Чернышевского, Иванов в беседе с ним (касавшейся книги Штрауса) говорил: «Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредным для предрассудков и преданий».
Ну, а каким же образом входили в сферу исторического чудесные явления? Не относились ли они к области «предрассудков и преданий»? Однако Иванов писал их с особенным воодушевлением. Противоречия здесь нет. И уму Иванова, воспитанному на романтической философии, и его художественному чувству мифологический элемент представлялся неотделимым от истории народов, так же соединенным с ней, как соединены материальное и духовное в человеческой жизни. Историческая живопись объемлет то и другое в своих «смыслообразах» (по терминологии Шеллинга). Если рационалист Штраус находил возможным и нужным вылущить из религиозных сказаний историческое ядро, очистив его от мифологических и символических покровов (сильно обедняя этим и религию, и саму историю), то художнику, такому, как Иванов, это было противопоказано. Как ни хотел он идти в ногу с «современной ученостью», ему оставалась внутренне близка мысль Шеллинга: «Само историческое есть только некоторый вид символического».
В противном случае становилась неосуществимой миссия художника, как Иванов ее понимал: содействие нравственному, духовному возрождению людей – современников и тех, кто придет потом. Иванов не верил, что этой высокой задаче способно послужить простое зрелище того, как они сами или их предки пили, ели, работали, воевали, – оттого он так презирал жанровую живопись (по определению Стасова, «художество, берущее себе задачи из ежедневной будничной жизни»), называя ее «разменом сил на мелочи и вздоры». Дать опору духовным поискам и упованиям, открыть глаза на «Царство Божие внутри нас» – вот какие цели он, великий утопист, считал достойными искусства. В «храме человечества» должна предстать история людей, заключивших некогда союз с Богом, – как они шли многотрудным путем, поднимаясь и падая, но храня путеводную нить надежды, ведущую сквозь века до настоящих дней с их «падшей нравственностью». Мессианские чаяния и были такой путеводной нитью, поэтому Иванов сделал их сквозной темой своего цикла – вслед за Штраусом, но в ином смысловом ракурсе. Эта внутренняя тема определила наряду с историческим еще один принцип отбора сюжетов – тех, где герои Библии, внимая некоему зову, расстаются с инерцией привычного бытия и пускаются в неизведанный путь. Иванов любил такие сюжеты, их затаенную символику. Авраам покидает землю свою и дом отца своего, чтобы идти, по обетованию Господа, в неведомую землю Ханаанскую. Моисей, стряхнув инерцию рабской доли, выводит из Египта свой погрязший в рабстве народ. Старый Илия, преодолевая безмерную усталость и жажду покоя смерти, поднимается по призыву ангела: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою».
Отрок Давид, пасущий овец, безмятежно отдыхает под сенью дерева, но перед ним появляется гонец пророка Самуила, и пастух оставляет свои стада и поля ради высокой и трудной доли. Иосиф, «обручник» Марии, найдя со своим семейством спасительное убежище в Египте, во сне слышит голос ангела: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и иди в землю Израилеву».
Идея пути, возвещаемого небесным посланцем, – один из лейтмотивов библейской серии Иванова. В христологическом цикле она раскрывается как путь человека к самому себе – к своей истинной духовной сущности. Явление Мессии застает мир греховным и порабощенным. «Если бы Иисус вооружил свой народ против Тиберия, – записывал Иванов на листе одного из альбомов, – то, конечно, пал бы безуспешен… Он нашел лучшим выйти в свет с проповедью о духовном человеке». В другой заметке говорится, что в личности Иисуса воплотилась вся «затерянная нравственность» людей. «Надобно полагать, что царствие небесное есть нравственное совершенство…» Из подобных заметок, разрозненных, разбросанных по листам альбомов, очевидно следует, что, по мысли художника, чаемое спасение людей состоит в пробуждении их собственных нравственных сил – через Христа. Но для того нужна вера в эти силы, заключенные в человеке, сотворенном по образу и подобию Божию, то есть вера в божественность Христа, иначе его смерть на кресте только доказала бы бессилие нравственных заповедей, которые он провозглашал. На пути к нравственному совершенству, к пробуждению в себе «духовного человека», нужно превозмочь неверие, малодушие, уныние, робость, а им подвержены даже избранные – Захария, Иосиф, Петр и те ученики Иисуса, которые сиротливо жмутся за оградой Голгофы, чувствуя себя обманутыми и брошенными.
В этом смысловом контексте понятно, почему Иванов с таким вдохновением изображал «чудеса». Не те, что связаны с многочисленными исцелениями больных, – они доступны и людям, но чудеса Преображения, Благой вести, Хождения по водам, Воскресения. Они в понимании художника есть не «сон человеческого духа», а скорее его прозрения: момент высшей истины, когда как бы разрывается завеса обыденности и возникает сияющий образ сбывшихся надежд, необманутых ожиданий. Не будь этих мистических озарений, апостолы вернулись бы к своим рыболовным снастям и не стали бы проповедовать нравственное учение Христа; вся евангельская история выглядела бы беспросветно печальной. Как говорил апостол Павел, «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша».
Не забудем, однако, что Иванов, замышляя представить свой цикл суду современников – критически мыслящих людей XIX века, – хотел апеллировать к их разуму. Те истины, которые древними постигались через откровение, теперь, по мнению Иванова, могут и должны быть оправданы мыслью, изучением, анализом. Пусть современный образованный человек воспримет эти истины не слепо, как затверженную доктрину, а как итог многовековых духовных исканий, в которых соучаствовали и древние иудеи, и народы Востока, и греки с их пророческими мифами. Пусть перед глазами зрителя развернется величественная историческая панорама – не в условном «апотеозическом стиле», но «с глубокими сведениями древности», «увенчав все усилия ученых и антиквариев». Вот тот «высокий и новый путь» искусства, которому Иванов хотел положить начало своим трудом над библейскими эскизами. Путь возвышенного, неприземленного реализма.
Иванову близка была мысль Гоголя: «Мир в дороге, а не у пристани». Миру, находящемуся на перепутье, в тревожных поисках, он адресовал свое художественное воззвание. Приблизительно в те же годы поэт В.Г. Бенедиктов написал стихотворение «И ныне…» – оно было опубликовано в журнале «Современник»:
Над нами те ж, как древле, небеса, И также льют нам благ своих потоки, И в наши дни творятся чудеса, И в наши дни рождаются пророки. ……………………………………… Не истощил Господь своих даров, Не оскудел верховной благодатью: Он все творит – и библия миров Не замкнута последнею печатью. …………………………………….. Не унывай, о малодушный род! Не падайте, о племена земные! Бог не устал, Бог шествует вперед, Мир борется с враждебной силой змия.Библейские эскизы долгое время оставались под спудом. Когда художник после почти тридцатилетнего пребывания в Италии вернулся в Петербург, где его ждало начало славы и конец жизни, он привез с собой только большую картину «Явление Мессии». О трудах его последних лет почти никто не знал; в представлении современников Александр Иванов был автором единственной картины и многочисленных этюдов к ней, да еще вспоминали его раннее полотно «Явление Христа Магдалине» – некоторые даже ставили его выше «Явления Мессии». Большая картина вызывала отзывы разноречивые. Она пришлась как бы не ко времени. Общество было возбуждено и взбудоражено катастрофой Крымской войны, началом нового царствования, грядущими реформами. В искусстве назревали повороты, но не те, о которых помышлял Иванов. Уже известна была диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», уже начала выходить на передовые рубежи жанровая живопись, так нелюбимая Ивановым. Как это часто бывает в переломные моменты истории, художественные круги размежевывались на прогрессистов и консерваторов, относительно же Иванова было неясно, к какому лагерю он принадлежит – это сбивало с толку, его и хвалили и порицали невпопад. После внезапной смерти художника, поразившей всех, продолжалась борьба за него между славянофилами и революционными демократами: и те и другие хотели считать его своим. Но, кажется, ни те ни другие его до конца не понимали.
Александр Иванов был из тех художников, чье творчество постигается не сразу и влияет исподволь. Понимание приходило постепенно. Среди тех, кому уже в 1858 году «Явление Мессии» запало в душу, был юный Крамской, был будущий «учитель русских художников» П. Чистяков. «Богоискательская» струя в передвижничестве, наметившаяся позднее, – произведения Ге, Крамского, Антокольского, Поленова, Нестерова – брала истоки в творчестве Иванова. Методы работы над картиной путем «сличения этюдов» плодотворно развивались Суриковым. Все эти импульсы шли от «Явления Мессии». Библейские эскизы, очень мало кому известные, как бы дожидались своего часа. Только через двадцать лет после смерти художника, в 1879 году было начато, а в 1887 году закончено их литографированное издание отдельными выпусками. Эти цветные литографии, превосходные по качеству, издавались в Берлине и были большой редкостью, но сыграли свою роль, многим открыв глаза на нового Иванова. Художники и критики «Мира искусства» по достоинству оценили библейские эскизы. Александр Бенуа считал их гениальными и без колебаний ставил выше «Явления Мессии».
Именно библейские эскизы оказали влияние на творчество Врубеля. Духовная и стилевая преемственность чувствуется уже в академических рисунках Врубеля и становится вполне очевидной в его киевских работах, особенно в акварельных эскизах для Владимирского собора. Есть близость к Иванову в самих графических приемах Врубеля, основанных на «культе глубокой натуры»: филигранность формы, расчленение планов, при котором свет и тени, красочные пятна обладают собственным силуэтом – без смазывания и «утушевывания». Но и весь художественный строй врубелевских евангельских эскизов, их атмосфера, имеют нечто общее с библейскими эскизами Иванова. Их сближают поиски «большого стиля» на скрещении ренессансных традиций с Востоком и Византией. Сближают одухотворенность, возвышенность образов.
У Врубеля есть то, что в библейских эскизах Иванова не предчувствовалось, – сумрачное томление духа перед загадкой смерти, чувства мятежные, трагические. В этом они антиподы: один – носитель света, ясного разума, другого притягивает темная бездна. Но и тот и другой чувствовали себя призванными «будить душу от мелочей будничного величавыми образами» (слова Врубеля).
Дальше эта линия обрывается. Искусство XX столетия не пошло путем Иванова и храм человечества не воздвигло. Но и сейчас мы можем повторить сказанное в 20-х годах уже прошлого века М.В. Нестеровым: «Я верю, что рост значения и степень понимания Иванова будет возрастать от ряда новых, выходящих из самой жизни причин… и как знать, может быть, наш народ еще познает истинную гениальность сурового художника, так долго ускользающую, так глубоко скрытую».
Передвижники и импрессионисты[20]
Предмет этой статьи – прошлое, рассмотренное в его отношении к будущему. Такой аспект не избавляет от необходимости встать на точку зрения прошлого. Нужно перенестись в ту кажущуюся теперь такой далекой ситуацию искусства, когда оно не задавалось мудреными и запутанными задачами позднейшего времени и, казалось, их даже еще не предчувствовало; когда оно было проще духом и, вероятно, богаче душой; чтило природу «как она есть» и полагало ее своим вечным, неисчерпаемым источником; когда и помину не было об экспрессивных преображениях, кубистских разложениях, о создании картины как самоценного предмета, независимого от явлений природы, и так далее. Помину не было – а между тем все это уже стояло у порога, за ближайшим перевалом, и, значит, исподволь готовилось уже в искусстве 1870-1880-х годов.
Считается, что истоки нынешнего искусства восходят к постимпрессионистическим течениям рубежа столетий, но нельзя забывать, что все постимпрессионисты, сколь они ни были разными, начинали с импрессионизма. Импрессионизм был стартовой площадкой и для Сезанна, и для Гогена, и для Ван Гога. А у нас подобную же роль играла передвижническая концепция. Врубель считал себя «чистяковцем» и был немало обязан Васнецову и Ге; Серов учился у Репина, Нестеров – у Перова.
Таким образом, речь пойдет об «истоках истоков».
Искусство французских импрессионистов и русских передвижников по отдельности у нас изучено достаточно, но вот сопоставление их встречается не часто, а может быть, оно способно пролить какой-то новый свет на уже известное. Сопоставление оправдано явным параллелизмом этих течений.
Начать с того, что в их истории есть определенная синхронность. Они почти одновременно зарождались, кривая их развития одновременно достигла высшей точки и пошла на спад.
Сопоставим некоторые факты и даты. В 1871 году открылась первая выставка Товарищества передвижников. В 1874 году – первая выставка импрессионистов. Как те, так и другие, прежде чем создать самостоятельные выставочные объединения, прошли фазу интенсивного роста и постепенной консолидации в 1860-х годах. Импрессионисты тогда выставлялись, а чаще отвергались в официальном Салоне; в 1863 году их картины появились в Салоне отверженных. Предыстория передвижников была связана отчасти с академическими выставками, но главным образом – со Свободной артелью художников, образовавшейся, как и Салон отверженных, тоже в 1863 году. К первой самостоятельной выставке и французские, и русские «отверженные» пришли с уже сложившимся творческим кредо, продемонстрировали уже существующее новое направление, которое и там и тут сразу нажило себе врагов. Правда, была и разница.
Активно против передвижников были настроены только представители академического лагеря, в общем же Первая передвижная была встречена, скорее, сочувственно, чего нельзя сказать о первой выставке импрессионистов – ее сенсация была скандального свойства. Зато количество зрителей, критиков и вообще людей, так или иначе интересовавшихся живописью, было во Франции и в России несравнимо: в России выставки посещались немногими, во Франции они были в центре всеобщего внимания.
Далее, в 1870-х и затем в 1880-х годах происходило энергичное расширение сферы влияния импрессионистов во Франции и передвижников в России: они притягивали к себе все живое и талантливое в отечественном искусстве. Где-то в середине 1880-х годов появились первые симптомы их кризиса, а в 1890-х годах он уже явственно обозначился. В обоих случаях внутренний кризис этих течений совпал с ростом их внешней популярности, их омассовления и началом официального признания. Французские Салоны запестрели цветными рефлексами, световыми эффектами, светлыми красками. Русская Академия вполне примирилась с передвижниками, и ее выставки теперь мало чем отличались от передвижных. Тем временем наиболее сильные и самостоятельные из новой генерации художников искали уже иных путей.
То, что приходило на смену импрессионистам и передвижникам – постимпрессионизм во Франции, «Мир искусства» и другие течения в России, – было внутри себя довольно разнородно. Союзы возникали непрочные (исключение составляло дружное ядро «Мира искусства», но группировавшиеся вокруг него крупнейшие русские художники имели не так уж много общего с этим ядром и друг с другом). В общем, импрессионисты во Франции и передвижники в России представляли собой последние действительно сплоченные творческие коллективы.
Конечно, все это пока лишь внешние совпадения, которые сами по себе могут и ничего не значить. Важнее совпадения внутренние.
У импрессионистов и передвижников был общий враг, общий объект преодоления и, следовательно, общий импульс новаторства: академизм, неоакадемизм с их далекостью от современной жизни, с их условной предуказанной красотой, омертвевшими традициями, окостеневшей техникой и отсутствием подлинного национального характера.
Академическая система повсюду являла собой нечто однотипное. Все европейские академические школы восходили к общему источнику – Болонской академии XVII века и, через призму ее, к Высокому Возрождению и поздней Античности. Все отправляли своих питомцев на поклонение итальянским руинам, как правоверных мусульман в Мекку. Все канонизировали «божественного Рафаэля», официально восхищались «божественным Гвидо», все культивировали классический рисунок как всеобщую основу основ, цвет понимали как «иллюминирование» рисунка, высшим жанром почитали мифологизированный «исторический жанр».
К середине XIX века строгость академических правил и вкусов была повсеместно поколеблена, но тоже в однотипном направлении. Академические школы отчасти впитали и ассимилировали идеи романтизма, отчасти приспособились к заурядным вкусам буржуазной публики, которой больше всего нравились пикантная занимательность или сентиментальность сюжетов плюс тщательная иллюзорная «выделка». На выставках французского Салона в середине века преобладала «приятная» неоакадемическая живопись – симбиоз энгровской академической школы с вульгаризованными романтическими и облегченными жанровыми мотивами. Это была та господствующая художественная атмосфера, в активном неприятии которой сформировались Курбе, Милле, барбизонцы, Коро, Э. Мане, а вслед за ними – будущие импрессионисты.
Я напоминаю об этих общеизвестных вещах, чтобы подчеркнуть, что более или менее аналогичную картину являло в ту пору и русское официальное искусство. В более кустарном и менее культурном виде в России существовала и своя академическо-салонная живопись. Блистательно-желчный памфлет «Расшаркивающееся искусство», опубликованный в 1863 году журналом «Искра», дает о ней выразительное представление: «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Тут и пресловутые академические программы вроде «Римлянки, кормящей грудью престарелого отца», тут и сентиментальные жанры, заставляющие, как пишет автор памфлета, «чему-нибудь сочувствовать и проливать драгоценные, но в то же время гроша медного не стоящие слезы», тут и «картинки с игривым и несколько скоромным содержанием», например «Утро в деревне»: «За утренним чаем сидит помещик со своей женой и плутовски подмигивает стоящей в углу горничной, которая ему на это грозит пальчиком».
Подобный ассортимент академических выставок так же отталкивал будущих передвижников, как будущих импрессионистов отталкивали «Римляне эпохи упадка» Кутюра и «Венера» Кабанеля, бывшая в том же 1863 году гвоздем парижского Салона.
Те, кто положил начало Товариществу передвижных выставок, сами прошли академическую выучку у Бруни, Шамшина, Скотти, Мокрицко-го – и она вызвала у них решительное внутреннее сопротивление. Академическую выучку в Школе изящных искусств, в мастерских Кутюра, Жерома, Глейра прошли и те, кто основал содружество независимых во Франции. Известен рассказ Клода Моне о том, как Глейр выговаривал ему за слишком близкое следование характеру модели, рекомендуя «когда что-нибудь делаешь, всегда думать об Античности». Моне, тогда двадцатилетний юноша, отозвав в сторону своих товарищей по мастерской, Сислея, Базиля и Ренуара, сказал им: «Бежим отсюда. Это место вредно для здоровья: здесь недостает искренности». «Мы ушли после двух недель подобных уроков»1.
Известен и рассказ Крамского о годах ученичества в Академии у Бруни, где он встретил «одни голые и сухие замечания: что вот это длинно или коротко, а вот это надо постараться посмотреть на антиках, Германике, Лаокооне». И тут дело тоже кончилось коллективным бегством – правда, не через две недели, а через шесть лет. Русские проявили больше способности к долготерпению. Но легко представить, как сходно было самочувствие молодого Крамского и молодого Моне: эти юноши, почти ровесники, встреться они тогда, прекрасно поняли бы друг друга. Их равно отталкивало отсутствие искренности. Удручали непрерывные отсылки к Античности, равнение на каноны, отталкивал сам технический, технологический, заформализованный подход к делу искусства, неподвижные понятия о «высоком и прекрасном», противополагаемом «низкому и низменному», то есть живому.
И во Франции, и в России реалистическое искусство с самого начала имело своих литературных приверженцев и пропагандистов – писателей и критиков. Их сочувствие новому направлению и защита его в прессе имели важное значение. Именно литераторы находили общие формулы для выражения его задач. Эти формулы у французов и русских подчас разительно совпадают. Если не знать самих картин и основываться на теоретических постулатах, выдвигаемых критиками, можно подумать, что речь идет о каких-то весьма сходных явлениях.
«Будем немножко сами собой, даже если мы выглядим некрасивыми. Не будем ни писать, ни рисовать ничего, кроме того, что существует, или хотя бы кроме того, что мы сами видим, что знаем, что сами пережили»2.
«Дай бог поскорее отделаться от этих заученных форм, забыть их. Этому пособить может одна действительность, одна правда с натуры, одно искусство, воспроизводящее с самого малолетства своего не “Харонов” и не “олимпийские игры”, а сцены из действительной жизни…»3 Первая из этих сентенций принадлежит французу Денуайе, вторая – русскому Стасову.
Дюранти еще в 1850-х годах возмущался засильем в живописи «образов Античности, образов Средневековья, образов шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого столетий, в то время как девятнадцатый век запрещен абсолютно»4. Сетования на Юпитеров, Антиноев, Меркуриев, Юнон, Венер, Аскольдов и так далее настойчиво повторялись в эти же годы и в русской прогрессивной прессе.
Характеризуя «натуралистическую школу», как она сложилась в 1860-х годах, Кастаньяри писал: «Натуралистическая школа утверждает, что искусство есть выражение жизни во всех ее проявлениях, на всех ее стадиях <…>. Снова поставив художника в центре современной жизни, заставив его мыслить, она определила подлинную полезность, а следовательно, и моральность искусства». В другой статье: «Она (натуралистическая школа. – Н.Д..) – порождение современного рационализма. Она – порождение нашей философии, которая вернула человека в общество, откуда его изъяли психологи, и сделала социальную жизнь общества главным объектом наших исследований. <…> Натурализм, принимающий все реальности видимого мира и в то же время все пути познания этих реальностей, – есть… противоположность всякой школе. Он далек от того, чтобы устанавливать границы, он уничтожает все преграды. Он не насилует темперамент художника, он дает ему свободу»5.
Характеризуя передвижническое направление, А.В. Прахов писал: «Сказать на своем специальном языке художественных форм правду, даже голую правду – вот что должно быть отмечено как решительное, как главнейшее желание всех наличных русских художественных сил <…>. Желание правды во что бы то ни стало есть в то же время залог естественного роста и развития природных художественных сил, есть стремление освободить этот естественный рост от всяких внешних давлений отжившего, насильно навязанного предания и искусителя мамона – есть искреннейшая и истиннейшая жажда свободы. Этот важный акт внутреннего освобождения вполне закончился в русском искусстве последнего десятилетия <…>. Закончился в такой степени бесповоротно, что масса художественных сил… обращается по преимуществу к тем родам живописи, где ошибки и ложь менее возможны, – к воочию знакомой, осязаемой современности»6.
Как видим, все это звучит сходно, и таких близких высказываний можно было бы привести много. Из них, во всяком случае, следует, что правда, реальность, современность, свобода художника были программными, лозунговыми понятиями равно и во Франции, и в России.
Могут возразить, что приведенные сентенции французских литераторов, их рассуждения о «новом направлении», «натуралистической школе» относятся не к импрессионизму, а к предшествовавшему ему по времени французскому критическому реализму, который обычно связывают с именами Курбе, Домье, Милле. Главное – с Курбе.
Но, во-первых, критики, вставшие на сторону Курбе, – Дюранти, Кастаньяри, Астрюк и другие – были вместе с тем сторонниками и друзьями импрессионизма. Во-вторых, и это главное, между реализмом Курбе и «натуралистической школой» будущих импрессионистов не пролегало резкого рубежа и противопоставлять их друг другу как нечто принципиально разное – по меньшей мере натяжка. Тут была органическая и дружественная преемственность старшего и младшего поколений реалистов.
И Домье, и Милле, и Курбе очень высоко ценились импрессионистами (см., например, отзыв о них Писсарро). Но путь двух первых был несколько обособленным. Домье при жизни был известен лишь как мастер журнальных карикатур, сатирик-график, а это была особая, специфическая ветвь французского искусства, у которой были и свои продолжатели, например Форен. Живописные же произведения Домье были впервые выставлены за год до его смерти, в 1878 году (когда концепция импрессионизма уже всецело определилась), а широкую известность получили только в 1900 году на Всемирной выставке. Милле, живописец крестьян, любимый художник Ван Гога, вел уединенную жизнь в деревне, избегая контактов с какими-либо художественными объединениями, и, по его собственным словам, никогда не стремился «встать под чьи-то знамена». Он решительно возражал, когда критика сближала его с Курбе и когда она приписывала ему обличительные или даже революционные намерения, и, видимо, с этим нельзя не считаться.
Остается Гюстав Курбе. В нем привычно воплощается для нас представление о французском реализме середины века, тем более что сам Курбе и ввел в обиход понятие реализма, постоянно декларируя его в применении к своему творчеству. Но если нельзя не считаться с суждениями художника о самом себе, то не следует и слепо принимать их на веру. Бесспорно, Курбе был очень крупным живописцем, но точно ли он был так социально направлен и всеобъемлющ, как заявлял? Многое в декларациях Курбе было ему подсказано Прудоном. Изрядно самовлюбленный и достаточно простодушный, «наивный гигант» Курбе, воспламенившись мыслями своего друга-философа, искренно ввел их в свою личную «программу»: «Передавать нравы, идеи, облик моей эпохи согласно моей оценке». Уверенный сам, что он это делает, он внушал такую уверенность и другим. «Облик и нравы» он в какой-то мере передавал, живописуя своих земляков в Орнане; что же касается «идей эпохи» – пожалуй, он был для этого слишком стихийным и недостаточно интеллектуальным живописцем. Он написал «Похороны в Орнане» – большой групповой портрет, достойный, быть может, Караваджо или Хальса, однако не являющийся откровением «идей эпохи». Написал «Каменотесов» – предмет был выбран «программно», но, вероятно, даже рядовой русский передвижник нашел бы для него более острую социально-философскую концепцию. И едва ли какому-нибудь передвижнику пришло бы в голову написать столь эгоцентрическую, странную и громоздкую композицию, как та, которую Курбе торжественно назвал «Реальная аллегория, определяющая семилетний период моей художественной жизни». Короче говоря, практика Курбе недостаточна, чтобы оценивать ее как полное воплощение французского демократического реализма или как его вершину. Курбе был лишь в числе его застрельщиков. Он действительно восстал против академических и романтических «идеальностей», писал только современность, писал самобытно, с огромным живописным темпераментом. Все это и привлекло к нему художников молодого поколения – будущих импрессионистов, которые и впоследствии никогда не отмежевывались от Курбе, а всегда признавали его одним из своих ближайших учителей наряду с Коро, Ионкин-дом, Буденом и, наконец, Эдуардом Мане. Вслед за Курбе они считали себя реалистами. И действительно ими были.
Импрессионисты со временем творчески отдалились от Курбе, но не потому, что их не устраивал его реализм или его социальный темперамент, – их не устраивала прежде всего чернота живописи Курбе. Проблема светлой тональности была для них принципиальным вопросом реализма: они стояли на том, что в природе нет битюмных теней, глухого тона, черного цвета. А природа была их кумиром.
В конкретно-историческом значении термина реализм как течение XIX века предполагал стремление к близости и верности природе, натуре. Это было его conditio sine qua non. Импрессионисты стремились к этому, может быть, сильнее, чем кто-либо до них. День за днем, год за годом они жили захватывающей, изнурительной и сладостной погоней за ускользающими тайнами «натуры». Золя в романе «Творчество», был ли прототипом его героя Мане или Сезанн (оба отнюдь не похожи по складу личности на Клода Лантье), представил художника-реалиста, «слишком реалиста», одержимого этой погоней, переходящей уже в манию, подошедшего к предельной черте в своем фатально недостижимом стремлении похитить огонь жизни, воплотить на полотне «живое».
Импрессионисты в своей позднейшей эволюции, как известно, отступили перед чертой. Но пристрастие к современному, сегодняшнему они до конца сохранили. Практика импрессионистов полностью совпадала с убеждением Милле: «Наиболее прекрасно то, что взято из самой обыденной жизни, то, что изображает обычные происшествия, чувства и поступки каждого дня»7 – и Курбе: «Я считаю художников определенного века решительно некомпетентными воспроизводить события предшествующего или будущего времени, иначе говоря, писать прошедшее или будущее»8.
Импрессионисты, при своей безраздельной преданности настоящему, были к тому же и последовательно демократичны. Даже аристократ Дега, любивший на словах полемически отстаивать элитарность искусства, на деле как никто чувствовал и передавал поэзию будничного Парижа, его труды и дни; прачки и балерины у него, в сущности, родные сестры. Ренуар с его любовью к веселому, чувственному, чуть-чуть даже балаганному «празднику жизни» был поистине сыном французского народа. Пейзажисты Моне и Сислей всем красотам предпочитали деревенские улицы, скромные пригороды. Нечего и говорить о Писсарро. «Известно, – пишет Вентури, – что импрессионизм по-своему способствовал признанию человеческого достоинства обездоленных классов, выбирая простые мотивы, предпочитая розам и дворцам капусту и хижины, подчеркивая свою неприязнь ко всякой элегантности и социальной утонченности. Но никто не пошел по этому пути так далеко, как Писсарро, и поэтому критики, начиная с 1870 года и даже после смерти Писсарро, обвиняли его в том, что он вульгарный и прозаичный живописец»9.
Что «признанию человеческого достоинства обездоленных классов» способствовали в России передвижники – это, кажется, доказательств не требует.
Словом, можно не сомневаться, что черты стадиальной близости между русским передвижничеством и французским импрессионизмом существовали. Они были вызваны к жизни единой логикой истории, исторического художественного процесса. Оба течения написали на своем знамени: реализм, современность, демократизм, раскрепощение творчества от канонов. И оба эту программу осуществили.
Наконец, и пленэр не являлся исключительной прерогативой импрессионизма. Его по-своему «открыл» духовный отец русских передвижников – Александр Иванов. Сами передвижники, правда, с пленэрной живописи не начинали, но к ней двигались по мере своего художественного возмужания. Нельзя отрицать пленэризма в полотнах 1880-х годов Репина, Сурикова, Поленова, не говоря уже о Левитане, Серове, Коровине.
Теперь встает самый существенный вопрос: почему же (и в чем) импрессионисты и передвижники были между собой решительно несходны и даже в чем-то антагонистичны?
Априори можно ответить, что вообще стадиальная близость, будучи «абстрактной близостью», отливается в непохожие конкретные формы, зависящие в первую очередь от особенностей и всякого рода «зигзагов» истории народа и его национальных культурных традиций. Но такой общий ответ никого удовлетворить не может. Интересным может быть только конкретное рассмотрение этой разности путей близких течений.
Посмотрим сначала, как они сами друг к другу относились и оценивали.
Импрессионисты, скорее всего, никак не относились к русской школе: попросту ее не знали. Никто из них в России не бывал; если им случалось видеть русские картины в Салонах и на международных выставках, едва ли они могли их заинтересовать. Вероятно, они казались им обычными неоакадемическими жанрами, что было, конечно, неверно, – но, не зная русской жизни, французы не могли, тем более по случайным и немногим вещам, почувствовать за традиционной формой самобытность русского искусства. Достоевский в одной из статей, восторженно отзываясь о картинах передвижников, добавлял, что самое главное, правдивое и глубокое, что в них есть, не будет понято иностранцами. «Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный…»
Иначе обстояло с русскими. Все они наезжали в Париж, подолгу там жили. Жили, насколько можно судить по письмам, довольно замкнуто, общаясь в основном между собой, в пределах своего «землячества», но усердно посещали выставки и внимательно приглядывались к французскому искусству. Это поколение русских художников, начиная с Перова, вполне освободилось от робко-ученического пиетета перед Италией и Францией: оно сознательно настаивало на своем «особом пути». Однако в своей обретенной независимости русские художники сохраняли разумную объективность, живой интерес к художественной жизни Запада и не стеснялись высказывать восхищение тем, что им нравилось. Правда, и в восхищении всегда присутствовало большое или маленькое «но»: «но это не для нас», «не наше», «у нас иные задачи».
Идея «своего пути» владела ими прочно, в этом отношении они не находили да и не искали образцов за рубежом. Но они далеко не были равнодушны к тому, что называли «красотой техники», «оригинальностью языка».
У русских художников передвижнического периода неизменно присутствовало разграничение, подчеркнутое различение «что» и «как», содержания и формы, смысла и языка – разграничение, которого вовсе не признавали импрессионисты. Русские художники, разумеется, отдавали себе отчет в нереализуемости «хорошего» содержания при «плохой» форме (что подразумевалось под формой плохой и хорошей – это уже другой вопрос), но вполне допускали возможность «блестящей формы» при довольно пустом содержании. В этом плане русских художников более всего прельщал среди их современников Фортуни: тут сходились и Репин, и Поленов, и Врубель. Только Крамской проявлял мудрый скептицизм, хотя и он не отрицал «громадного таланта» Фортуни10.
К французам отношение было неровное, колеблющееся, с оттенком недоверия, но и с готовностью признавать их высокие, хотя односторонние качества – опять-таки качества «формы». В письмах Репина, Крамского, Сурикова, Поленова, Савицкого речь идет чаще о «французах» вообще, чем об отдельных французских художниках или школах: ни одного французского художника они не выделяли так безусловно, как испанца Фортуни. С похвалой часто отзывались о Мейсонье (кроме Сурикова, который терпеть не мог Мейсонье за «фотографизм»), о Ренье – молодом романтике, погибшем во время франко-прусской войны, о Делароше н Невиле. И наконец – об Эдуарде Мане. Об импрессионистах («эмпрессионалистах») чаще всего упоминали скопом («Моне и другие»). Имена Курбе, Домье и Милле в переписке русских художников 1870-х годов почти совсем не встречаются.
При посещении Салонов, увешанных снизу доверху тысячами картин, в сознании приезжего, естественно, отлагалось прежде всего то, что эти картины объединяло, – черты их фамильного, то есть национального, сходства. Лишь постепенно восприятие становилось дифференцированным. Не всегда пребывание русского художника во Франции было достаточно длительным, а знакомство с ее культурой – достаточно основательным, чтобы успеть перейти в эту стадию. Начальная стадия, однако, тоже имела свои преимущества, так как чем дальше заходит дифференциация, тем труднее восстанавливается образ общего; если в первый момент видят лес и не различают деревьев, то потом уже начинают за деревьями не видеть леса.
Молодой Репин жил в Париже в 1873–1876 годах – в самое горячее время импрессионистского вторжения в искусство. Несмотря на крайнюю импульсивность Репина и склонность быстро менять суждения, его высказывания этого времени и любопытны, и характерны.
В 1873 году он пишет Крамскому:
«…Французов же не догнать нам, да и гнаться-то не следует: искалечимся только <…>. Да, много они сделали и хорошего и дурного, тут уж климат такой, что заставляет делать, делать и делать; думать некогда… им дело подавай сейчас же: талант, эссенцию, выдержку, зародыш; остальное докончат воображением <…>. Давно уже течет этот громадный поток жизни и увлекает и до сих пор еще всю Европу. Но у меня явилось желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование – от нее не много останется, т. е. очень много, но все это дешевое, молодое, недоношенное, какие-то намеки, которые никто не поймет. Не будет тут божественного гения Греции, который и до сих пор высоко подымает нас, если мы подольше остановимся перед ним; не будет прекрасного гения Италии <…>. Ничего равносильного пока еще нет здесь, да и вряд ли будет что-нибудь подобное в этом омуте жизни, бьющей на эффект, на момент. Страшное, но очень верное у меня было первое впечатление от Парижа, я испугался при виде всего этого»11.
В следующем письме:
«Французы – бесподобный народ, почти идеал: гармонический язык, непринужденная, деликатная любезность, быстрота, легкость, моментальная сообразительность, евангельская снисходительность к недостаткам ближнего, безукоризненная честность. Да, они могут быть республиканцами. У нас хлопочут, чтобы пороки людей возводить в перлы создания, – французы этого не вынесли бы. Их идеал – красота во всяком роде. Они выработали прекрасный язык, они вырабатывают прекрасную технику в искусстве; они выработали красоту даже в обыденных отношениях (определенность, легкость). Можно ли судить их с нашей точки зрения?»12
В 1874 году:
«Да, мы совершенно другой народ, кроме того, в развитии мы находимся в более раннем фазисе. Французская живопись теперь стоит в своем настоящем цвету, она отбросила все подражательные и академические и всякие наносные кандалы, и теперь она – сама <…>. Царит наконец настоящее французское, увлекает оно весь свет блеском, вкусом, легкостью, грацией…»13
Репин от письма к письму – это заметно – «французами» все больше увлекался (увлекался по мере того, как в авангарде французского искусства оказывался импрессионизм), но убеждение, что «мы совершенно другой народ» у него не поколебалось, даже как будто укрепилось. И когда Крамской написал ему: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но… как сделать, чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника – сердце?», то Репин ответил: «И здесь наша задача – содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории – вот наши темы, как мне кажется; краски у нас – орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш – не изящные пятна… он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке. Мы должны хорошо рисовать»14.
Написав «Парижское кафе», отважно взявшись за этот ультрафранцузский мотив, Репин решал его «по-русски», стремясь и тут выразить «лицо, душу человека, драму жизни».
В 1875 году Репин пленился Эдуардом Мане и даже сообщал Стасову, что написал «портрет Веры àla Manet». Упоминал в письмах о «разнузданной свободе», «детской правде» и «оригинальном языке» импрессионистов. В 1876 году писал: «Обожаю всех эмпрессионалистов, которые все более и более завоевывают себе право здесь». Правда, в его «обожании» явно был оттенок снисхождения к их «детскости» и даже «глупости».
Много позже, в 1897 году, в статье «В защиту новой Академии художеств» Репин подытожил свое отношение к импрессионизму в следующих словах: «Без impression, т. е. свежести и силы впечатления, не может быть и истинного художественного произведения. Раньше это называли вдохновением даже. Но когда в искусство вошло много традиционных правил, строгой условности и картины высокой академической школы сделались скучны, из среды парижских художников стали выделяться храбрецы, преследующие силу впечатления в своих произведениях в ущерб даже всем прочим достоинствам. Они отвергли композицию, сюжеты и довольствовались непосредственно взятым с натуры куском природы, ограничиваясь в передаче эффекта наброском главного впечатления, без всякой законченности, без поправок. Их холсты своей свежестью оживили искусство. После взгляда на их необработанные холсты даже хорошие, законченные картины показались скучны и стары <„>. Увлечение молодежи этой свежестью впечатлений не может быть вредно; опасения напрасны…»15
Отзыв как будто бы положительный, хотя из него явствует, что существо импрессионизма осталось для Репина непонятным. Он говорит о набросочности, незаконченности, необработанности картин импрессионистов, не замечая их артистическую законченность и обработанность – только иначе понимаемую, чем понимала академическая доктрина. Но все-таки Репин настроен к «храбрецам» благодушно. Однако не больше чем через три года, в 1899 году, рассердившись на «Мир искусства» за пренебрежительные отзывы о русских академистах, Репин в ответ напал на «декадентов», а заодно и на импрессионистов (в его представлении они все же оставались «декадентами») за то, что «их враги – академии. Традиции, знания, логические наблюдения законов форм и колорита природы клеймятся ими, как самый большой порок в искусстве». В качестве примера декадентского атавизма и дилетантизма Репин приводил Родена и Дега.
Одновременно с Репиным в 1870-х годах жил в Париже Савицкий. Его впечатления гораздо более заурядны и поверхностны, чем у Репина, а симпатии – почти всецело отданы академистам. Но и он также писал Крамскому о «подвижной деятельной жизни» французского искусства, о его элегантности и блеске, «игривости и легкости ума» и о «вечном бросании с одного на другое» в погоне за успехом. Перечисляя понравившиеся ему вещи в Салоне 1874 года, Савицкий называет те, что, по его словам, «как нарочно нисколько не похожи на французские» – Невиля и других. Французов новейших Савицкий не одобрял за «мазню» и особенно негодовал на «бессовестность» Коро. В общем, он мало расходился с оценками тогдашней французской критики. Другие русские художники с ней расходились. В «мазне» импрессионистов они чувствовали что-то чарующее, притягательное, соблазнительное, хотя и чем-то «опасное».
Поленов, долго живший за границей, более других был уверен, что «далеко ушла Европа вперед, так далеко, что и бегом не догонишь». Однако сакраментальный тезис: «У нас главным образом значение имеет, что сделано, а тут как сделано» – выдвигается и Поленовым (с заметным внутренним колебанием: что же важнее?).
Из поколения русских семидесятников более всех неравнодушен к импрессионистам был Суриков. Он писал Чистякову из Парижа: «На выставке я, конечно, картин с затрагивающим смыслом не встречал, но французы овладели самою лучшею, самою радостною стороною жизни – это внешностью, пониманием красоты, вкусом. Они глубоки во внешности»16.
Много лет спустя Суриков советовал своей знакомой сходить в Люксембургский музей и посмотреть там «дивные вещи из нового искусства»: Моне, Дега, Писсарро и других.
Самые характерные для концепции передвижников и вместе с тем самые вдумчивые суждения о «французах» принадлежат все-таки Крамскому. Вообще, читая написанное Крамским – письма и статьи, особенно письма, – не перестаешь удивляться глубине и масштабности мышления этого художника, одного из замечательнейших русских интеллигентов. Крамской мыслил концептуально, но не был склонен поспешно выносить приговоры и формулировать законы – он раздумывал. Раздумывал, остерегаясь быть несправедливым, избегая односторонности, взвешивая «за» и «против». Недаром ему так близок был образ человека, погруженного в размышления («Христос в пустыне»), поставленного перед выбором, обреченного выбору – мучительно трудному. По складу ума Крамской был полной противоположностью Стасову, любившему во всем прямолинейность и ясность. Стасова чрезвычайно раздражал «Христос в пустыне»: «О чем надумывается, зачем надумывается, на что кому бы то ни было нужно это нерешительное и смутное надумывание вместо настоящего “дела”, фактов, деяний – этого никто не объяснит»17.
Но Крамской, подобно герою своей картины, упорно «надумывался». У него всегда доставало мужества пересмотреть свои взгляды, иронически отозваться о какой-либо даже любимой своей идее, если он сталкивался с фактами, ей противоречащими. У нас, например, часто цитируют его слова: «…Мысль и одна мысль создает технику и возвышает ее; оскудевает содержание, понижается и достоинство исполнения». Между тем из контекста ясно, что Крамской эту формулу приводит лишь для того, чтобы поставить ее тут же под сомнение: «Однако ж, что это значит? Зачем на Западе дело идет как будто навыворот?»18 И ответа прямого нет. Речь у Крамского идет о странном, тревожном для него, чувствуемом им противоречии между эстетическим достоинством и тем, что он называл «сердцем». Потому-то он и опасается, как бы по дороге «к воздуху, свету и краскам» не растерять сердца.
Репину, как мы помним, решение казалось ясным: «Краски у нас – орудие, они должны выражать наши мысли». Крамской же понимал, что дело не так просто. В отличие от многих своих товарищей он избегал слишком простой формулы: «У нас – содержание, у них – форма», «у нас главное идея, у них главное техника». Он догадывался, что и у французов дело не только в технике, а и в том, «что» они хотят выразить, – только это «что» у них другое.
В переписке Крамского и Репина их взгляды на новое французское искусство как будто бы совпадают, но что-то все время толкает их на спор. Крамской видит и судит глубже.
Вот как писал он в 1873 году:
«И в Париже, как везде за границей, художник прежде всего смотрит, где торчит рубль и на какую удочку его можно поймать, и там та же погоня за богатыми развратниками и наглая потачка и поддакивание их наклонностям, соревнование между художниками самое откровенное на этот счет, но там есть нечто такое, что нам нужно намотать на ус самым усердным образом – это дрожание, неопределенность, что-то нематериальное в технике, эта неуловимая подвижность натуры, которая, когда смотришь пристально на нее, – материальна, грубо определенна и резко ограниченна; а когда не думаешь об этом и перестаешь хоть на минуту чувствовать себя специалистом, видишь и чувствуешь все переливающимся и шевелящимся и живущим. Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье, только человеческой головы с ее ледяным страданием, с вопросительною миною или глубоким и загадочным спокойствием французы сделать не могли и, кажется, не могут, по крайней мере я не видал»19.
Чтобы оценить по достоинству эти наблюдения, нужно вспомнить, что письмо написано до первой выставки импрессионистов, а сам Крамской был перед тем в Париже только в 1869 году (вторично – в 1876-м). И все же, говоря о «французах вообще», он выделил именно характерные для импрессионизма черты – те, которые в самой Франции встречались тогда только насмешками. Крамской же говорит о них замечательно точными словами – кажется, сами импрессионисты не могли бы определить лучше существо своего подхода к натуре.
Потом, когда об импрессионистах заговорили все и уже у всех на языке были их имена, Крамской отзывался о них примерно так же, как в этом письме. Его и очаровывала, и отталкивала их манера «делать так, как кажется». Отталкивала тем, что он подозревал тут искусственность. Крамскому не верилось, что на вершине утонченной культуры можно вернуться к непосредственности видения. Тем не менее он не сомневался, что «будущее за ними», только не знал, «когда оно наступит».
Это говорилось в то время, когда французская публика, пресса, маститые французские критики, считавшиеся арбитрами изящества, – Альбер Вольф, Луи Леруа и другие – не находили для своих соотечественников-импрессионистов других слов, кроме издевательств и поношений. «Сумасшедшая мазня» и «абсурдная пачкотня» – были еще самыми мягкими отзывами.
Нужно было обладать незаурядным и независимым пониманием эстетических ценностей, чтобы в то время оценить импрессионистов так, как их оценили передвижники – Репин и Крамской.
Однако затем Крамской переходил к рассуждениям о судьбах искусства в современном обществе (о котором судил трезво, проницательно и беспощадно) и тут высказывал весьма примечательные мысли:
«…Если преобладает в жизни жилка художественная, плохо: до конца недалеко. Всюду так было, всюду так будет. Вспомните Грецию, Рим, Италию (времен Возрождения) <…>. Или Вы думаете, что во Франции нет глухих подземных раскатов, которых бы люди не чувствовали? Вот в такие-то времена подлое искусство и замазывает щели, убаюкивает стадо, отвращает внимание и притупляет зоркость, присущую человеку. <…>
Искусство в общей экономии общечеловеческой, и особенно в государственной жизни народа (пока все человечество не догадается устроить иной порядок), и не должно занимать очень видное место. Я скажу так хорошо было бы, если бы человечество, совершивши роковым образом свой переходный период, пришло бы в конце к такому устройству, какое когда-то было, говорят, на земле, во времена доисторические, где художники и поэты были люди, как птицы небесные, поющие задаром <…>. Только при этих нормальных условиях искусство будет настоящим, истинным искусством»20.
А что же делать искусству в современных, «ненормальных условиях»? Для чего оно? Это вопрос вопросов русской культуры XIX века. Им задавались и Чернышевский, и Добролюбов, и Писарев, и Достоевский, и Толстой. В рассуждениях Крамского слышен отзвук того же глухого восстания против «эстетического» во имя «человеческого», против убаюкивающего соловьиного пения искусства; тот же неясный страх перед «гротом Венеры», который был и им ведом.
Писарев склонялся к ответу, простому, как колумбово яйцо: искусство не нужно, нужны позитивные знания, которые одни могут пролить свет в сознание современного человечества. Чернышевский и Добролюбов допускали искусство как истолкование, приговор и «учебник жизни». Толстой призывал искусство к отречению от высокомерной замкнутости на эстетических задачах, углубляющей (как он считал) пропасть между искусством и народом. Он рисовал идеал искусства детски-ясного, доступного всем без исключения и несущего нравственную проповедь. Символом художественной веры Достоевского также была нравственная проповедь, хотя иначе, чем у Толстого, понимаемая: миссионерское «глаголом жечь сердца людей», искусство – проповедь и пророчество, искусство – всечеловеческая отзывчивость.
Передвижничество в разное время и в разной мере отдавало дань всем этим веяниям, но, кажется, ему, как несколько ранее Александру Иванову, ближе всего было «искусство – проповедь», в особенности Крамскому и Ге.
Крамской возлагал особые надежды именно на историческую молодость русской культуры. Он многократно повторял: «Мы очень молоды», «или мы умнее других, или еще не доросли». Подразумевалось: и умнее, и не доросли. Русская культура сопоставлялась с французской, имеющей за плечами большие традиции, но и большие разочарования, уже утонченно-усталой. Быть может, думал Крамской, как раз в силу этой своей исторической молодости русскому искусству удастся, презрев эстетическое гурманство, «заставить камни заговорить» (любимое выражение Крамского).
Формулой сокровенных стремлений передвижничества могли бы быть строки из «Гамлета»: «Мой сын, ты очи обратил мне в душу, /Ия увидела ее в таких кровавых язвах…» Обратить очи своих сограждан в душу и заставить их содрогнуться. «Драма души», «драма жизни», «человеческая драма» – вот слова, которые непременно вырываются у Крамского, Перова, Ге, Антокольского, Репина, Сурикова, как только они хотят формулировать программу своего искусства. Тогда как французы… По выражению П.П. Чистякова – сердитому и укоризненному, – «французы о высоком-то и думать-то не хотят».
Неверно и близоруко было бы полагать, что передвижники только и занимались что бытовым жанром, «картинками из жизни» и при этом «разоблачали злоупотребления». Не жанр, а драма их воодушевляла. Да и кто, собственно, из крупных представителей передвижничества посвятил себя бытовому жанру? Только Перов – но и Перов мыслил его как драму жизни, не иначе. А Крамской, Ге, Репин, Суриков? У них бытового жанра мало, так называемого анекдотического жанра и вовсе нет. Анекдотами в красках, правда, злоупотребляли многие из числа второстепенных живописцев, но это было и в других странах в середине века. Тут едва ли было что-то специфически русское. Хотя правда и то, что даже не первоклассные русские жанристы, как Прянишников или Ярошенко, были на редкость чутки к «драмам жизни»: на их живописи лежал облагораживающий отсвет нравственной миссии, принятой на себя русским искусством.
Что же касается Крамского, то он за всю жизнь не написал ни одной по-настоящему «жанровой» картины (так же как другой основатель Товарищества – Ге). Он хотел и любил – и умел! – писать человеческое лицо с его «ледяным страданием или глубоким и загадочным спокойствием», со взором, устремленным в душу и обращенным к душе сопереживающего. И еще более он хотел (и в этом потерпел полную неудачу) создавать на полотне некие поэмы духа. Эту цель он преследовал в «Христе в пустыне» и в «Хохоте» – картине, которой отдал много лет жизни, но так и не закончил и даже намека на желаемое в ней не достиг.
Мы не должны забывать того факта, что почти всем выдающимся художникам-передвижникам были свойственны размышления над нравственными проблемами в духе ли Александра Иванова, Достоевского или Толстого. Почти все они время от времени задумывали вещи, где в форме евангельских или других легендарных сюжетов ставилась широкая этическая проблематика, «вечные вопросы бытия». Совсем не только Врубель и Нестеров следовали в этом отношении по путям Иванова: в не меньшей мере – художники более ранней формации, и именно те, кто составлял активную силу Товарищества передвижников, а не те, кто Товариществу противостоял, то есть работал в традициях академизма. Академисты и неоакадемисты писали картины на библейские сюжеты без всякого философского подтекста: просто потому, что такова была традиция и как предлог для «благородных форм». Передвижники вкладывали в подобные сюжеты свои заветные идеи, свою рефлексию, размышления о добре и зле. Почему они в подобных вещах терпели большей частью художественную неудачу, это особый вопрос; пока важно заметить одно: передвижники – писали ли они картины с современным, историческим или религиозным сюжетом, портреты или пейзажи – неизменно «думали о высоком». В той или иной мере они были тайными романтиками на свой лад.
В нашей обширной литературе о передвижниках всегда подчеркивается их близость к революционно-демократическому просветительству Чернышевского – и это, разумеется, совершенно верно. Революционно-демократические идеи определяли существенное зерно мировосприятия передовых художников, служили основой или почвой их критического реализма. Я не останавливаюсь подробно на этом вопросе, ибо он представляется уже детально разработанным, как бы уже укоренившимся в наших представлениях об искусстве второй половины XIX века. Однако сложное существо идейно-художественного движения, именуемого передвижничеством, нельзя понять, минуя также и Достоевского, чье влияние на художников было достаточно сильным. Не только личности писателя и его произведений, но всего того комплекса проблем, которые у Достоевского высказались гениально, но высказались не только через него, ставились не только им, а, как принято говорить, носились в воздухе.
Идея того же «Хохота» Крамского близка «Легенде о Великом Инквизиторе», хотя влиянием романа это объяснить никак нельзя: Крамской задумал и начал картину задолго до появления «Братьев Карамазовых». Антокольский сделал статую «Христос перед судом народа» в 1874 году – независимо ни от Крамского, ни, конечно, от Достоевского.
Прямые связи с творчеством Достоевского у передвижников тоже были. Перов написал такой портрет Достоевского, равного которому немного в галереях мира – по выражению духовности, по адекватности характеру оригинала. Написать подобный портрет Перов не мог бы без внутренней родственности с писателем, который сам, как известно, очень любил живопись передвижников. Отчасти он ею вдохновлялся. Смердякова он «увидел» в этюде Крамского «Созерцатель», упоминаемом в «Братьях Карамазовых». Для Крамского же Достоевский был предметом величайшего преклонения: он считал его больше чем писателем – «общественной совестью», человеком, игравшим «роль огромную в жизни каждого (я думаю), для кого жизнь есть глубокая трагедия, а не праздник».
В дни прощания с Достоевским Крамской писал Третьякову: «После Карамазовых (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому и что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после “Великого Инквизитора”, есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного. Этим я только хочу сказать, что и Вы и я, вероятно, не одиноки. Что есть много душ и сердец, находящихся в мятеже…»21 Репину он писал в эти же дни: «…Я думаю, что, несмотря на всю торжественность, овации, энтузиазм, – еще не совсем ясно понимают, кто был Достоевский и что он сделал»22.
Своеобразная внутренняя перекличка с Достоевским была у Сурикова. Ее отмечали уже современники и, в частности, Репин, писавший: «Та же страстность, та же местами уродливость формы; но и та же убедительность, оригинальность, порывистость и захватывающий хор полумистических мотивов и образов»23. Оставляя на совести Репина «полумистические образы», едва ли характерные для Сурикова, трудно не согласиться с тем, что неистовость, стихийная взрывчатость суриковских раскольников, стрельцов, юродивых заключает в себе нечто от «карамазовского безудержа», а покорно-кроткие персонажи Сурикова напоминают кротких страстотерпцев Достоевского. Внимание Достоевского и Сурикова приковывалось к неким сходным социально-психо-логическим образованиям русской жизни и истории. Трех братьев Карамазовых можно было бы считать самыми емкими, итоговыми типами Достоевского; из них только демоническому мыслителю Ивану нет аналогий среди персонажей картин Сурикова, зато подобных Дмитрию и Алеше у него много – и в мужских, и в женских характерах (о сходстве своей боярыни Морозовой с Настасьей Филипповной Достоевского Суриков говорил сам).
Если облика Ивана Карамазова в картинах Сурикова нет, то суть раздумий Ивана, богоборчески-вызывающий вопрос: во имя чего страдают люди? – в них слышен. Б.В. Асафьев проницательно заметил, что через все почти вещи Сурикова проходит невысказываемая впрямую идея: «…Неужели русская история состояла в безумном, страшном уничтожении и расточении этих прекрасных лиц, характеров, воль, “соков земли”? Вот жесточайшее уничтожение стрельцов. Вот нелепость страшного преследования раскола. Вот – загнали в Сибирь волевого кряжистого человека, мужественную властную личность. <…> Вот безумный, никому не нужный подвиг в Альпах. Вот стихийная вольница, направившая свои силы “не туда”!!.»24
И действительно, проблему неоправданности страданий, которую Достоевский поднимал до профетических высот, Суриков прослеживал в русской истории, в становлении русской государственности. У него только не было мучительности Достоевского: Суриков принимал трагедийность жизни более просто, без надрыва.
Дело даже не только в тех или иных параллелях творчества Достоевского и творчества русских передвижников, а и в том, что сами они, эти художники-бунтари, разночинцы, эти поборники идейного искусства, подчас выглядят живыми прообразами героев Достоевского, идущих до конца, до самых крайних выводов, если уж какая мысль ими завладела. Достоевский был поистине великим реалистом и наблюдателем реальности; не из головы он выдумал «многое множество оригинальных русских мальчиков», которые и в трактире толкуют «о мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату…». «Мальчики» действительно были, они шли в революцию, на каторгу, иные шли в искусство. И само движение передвижников, идея его создавались ими. Передвижникам, как и героям Достоевского, надо было прежде всего «мысль разрешить».
Перечитывая хотя бы переписку Крамского с юным Васильевым, умирающим от чахотки, испытываешь странное чувство: кажется, что читаешь отрывки какого-то неизвестного романа Достоевского. Похоже даже по тону, по стилю речи – многословной, горячей, сбивчивой, как бы задыхающейся от наплыва мыслей. Похоже по самим мыслям, по неуступчивому героико-утопическому максимализму: если уж писать картину – то о самом важном (Крамской рассказывает о замысле «Хохота»), если пейзаж – то такой, чтобы, глядя на него, преступник отказался бы от черного замысла, не меньше.
Перед лицом этих задач, этих максималистских целей, какой же оказывалась проблема живописи или живописного языка?
Сверхзадачей было «заставить камни заговорить», а значит, язык должен был быть всем, решительно всем понятным, иначе как же искусство сможет воздействовать на общественное самосознание? Структуру живописного языка ранние передвижники приняли ту, что досталась им от предшествующего этапа (например, от исторической живописи), не покушаясь на его основы – на самый характер ви́дения. По-прежнему ориентировались на «рельеф», по-прежнему рисунок представлялся более важным, нежели цвет. Композиция картины по-прежнему уподоблялась сценической площадке с распределенными по ней группами действующих лиц. Главное – чтобы действующие лица были взятыми из настоящей жизни, живо чувствующими, а не ложноклассическими персонажами; чтобы и расположение их было более непринужденным, «как в жизни»; чтобы, наконец, и сам рельеф стал «незаметным рельефом». А впоследствии, когда в русской живописи появился пленэр, он тоже поначалу имел тенденцию к «незаметности» – то есть служил естественности, живости, создавал «настроение» и только, не перерастая в особую концепцию живописи, не отменяя собой «рельеф».
Между максимализмом целей и подобным пониманием живописного языка существовало известное противоречие. Оно сказалось уже у Александра Иванова, значительно повредив его большой картине. Он преодолел его в библейских эскизах, отказавшись от академической концепции и сделав живописный язык гораздо более экспрессивным, мазок – открытым. Но путь, проложенный Ивановым в библейских эскизах, остался одиноким путем; только Врубель впоследствии его продолжил.
Чехов, прочитав письма Крамского, опубликованные Стасовым, сказал: «Я жалею, что он не был писателем». Замечание очень тонкое. Будь Крамской и его сподвижники художниками слова, а не кисти, никакого противоречия между «эмпиричностью» языка и духовной широтой содержания для них бы не существовало, как не существовало его для русской литературы. Русские писатели XIX века, будучи реалистами и в широком, и в узком смысле этого слова, точнейшими изобразителями быта, вместе с тем поднимались до грандиозных обобщений. Вопрос упирался в принципиальное различие образа словесного и образа визуального. Обладай Крамской гораздо большим живописным дарованием, чем у него было, «Хохот» у него все равно бы не получился, ему все равно бы не удалось выразить в картине то «пророческое, огненное, апокалипсическое», что его так восхищало в Достоевском. «Поэмы духа» в том их понимании, какое было свойственно Достоевскому, были недоступны, очевидно, не только «естественно-незаметному», но и любому живописному языку и требовали для своего полноценного воплощения языка слова, языка литературы.
Чтобы это пояснить, приведу один пример. Не так давно мы видели фильм «Братья Карамазовы», далеко не худший опыт экранизации классиков: в нем были большие режиссерские и актерские удачи, было и нечто от подлинного Достоевского. Но что мешало и воспринималось как чуждое Достоевскому – это густой, навязчивый «бытовой колорит». Изобилие бытовых обстановочных аксессуаров – все эти перегруженные вещами цветистые интерьеры, кровати с шишечками, кресла, обои, занавески, видимо, тщательно разысканные и сознательно «поданные», – зрительно отвлекали на себя внимание и создавали превратное представление о Достоевском как о «бытовике». Духовность и философичность его отступала на второй план. Между тем роман «Братья Карамазовы» действительно насыщен бытовыми реалиями всяческого рода, в том числе описаниями обстановки. Упоминается и «древнейшая, белая с красною ветхою полушелковой обивкою» мебель в доме Федора Карамазова и то, что в гостиной у Катерины Ивановны «было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков», и т. д. Авторы фильма честно использовали эти описания, все делая в соответствии с текстом романа. Но вот тут-то и дает о себе знать разница между словесным образом, пусть даже чисто описательным, и образом зримым. Читая роман, мы «видим» детали интерьеров словно бы мельком, боковым зрением, они остаются в сознании читающего лишь постольку, поскольку создают атмосферу действия и косвенно характеризуют героев. «Много диванов, кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков», – что, собственно, дает эта фраза? Она подготавливает ощущение какой-то сумятицы, разлаженности: далее идет мучительная сцена Катерины Ивановны и Грушеньки. И тут беспорядочные кушетки и столики для читателя уже перестают существовать: они сделали свое вспомогательное дело и исчезли.
Будучи же продемонстрированы на экране зримо и весомо, вещи берут на себя гораздо большую нагрузку: они не могут раствориться в сознании, «в духе», как растворяется летучий и бесплотный словесный образ.
Приняв буквально, овеществив и отяжелив бытовую среду романа, создатели фильма, естественно, не могли уже показать ни легенду о Великом Инквизиторе, ни являющегося Ивану черта. Эти эпизоды были бы стилистически несовместимы с подчеркнутой вещно-бытовой атмосферой фильма. Тогда как в романе Достоевского никакого стилевого разнобоя нет: непринужденно чередуются, сочетаются и сливаются планы бытовой, вещный с воображаемым, метафорическим, галлюцинирующим, философским. И так как второй ряд, духовный, для Достоевского важнее, то по нему настраивается и первый ряд – конкретно-описательный, изобразительный. В фильме же получилось наоборот, отчего духовный план потерпел ущерб. Если бы инсценировать «Братьев Карамазовых» «в сукнах» – тут тоже, наверно, было бы какое-то обеднение, оголение содержания знаменитого романа, но все же появилось бы больше шансов передать его главное, его дух. Полной же адекватности достичь нельзя – уже потому, что неадекватны слово и изображение.
Что возможно было в литературе, то в живописи оборачивалось неустранимым противоречием. Достоевский мог, оставаясь на почве бытовой эмпирии, тут же подниматься к горным вершинам «вечных вопросов бытия». Он мог показать «ад с потолком» (в существовании которого сомневается Федор Карамазов). В живописи – если уж написан натуральный потолок, то ада не получится. Если написан человек в настоящей шубе, который стоит в настоящей воде, как это было в картине Репина, – не получится былины о Садко. И девицы в белых рубашках не станут русалками, как в «Майской ночи» Крамского.
Привычно звучит упрек передвижникам в «литературности». Но это недоразумение. Не в «литературности» был их недостаток, а как раз в том, что их «язык», их живописный метод был иным, чем в литературе.
Передвижникам гораздо более удавались не «поэмы», а «драмы» – вернее, акты жизненной драмы, те реальные ее моменты, где без ущерба можно было оставаться на твердой почве увиденного и запечатленного. То есть это и был, собственно, «жанр». Идейный максимализм, душевное горение русских художников уберегали их «жанры» от мелкотравчатости, от всяческой бидермейеровщины: они действительно умели раскрыть драму жизни в обыденном и частном эпизоде. В этом отношении русский жанр, передвижнический жанр в лучших своих образцах занимает совершенно особое место среди всей массы европейской жанровой живописи середины века.
Но еще большее значение и большие достижения имел русский портрет. В портрете дистанция между эмпирическим и духовным минимальна. Здесь культура «рельефности» в соединении с культом человеческой души, характера, типа давала плоды самые высокие. Галерея портретов, вернее, и не портретов даже, а человеческих лиц – самое сильное, самое непреходящее, что дала передвижническая живопись. В этой области и обобщения социального и этического порядка возникали убедительнее всего – без нарочитости, без сочиненности за характером просвечивал тип («Тип, и только пока один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства», – говорил Крамской в 1878 году). Б.В. Асафьев нашел очень точные слова, определяя пафос русской живописи лиц: «Мысль человека и. мысль о человеке». «Естественно, что глаза человека – зеркало мысли и душевности – становятся во многих живописных произведениях одной из существенных реальнейших “действующих сил” картины, и на них невольно каждый раз сосредоточивается внимание зрителя, что далеко не случайно и что соответствует высокому общеэтическому строю русской живописной демократической культуры»25.
Теперь обратимся к импрессионистам.
Эти «французские мальчики», собираясь в трактирах, тоже пылко рассуждали и спорили – но не о Боге и не о «переделке всего человечества по новому штату», а, например, о тенях: допустимы ли резкие переходы от освещенных плоскостей к затененным и можно ли передавать тень утемнением локального цвета?
То, что русские художники возлагали на хрупкие плечи живописи такой груз социальных и нравственных проблем, импрессионистам показалось бы просто-напросто наивностью (хотя передвижники упрекали в «детской наивности» именно импрессионистов). По их разумению, живописи с избытком хватало проблем своих собственных. Но живопись сама была для французских художников одной из общественных, то есть общекультурных, духовных проблем – самой им близкой, поскольку именно ей они себя посвятили.
Нужно ли доказывать, что импрессионисты далеко не были какими-то мотыльковыми людьми? «Драмы жизни» были им известны слишком хорошо, притом по собственному опыту. Драматична была их многолетняя самоотверженная каждодневная борьба за свое искусство, за право творить. Долгие годы безысходной нищеты Клода Моне. Сислей, умирающий в одиночестве и безвестности. Трагедия медленно слепнущего Дега. Отрешенное отшельничество Сезанна.
Не были они и равнодушными к общественным вопросам и общественному благу. Каждый имел свои достаточно определенные политические убеждения, во имя которых готов был идти на жертвы. Эдуард Мане – убежденный республиканец – в период Франко-прусской войны пошел добровольцем в Национальную гвардию, служил в артиллерии, стойко вынес все тяготы осады Парижа, а при Коммуне участвовал в новой федерации художников. Художник-импрессионист Базиль также отправился на войну добровольцем и погиб. Камиль Писсарро был пламенным социалистом: в последовательности, непреклонности и осознанности социалистических убеждений мало кто из художников достиг его уровня. В вопросах этики и гуманности Писсарро всегда занимал поистине рыцарски-благородную практическую позицию; по интеллекту и образованию равных ему было немного. А какой ясный и тонкий, истинно французский интеллект раскрывается перед нами в рассуждениях Ренуара! Какой широкий взгляд на вещи и непринужденная способность к обобщениям.
Дега и Сезанн, в противоположность Писсарро, от социалистических идей были очень далеки. Но каковы бы ни были их политические взгляды и умственные интересы – догадаться о них по их живописи трудно, если не невозможно. Также как о политическом радикализме Писсарро или о дрейфуссарстве Клода Моне.
Живопись осознавалась ими как сфера особых ценностей, не смешиваемых с другими. В этом качестве она носитель гармонии, той гармонии и радости, в которой люди так нуждаются и так мало находят в жизни. Жизнь – отнюдь не праздник, но начало гармонии в ней заложено, и живопись его обнаруживает; живопись – это «праздник, который всегда с тобой». Чтобы его обрести, не нужно бежать от подлинной жизни и отправляться в неведомые эмпиреи: нужно суметь взглянуть на обыденное и окружающее омытым просветленным взором и увидеть, что оно прекрасно. Если импрессионисты «предпочитали розам и дворцам хижины и капусту», то прежде всего потому, что хижины и капусту они находили ничуть не менее прекрасными, чем дворцы и розы. Для импрессионистов поэзия была везде: ее источник заключается в способности смотреть и видеть. Ренуар говорил: причина упадка искусства «в том, что глаз разучился видеть <…>. Художник бессилен, если тот, кто его побуждает работать, – слеп. Именно любителю искусства я хочу открыть глаза»26.
В сущности, «программа» импрессионистов была заложена в простых словах, сказанных Буденом в напутствие молодому Клоду Моне: «Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие, как они есть, окруженные воздухом и светом»27. При всей кажущейся простоте это программа совсем не малая. Открыть глаза людям на непридуманную, реальную красоту и тем стократно умножить их радости, не когда-нибудь, а здесь и сейчас – разве не великая задача?
Конечно, облагораживание жизни посредством гармонического искусства не могло быть, даже в идеале, чем-то радикальным. Русский радикализм не мирился с половинчатостью; Крамской это и имел в виду, говоря: «Подлое искусство замазывает щели». Однако импрессионисты не хотели растравлять тех ран, которых, по их убеждению, они все равно не могли бы исцелить. Французская культура уже прошла через крушение просветительских надежд относительно прямого воздействия искусства на общественную жизнь и выдвигала теперь иные задачи.
Это воздействие на общество должно было стать и более опосредованным и сложным. Ренуар говорил, что гордится своей принадлежностью к французской школе, которую любил «любезной, светлой, компанейской и не очень шумной». Он же писал Эдуарду Мане: «Вы – веселый боец, без ненависти к кому бы то ни было, как старый галл; и я люблю Вас за эту веселость, сохраняющуюся даже в минуты претерпеваемой несправедливости»28.
«Веселые бойцы без ненависти» – такими они были. Они несли радость и, в сущности, не хотели ссориться с господствующим слоем общества – это общество само их отринуло и поставило в положение бунтарей. Отринуло, потому что не желало принимать эстетического уравнивания дворцов с хижинами, роз с капустой, Венер с гризетками; и еще потому, что «неприятно лечить глаза, когда кажется, что и так хорошо видишь».
Разрывая с академизмом, импрессионисты разрывали прежде всего с академическим способом видеть и изображать, своею формальностью, заученностью, условностью подавлявшими свежее, непосредственное восприятие. Отказ от академических тем и сюжетов был уже вторичным, с необходимостью вытекающим из «революции зрения»: ведь только нынешнее и близкое может быть воспринято непосредственно и свежо.
Двойственность «что» и «как», у передвижников выраставшая в целую проблему, для импрессионистов попросту не существовала, поскольку их «как» и было тем самым «что», тем новым и непривычным упоительным переживанием не новых и привычных вещей, которое являлось их целью, их в конечном счете идеей. Абсурдной показалась бы им мысль, что забота о форме может каким-то образом увести в сторону от содержания. И напротив: специальная забота о «сюжете», то есть о чем-то заранее придуманном, искусственно построенном, «сочиненном», могла, с точки зрения импрессионизма, мешать и искренности, и счастливой полноте искусства, его погруженности в реально видимое.
Ни своих «ума холодных наблюдений», ни «сердца горестных замет» импрессионисты в свою живопись, как правило, не переносили. Один критик сказал о Матиссе: «Матисс держит свои горести при себе. Он не желает их никому навязывать. Людям он дарит только спокойствие»29. Это с не меньшим правом можно отнести и к творчеству импрессионистов и к концепции импрессионизма в целом.
Она, эта концепция, на первый взгляд может казаться более цельной, прозрачной, художественно завершенной, чем концепция передвижничества, и сами импрессионисты – более целостными людьми и художниками, чем передвижники с их постоянными метаниями, сомнениями, перевесом замыслов над осуществлением, громоздкой утопичностью самих замыслов. Но, если вдуматься глубже, станет очевидно, что преимущество целостности все же на стороне русских, ибо кристальная ясность импрессионизма куплена дорогой ценой изоляции эстетических ценностей от гражданских и нравственных.
Здесь не было никакой личной вины художников, потому что тенденции к распадению, расщеплению целостного комплекса человеческой жизни на сферы, друг от друга отчужденные, была объективным историческим фактом в XIX столетии. Это была закономерная тенденция капиталистического строя. Человек в системе производства – одно; тот же человек в частной жизни – другое. Политические, философские, религиозные, нравственные, эстетические воззрения не вытекают естественным образом из свойств личности и не интегрируются ею в некое нерасторжимое единство, а лишь совмещаются в ней, как в ящике со многими полками. Умозрительные концепции философов остаются в плане чистого умозрения и не обязывают к соответствующему образу жизни: в жизни философ может оставаться филистером. Высоконравственный семьянин может быть безнравственным политиком, и так далее. Сфера эстетических ценностей, по природе своей тяготеющих к универсальному охвату разных сторон человеческой жизни, не избежала общего процесса дезинтеграции. Она тоже обособлялась в более или менее замкнутых границах.
Все это больше проявлялось в высокоразвитых западных странах, чем в русской культуре, сравнительно с ними действительно еще «молодой». Русские художники не напрасно возлагали надежды на «историческую молодость» России, которую на Западе продолжали считать страной по-луварварской. В русской культуре упрямо жила воля к синтезу, несогласие на «разграничение сфер» – по крайней мере в духовной жизни. Ядро, центр – проблема человека, его места в мире, места в истории. Проблема эта оставалась главной для русских философов, русских писателей, от нее не хотела отказываться и русская живопись. Россия не знала «чистых философов», замкнувшихся в кабинете над книгами и не пытавшихся применить философию к жизненной практике; Россия выдвинула писателей – «властителей дум», «учителей жизни» масштаба Толстого и Достоевского. И русские живописцы не мыслили самостоятельных живописных задач вне гражданского и нравственного миссионерства.
У импрессионистов была своя ахиллесова пята – даже в рамках их задачи открыть глаза на красоту реального мира. Красота раскрывалась и воспринималась только в пределах мгновения. Счастье – что-то мимолетное, ускользающее: захоти удержать и продлить счастливый миг, и он перестает быть счастливым. Чтобы ощутить жизнь прекрасной, дарующей радость, надо было изображать ее дискретно, как вереницу счастливых мгновений: каждое мгновение самоценно, каждое – само по себе и в себе замкнуто, само себя исчерпывает; восприятие бытия как слитного процесса, где существуют причинно-следственные связи, импрессионизму было противопоказано. Здесь лежит подспудный импульс вечной погони импрессионистов за «мимолетностями». Внешне она легко оправдывалась спецификой пленэра: только в один краткий момент солнце именно так освещает стог сена – в следующий момент свет уже переменился, тени сдвинулись, и все выглядит иначе, надо писать другую картину.
Очарование и своеобразие импрессионистической живописи – не столько в пленэре как таковом, сколько в доведении принципов пленэра до скользящего и ускользающего образа видимого, становящегося чем-то зыбким, миражным, волшебно-красивым. Но в этом же – и хрупкость импрессионистической концепции, ее неспособность внутренне прогрессировать, оставаясь на своих собственных основах. Она сама себе кладет предел. Впечатление мгновенного прекрасно, но вместе с тем навевает и печаль и рождает тоску по утраченной устойчивости длящегося. Желание вернуться к устойчивости проявилось не только в творчестве постимпрессионистов, но и у самих импрессионистов по-разному. Писсарро был соблазнен (правда, временно) надежностью наукообразного метода Сёра (Писсарро, впрочем, и прежде выделялся наибольшей конструктивностью своей живописи). Моне переходил к декоративным панно. Ренуар эволюционировал к линейности, к энгризму. Наконец, Сезанн решительно восстал против культа мгновенного впечатления и превратил импрессионизм в нечто прямо ему противоположное.
Кризис импрессионизма означал реабилитацию устойчивого, пребывающего. Возрождались на новой основе и принципы сюжетности, «литературности», и трагедийные, драматические настроения и мотивы: ведь они-то, в отличие от радостных и гармонических ощущений, не мгновенны. Эволюция русского искусства в конце столетия была связана с реабилитацией эстетического, прекрасного, радующего («жизнь серьезна – искусство радостно»).
Но характерно и знаменательно, что и при этом переломе русское искусство все же по пути импрессионизма не пошло и восприняло его лишь какими-то элементами. Члены Союза русских художников культивировали солнечную живопись как элемент пейзажа настроения, но и только: композиции оставались вещественными, пребывающими и повествующими. Серов только в юности, несколькими блистательными полотнами, продемонстрировал свое полное понимание и владение методом раннего импрессионизма и больше к нему не возвращался. Деятели «Мира искусства» от импрессионизма были далеки; гораздо больше их привлекали германские, скандинавские школы с их символизмом и фантастикой. Врубель не соприкасался с импрессионизмом ни в чем: он как будто и не существовал для него. Пожалуй, только творчество Константина Коровина в первые годы XX столетия представляет самую полную аналогию французскому импрессионизму на русской почве. Коровин и по натуре своей, по человеческому и художественному складу был «импрессионист» – художник, жаждавший спеть «песнь о красоте», разлитой во всем окружающем и открытой просветленному взору; импрессионизм Коровина, по выражению Эттингера, прирожденно вытекал из его темперамента.
Но в целом, повторяю, русское искусство сохранило сдержанное отношение к импрессионизму. Потому что, полностью приняв эстетическое, освободившись от страха перед гротом Венеры, оно продолжало внутренне не соглашаться на обособление сферы эстетического от человеческих проблем. В этом отношении оно сохраняло передвижнический нерв. И даже сами воинствующие «эстеты» – основатели «Мира искусства» – были внутренне гораздо ближе к передвижникам, чем может показаться на первый взгляд.
Эти направления отвергли язык передвижнической живописи. Но импрессионистический язык счастливых мгновений еще менее подходил для раздумий о вопросах бытия, от которых русские художники в глубине души не могли отказаться. Он не подходил и для той задачи, которую сформулировал Врубель, – «будить душу величавыми образами от мелочей обыденности». Выход был – в раскованную экспрессию.
Импрессионизм экспрессии чуждался. По своей сущности и по своей генеалогии он был искусством вполне «аполлонического» типа, бесконечно далеким от какого бы то ни было «дионисийства». Враждебный неоакадемической школе, он тем не менее являлся потомком по прямой линии классицизма Пуссена и Клода Лоррена, наследником их ясности и грации. Писсарро совершенно недвусмысленно утверждал: «Наши учителя – это Клуэ, Никола Пуссен, Клод Лоррен, XVIII век с Шарденом и группа 1830-х годов с Коро»30. Вот кто были их предки. Ни французская готика, ни Брейгель, ни Рембрандт в родословную импрессионистов не входили. А кто были их потомки?
Как известно, почти все крупные французские художники рубежа столетий были, или считали себя, обязанными импрессионизму. В том числе Гоген и Ван Гог. Но сами импрессионисты симпатизировали далеко не всем своим «наследникам» – хотя и отличались достаточно широкой терпимостью, – а в основном тем, кто нес в своем творчестве спокойный, уравновешенный и относительно гармоничный аспект мировосприятия. Отсюда увлечение Писсарро дивизионистами. Отсюда неизменное уважение импрессионистов к Сезанну, несмотря на то что Сезанн далеко отошел от их доктрины.
Сами основоположники импрессионизма в XX веке отходили от своих первоначальных основ. Но никто из них не эволюционировал к экспрессии. Экспрессивные и экспрессионистские течения не вызывали у них сочувствия. Ренуар, испытывая отвращение к «правильности и сухости», вместе с тем полагал, что «все эти элементы экспрессии – они почти всегда противоречат прекрасному, здоровому искусству»31. Гоген и Ван Гог были ему сильно не по душе. Дега очень сдержанно и с оговорками одобрял Лотрека – хотя, казалось бы, Лотрек выглядел его вернейшим последователем. Но Лотрек был слишком экспрессивен.
Дега дорожил красотой. Его балерины не красивы в обычном, банальном понимании, но чары серебряного колорита, игра света и тени придают им таинственное и тонкое очарование. Выставление напоказ пикантной уродливости, свойственное картинам Лотрека, должно было быть чуждым Дега: тут была черта, которую сам он никогда не переходил. Можно сопоставить близкие по мотиву «Абсент» Дега и «В кафе» Лотрека, чтобы почувствовать разницу. Хотя и не «правоверный» импрессионист, Дега внутренне с импрессионизмом совпадал.
Напомню одно замечание Репина: «У нас хлопочут, чтобы пороки людей возводить в перлы создания – французы этого не вынесли бы. Их идеал – красота во всяком роде». По отношению к аполлонической линии французской живописи, по отношению к импрессионистам – это совершенно верно. Аполлоническое искусство – искусство красоты и гармонии. Как бы ни менялись понятия о красоте и ни расширялись границы этого понятия, оно оставалось субстратом аполлонического искусства, будь это классицизм Пуссена или импрессионизм Ренуара, и, более или менее осознанно, противопоставлялось безобразному, лежащему за пределами эстетического. Отношения между этими категориями складывались куда сложнее в художественных направлениях, тяготевших к экспрессии: здесь эстетическое, как сила духовного выражения, возвышалось над различиями красивого и безобразного, поглощало их и перерабатывало; здесь допускались диссонирующие созвучия, и сфера прекрасного, беспредельно расширяясь, включала в себя пугающие гримасы мироздания – как у Босха, Брейгеля, Рембрандта, Гойи.
В искусстве русских передвижников, таком, казалось бы, рационалистическом и «нормальном» по форме, с самого начала таилась тенденция к душевному гиперболизму, гротеску, экспрессии. Жгучие сарказмы и обнаженная боль за людей у Перова. Перенапряженность ищущей мысли «Христа в пустыне». Гротески Соломаткина – художника, самими передвижниками не оцененного, но столь к ним близкого. Экстатические лица Сурикова; образы юродивых праведников, языческих попов, «мужичка из робких» у Репина, пронзительно глядящие глаза на репинских портретах, через край переливающаяся экспрессия в его «Иване Грозном»; худощавые лики и расширенные очи васнецовских святых. Оставалось лишь перейти какую-то сдерживающую грань, чтобы живопись стала экспрессивным возгласом, криком души.
И был художник, принадлежавший к старшему поколению передвижников, который перешел грань. Один из основателей Товарищества, он первым пошел по пути экспрессионизма. Это Николай Ге.
Известно, что Ге в последнем периоде резко изменил и самые методы живописи, работы над картиной. Он отказался от предварительной штудировки натуры, отождествил эскиз и картину, писал и переписывал прямо на холсте, с лихорадочной быстротой, заботясь лишь о том, чтобы кисть поспевала за движением чувства, отвергая «работу над формой» в традиционном понимании. Своим ученикам он говорил: «Пишите так, как Джотто и Чимабуэ писали, без натуры, тогда вы возьмете только суть и у вас будет картина». В «Голгофе» и «Распятии» Ге нарушает многие привычные «законы формы»: конкретность места действия – теперь оно неопределенно и едва намечено; замкнутость и уравновешенность композиции – в «Голгофе» левая фигура срезана и осталась только вытянутая указующая рука. Отбрасывает заботу о благообразии евангельских персонажей: его Христос-страдалец страшен, как в «Распятии» Грюневальда. Словом, Ге решительно становится на путь экспрессивных преображений.
Есть своя, пусть и парадоксальная, логика в том, что первым из русских художников пошел по этому пути не кто иной, как старейший из передвижников, поклонник Герцена, друг Салтыкова-Щедрина, последователь Льва Толстого.
Сравнительное сопоставление импрессионистской и передвижнической концепций, имевших много общего, так сказать, по горизонтали (в смысле отклика их на современность и утверждения демократического реализма) и глубоко различных по своим затаенным потенциям и выходам в будущее, не должно иметь целью превознесение одной за счет другой. Снобистское третирование живописи передвижников за ее мнимый «фотографизм» и упреки импрессионистам за «безыдейность» – в равной мере неосновательны и прежде всего неисторичны. Бесплодные споры о том, «кто лучше», не помогают понять существо этих великих проявлений национального гения, которые теперь на равных правах входят в сокровищницу мировой культуры.
Ссылки
1 Мастера искусства об искусстве. В 7 т. Т. 5 (1). М., 1969. С. 102–103.
2 Цит. по: Ревалд Дж. История импрессионизма. Л.; М., 1959. С. 40.
3 Стасов В. Избранные сочинения. В 3 т. М., 1952. Т. 1. С. 51.
4 Цит. по: Ревалд Дж. Указ. соч. С. 41.
5 Там же. С. 118–119.
6 Пчела. 1878. № 10.
7 Мастера искусства об искусстве. М., 1967. Т. 4. С. 232–233.
8 Там же. С. 246–247.
9 Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958. С. 41.
10 В XX веке Фортуни начисто развенчали и как-то совсем забыли. Может быть, это забвение является такой же крайностью и историческим капризом, как былая непомерная слава. Фортуни «выпал» из основных направлений и тем самым – из поля внимания.
11 Переписка И.Н. Крамского. М., 1954. Т. 2. С. 261.
12 Там же. С. 268.
13 Там же. С. 302.
14 Там же. С. 303.
15 Мастера искусства об искусстве. М.; Л., 1937. Т. 4. С. 388–89.
16 Там же. С. 419.
17 Стасов В. Указ. соч. Т. 3. С. 655.
18 Переписка И.Н. Крамского. Т. 2. С. 296.
19 Там же. С. 260.
20 Там же. С. 312–313.
21 Переписка И.Н. Крамского. Т. 1. М., 1953. С. 278.
22 Переписка И.Н. Крамского. Т. 2. С. 403–04.
23 И.Е. Репин и В.В. Стасов. Переписка. Т. II. 1877–894. М.; Л., 1949. С. 158.
24 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы. Л.; М., 1966. С. 182.
25 Там же. С. 168.
26 Мастера искусства об искусстве. Т. 5 (1). С. 123.
27 Цит. по: Ревалд Дж. Указ. соч. С. 47.
28 Мастера искусства об искусстве. Т. 5 (1). С. 129.
29 Цит. по: Матисс. Каталог. Л., 1969. С. 19.
30 Мастера искусства об искусстве. Т. 5 (1). С. 85.
31 Там же. С. 135.
Выставка произведений Ге[21]
Сколько-нибудь полных монографических выставок Николая Николаевича Ге не было никогда: эта – показанная в Третьяковской галерее – первая. Она тоже не исчерпывающе полная, но по ней прочитывается путь художника от начала до завершения.
Самыми интересными этапами кажутся ранний, увенчанный «Тайной вечерей», и поздний – за несколько лет до смерти. Обычно художники создают свои лучшие вещи где-то посередине, в зрелые годы. Ге создал их в молодости и в старости.
Выставка позволила по-новому увидеть начальный период Геитальянский, так называемый брюлловский. Собранные в одном зале несколько эскизов «Смерти Виргинии» 1857–1858 годов, головы итальянок и пейзажные этюды того же времени производят неожиданно сильное впечатление артистизмом, прекрасной легкостью. Эти вещи, действительно брюлловские по стилю, совсем не выглядят ученическими. Писать так светло, воздушно и прозрачно, как написан, например, самый большой эскиз «Смерти Виргинии» в опаловых тонах, «великий Карл» еще не умел.
Если сопоставить этот эскиз с тяжеловесно-старательным полотном «Ахилл оплакивает Патрокла», сделанным Ге двумя-тремя годами раньше в стенах Петербургской академии, можно убедиться, как много дала ему Италия: здесь он родился как художник. Но не сразу нашел себя как русский художник.
Впрочем, Ге уже тогда, подобно Александру Иванову, искал большую идею. Идея «Смерти Виргинии» ускользает от современного зрителя. Какая-то женщина красиво умирает, какие-то древние римляне и римлянки в сквозных туниках красиво приходят в ужас все очаровательно, но смотрится только в целом, зрелищно, как балетный ансамбль. Мезаду тем сюжет драматичен: старый римский воин заколол любимую дочь, чтобы она не досталась тирану Аппию Клавдию. На этот сюжет драматург-классицист Альфьери написал трагедию. Интерпретируя ее, Ге хотел, видимо, чего-то большего, чем эффектное зрелище. Делая все новые и новые варианты композиции, он искал презаде всего значительности в фигуре отца. Старик совершил то, что считал долгом, но тут же почувствовал себя как бы отрезанным от мира своим страшным деянием. Он уходит, перед ним расступаются. Отныне он будет один. Образ человека, остающегося наедине с совестью, предвещает будущего Ге, его сокровенную тему. Он же и побуждает художника отвергнуть тот строй традиционных пластических «брюлловских» категорий, в которых Ге тогда еще мыслил как живописец. Тема Ге не могла в них прозвучать. Он оставил свой замысел неосуществленным.
С другой стороны, современные жанровые сюжеты казались ему слишком частными, недостаточно емкими для «идеи». От них он тоже отказался после немногих попыток. Наступил первый творческий кризис, длившийся года два-три. Потом, в 1863 году, Ге написал «Тайную вечерю». Евангельская история представилась ему единственно достойной канвой для выражения нравственных проблем – одновременно и сегодняшних, и вечных.
«Тайная вечеря» – вероятно, одна из лучших картин русской школы, русского XIX века. Она из тех, что не подвержены моральному износу со временем.
Тщательный иллюзионизм пространственного и светового решения картины (Ге писал ее, сверяясь с заранее вылепленным глиняным макетом) мог бы сейчас казаться нам, уже привыкшим к другим концепциям живописи, чем-то наивным, но не кажется. Здесь иллюзия нужна – она включает зрителя в происходящее, делает его прямым свидетелем молчаливой драмы раскола, произошедшей когда-то и все снова возобновляющейся в человеческой истории «и ныне, и присно, и во веки веков». В «Тайной вечере» действительно чувствуется и ночь, и тайна; в ней есть то щемящее, недоговоренное, чем веет от трагической легенды об Иуде-предателе. Почему он предал?.. Ге не изобразил Иуду просто низким корыстолюбцем; в этой темной фигуре, похожей по силуэту на больного ворона, есть угрюмое величие: он – «уходящий», порывающий узы, сознательно обрекающий себя на отторгнутость, на проклятие, словно исполняя некий долг.
Художник протянул нити от древнего предания к современным драмам духа; недаром его Христос похож на Герцена. Вместе с тем Ге сделал это с величайшим художественным тактом, без нажимов, предоставляя зрителю, как говорил об этой картине Салтыков-Щедрин, «полную свободу размышлять». Приблизив сюжет к современности, он не пожертвовал историзмом. Он создал не тезис, а образ, живущий во времени, способный насыщаться новыми смыслами.
Подготовительные этюды показывают, на каком большом счастливом подъеме работал тогда художник. Среди них есть настоящий шедевр – голова молодого Иоанна. Это лицо, настороженное, вещее, и та пленительная артистическая свобода, с какой оно написано, вызывают ассоциации с некоторыми головами Эль Греко.
«Тайная вечеря» явилась предтечей искусства передвижников, если понимать последнее не внешне и не только «по Стасову». Ошибочно думать, что вдохновители и крупнейшие деятели передвижничества только к тому и стремились, чтобы писать жанровые сцены из жизни. «Драма души», «драма жизни» – вот слова, которые непременно вырывались у Крамского, Перова, Антокольского, Репина, Сурикова, когда они хотели формулировать программу своего искусства. Собственно, из крупных представителей передвижничества один только Перов посвятил себя бытовому жанру, но и Перов мыслил его как человеческую драму, не иначе. Крамской, также как и Ге, вообще не писал жанровых картин. Вместе с Перовым и Крамским Ге был в числе создателей, организаторов и старейших членов Товарищества передвижных выставок. Его картина «Петр I и царевич Алексей», показанная на первой передвижной ровно сто лет тому назад, явилась программной для Товарищества, произведя переворот в принципах исторической живописи, а впоследствии стала хрестоматийной.
Думали, что Ге отныне посвятит себя историческому жанру, но следующие исторические картины получались у него плохо, и он сам это чувствовал. В натуре Ге была заложена неистребимая потребность нравственного миссионерства (опять-таки черта, типичная для передвижничества). Характеры, психология, история и сама живопись – все было для него вторичным. Как живописец он удивительно неровен. «Мастерство», словно по волшебству, появлялось у него тогда, когда он был полностью захвачен идеей картины, проникнут ее нравственной сверхзадачей. Если же этого не было – и мастерство пропадало. Печальный пример – «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874). И сейчас трудно понять, почему такой художник, как Ге, обратился к мотиву придворных интриг и борьбы честолюбий. Что тут могло его воодушевить?
Какой-то ответ дает только портрет неизвестной в траурном платье (вероятно, Костычевой?) – этюд для фигуры Екатерины. Это превосходный портрет. В нем есть особая психологическая собранность. Глядя на него, догадываешься, что и Екатерина, по замыслу, должна была принадлежать к тем героям Ге, которые замкнуто и стоически идут своим одиноким путем. Как Иуда, как Петр I, эта незаурядная женщина готова преступить через многое во имя цели, которой она одержима.
Но историческая Екатерина II слишком не совпадала с этим образом. И в картине замысел потонул. Мутная по живописи, невнятная по композиции, скучная, картина просто не смотрится. После ее появления Крамской, вообще осторожный в приговорах, писал Репину: «Ге – погиб».
Так в последующие годы и считали: Ге погиб; и это подтверждалось тем, что он через несколько лет совсем оставил живопись, уединившись у себя на хуторе. Ему было уже под шестьдесят, когда он снова энергично принялся за работу, и мало кто верил, что он может теперь сделать что-то путное. Не верил даже Третьяков, бывший большим поклонником прежнего Ге.
Однако случилось неожиданное: «разучившийся» основательному мастерству и меньше, чем когда-либо, о нем заботившийся, старый Ге предстал новым и по-новому интересным художником.
Дело не в том, что он опять обратился к евангельским темам: он их не оставлял и раньше, в конце 60-х и в 70-х годах, но тогда они ему так же мало удавались, как исторические («Вестники воскресения», «Христос в Гефсиманском саду»). Видимо, тогда его одолевали сомнения – может ли вообще искусство выполнять высокую нравственную миссию (а на меньшее он не соглашался) и насколько он сам, Ге, к ней способен и призван. Возможно, что одной из причин затянувшегося творческого кризиса было также чувствуемое им противоречие между трезвой, несколько прозаичной «умелостью» художественного языка передвижников и теми поэмами духа, которые они хотели на этом языке выразить.
Что же произошло с Ге, что изменилось в нем к концу 80-х годов? Кажется, он сбросил какие-то тяготившие его путы. Перед ним был пример Льва Толстого, громко, на весь мир говорившего то, что он думал. Дело художника – заронить искру. Разгорится ли она – над этим он не властен. Но он должен делать то, что должен. И Ге стал писать со страстным воодушевлением свой новый евангельский цикл, напоминая людям о крестных муках «сына человеческого», а через него – о страданиях всех, кто терпит за слово правды, о всех жертвах насилия.
О «хорошей технике» он как будто бы вовсе перестал помышлять, дав волю той легкости, эскизной недосказанности, нервной быстроте кисти, какие всегда были в его художественной натуре, но раньше были побеждаемы тяжкой основательностью школы, школьного мастерства, внутренне чуждого дарованию Ге.
Начало его нового периода хочется назвать «лунным» – оно проходит под знаком ночи и лунного света, эффекты которого Ге запечатлевал и в пейзажах. В серебристой лунной мгле бредет мучимый совестью Иуда, в царство лунного света выходит Христос с учениками после Тайной вечери. Эту последнюю картину – «Выход в Гефсиманский сад» – любил Врубель; он говорил о ней: «Здесь такой лунный свет, от которого болит голова». Томительный, он стирает краски, замещая их собой, делает призрачными старые, замшелые камни, лежит на каменных ступенях, по которым медленно спускаются во мрак сада апостолы. Есть какое-то ощущение бесконечности миров, бездонности жизни в этой картине. И здесь Ге удалось с наибольшей силой выразить всегда преследующий его образ стоического одиночества в Христе (что совсем не получилось в более раннем, вымученном и неприятно академическом полотне «Христос в Гефсиманском саду»).
В программной, наделавшей шуму картине «Что есть истина?» Ге порвал с традицией изображать Христа благообразным: избитый, изнуренный, Христос-страдалец стоит лицом к лицу с самодовольным Пилатом. Резкая черта их разделяет, черта между слепящим дневным светом и тенью, причем Пилат стоит на свету, а Христос – в тени, вопреки обычному ассоциированию добра и правды со светом. В картине Ге жесткий свет дня – это проза житейская, непробиваемый «здравый смысл», нравственная слепота. «Лжет белый свет». Истина рождается в ночных думах, совесть пробуждается в сумраке страданий. Поэтому Христос в тени. Все в этом произведении заострено до афористичности, почти до схемы, возведено к извечному символу; живописное решение чрезвычайно лаконично, что казалось тогда странным. (Третьяков не сразу решился приобрести эту картину – она показалась ему нехудожественной. Он изменил свое мнение и купил картину, получив взволнованное письмо от Льва Толстого.)
Отныне Ге следует радикальному принципу: «Ни картины, ни мрамор, ни холст, никакие внешние стороны искусства не дороги, а дорога та разница, которая показана между тем, чем мы должны быть, и тем, что мы есть».
Тем не менее он именно теперь, как никогда, свободно владеет «живой формой». Глубокое художественное удовлетворение получаешь от его поздних портретов, сделанных в конце 80-х и начале 90-х годов, – преимущественно членов семьи Толстого и семьи Костычевых. Они дают иллюзию общения с живыми людьми. Не с представителями той или иной профессии и не с «типами», а именно с людьми. Видно, что за человек была Софья Андреевна Толстая, вся погруженная в житейское, и что за человек была Мария Львовна Толстая, хрупкая и аскетичная, женственная и непреклонная. Люди на портретах Ге «глядят»: в глазах, во взоре сосредоточена характеристика личности. У Е.И. Лихачевой – взгляд, ушедший в себя, созерцающий свое, внутреннее; П.А. Костычев смотрит вовне и взглядом как бы ставит преграду между собой и другими; у девочки О. Костычевой глаза ярко блестят, но взор скользящий, неуловимый, не разбуженный для жизни.
Портреты Ге особенно подтверждают правоту наблюдения Б. Асафьева: «Глаза человека – зеркало мысли и душевности – становятся во многих живописных произведениях одной из существенных реальнейших “действующих сил” картины, и на них невольно каждый раз сосредоточивается внимание зрителя, что далеко не случайно и что соответствует высокому общеэтическому строю русской живописной демократической культуры».
Но возможности Ге этим еще не исчерпывались. Написанный им за год до смерти портрет Петрункевич, молодой девушки, стоящей с книгой у окна, раскрытого в сад, – не только превосходный портрет, но пленэрная картина в самом точном, высокопрофессиональном значении, с блестящим решением трудной живописной задачи объединения человеческой фигуры и пейзажа.
Портрет Петрункевич перекликается с ранними произведениями французских импрессионистов. Кажется, что какое-то тяготение к импрессионистическому видению и пленэру вообще было у Ге. Однако он эту свою склонность не развивал, она оставалась побочной. Вся логика внутреннего развития влекла его к другому – к выходу в раскованную экспрессию.
Приходится сожалеть, что на выставке не мог быть с достаточной полнотой представлен самый поздний, необыкновенно интересный и уже совершенно экспрессионистский период творчества Ге, связанный с его работой над «Голгофой» и «Распятием».
Известно, что художник в это время резко изменил самые методы работы: отказался от штудировки натуры, от замкнутой и уравновешенной композиции, писал и переписывал прямо на холсте, с лихорадочной быстротой, заботясь лишь о том, чтобы кисть поспевала за движением чувства.
В «Голгофе» нет ничего, что считалось непременными эстетическими требованиями: ни благообразия персонажей, ни пластики, ни проработанного фона и вообще «обстановки», ни даже полновесного цветового звучания – цвет как бы развеществлен, дематериализован. Нет и стилевой целостности. И все же незабываемы фигуры Христа с заломленными руками и разбойника, охваченного животным страхом, и чья-то беспощадная указующая рука, особенно страшная оттого, что не видно, кому она принадлежит.
По эскизу «Распятия» можно судить, что там эта патетика страданий, предсмертного томления и предсмертной просветленности достигала предела. С завершением «Распятия» завершилась и жизнь Ге.
От изящно-театральной «Смерти Виргинии» до экстатического жуткого «Распятия» – какой путь! Этот путь в общем совпадает с эволюциями искусства XIX века и самобытно предвосхищает экспрессионистские течения XX века. Ге прошел его весь, не закрепившись на каком-нибудь одном этапе: в личной творческой биографии Ге преломились искания нескольких художественных поколений.
Но основной нерв его творчества – передвижнический. И едва ли он смог бы на склоне лет стать первым русским экспрессионистом, если бы подобные тенденции не были затаены в передвижничестве: тенденции к эмоциональному гиперболизму, сгущенной драматичности, экспрессии. Передвижники были тайными романтиками на свой лад, они были прежде всего правдоискателями. Их рациона-диетическое понимание художественной формы, спокойное традиционное мастерство, воспринятое у предшественников, ставило известный предел их душевному максимализму. Оставалось перейти сдерживающую грань, чтобы живопись стала экспрессивным возгласом, криком души.
Старейший передвижник, Ге и был тем художником, который перешел грань.
Автопортреты Ван Гога[22]
Ван Гог написал около сорока автопортретов – все в течение французского периода, то есть за последние четыре с половиной года жизни художника. До переезда в Париж он или совсем не писал себя, или это были редкие опыты, которые не сохранились.
Столь обширная автопортретная серия имела особое значение для Ван Гога, очевидно, он вкладывал в нее сокровенный смысл и сверхзадачу, как и в другие свои циклы.
В письмах он обычно охотно и подробно рассказывал о своих замыслах и идеях. Но об автопортретах упоминал редко и скупо. Собственно, только однажды он сделал комментарий к своему автопортрету арльского периода, посланному Гогену в обмен на автопортрет последнего. «Я пытаюсь изобразить на нем не себя, а импрессиониста вообще. Я задумал эту вещь как образ некоего бонзы, поклонника вечного Будды».
В какой-то мере это замечание, звучащее довольно загадочно, бросает свет на весь цикл автопортретов Ван Гога. Существенно здесь прежде всего то, что он изображает «не себя, а импрессиониста вообще». Под «импрессионистами вообще» он понимает, конечно, не тех, кого он называл «импрессионистами Большого бульвара», – Моне, Ренуара и других, – к ним он никогда себя не причислял, и, вероятно, даже не группу «импрессионистов Малого бульвара», относительно близких ему художников, включая Сёра, Гогена, Бернара, Лотрека. Скорее всего, Ван Гог подразумевал вообще современного художника с его типической судьбой изгоя, отверженного, «часового на забытом посту».
Ван Гог принадлежал к тому типу портретистов, которые не столько исходят из индивидуального характера модели, сколько мыслят каждую модель «в образе», то есть в системе своей собственной драматургии, в аспекте своего излюбленного круга образов, мотивов, идей.
Как известно, художественные пристрастия Ван Гога имели отчетливую социальную направленность – как, может быть, ни у какого другого из современных ему живописцев. Он любил «море и рыбаков, поля и крестьян, шахты и углекопов», любил «человека в деревянных башмаках» и не выносил «людей в лакированных ботинках». Живя в Нюэнене, он написал пятьдесят (а возможно, и больше) портретов местных крестьян – замечательная галерея, представляющая как бы единый многоликий портрет целого сословия. Он сам мыслил эти портреты как подготовку к серии картин из крестьянской жизни и в каждом лице искал типические черты человека, сросшегося с землей и в тяжелом труде добывающего свой хлеб.
Но и тогда, когда Ван Гог писал не этюды для будущих фигурных композиций, а портреты в собственном смысле слова, он сознательно стремился выразить через них некую более широкую идею. Почтальона Рулена он видел как республиканца старого закала, духовного потомка тех, кто в 1789 году брал штурмом Бастилию. Портрет жены Рулена (иначе называемый «Колыбельная») был задуман как образ-воспоминание, сохраняющийся в глубинах памяти взрослых, усталых, огрубевших людей, – воспоминание о бабушке, няньке; облик «папаши Танги», скромного торговца картинами, бескорыстно поддерживавшего молодых художников, у Ван Гога ассоциировался с представлением о каком-то маленьком японском божке, покровителе искусства.
В портретах Ван Гога нет «психологизма» в привычном, традиционном понимании. Есть сильная духовная напряженность, выходящая за пределы индивидуальной психологии, выражаемая и контрастами цвета, и изгибами линий, фактурой. Структуру лица Ван Гог схватывал в резких чертах, акцентируя неправильности, асимметрию, нередко фиксируя сходство с животными. У зуава он находит «лоб быка и глаза тигра», в портрете доктора Рея есть нечто кошачье, в «Едоках картофеля» – обезьяноподобное. Такие «некрасивости» или даже уродливости никак не означали для Ван Гога чего-то отрицательного: наследник старых голландцев, поклонник и знаток Рембрандта, он вслед за ним предпочитал некрасивые лица гладкой и невыразительной миловидности. Когда он говорил, что ему «хотелось бы писать мужчин и женщин так, чтобы вкладывать в них что-то от вечности, символом которой был некогда нимб, от вечности, которую мы ищем теперь в сиянии, в вибрации самого колорита», это не следует понимать так, будто он хотел писать каких-то ангелов. Нет, сама грубая, жесткая, даже брутальная сущность мужчин и женщин казалась ему достойной нимба вечности, как облик неутомимо работающего духа жизни. Причем это были не просто мужчины и женщины, а крестьяне, ткачи, рыбаки или люди городского дна. Или, наконец, художники. Драматической теме «Художник» и посвящен цикл автопортретов.
Невольно задаешься вопросом: почему Ван Гог начал работать над автопортретами так поздно, только в Париже, почему он не писал их раньше? Ведь он и в Голландии постоянно испытывал нужду в моделях, страдал из-за их недостатка, а собственное отражение в зеркале всегда было под рукой – однако он этой возможностью не пользовался.
Можно предположить здесь две главные причины, обе связанные со склонностью Ван Гога к портретам-типам, портретам-обобщениям.
Первая – та, что Ван Гог именно при переезде сначала в Антверпен (где он прожил недолго, всего месяца два), а затем в Париж, окончательно убедился, что он художник сложившийся, состоявшийся. Он понял это, сопоставляя свои работы и свои методы с тем, как работают другие. Раньше он сравнивать не мог, так как и в Гааге, и в Дренте, и в Нюэнене работал почти в полной изоляции от художественной среды. Он чувствовал свои силы, верил в свою способность стать художником и в то, что развивается в нужном направлении. Но впервые уверился в этом, посещая в Антверпене классы Академии художеств и рисовальные клубы. При всей своей непритворной скромности и несклонности к самомнению, Винсент сделал выводы в свою пользу, о чем и писал в письмах к Тео. Следовательно, теперь у него было моральное право объективировать свой образ как тип художника.
Переселившись затем в Париж, Ван Гог и там отнюдь не чувствовал себя робким новичком-провинциалом, которому нужно начинать все заново. Сами французские художники-новаторы, с которыми он сошелся, также сразу почувствовали в нем по меньшей мере равного себе, хотя и другого. Чуткий к талантам Писсарро был поражен голландскими полотнами Ван Гога, в частности «Едоками картофеля». Позднее Писсарро говорил своему сыну: «Я заранее знал, что Ван Гог либо сойдет с ума, либо оставит всех нас далеко позади». И с печальным юмором добавлял: «Но я никак не предполагал, что он сделает и то, и другое».
В Париже Ван Гог воочию убедился, что искусство не застыло и не остановилось после Милле (как ему раньше казалось), что родилось новое и замечательное искусство, но его представители, подобно ему самому, бьются как рыба об лед: они извергнуты из системы общественных связей, ушли от одного класса общества и не пристали к другому, не обеспечены, затравлены, гонимы, разобщены даже между собой.
И здесь – вторая причина, почему Ван Гог взялся за серию автопортретов. Теперь ему было ясно, что в его собственной тяжелой участи сказалась закономерность, действительная для всего клана художников, – по крайней мере тех, которые не приспосабливаются к салонным вкусам, к фирме Гупиль и К°, а хотят создавать нечто истинное и правдивое в условиях заката буржуазной цивилизации (а что закат наступает – Ван Гог не сомневался: он говорил об этом не раз в самых резких и радикальных выражениях).
Первый – или один из первых – автопортрет Ван Гога относится к началу 1886 года, то есть к первым месяцам пребывания в Париже. Он написан еще в прежней, «рембрандтовской» темной манере, сильными контрастами света и тени, с красноватыми и золотистыми вспышками в темной глубине фона. (Замечу в скобках, что эта «темная» манера Ван Гога нисколько не заслуживает пренебрежения, с каким о ней иногда отзываются: она по-своему так же прекрасна, как его более поздняя светлая и яркая цветовая гамма.) Видимо, из всех автопортретов Ван
Гога этот наиболее эмпиричен, меньше всего отрывается от натуры, не стилизует и не утрирует. Мы видим человека с трубкой, выглядящего намного старше своих тридцати трех лет довольно красивое, чрезвычайно нервное лицо, рыжеватые волнистые волосы и бородка, нос с горбинкой, лоб с сильно развитыми надбровными выпуклостями, глубокая складка между бровями, взгляд несколько исподлобья, напряженный, проницающий. Чудится как бы нечто «русское» в этом лице: может быть, таким можно представить себе князя Мышкина, героя Достоевского.
Этот, видимо, очень похожий портрет (а также несколько его вариантов, сделанных одновременно) запечатлел облик Ван Гога, так сказать, синтетично, исходно, и сделан он иначе, чем последующие, аналитические, в которых художник разнообразно экспериментировал со своей «маской», как бы отчуждая ее от себя и глядя со стороны.
Нет сомнения, что длинная вереница автопортретов представляет звенья глубоко интимной душевной автобиографии Ван Гога, а вместе с тем они кажутся портретами не одного, а многих людей. Многих, заключенных в одном.
В одних только парижских портретах, по времени близких друг другу, Ван Гог изображает себя то в суровом и грубом «крестьянском» обличье, отяжеляя черты лица, меняя пропорции, то с тонким нервным лицом интеллигента, то в виде чуть ли не каторжника. Почти всюду нас встречает пристальный, до крайности напряженный взгляд из-под сдвинутых бровей, но он воспринимается различно. Иногда это взгляд, исполненный глубокого и мягкого сострадания, иногда – собранной решимости, иногда – взгляд обороняющегося, загнанного и угрюмого существа, «человека, который никогда не смеется», иногда – одержимого, иногда – одичавшего. Суггестивную, и даже символическую роль во всех этих перевоплощениях играет цвет и характер мазка. Ван Гог писал преимущественно очень пастозно, порой его полотна выглядят как рельефы, вылепленные краской, ощущается ритм движений кисти, наносящей мазки; сам этот ритм и расположение мазков в сильной степени определяют настроение вещи. Естъ среди автопортретов 1887 года один, в желтой соломенной шляпе, на синем фоне, где художник напоминает мечтательного пастуха или странника. Здесь господствует сочетание интенсивной синевы и лимонно-желтого, мазки длинные, мягко и плавно взмывающие ввысь; тут есть воспоминание о просторах полей и неба, о золотых хлебах, мечта о жизни среди природы – хотя ничего этого не изображено на картине, а только внушается зрителю. Другой, примерно того же времени, очень известный автопортрет в серой шляпе, также на синем фоне, написан отрывистыми короткими мазками-палочками – синими, оранжевыми, белыми, зеленоватыми: этими штрихами кисти моделировано лицо, а вокруг головы они образуют концентрические круги, наподобие магнитных силовых линий; все вместе создает впечатление вспышек, электрических разрядов, той изматывающей наэлектризованной атмосферы, в которой художник пребывал в Париже.
Есть заметное противоречие между автопортретами парижского периода и парижскими пейзажами и натюрмортами Ван Гога. Пейзажи и многочисленные букеты цветов, написанные чистыми, сияющими красками, излучают радость: глядя на них, можно подумать, что теперь-то художник и познал вкус жизни, ощущение ее красоты. Между тем автопортреты говорят совсем о другом – так же как и свидетельства людей, знавших Ван Гога в Париже, и его собственные свидетельства в письмах. Они говорят о страшном, истощающем напряжении, о меланхолии, доходящей до приступов отчаяния. Ранее, работая в Голландии, в труднейших условиях и в одиночестве, Ван Гог никогда не терял бодрости и веры в высокую миссию художника, теперь он был к этому близок. Создавая радостные картины, он не выражал себя сегодняшнего, а собирал жатву с ранее посеянного, воскрешая далекие впечатления и состояния духа, пережитые в юности. Теперь его преследовала горькая мысль, не покидавшая его и в Арле, и в Сен-Реми, высказанная в последнем предсмертном письме: мысль о том, что художник расплачивается за свое искусство ценой собственной жизни. Он переливает себя полностью в свое искусство, и чем большего достигает как художник, тем меньше остается ему как человеку, искусство его опустошает. Он оказывается способен писать картины, полные молодости и свежести, только когда сам утратил и молодость и свежесть. Несколько раз Ван Гог вспоминает слова Делакруа о том, что он «обрел живопись, когда потерял зубы и стал страдать одышкой». Вспоминает изречение: «Любовь к искусству убивает подлинную любовь». Жизнь подлинная, естественная человеческая жизнь с ее привязанностями, и жизнь художника в искусстве – как бы две чаши: по мере того, как наполняется одна, пустеет другая. Любовь к природе, любовь к женщине, здоровье, силы, желание иметь домашний очаг, семью, детей, которое прежде было таким сильным у Ван Гога, – все это исчезает, уходя в картины, энергия жизни превращается в энергию живописи, в холст и краски. И если бы еще при этом можно было верить, что потом произойдет и обратное превращение, то есть все отданное живописи снова будет возвращено жизни через воздействие картин на других людей! Но и в это Ван Гог терял веру, так как видел, что «работа не окупается» – не окупается ни в денежном, ни в широком моральном отношении: общество не интересуется трудом художников. Оставалось одно: надеяться на будущие поколения и будущих художников, пролагать для них путь, готовить почву, стать звеном цепи, уходящей в неизвестность. А поколение «импрессионистов» обречено быть монахами в замкнутом монастыре искусства, отделенном от большой жизни невидимой, но непроницаемой стеной.
Вот эту трагедию художника Ван Гог рассказывает своей автопортретной серией. Можно понять и его желание представить себя как «бонзу, поклонника вечного Будды». В этих словах звучит глубокая и грустная ирония над собой и своими собратьями по искусству.
Но в ассоциации «художник – монах» таилась и некая надежда для Ван Гога – он надеялся, что художники, не понимаемые и не поддерживаемые обществом, могут по крайней мере понимать и поддерживать друг друга и сплотиться в братский союз. Он писал: «Как ни печально сознавать, что ты стоишь вне реальной жизни – в том смысле, что лучше создавать в живой плоти, чем в красках и гипсе… мы все-таки чувствуем, что живем, когда вспоминаем, что у нас есть друзья, стоящие, как и мы, вне реальной жизни». С затаенной мечтой о братстве художников, которое возникнет где-нибудь на юге, вдали от мучительного Парижа, с воображаемой «моделью» такого братства у японцев, Ван Гог в начале 1888 года отправился в Арль. Эта последняя надежда вызвала у него новый прилив бодрости и энергии. На последнем из парижских автопортретов, сделанном, вероятно, уже перед отъездом, мы видим художника за мольбертом, с палитрой и кистью, в том полном решимости и воли собранном, сконцентрированном состоянии, которое он называл «единоборством с холстом». Комментарием могли бы быть его слова, сказанные значительно раньше: «Многие художники боятся пустого холста, но пустой холст сам боится настоящего страстного художника, который дерзает, который раз и навсегда поборол гипноз этих слов: “Ты ничего не умеешь”. Сама жизнь тоже неизменно поворачивается к человеку своей обескураживающей, извечно безнадежной, ничего не говорящей пустой стороной, на которой, как на пустом холсте, ничего не написано. Но какой бы пустой, бесцельной и мертвой ни представлялась жизнь, энергичный, верующий, пылкий и кое-что знающий человек не позволит ей водить себя за нос. Он берется за дело, трудится, преодолевает препятствия…» Такого исполненного суровой энергии, несдающегося, твердого художника изображает этот портрет.
Такое состояние энергии, взлета, лихорадочной окрыленности продолжалось в Арле, где Ван Гог создал свои лучшие вещи, достигло кульминации, когда он готовился к приезду Гогена, а затем туго натянутая пружина сорвалась. Отношения с Гогеном складывались слишком напряженно и взвинченно, чтобы продолжаться долго. Гоген стал готовиться к отъезду, не прожив в Арле и двух месяцев, а это означало для Ван Гога крушение заветной мечты о содружестве художников. Тут он написал трагические «пустые стулья», покинутые стулья – свой и Гогена, которые тоже являются своеобразными символическими портретами, а затем последовал первый приступ зловещей болезни Ван Гога: в припадке безумия он отрезал себе ухо. Но автопортрет, сделанный по выходе из больницы, – «Человек с перевязанным ухом» – является, может быть, самым лучшим и принадлежит к шедеврам художника.
Он сделан словно бы на одном дыхании, легко и огненно, чистым сверкающим цветом, без теней – совершенный образец стиля, выработанного в арльский период. По цветовому решению этот автопортрет более всего близок «Ночному кафе»: сочетание красного, оранжевого и зеленого, к которому Ван Гог прибегал для выражения драматизма и жестокости; кольца дыма из трубки кажутся физическим выражением боли. Но нежная белизна повязки, голубизна глаз, спокойный склад губ вносят иную ноту. Нет резкости и былой перенапряженности в этом автопортрете. Это образ человека, стоически, с ясным сознанием и чистой совестью принявшего свою судьбу и ни от чего не отрекшегося. «Когда я выйду отсюда, – пишет он брату в это время, – я вновь побреду своей дорогой; вскоре начнется весна, и я опять примусь за цветущие сады».
Однако весной он был уже в убежище Сен-Реми для душевнобольных.
Ван Гог не был сумасшедшим. У него были приступы помрачения рассудка, но между приступами его ум оставался ясен и он по-прежнему много работал. Он по собственной воле отправился в убежище: если уж художнику суждено быть отторгнутым от мира и трудиться в одиночестве, то не все ли равно где.
В Сен-Реми он мог писать пейзажи с натуры, но не людей. Зато усиленно занимался свободным копированием, то есть интерпретацией в цвете гравюр и черно-белых репродукций с картин Милле, Делакруа и других любимых им художников. В Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина есть картина из этой серии – «Прогулка заключенных», написанная по гравюре Доре. Ван Гог очень бережно сохранил ее композицию, изменив в ней самую малость. Из фигур заключенных значительно изменена только та, что на первом плане: здесь другие и пропорции, и лицо. У Ван Гога это рыжеватый человек, бредущий тяжелым неверным шагом. В его лице можно угадать черты самого художника.
И в Сен-Реми, и потом в Овере Ван Гог писал вещи удивительно светлые. На редкость спокойны, мягки и гармоничны «Ветка цветущего миндаля», «Ирисы», «Белые розы», написанные за два месяца до самоубийства. Но если мы захотим увидеть того, кто писал эти розы, мы увидим картину подлинно страшную: автопортрет, сделанный в то же самое время, в том же мае 1890 года. Он написан в зеленовато-серых тонах, напоминающих о «Прогулке заключенных». Фон сплошь покрыт густыми, тяжко клубящимися волнообразными извивами: и на этом фоне, мглистом и вязком, – хмурое, испитое лицо человека с затуманенным взглядом, человека загнанного, застывшего, онемевшего.
На самом-то деле, Винсент Ван Гог все-таки сильно отличался от этого своего самого мрачного автопортрета. Иоганна Ван Гог Бонгер, вдова Тео, впоследствии вспоминала, что, когда Винсент вышел из больницы, она ожидала увидеть изнуренного больного, а перед ней оказался сильный, широкоплечий человек со свежим цветом лица: он показался ей совершенно здоровым. Винсент выписался из больницы с заключением врача: «Излечен». Физически он очень окреп. У него были преданные друзья. Кроме того, его произведения именно теперь начинали приобретать известность, Орье написал о них восторженную статью. Словом, у Ван Гога все еще могло обернуться к лучшему, и в хорошие минуты он сам продолжал на это надеяться. Как и во всякой отдельной человеческой жизни, и в его жизни многое зависело от случайностей, от стечения обстоятельств.
Но серия его автопортретов рассказывает не только о перипетиях личной судьбы – она развертывает перед нами акты социальной драмы, называемой «Судьба художника».
Ван Гог и литература[23]
Книги, искусство и действительность – для меня одно и то же.
В. Ван ГогПотребность сопоставить творчество живописца с искусством слова возникает обычно в трех случаях. Во-первых, когда речь идет об иллюстраторах, то есть о художниках, у которых работа над иллюстрациями занимает преобладающее или достаточно большое место (Доре, Делакруа, Домье, Бердсли, Врубель, Добужинский). Во-вторых, если художник одновременно является и писателем, как Блэйк, Россетти, Барлах. В-третьих, принято говорить о «литературности» художника (не всегда с должным основанием), если произведения его построены фабульно, по принципу рассказа, как у Федотова, Перова, или развернутого повествования в серии картин, как у Хогарта.
Ни один из этих трех случаев к Ван Гогу, по-видимому, не относится. Среди его рисунков нет ни одной иллюстрации, а среди живописных работ – ни одной сделанной «на сюжет» какого-либо литературного произведения. Сам он, насколько известно, никогда не сочинял ни стихов, ни рассказов. И наконец, фабульность, как ее принято понимать, в его полотнах отсутствует: в сюжетном отношении они настолько же статичны, насколько динамичны по стилю; сюжеты Ван Гога не требуют от зрителя ни знания предшествующего момента, ни догадки о последующем; Ван Гог не рассказывает – только показывает.
При всем том творчество Ван Гога связано с миром литературы так интимно и органично, как мало у кого из художников XIX века. «У меня почти непреодолимая тяга к книгам» (п. 133)1, – писал он в 1880 году, и она не покидала его до конца жизни. Книги были ему так же необходимы, как холст и краски, при всей напряженности своих занятий живописью он всегда находил время для чтения, и начитанность его была удивительна. Заняло бы несколько страниц одно перечисление авторов и заглавий, которые он в письмах упоминает, цитирует, рассказывает и о которых делится впечатлениями. Книги формировали его мировоззрение, в книгах он находил семена идей, взращенных его искусством; наконец, и сам характер его образного мышления, сама структура его образов сложились в значительной мере под влиянием художественной литературы.
И последнее: хотя Ван Гог не пробовал себя в роли писателя, тома его писем убеждают, что он мог бы им быть. Они написаны человеком большого литературного дара – прирожденным художником слова, что отчасти и определило необыкновенный успех писем, когда они были опубликованы. Значением человеческого документа они не исчерпываются.
Все это в совокупности оправдывает специальное выделение темы: Ван Гог и литература.
I
Мы бы очень ошиблись, предположив, что художественная литература была для Винсента Ван Гога только источником общих идей, средством познания и расширения кругозора. Он обладал редкостной чуткостью к искусству слова именно как к искусству и имел обыкновение рассматривать его вкупе с искусством живописи. В отличие от многих художников и писателей, для которых искусство слова и искусство изображения мыслятся порознь, больше в их видовом различии, чем в родовой общности, Ван Гог представлял себе литературу и живопись связанными гораздо теснее, чем обычно считают.
Если при нем говорили о «литературной живописи» в осуждающем смысле, это вызывало у него недоумение. Еще в 1882 году он осмеливался перечить по этому поводу самому Мауве – тогдашнему его наставнику. Мауве пренебрежительно назвал «литературным» искусство английских художников. «Но он забывает, – возражал Винсент, – что английские писатели, такие, как Диккенс, Эллиот и Кэррор Белл (Шарлотта Бронте. – Н.Д.), а среди французов, например, Бальзак, удивительно “пластичны”… Диккенс сам иногда употреблял выражение: Я рисую (J’ai esquisse)» (п. Р-8).
В том же году он писал брату Тео: «Здесь у меня есть трактаты о перспективе и несколько томов Диккенса, среди них “Эдвин Друд”. Вот где перспектива – в книгах Диккенса! Черт возьми! Какой художник! Ни один писатель с ним не сравнится» (п. 207).
Стараясь убедить Тео, что тот мог бы стать живописцем, он приводил и такой аргумент: «Знаешь ли ты, что “рисовать словами” – тоже искусство, и оно может указывать, что тайная сила дремлет в тебе, подобно тому как легкое облачко голубоватого или сизого дыма указывает на огонь в очаге… В твоем кратком описании есть “рисунок”; я его чувствую и понимаю…» (п. 212)
Для Ван Гога было естественно мысленно переводить словесные образы на язык зримостей, что он и делал постоянно. Читая, всегда вспоминал произведения живописцев. «Последние дни я читал “Набоба” Доде. По-моему, эта книга – шедевр. Чего, например, стоит одна прогулка Набоба с банкиром Эмерленгом по Пер-Лашез в сумерках, когда бюст Бальзака, чей темный силуэт вырисовывается на фоне неба, иронически смотрит на них. Это – как рисунок Домье» (п. 242). Прочитав «93-й год» В. Гюго, он нашел, что все там «нарисовано», как вещи Декана или Жюля Дюпре. О романе Золя «Мечта»: «Я нахожу очень, очень сильным образ героини – золотошвейки, и описание вышивки, выполненное в золотых тонах… это близко к проблеме передачи различных желтых, чистых и приглушенных. Однако образ героя представляется мне надуманным, а собор нагоняет на меня тоску, хотя его иссиня-черная и лиловая громада отлично контрастирует с фигуркой золотоволосой героини» (п. 593)-
Подобных наблюдений много; едва ли не каждая книга, заинтересовавшая художника, вызывала у него те или иные ассоциации с живописью. Но особенно интересно заметить, что свойственно ему было и обратное – перевод изображения в слово. Это сказывалось не только в том, что он охотно описывал словами и свои, и чужие картины, но и в том, как описывал. Нередко он превращал описание живописного полотна в новеллу, в стихотворение в прозе, в лирико-философический пассаж. Его авторские характеристики картин «Сельское кладбище», «Ночное кафе», «Колыбельная» – это маленькие литературные произведения, навеянные собственной живописью. По поводу картины Израэльса «Старик» (старый рыбак с собакой, сидящий у очага) Винсент создает прекрасную лирическую миниатюру, заканчивая цитатой из Лонгфелло: «…мысли о юности – долгие, долгие мысли». По поводу картины Мауве, изображающей лошадей, вытащивших на берег рыбачий парусник, – снова лирические раздумья над судьбой покорных кляч, которые «примирились с тем, что еще надо жить, надо работать, а если завтра придется отправляться на живодерню – что ж, ничего не поделаешь, они готовы и к этому» (п. 181).
Если бы так писал о картинах художественный критик, ему бы не преминули заметить, что он воспринимает живопись «литературно», игнорируя ее специфику. Но так писал не критик, а художник Ван Гог.
Вот он рассказывает, как они с Гогеном побывали в музее Монпелье. По поводу портрета Брийя работы Делакруа он вспоминает и цитирует стихи Мюссе о человеке в черном. О рембрандтовских портретах говорит: «Глядя на портрет старого Сикса, дивный портрет с перчаткой, думай о своем будущем; глядя на офорт Рембрандта, изображающий Сикса с книгой у освещенного солнцем окна, думай о своем прошлом и настоящем» (п. 564). По поводу портрета немолодой дамы работы Пюви де Шаванна вспоминает изречения Мишле. Работы Хальса сравнивает с Золя.
Словом, характер восприятия картин не переменился у Ван Гога и в последние годы жизни. По-прежнему, как в молодости, созерцая живопись, он отлетает мыслями далеко за пределы «холста, покрытого красками», мысленно возводит написанное на холсте к общим вопросам человеческой жизни, задумывается, грезит, философствует, цитирует стихи, вспоминает прочитанные романы, концентрирует свои впечатления в литературных афоризмах. По-прежнему он ощущает живопись «литературно», в той же мере, как литературу – «живописно»: ряды восприятий у него нераздельны, одно полагает себя в другом.
Он с легкостью говорил о литературе в терминах изобразительного искусства: колорит, рисунок, перспектива. В чем он видел аналогию? Некоторое разъяснение содержится в переписке с Э. Бернаром. Бернар посылал Винсенту свои стихи. Винсент писал: «Сонеты у тебя получаются, колорит прекрасен, но рисунок менее сильный, вернее, менее уверенный, несколько расплывчатый, – не знаю, как это выразить, – нравственная цель не ясна» (п. Б-8). Очевидно, Бернар попросил его объяснить, что он разумеет под неуверенным рисунком в сонетах; в следующем письме Ван Гог отвечает. Оказывается, неуверенность рисунка он видит в том, что Бернар заключает стихи декларативной моралью, вместо того чтобы «рисовать», «показывать». Рисунок, применительно к словесному образу, означает убеждающую силу анализа – как убеждает учеников анатом, делая надрез скальпелем. Надрез убедителен сам по себе, «но когда вслед за тем анатом читает мне мораль, как это делаешь ты, я нахожу, что его последняя тирада гораздо менее ценна, чем преподанный им наглядный урок» (п. Б-9).
Ван Гогу и самому случалось грешить подобной «неясностью рисунка»: можно вспомнить его раннюю «Скорбь», где он подписал изречение Мишле об одиночестве женщины. Но это было исключением: как правило, он не прибегал не только к морализирующим подписям, но и к морализирующим сюжетам, предпочитая «надрез скальпелем». Переписка с Бернаром относительно сонетов велась примерно в то время, когда Ван Гог работал над «Ночным кафе»; в этой картине, представляющей, по его разъяснениям, «место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление», не изображены ни гибнущие, ни безумные, ни преступники, а всего лишь несколько мирно дремлющих за столиками фигур.
Ван Гог всегда добивался единства рисунка и цвета. То же самое он ценил и в искусстве слова, как видно понимая под «колоритом» картинность, живость, пластичность описания, а под «рисунком» интеллектуальную и нравственную концепцию. Умение «рисовать цветом», то есть сливать воедино эти начала, импонировало ему у французских романистов, которыми он восхищался: у Бальзака, Флобера, Доде, Мопассана, Золя, Гонкуров.
В его художественных и литературных предпочтениях есть явственный параллелизм: любовь к Шекспиру того же порядка, что любовь к Рембрандту, любовь к Диккенсу и Золя подобна его любви к Милле, Гюго – к Делакруа, живой интерес к Мопассану возникает из того же источника, что интерес к импрессионизму, а холодное отношение к Бодлеру совпадает со столь же холодным отношением к живописи Одилона Редона.
Особенно характерно для Ван Гога сближение Шекспира с Рембрандтом, хотя ни тематической, ни стилевой общности у этих великих художников как будто нет. «У Шекспира, – говорит Ван Гог, – не раз встречаешь ту же тоскливую нежность человеческого взгляда, отличающую “Учеников в Эммаусе”, “Еврейскую невесту” и изумительного ангела на картине, которую тебе посчастливилось увидеть (очевидно, имеется в виду картина Рембрандта «Матфей с ангелом». —Н.Д), эту слегка приоткрытую дверь в сверхчеловеческую бесконечность, кажущуюся тем не менее такой естественной. Особенно полны такой нежности портреты Рембрандта – и суровые, и веселые, как, например, “Сикс”, “Путник” или “Саския”» (п. 597).
Ван Гогу видится рембрандтовская «тоскливая нежность взгляда» в произведениях Шекспира, где описаний нет, где герои характеризуются только их речами. Проникновенный «взор» принадлежит не персонажам, а их творцу – таким взором созерцает он игру судеб и страстей. За «объективностью» Шекспира Ван Гог угадывал отношение к миру этого художника, о личности которого так мало известно, и находил в нем общее с отношением к миру Рембрандта, о котором известно столь же мало: оба говорили о себе только своим искусством. Ван Гогу был внятен язык и того и другого искусства, и слышал он у обоих то, чем больше всего дорожил: способность смотреть в лицо действительности, не строя иллюзий, чувствовать ее драматизм и скорбь и все же прозревать в ней высшую, примиряющую с жизнью гармонию. То состояние великого катарсиса, которого Ван Гог искал всю жизнь, которое брезжило, но так и не далось ему. Оно определяло его высшие идеалы в искусстве: Рембрандт и Шекспир, поставленные рядом.
Литературу и живопись он не мыслил порознь, так как самым важным были для него не слова и не краски, а то, что за ними: взор художника, «приоткрытая дверь в бесконечность».
II
Ван Гог, как уже сказано, не делал иллюстраций. Но очень многое из прочитанного находило отзвук в картинах и рисунках. Своеобразный отзвук, потому что Ван Гог не заимствовал прямо литературные мотивы, а обращался к ним, когда встречал в натуре что-то о них напоминавшее. Иногда это было сходство предмета, чаще – эмоциональной атмосферы.
В ряде случаев он сам указывает на литературные параллели своих произведений. Так, относительно «Одинокого старика», сделанного в Гааге в 1882 году, он писал Тео: «Я должен дать тебе прочесть стихотворение, которое было у меня в мыслях, когда я рисовал старика, хотя оно не подходит к нему в точности…» (п. 253) Стихотворение, озаглавленное «В тишине ночи», приложено к письму: это французский перевод из Томаса Мура. Нетрудно убедиться, что «Старик» Ван Гога – ни в коей мере не иллюстрация к этим стихам, гораздо более «салонным»; у Ван Гога образ совсем другой и метафора праздничного зала с погашенными огнями, встречающаяся в стихотворении, нисколько к нему не подходит. Только излучаемое стихами настроение, лиризм утраченного, ушедшего, невозвратимого, сопровождало, как музыкальный фон, работу Ван Гога, помогая ему ощутить атмосферу тишины и погруженности в тоскливые мысли.
Приведу еще несколько примеров, когда художник сам говорит о связи своих картин с определенными текстами писателей. Работая в Нюэнене над портретами крестьян, он читал «Жерминаль» Золя и находил эту книгу великолепной. Он попытался нарисовать голову откатчицы, фигурирующей в романе, – «в ее чертах есть что-то от мычащей коровы» – моделью была нюэненская крестьянка. Тут же Винсент признавался: на откатчицу Золя оказалась больше похожа «Крестьянка, возвращающаяся с поля» – этюд, сделанный еще до того, как он прочитал «Жерминаль». Но другие книги Золя он читал раньше, они давно его увлекали, многие нюэненские работы делались в духе Золя. И снова Ван Гог вспоминает Золя в Арле, написав «Портрет крестьянина»: «Мы читали “Землю” и “Жерминаль”; поэтому, изображая крестьянина, мы не можем не показать, что эти книги в конце концов срослись с нами, стали частью нас» (п. 520).
Из Арля же Ван Гог сообщал брату, что написал с натуры те самые скрипучие тарасконские дилижансы, зеленые и красные, которые описаны в «Тартарене» Доде.
Работая над «Террасой кафе ночью», Винсент думал о «Милом друге» Мопассана. «В начале “Милого друга” есть описание звездной ночи в Париже, с освещенными кафе на бульварах, – это примерно и есть тот сюжет, над которым я только что работал» (п. В-7). Здесь Ван Гог не точен: в начале романа описана не звездная ночь, а душный летний вечер, хотя упоминается «яркий жесткий свет» из окон кафе. Звездная ночь описана позже – когда герой романа Дюруа возвращается со званого ужина вместе со старым поэтом Норбером де Варенном: тут следует монолог Варенна о жестокости и бессмысленности жизни, об одиночестве. Таким образом, «Терраса» Ван Гога не совпадает с какой-либо определенной сценой из «Милого друга», но связана с этим романом ассоциативно.
В связи с картиной «Дом художника» Винсент вспоминает описания бульваров в «Западне» Золя и набережной под раскаленным солнцем в «Буваре и Пекюше» Флобера, замечая, что и в этих описаниях, как в его картине, «тоже не бог весть сколько поэзии» (п. 543).
Книга Э. Рода «Смысл жизни», прочитанная в Сен-Реми, не понравилась Ван Гогу, он нашел ее претенциозной и слишком унылой. Но описание хижин козопасов в глухой горной местности произвело на него впечатление, и под этим впечатлением написана в Сен-Реми картина «Гора».
Уже из этих примеров видно, что Ван Гог пользовался литературными источниками совсем не так, как делают иллюстраторы. Иллюстратор исходит из литературного образа как первичного, а затем ищет (или воображает) подходящую натуру, чтобы его воплотить. Для Ван Гога первичным всегда является увиденное собственными глазами, а из запаса литературных впечатлений он черпает созвучное увиденному, думает, вспоминает о прочитанном, когда работает. Литературные ассоциации помогают кристаллизоваться картине.
Опосредствованных литературных реминисценций в произведениях Ван Гога гораздо больше, чем он сам упоминает. Например, «Тартарен из Тараскона» дает о себе знать в арльском цикле не только картиной «Дилижансы». Ван Гог был страстно увлечен этой книгой, вероятно, из-за нее и выбрал Арль, а не какое-нибудь другое южное место. Правда, он ни разу не попытался нарисовать фанфарона и фантазера Тартарена. Но вот знаменитое арльское солнце – о нем в книге Доде сказано нечто очень близкое к тому, как воспринимал его Ван Гог: «…поезжайте-ка на юг – увидите сами. Вы увидите страну чудес, где солнце все преображает и все увеличивает в размерах. Вы увидите, что провансальские холмики высотой не более Монмартра покажутся вам исполинскими… Ах, если есть на юге лгун, то только один – солнце!.. Оно увеличивает все, к чему ни прикоснется!.. Что представляла собою Спарта в пору своего расцвета? Обыкновенный поселок. Что представляли собою Афины? В лучшем случае – провинциальный городишко… И все же в истории они рисуются нам как два огромных города. Вот что из них сделало солнце…»2
В Париже Ван Гог прочитал это шутливое приглашение, поехал – и действительно увидел страну чудес. Коротенький пассаж о южном солнце, данный в романе, у Ван Гога становится лейтмотивом. Изображая «страну чудес, где солнце все преображает», он за ее поэзией также не перестает замечать прозу, как и Альфонс Доде. Что как не заурядный «провинциальный городишко» предстает на картине «Дом художника»? Но горячечное дыхание юга преображает его – «вот что из него сделало солнце».
Одним из любимейших писателей Ван Гога был Диккенс. В до-парижском творчестве Ван Гога различима целая диккенсовская полоса – преимущественно гаагский период. Отчасти влияние Диккенса преломляется через призму английской графики 60-70-х годов XIX века, причем к иллюстраторам Диккенса Ван Гог присматривался особенно внимательно. В 1882 году, работая над заказанными ему видами Гааги, он пристально изучал иллюстрированное издание «Холодного дома» с рисунками Барнарда и Филдса, находил их «чертовски красивыми» и сопоставлял с собственными зарисовками. Он не собирался иллюстрировать книги Диккенса, но диккенсовская манера видеть, острая, зоркая на характерные детали, юмор и глубокое сочувствие в изображении какого-нибудь горемычного подметальщика улиц или старухи-богаделки, живописность в описании городских трущоб, уличных сцен – словом, атмосфера произведений Диккенса воздействовала на него в Гааге, пожалуй, больше, чем произведения какого бы то ни было художника. Он большему обучился тогда у Диккенса, чем у Херкомера, Филдса и других иллюстраторов. Ища пластических эквивалентов манере Диккенса, он пришел к своему «клер-обскюр»: он чувствовал, как диккенсовские образы возникают, высвечиваются из полумрака, ощущал в них поэзию светотени, тумана, пелены дождя, дыма, облака пыли.
Более чем вероятно, что Диккенс был своего рода художественным проводником Ван Гога в его творчестве еще и до Гааги. В Боринаже Винсент с увлечением читал «Тяжелые времена» и писал о них брату, что «это шедевр», особенно выделяя «очень волнующий и очень симпатичный образ рабочего Стивена Блекпула» (п. 131). Боринажские рисунки, переработанные затем в Брюсселе, изображали в нескольких вариантах рабочих, идущих на шахту; женщин, таскающих мешки; одинокого шахтера, бредущего с фонарем по ночной дороге. Подобные мотивы имели близкие аналогии в «Тяжелых временах», где действие развертывается вокруг ткацкой фабрики. Рабочие, вереницей и группами бредущие по гудку на работу и с работы, – обрамляющий мотив романа. Люди, «которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний». Описание этих монотонных шествий и ухода Стивена из города «мимо красных кирпичных стен, мимо огромных тихих фабрик, еще не начавших сотрясаться, мимо железной дороги» подсказывали начинающему художнику ритм, ключевую интонацию – тот «звук», с которого начинаются у поэта стихи, а у рисовальщика – композиция.
Можно припомнить также рождественские мотивы в гаагских рисунках, изображения сосредоточенно молящихся или глубоко задумавшихся мужчин и женщин, сцены у камелька – все это проникнуто духом и поэтикой Диккенса, чьи «Рождественские рассказы» Винсент читал и перечитывал бесконечно. Не будет преувеличением сказать, что ранний (донюэненский) период протекал у Ван Гога под обаянием английского писателя, так же как последующий – под обаянием Золя, затем Доде, а в Сен-Реми – Уитмена. Поэзию Уитмена, впервые с ней познакомившись, Ван Гог принял как откровение, и «космические» картины с гигантскими звездами, сделанные в Сен-Реми, несомненно с ней соотносятся.
Можно открывать все новые и новые отголоски литературных впечатлений в картинах Ван Гога (что отнюдь не умаляет их самобытности и оригинальности), но более существенно – попытаться понять, как и в чем проявлялся «литературный метод» создания образа в творчестве художника. Это тем более важно, что по установившейся традиции считается, что постимпрессионизм, вслед за импрессионизмом, решительно отошел от «литературности». По отношению к некоторым художникам это, быть может, и так, но к Ван Гогу привычное представление об «антилитературности» новой живописи никак не относится. Скорее, напротив: особого рода «литературность» определяет его художественное новаторство.
В чем же состоит «литературность» творческого метода Ван Гога? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к высказываниям самого художника. Кроме постоянно проводимых им конкретных параллелей между писателями и живописцами у него есть на этот счет и обобщающие суждения. Так, он говорит о сжатости, концентрированности, метафоричности литературного образа и о желательности этих же качеств для образа живописного.
Нам более привычно слышать другое: литературный образ описателен, зрительный – лаконичен; то, что писатель выражает на многих страницах, художник умещает в одном емком изображении. Но вдумаемся в рассуждения Ван Гога. Он начинает с того, что образы художников редко удаются писателям: ему не нравятся ни художники Бальзака, ни Клод Лантье у Золя. С другой стороны, художникам, считает он, редко удаются портреты писателей: они «изображают литератора всего лишь человеком, который восседает за столом, заваленным бумагой». И дальше: «Возьми портрет Виктора Гюго работы Бонна – хорош, очень хорош; но я все-таки предпочитаю Виктора Гюго, описанного словами, всего лишь несколькими словами самого Гюго:
…Et moi, je me taisais Tel que l'on voit se taire un coq sur la bruyere. (…И я молчал, Как в вереске самец-глухарь молчит порою.)Разве не прекрасна эта маленькая фигурка на пустоши?» (п. 248).
Ван Гога не удовлетворяют живописцы, которые, как Бонна, делают просто схожий портрет «господина в воротничке»: что этот господин – писатель, зритель узнает благодаря изображенным на портрете аксессуарам. То есть Ван Гог восстает против эмпирического портретирования и образцы иного подхода находит в портретах, созданных словами. Там – всего несколько слов, всего лишь сравнение с притихшим в вереске глухарем, метафора. Как образ она сильнее. Тут же Ван Гог называет пришедшие ему на память аналогичные примеры из живописи: некоторые фигуры у Рембрандта, автопортрет Милле, в котором «есть что-то… петушиное» (п. 248).
Ван Гог хочет сказать, что словами можно передать какую-то решающую экспрессивную черту, а не перечислять с равным вниманием лоб, нос, подбородок, воротничок, стол. «Молчащий глухарь» – этого достаточно. «Что-то петушиное» – и портрет становится выразительным. Литературный образ метафоричен, метафора предполагает лаконизм, «стяжение». Почему бы не применить это и в живописи?
«Литературный» принцип действительно обнаруживает себя в портретах кисти Ван Гога. Портрет зуава: лоб быка и глаза тигра. Портрет Рулена: голова Сократа и Пана. Портрет жены смотрителя из Сен-Реми поникшая запыленная травинка. Автопортрет в халате: буддийский монах. Девушка с цветком олеандра: мусме. Называю здесь только те «метафоры», о которых художник сам говорил, но и в тех случаях, когда он ничего не говорил, метафорическая доминанта образа присутствует, стягивая, как в фокусе, характерные черты этого человека и вместе с тем человеческого типа, к которому он принадлежит.
То же и в пейзажах. Припомним известные слова Чехова о том, что превращает словесное описание в картину. «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка»?.
Это, конечно, относится к словесному искусству – в живописи не приходится мысленно воображать картину, она перед глазами. Но отбор экспрессивных частностей, акцентов, при опускании или затушевывании других, о котором говорит Чехов, стал проникать и в пейзажную живопись. Пример тому – пейзажи Ван Гога. Чем больше он совершенствуется в искусстве пейзажиста, тем энергичнее и смелее «сокращает», выделяя ведущую ноту, эмоциональную доминанту. Если у Чехова картина лунной ночи создается поблескиванием разбитого стекла, то у Ван Гога в картине «Дорога на Тараскон» ощущение палящего жара передается всего лишь одной резко очерченной тенью от фигуры на желтом песке. Он еще в Нюэнене поставил себе за правило: «Следует всегда иметь в виду что-то одно, а к нему уже привязывать окружение, чтобы последнее вытекало из него» (п. 429). В зрелых его полотнах обычно есть определяющий сильный акцент, к которому остальное «привязано»: огромное солнце, темный кипарис, звезда, бильярдный стол и лампа, желтый флигель, ярко освещенный навес террасы, алое одеяло, черные вороны на грозовом фоне. Это не всегда самое главное в смысловом отношении – ведь и в описании Чехова стекло от разбитой бутылки само по себе несущественно, но оно – тот ключ, посредством которого открывается впечатление лунной ночи. У Ван Гога его цветовые и экстрактивные частности – тоже ключи к картине: то, без чего она не может состояться. В «Ночном кафе» различные детали обстановки и даже фигуры посетителей за столиками могли быть перекомпонованы, изменены, их количество увеличено или уменьшено, но зеленый бильярдный стол с лампой над ним и тенью под ним – это то, на чем держится вся композиция с ее внутренним подтекстом. Так же без резкой тени от фигуры пропала бы «Дорога на Тараскон», а без алого одеяла – «Спальня».
Разумеется, Ван Гог культивировал «сокращения» и экспрессивные акценты не потому только, что находил нечто подобное в искусстве слова. Он шел к этому через свой опыт живописца. И все же «литературная» школа, им пройденная, равно как и его собственная склонность к «рисованию словами», сыграла тут не последнюю роль. Он оперировал контрастными сочетаниями цвета, акцентирующими штрихами, подчеркнутыми абрисами, наподобие того, как писатель оперирует эпитетами, гиперболами и метафорами.
И еще один урок, отвечающий его мировосприятию, он извлек из знакомства с современной ему литературой, а именно: что пышная красочность не исключает драматической тональности, может с ней сочетаться. Если воспользоваться терминами «колорита» и «рисунка» в том смысле, в каком сам Ван Гог применял их к творчеству писателей, подразумевая картину жизни и концепцию жизни, то это значит: «колорит» может быть роскошным и праздничным при драматическом «рисунке». Ван Гог читал романы Флобера, Золя, Доде, Мопассана, с наслаждением погружаясь в сочные колоритные описания улиц, рынков, празднеств, бульваров, портов, кафе, – он был очень чувствителен к таким описаниям, они для него значили не меньше, чем фабула. И одновременно он сознавал, какая горечь сквозит в упоительно красочных картинах. Итог своим размышлениям над этим он выразил в письме к сестре: «Как ты увидишь, читая Золя и Ги де Мопассана, современное искусство ищет чего-то богатого, чего-то очень радостного. Хотя Золя и Мопассан говорят вещи более душераздирающие, чем кто-либо раньше говорил. Та же самая тенденция начинает становиться правилом и для живописи» (п. В-3).
Во всяком случае, в его живописи эта двуединая тенденция осуществилась в полной мере.
III
Все многочисленные попытки написать роман, повесть, пьесу о жизни Ван Гога были, независимо от степени литературной искусности авторов, неудачны. Хотя, казалось бы, биография Ван Гога дает писателю необычайно благодарный материал. Все дело в том, что она уже однажды рассказана талантливым писателем – им самим. Эта, если воспользоваться крылатым выражением Томаса Манна, «сама себя рассказывающая история» – не материал для художника слова, а уже осуществленное художественное повествование. Кто мог бы с большей силой рассказать историю безнадежной любви Винсента к своей кузине или историю его жертвенных отношений с Христиной, чем сделал он сам? Вторично переводить это в роман или повесть – все равно что переписывать своими словами «Страдания молодого Вертера» Гёте.
История литературы знает много высокохудожественных автобиографических произведений. К ним относятся и эпистолярные произведения Ван Гога. Разница лишь в том, что они писались по свежим следам событий и без мысли о возможном ином читателе, кроме того, кому они непосредственно были адресованы. Литературный талант автора тем не менее делает свое дело.
«Рисовать словами» Ван Гог мог (или мог бы), пожалуй, не хуже, чем кистью. В первые годы занятий искусством его словесные картины едва ли не опережают по силе изобразительности нарисованные. Некоторые как бы предваряют будущие полотна: еще не став живописцем, молодой Ван Гог уже видел природу глазами живописца. Вот, например, поражающее зрительной точностью описание моря во время шторма – оно сделано в 1876 году в Англии: «Море было желтоватым, особенно у берега; над горизонтом висела полоса света, а над нею масса громадных, темных, серых туч, и видно было, как из них полосой низвергается дождь. Ветер сметал в море пыль с белой тропинки в скалах и клонил к земле цветущие кусты боярышника и желтофиолей, которые растут на утесах» (п. 67).
Можно подумать, что, делая такие описания (а их много), Винсент давал выход своему еще не реализованному и даже неосознанному тогда живописному дару. Но и впоследствии, будучи зрелым художником, он продолжал восполнять ежедневно создаваемые картины словесными картинами: эта потребность была у него неистребима. Вот как в последний год жизни он описывал ОЛИВЫ:
«Порою, когда это дерево покрыто бледными цветами и вокруг него роями вьются большие голубые мухи, порхают изумрудные бронзовки и скачут кузнечики, оно кажется голубым. Затем, когда листва приобретает более яркие бронзовые тона, а небо сверкает зелеными и оранжевыми полосами, или еще позднее, осенью, когда листья приобретают слегка фиолетовую окраску, напоминающую спелую фигу, олива кажется явно фиолетовой по контрасту с огромным белым солнцем в бледно-лимонном ореоле. Иногда же, после ливня, когда небо становилось светло-оранжевым и розовым, оливы на моих глазах восхитительно окрашивались в серебристо-серо-зеленые тона. А под деревьями виднелись сборщицы плодов, такие же розовые, как небо» (п. 614-а).
Читая эту маленькую поэму в прозе об оливах, трудно отделаться от ощущения, что, несмотря на ее «живописный» характер, на обилие цветовых эпитетов, она несет в себе и какую-то специфически литературную картинность, нечто такое, чего нет в живописном цикле, посвященном тем же оливам.
Еще больше это чувствуется в описаниях другого типа, более «событийных», которых тоже в письмах Ван Гога немало. Читатель найдет там рассказ о прибытии рыбацкого парусника в порт, достойный, быть может, Диккенса (см. п. 231), поэтические картины дрентских степей (см. п. 330 и 340), великолепные динамические эпизоды портовой жизни Антверпена (см. п. 437) и многое другое, не нашедшее адекватного выражения в живописи Ван Гога.
Некоторые исследователи отмечали «неуклюжесть» французского языка Ван Гога. Действительно, как многие говорящие на нескольких языках (он говорил и писал на голландском, французском и английском, знал и немецкий), Ван Гог на каждом выражался не совсем грамматически верно и вставлял в речь слова другого языка. Но, видимо, и эти неправильности составляли скорее оригинальность, чем недостаток литературного слога, – как «восхитительная неправильность» слога Герцена. Рене Юиг говорит о языке Ван Гога: «…Эта неловкость придает его голосу своеобразную резкость и энергию»4.
Не приходило ли ему в голову испробовать себя на поприще литературного труда? Такой вопрос мог перед ним встать в Боринаже, когда, покончив с карьерой проповедника, он находился на распутье. Нет прямых свидетельств, что тогда, перебирая возможные для себя роды деятельности, он останавливался на мысли о литературе, – но это не исключено, если судить по некоторым намекам в письме к Тео. В очень длинном, очень искреннем исповедальном письме, написанном после длительного перерыва, еще ничего прямо не сказано о решении стать художником – об этом решении говорится только в письме, написанном через два месяца, зато содержатся пространные рассуждения о том, что он, Винсент, любит живопись, но не меньше любит и книги. Это писалось, когда перед ним вставали не теоретические, а прежде всего практические вопросы дальнейшей судьбы. Обращает на себя внимание фраза: «Итак, если уж ты можешь извинить человека, поглощенного картинами, согласись, что любовь к книгам так же священна, как любовь к Рембрандту» (п. 133). Разве Тео когда-нибудь с этим не соглашался? – он и сам был большим любителем книг. Здесь может скрываться затаенная мысль. Решив, что его призвание – искусство, Винсент, возможно, еще колебался, какому именно себя посвятить: изобразительному или литературному. Но когда решение было принято в пользу первого – второе полностью отпало. С тех пор как Винсент дал присягу на верность живописи, он не делал никаких попыток с чем-то ее совместить – хотя бы с какой-нибудь временной работой ради заработка. Если у него и были литературные опыты, он о них даже не заикался и все уничтожал. Но, скорее всего, их и не было. Только письма. Зато писем он писал так много, такие пространные, наполненные и размышлениями на самые разнообразные темы, и рассказами, и описаниями, что эта эпистолярная лавина никак не может вызываться одним лишь недостатком прямого общения с близкими людьми.
В позднейших письмах также можно обнаружить глухие намеки на то, что некогда литературная деятельность его манила. Так, сообщая Тео, что Бернар «в конце концов научился писать хорошие сонеты», Винсент добавляет «…в чем я ему почти завидую» (п. 477).
В одном из арльских писем, после рассуждений о Данте, Петрарке и Джотто, высказывается следующая мысль: «Мне всегда кажется, что поэзия есть нечто более страшное (подчеркнуто Ван Гогом. – //.Д.), нежели живопись, хотя последняя – занятие и более грязное, и более скучное. Но поскольку художник ничего не говорит и молчит, я все-таки предпочитаю живопись» (п. 539)-
Почему поэзия казалась ему «более страшной»? Ведь он испытывал постоянную потребность именно «говорить», и говорить откровенно, обнажая душу. Но вот это-то и «страшно» – риск слишком большой открытости себя перед другими. Стремление к самовысказыванию соединялось у Ван Гога с целомудренным обереганием своего «я» от нескромных взоров. Он предпочитал говорить языком вне его находящихся вещей – их выражая посредством себя и себя выражая в них.
Как бы ни было, «то, что сидит в тебе, все равно найдет себе выход» (п. В-1). Литературное призвание находило выход в письмах. Не только к брату, но и к сестре Виллемине, к Раппарду и Бернару. В совокупности его эпистолярное наследие позволяет догадываться, какого масштаба и склада писатель в нем таился.
Это прежде всего реалист и романтик в одном лице, поэт прозы, для которого низменное и высокое не существуют порознь, который видит красоту там, где ее редко замечают, преданный реальности, как она есть, без косметики, но никогда не воспринимающий ее в буднично-бытовом аспекте. Затем это писатель-мыслитель, склонный к анализу. Добавим сюда особенную силу изобразительности, «пластики». Добавим еще страсть к познанию человеческих характеров и их типологии. Эта страсть к «человековедению», больше писательская, чем художническая, проявлялась в портретной живописи Ван Гога – но здесь обратим внимание хотя бы на некоторые из его словесных психологических портретов.
Ван Гог ни разу не написал кистью Гогена. Но эскиз его портрета он набросал в письмах. «Девственная натура с инстинктами настоящего дикаря», у которого «честолюбие отступает на задний план перед зовом крови и пола»; «настоящий моряк, он прошел через все испытания», вместе с тем – «человек расчета», «находясь в самом низу социальной лестницы, он хочет завоевать себе положение путем, конечно, честным, но весьма политичным»; «он никогда не выходит из себя, работает напряженно, но спокойно», «женат, но нисколько не похож на женатого человека»; напоминает мужской портрет Рембрандта, который Ван Гог называет «Человеком издалека»; «наделен буйным, необузданным, совершенно южным воображением», «его тянет на другой конец света», «ужасная мешанина несовместимых желаний и стремлений»; в нем есть нечто от Тартареиа, он «маленький жестокий Бонапарт от импрессионизма», которому свойственно «бросать свои армии в беде», нечто подобное с ним было и раньше, когда он служил в парижских банках, «я не раз видел, как он совершает поступки, которых бы не позволили себе ни ты, ни я»; мы с ним оба «немного помешанны», в тропиках он заболел недугом «чрезмерной впечатлительности», он «постоянно строит воздушные замки»; он «учит вас понимать, что хорошая картина равноценна доброму делу», «общаясь с ним, нельзя не почувствовать, что на художнике лежит определенная моральная ответственность».
Здесь выбраны только некоторые штрихи, которыми Ван Гог характеризует личность Гогена, а не его творчество. Они могут показаться противоречивыми и даже взаимоисключающими, но, собрав их воедино, мы чувствуем, что в них схвачена реальная противоречивость, контрастность натуры этого сложного человека и выдающегося художника: соединение страсти и расчетливости, пылкой необузданности и ледяного самообладания. Замечены и те черты аморализма, какие впоследствии Сомерсет Моэм гиперболизировал в романе «Луна и грош» (где отдаленным прототипом героя является Гоген), и вместе с тем все искупающая воля к творческому подвигу, которая есть первая нравственная заповедь художника.
Ван Гог видел людей зорко, проницательно, находил для них определения, бьющие в самую сердцевину, и всегда стремился возвести личность к типу; подобно писателю, он способен был создавать образ человека. Он оставил навсегда запоминающиеся женские образы: униженной женщины – Христины; женщины, порабощенной предрассудками филистерской среды – Кее Фосс; женщины, сломленной средой, бессильно и поздно восставшей – Марго Бегеман. Двух последних Винсент никогда не портретировал карандашом или кистью, мы ничего не знаем о них, кроме того, что рассказано в письмах Ван Гога, но они в нашем представлении живут, как живет мадам Бовари или Жервеза Маккар.
К особенностям Ван Гога как писателя относится также любовь к притчам, иносказаниям, развернутым метафорам.
Склонность к притчам наиболее заметна у молодого Ван Гога. Она развилась под влиянием чтения Евангелия и ранний выход нашла в сочинении проповедей. Первая проповедь переполнена литературными реминисценциями (из Кристины Россетти, из Гейне), но в целом являет самостоятельный художественный рассказ – притчу на тему «Странник я на земле».
Прекрасной, глубоко трогательной притчей о птице в клетке, томящейся от желания и невозможности делать предназначенное природой, Ван Гог отмечал конец одного этапа своей жизни и предчувствие нового.
Став художником, свое эстетическое кредо он опять-таки излагает в форме аллегорической притчи – воображаемый диалог с Дамой, именуемой Красота и Возвышенность, которая происходит «не из лона живого бога и тем более не из чрева женщины», «леденит и превращает в камень». Ей противостоит другая – Дама Реальность: она «обновляет, освежает, дает жизнь» (п. Р-4),
Впоследствии Ван Гог редко прибегает к прямой форме притчи, но «притчеобразное», иносказательное, сохраняется в манере излагать мысли. В период своих религиозных экзальтаций он рьяно предавался благочестивому морализированию; вместе с разочарованием в религии пришло недоверие и даже отвращение к моральной дидактике: за ней ему виделось если не лицемерие, то душная ограниченность. Поэтому он отчасти охладел и к притчам, где почти непременным элементом является «мораль басни». «На мой взгляд, достоинство современных писателей в том, что в отличие от старых они не морализируют» (п. В-1). Впрочем, это не мешало ему по-прежнему любить Диккенса и даже Бичер-Стоу. Его антиморализаторская настроенность совсем не означала нравственного релятивизма, бесконечно чуждого его натуре. Просто он понимал, что как поэзия разлита во всей жизни, а не заключена в специально «поэтических» предметах, так и нравственные начала не укладываются в моральные прописи. Презираемая и осуждаемая моралистами проститутка может быть человечнее безукоризненной дамы, а грешный художник несет в мир больше добра, чем нетерпимый к грехам пастор. Добро, человечность, нравственность в их истинном, непрописном значении до конца оставались для Ван Гога «сияющим градом», куда брел «странник на земле». И он по-прежнему испытывал потребность как-то сформулировать для себя нравственные первоосновы, добыть крупицы «утешающей» истины из сложного и антиномичного жизненного опыта. Притчи все-таки сохраняли для него обаяние – не нравоучениями, но сгустками мудрости веков, сжатой в простых и компактных образах. В 1888 году он писал Бернару: «Христос, этот великий художник, гнушался писанием книг об идеях, но не пренебрегал живой речью, особенно притчами» (п. Б-8).
Влечению художника к притчам было родственно пристрастие к афоризмам. Найдя в книге поразивший его меткостью и емкостью афоризм, Ван Гог делал его своим спутником, как бы эпиграфом к очередной главе своей жизни. Так, вначале жизненным девизом для него было: «Печален, но всегда радостен в своей печали». Дальнейшая вереница избранных изречений: «Все время в гору этот путь ведет», «Религии проходят – Бог остается», «Любовь к искусству убивает подлинную любовь» и т. д.
В его собственных письмах постоянно возникали образные афористические формулы – лейтмотивы, к которым он снова и снова возвращался. В истории его любви к кузине лейтмотивом первой части был образ: кусок льда, который можно растопить, прижав к сердцу. А безнадежный исход этой любви рисовался в эпизоде с рукой, сожженной на свечке, – тоже притча, хотя и не вымышленная.
Как в работе над картиной Ван Гог испытывал постоянное желание определить для себя ее суть – «что я хочу выразить», – так и, рассказывая, он искал какого-то ключевого определения или метафорического резюме, концентрирующего в себе смысл сказанного. Среди его метафор и сравнений есть замечательные по свежести и смелости.
Шахтер – «человек из бездны». Ткач – «лунатик». Марго Бегеман – «скрипка кремонского мастера, испорченная неумелым реставратором». В Боринаже вид черных колючих живых изгородей на снежном фоне произвел на него «впечатление шрифта на белой бумаге», который «выглядит как страница Евангелия» (п. 127). Это прежде всего очень точно зрительно: ряды черного колючего кустарника на снежной равнине – столбцы букв на белом листе. Страница, открывшаяся перед приехавшим, – ее предстоит прочесть. Но тут еще и дополнительный штрих: она напоминает не просто страницу книги, а страницу Евангелия. Почему Евангелия? Потому что приезд в Боринаж означал начало евангелической миссии; потому что безлюдное днем шахтерское поселение выглядело больше средневековым, чем современным; потому что от него исходило внятное впечатлительному человеку веяние «бездны», угрюмых страданий, крестного мученичества. Наконец, еще и потому, что причудливо искривленные кусты зрительно больше похожи на стилизованный шрифт старинных молитвенников, чем на простой шрифт новых книг. Вот сколько смыслов вбирает в себя это сравнение, сколько ассоциативных нитей завязывает в единый узел.
Побитые морозом кочаны капусты сравниваются с женщинами в поношенных шалях, стоящими в очереди у лавчонки, где торгуют углем. Молодые всходы пшеницы напоминают о выражении лица спящего младенца. Ряды старых ветел – о процессии стариков из богадельни. Две хижины под одной крышей – о престарелой супружеской чете, доживающей свой век, поддерживая друг друга. В шелесте олив слышится «что-то очень родное, бесконечно древнее и знакомое», а «олеандры – те дышат любовью». Провансальские цикады – «те же, что и во времена так любившего их Сократа», и «стрекочут они здесь, конечно, на древнегреческом языке». Одобрив в стихах Бернара строчку о Распятии – «спиралью свитый на кресте», Винсент мимоходом подсказывает новый образ: «Почему бы не добавить, что тоскливый взор страдальца чем-то напоминает печальный взгляд извозчичьей лошади».
Ван Гог стремился реализовать в живописи приходившие ему в голову уподобления, но не всегда это оказывалось возможным. Многие имеют специфически литературную природу. Молодая пшеница, напоминающая о спящем ребенке, – это пластически непередаваемо.
Не все творческие потенции Ван Гога осуществлялись и могли осуществиться в живописи. То, что в нем было «заложено», живописью исчерпывалось не до конца. И в этом, вероятно, был также один из источников его нравственных страданий, его неудовлетворенности положением своим как живописца, и только живописца. Исключительная сосредоточенность на живописи не тяготила, а казалась самым желанным состоянием лишь до тех пор, пока Ван Гог верил, что это искусство обладает в принципе безграничными возможностями соучастия в жизни людей. После Парижа эта вера поколебалась: Ван Гог увидел, что пути широкой социальной общительности современной живописи закрыты. И тогда чаще и чаще мы встречаем у него горькие сетования на изоляцию художника от «нормальной жизни», на то, что мало-помалу он становится «машиной, производящей работу, непригодной и невосприимчивой ко всему остальному» (п. В-4). Так пишет он из Арля, находясь на высшем подъеме творчества. А из Сен-Реми пишет матери: «В настоящий момент моя работа идет хорошо, но, конечно, мысли мои, всегда сосредоточенные на красках и рисунке, вращаются в довольно узком кругу…» И добавляет: «…по правде говоря, мои товарищи художники тоже часто жалуются, что их ремесло действует отупляюще» (п. 619), – то есть не только его личные обстоятельства тут повинны.
Повинны обстоятельства социальные, не оставляющие художникам достойного места в системе общественных связей: это осознание было трагическим для Ван Гога. Но и это еще не все. Он не переживал бы так болезненно замкнутость художника на своем творчестве, если бы был по призванию только живописцем. На самом деле его призвание было шире. Неосуществленные, подавляемые потенции его личности оставались вне практической реализации.
Юношеское намерение стать проповедником не было чистым заблуждением: что-то в этой профессии действительно отвечало духовному складу Ван Гога, – только, конечно, не церковная догматика, не теология. Если бы он стал писателем, его литературные склонности нашли бы иное осуществление.
Проповедническая интонация, лишенная, впрочем, всякой высокопарности и поспешно сводимая на иронию, порой звучит в письмах – особенно в письмах к Бернару. Она оправдана и характером адресата, и своеобразием их дружеских отношений. Эмиль Бернар – художник и поэт, был намного моложе Ван Гога, который старался остеречь своего молодого друга от ухода в пустыню абстракций, от религиозного мистицизма, от пренебрежения реальностью (дальнейший художественный путь Бернара показал, как основательны были опасения Ван Гога на его счет). В письмах к нему он выступал убежденным проповедником «духовно здорового» искусства. Но не ограничивался риторикой. Он старался уяснить современную ситуацию – художник в окружающем мире, – обращался к истории, обнаруживая замечательную способность к анализу.
Именно Бернару Ван Гог высказал мысль, которая, в своей образно-афористической форме, могла бы быть эпиграфом к истории искусства рубежа веков: «Мы, художники, влюбленные в упорядоченность и симметрию, обособляемся друг от друга и в одиночку работаем над решением своей собственной и единственной задачи», «мы можем писать лишь атомы хаоса: лошадь, портрет, твою бабушку, яблоки, пейзаж» (п. Б-14). С Бернаром он делился размышлениями о «делании жизни» как высшем искусстве, указывая на «величайшего из художников» – Христа, который «не создавал ни книг, ни картин, ни статуй: он во всеуслышание объявлял, что создает живых бессмертных людей» (п. Б-8).
Послания Ван Гога к Бернару – настоящие философско-художественные трактаты. В них он выступает и выдающимся писателем, и тонким интерпретатором искусства старых мастеров. Странно, как могли люди, читавшие эти страницы, считать художественные вкусы Ван Гога незрелыми и «невоспитанными»! Впрочем, еще Мейер Грефе находил, что «о голландцах не сказано ничего лучше того, что имеется в его письмах»5. Содержащиеся в них характеристики Халса, Рембрандта, Вермера Делфтского – творческие портреты, написанные рукой мастера.
По-настоящему знаменитым Ван Гог стал лишь после частичной публикации его писем.
Впоследствии это обстоятельство многих смущало: казалось, что внимание публики завоевано сенсационностью писем и тем самым как бы отвлечено от основной ценности в Ван Гоге – от его живописи.
Некоторые авторы, писавшие о Ван Гоге, сознательно стремились исправить этот «перекос», доказывая, что «человеческая драма» имеет значение второстепенное для истории, и не так уж важно, как Ван Гог жил, какая судьба его постигла, о чем он размышлял и что писал в письмах, – важно то, что он создал: картины.
Да, Ван Гог создал около тысячи великолепных картин, и это самое главное. Но примечательная вещь: почему-то никому из пишущих о нем не удается сосредоточиться только на картинах, отвлекаясь от его писем. Хотя это совсем нетрудно сделать по отношению, например, к Клоду Моне или Сезанну, – а ведь и у них были свои «человеческие драмы». И дело не в том, что жизнь Ван Гога изобилует какими-то экстраординарными событиями: их не было, если не считать таковыми недолгий опыт миссионерства и болезнь, в которой, впрочем, тоже, если вдуматься, нет ничего необыкновенного. Ван Гог не совершал далеких путешествий, не воевал, не участвовал в политической жизни, не дрался на дуэлях, не предавался романтическим похождениям, не был замешан в каких-либо авантюрах. Он не подвергался гонениям, не знал настоящей нищеты – помощь брата неизменно выручала его. Он, в сущности, не был и так уж беспредельно одинок, как иногда представляют, – у него всегда были друзья, пусть и немного. Словом, то, что обычно производит «сенсацию» при рассказе о жизни художников, в его биографии и в его письмах отсутствует.
Присутствует в них дар писателя и мыслителя. Обнаруживаются те грани универсальной творческой личности, которые живописью исчерпаны не были, но проливают новый свет и на живопись Ван Гога. Если можно говорить о «заветах Ван Гога», то они, эти заветы, – не только в его картинах: они во всей совокупности того, что этот необыкновенный человек создавал, думал, говорил и писал.
Ссылки
1 В скобках указывается номер письма согласно нумерации, установленной в четырехтомном голландском издании писем Ван Гога. Эта же нумерация сохранена в русском переводе избранных писем, где буквы Б, В, Р соответственно означают письма к Бернару, Виллемине и Раппарду. См. Ван Гог. Письма. Л.; М., 1966.
2 Доде А. Собр. соч.: В 7 т. М., 1965. Т. 2. С. 179.
3 Русские писатели о литературном труде. Л., 1935. Т. 3. С. 339.
4 Huyghe Renй. Van Gogh. Paris, 1965. P. 12.
5 Грефе Мейер. Импрессионисты. М., 1913. С. 161.
.
Духовные искания Врубеля[24]
Он пришел в искусство в тихие, вяло текущие восьмидесятые годы XIX столетия, пришел с миссией «иллюзиоиировать душу, будить ее от мелочей обыденности величавыми образами» (его слова в одном из писем). Ничего величественного, тем более ничего демонического не было в житейском облике Михаила Александровича Врубеля, но его мощное дарование превышало его личность, скорее хрупкую и неустойчивую, под конец сломившуюся под тяжестью взятых задач. Произведения Врубеля ошеломляли и поначалу шокировали современников своей необычностью. Широкой публике они долго оставались неизвестными, так как не выставлялись; впервые о Врубеле заговорили, когда в 1891 году появились иллюстрации к Лермонтову, вызвавшие скандальную сенсацию. С тех пор известность художника росла, а отзывы о нем критиков располагались на широкой шкале – от «дикого декадентского уродства» до «дивных симфоний гения».
Массовое признание пришло только с началом душевной болезни Врубеля, пик популярности совпал с его смертью в 1910 году. Вместе с тем резче обозначилось одиночество художника, его непохожесть на других; мнения оставались разноречивыми. Великий талант Врубеля признавали уже все, но не могли решить, кем же он был – классиком или декадентом? вестником возрождения или вырождения искусства?
Время, как водится, все расставило по своим местам. Теперь Врубель сросся в нашем сознании с поэзией Лермонтова, с музыкой Римского-Корсакова, с русским сказочным фольклором. Он обрел свою нишу и вписался в традицию.
Но все же и сейчас его ниша мыслится обособленной, как бы в стороне от общего процесса. И сейчас Врубель остается человеком-легендой; странная красота его картин завораживает, в его фантастике есть какая-то гипнотическая убедительность.
Он был фантастом, но ведь не он один: из его старших и младших современников кто только не писал русалок, фей, сатиров, Мефистофелей, сказочных принцесс, подводные царства – даже Крамской и Репин, не говоря уже о Васнецове, отдавали дань таким сюжетам, а эстетика модерна и символизма целиком строилась на изображении диковинных химерических существ. Как ни странно, к корифеям неоромантизма Врубель не проявлял ни малейшего интереса. Как, впрочем, и к другим течениям века, в том числе к импрессионизму. Он любил монументальное искусство Византии, живопись венецианского Кватроченто, а более всего любил «вести беседы с натурой». Еще в годы ученичества он провозгласил своим кредо «культ глубокой натуры» и оставался верен ему всю жизнь. Именно культ натуры питал его воображение, формировал художественный язык и в конечном счете сообщал его живописи фантастичность – даже если изображался не былинный богатырь, а просто Савва Мамонтов в своем кабинете.
Художественные способности Врубель обнаруживал с раннего детства, постоянно много рисовал, копировал картины известных художников, но поступил в Академию только в возрасте двадцати четырех лет (в 1880 году), после того как получил университетское образование на юридическом факультете. Учился в Академии вместе с Валентином Серовым и подружился с ним. Оба на третьем году обучения начали заниматься в мастерской П.П. Чистякова. Эти занятия стали первой настоящей школой для Врубеля.
Много лет спустя Серов писал Чистякову: «Помню Вас как учителя и считаю Вас единственным (в России) истинным учителем вечных незыблемых законов формы – чему только и можно учить».
Чистяков обучал сознательному аналитическому подходу к рисованию и письму с натуры. Чистяков настаивал на первостепенном значении рисунка в живописи, выражая это так «Рисунок – мужская часть, мужчина; живопись – женщина».
Врубель стал в Академии убежденным чистяковцем. Писал сестре: «Основные его (Чистякова) положения… не что иное, как формула моего живого отношения к природе, какое мне вложено». Дело в том, что Врубель действительно видел в природе «формы, формы и формы», чеканные, бриллиантово ограненные, дифференцированные до бесконечности, – так был устроен его художнический глаз. Взгляд Врубеля улавливал ее планы, ее изгибы и выступы – в скомканной ткани, в лепестке цветка, в снежном сугробе. Вот почему его рисунок уподобляется скоплению кристаллов или мозаике драгоценных частиц. В Академии Врубель работал над большой акварелью «Натурщица в обстановке Ренессанса». «…C неделю тому назад вышел первый живой кусок, который меня привел в восторг, рассматриваю его фокус, и оказывается – просто наивная передача самых подробных живых впечатлений натуры… Я считаю, что переживаю момент сильного шага вперед».
Вот это и значило в понимании Врубеля «культ глубокой натуры» – не просто натуры, а «глубокой», то есть открывающейся углубленному взору, способному приникнуть к ней вплотную, найти там «целый мир бесконечно гармонирующих чудных деталей». Знаменитая «Жемчужная раковина» (одна из последних картин Врубеля) тоже не что иное, как «передача самых подробных впечатлений натуры», а вместе с тем – «это волшебство», как говорил сам художник. Красочные переливы перламутра так волшебны, что представляются жилищем морских царевен, – и Врубель их туда поместил. Причем, следуя заветам Чистякова о ведущей роли рисунка, утверждал, что тут весь секрет в сложности слоистой структуры перламутра, в ее мельчайших планах, и что он мог бы достичь эффекта красочности, не пользуясь красками, а только градациями темного и светлого, с помощью рисунка.
Таким образом, вполне рационалистический метод Чистякова, как это ни кажется парадоксальным, лег в основу стиля самого большого фантаста и романтика русского искусства. Конечно, в «кристаллизации» видимых форм Врубель пошел дальше, чем учил Чистяков, претворил ее в орнаментальность, одухотворил. Но как раз чистяковская «система» и помогла ему «найти заросшую тропинку к самому себе», как он выражался. Без личностной «призмы» не бывает художественного творчества, но оно требует и «культа натуры», чей словарь неисчерпаем. Врубель считал себя реалистом, постигающим законы природных формообразований. Сами природные формы могут выглядеть фантастичными и давать пищу воображению. Не фантастичны ли обитатели морских глубин – рыбы, моллюски, кораллы? оперение павлина, крылья лебедя? россыпи минералов, драгоценные камни, скалистые хребты, догорающие угли в камине? А глаза человеческие – разве не чудо? Обращать особенное внимание на глаза – это тоже советовал Чистяков: «Глаза, зрачки напишите во всю мочь, чтобы были как живые, остальное посвободнее». Перед портретом, который ему особенно нравился, он восхищенно восклицал: «Глядит!»
Многие персонажи Врубеля глядят, по выражению одного автора, «выпуклым огромным взором». Глаза он писал действительно «во всю мочь» и обычно в последнюю очередь, после того как лицо нарисовано и отделано и глазное яблоко вылеплено – а зрачка все еще нет. (Некоторые незаконченные портреты-рисунки так и оставались без зрачка, например портрет Серова.) Взор животворит, он зеркало души и должен вспыхнуть, когда тело готово для жизни, не раньше.
Простые наброски с натуры, карандашом или акварелью, которые Врубель делал как бы мимоходом, на клочках бумаги, иной раз обладают не меньшим очарованием, чем большие панно. Часты изображения цветов, реже – букетов, чаще всего – одного цветка: белая азалия, розовая азалия, орхидея, роза, ирис… Никакой приблизительности: так прослежена их изысканная структура, что каждый цветочек словно возведен в перл создания. Азалии и розы кажутся «жилицами двух миров» – и того сада с клумбами, что за окном, и вместе с тем какого-то таинственного и прекрасного райского сада.
Поэтому так органична фантастика Врубеля. Умея разглядеть нечто волшебное в реальном, он мог и в волшебном увидеть реальное. Его «Лебедь» – большая птица, притаившаяся в камышах, – готов превратиться в сказочную царевну, а «Царевна-Лебедь» – обернуться той самой птицей. «Пан» чувствует себя как дома в притихшем вечернем лесу; он как бы весь из земли, древесной коры и корней; может быть, он не что иное, как оживший заросший мхом пень, у которого вдруг завиваются рожки и отделяется корявая рука, сжимая цевницу. Более подлинного, «естественного» и одновременно колдовского лешего, кажется, и представить невозможно.
Но Врубель не только великий сказочник. Нельзя думать о нем как о талантливом фантазере, который, во всеоружии своей удивительной «техники», писал то демонов и ангелов, то леших и русалок, то сказки Шехерезады, то героев греческой мифологии, смотря по тому, что предпочитают заказчики. Нет, он был из тех, кто «духовной жаждою томим», подобно его предшественнику Александру Иванову. Правда, в отличие от Иванова он много разбрасывался, расточая свой дар, но руководили им высокие помыслы. Он хотел будить сердца образами масштабными, захватывающими в свою орбиту проблемы духовной жизни. Еще в университете Врубель, мало интересуясь юриспруденцией, серьезно занимался историей философии, особенно выделял Канта. В Академию он поступил, будучи хорошо образованным (как редко кто из художников) и, что важнее, широко мыслящим человеком, и это не могло не сказаться на его понимании высших целей искусства.
Краткую и точную характеристику Врубеля мы находим в воспоминаниях самого близкого ему человека – его сестры: «Он был абсолютно аполитичен, крайне гуманен, кроток, но вспыльчив. К религии его отношение было таково, что, указывая на работу, которая поглощала его в данное время, он сказал как-то: “Искусство – вот наша религия; а впрочем, – добавил он, – кто знает, может, еще придется умилиться”. Его девиз был “Il vera nel bella”» («Истина в красоте»).
Как ни разнообразны сюжеты и мотивы Врубеля, можно заметить, что на каждом этапе его творческой биографии они группируются вокруг какой-то главной внутренней темы. Потом начинает преобладать другая. И в этой смене ведущих образов отражались духовные поиски художника и, соответственно, повороты в его миросозерцании.
Обучаясь в Академии, Врубель еще только готовился к творчеству, вырабатывая и совершенствуя художественный язык, на котором ему предстояло говорить. Заговорил же по-настоящему он уже в Киеве. Переезд в 1884 году в Киев произошел неожиданно, как дар судьбы. Историк искусства профессор А.В. Прахов попросил своего старого друга Чистякова рекомендовать ему какого-нибудь способного молодого художника для участия в реставрации фресок Кирилловской церкви (XII век) – одного из уникальных памятников Киевской Руси. Чистяков указал на Врубеля как на самого способного своего ученика.
Помимо восстановления и дописывания древних фресок, находившихся в плохой сохранности, Врубель написал на стенах Кирилловской церкви несколько фигур ангелов, голову Христа, голову Моисея и две новые композиции – огромное «Сошествие Святого Духа» на хорах и «Оплакивание» в притворе. Затем ему были заказаны образа для иконостаса – для исполнения этой работы он уезжал в Венецию, где провел почти полгода. Вернувшись в Киев, работал над эскизами росписей для нового, только что построенного Владимирского собора. Эскизы приняты не были, Врубелю предоставили только орнаментальные росписи в боковых приделах храма. В 1889 году он уехал из Киева в Москву; думал, что на короткое время, оказалось – навсегда. Все переломы его судьбы совершались внезапно.
С внешней стороны годы, проведенные в Киеве, выглядели довольно сумбурно. Периоды благополучной жизни в гостеприимной семье Праховых, позже – Тарновских чередовались с лихорадочными загулами – порывами «к хмельному кубку жизни», как Врубель это называл; временами он жестоко бедствовал, приводя в ужас отца, который приезжал его проведать. Отец сокрушался: сыну уже 30 лет, подавал такие блестящие надежды – и «до сих пор ни имени, ни выдающихся по таланту работ и ничего в кармане»; «Прахов говорил, что у Миши таланту бездна, но воли – решимости докончить картины – на алтын, и в этом вся беда».
Вероятно, причина была не в отсутствии воли, а в другом: в избытке воли, направленной на постоянные поиски ускользающего идеала. Для Врубеля главное значение имел процесс работы, а не готовый результат. Он не берег своих произведений – начинал, не оканчивал, заново переписывал, раздаривал, уничтожал. Его киевские знакомые вспоминали, как им случалось, придя в мастерскую Врубеля, обнаружить исчезновение только вчера виденной картины, – оказывается, на том же холсте написана другая. Вчера был «Христос в Гефсиманском саду», восхитивший киевского мецената Терещенко, сегодня поверх него написана цирковая наездница. Потом и наездницы не стало. Терещенко заказал Врубелю картину «Восточная сказка», художник работал над ней долго, но потом уничтожил, а акварельный эскиз принес в подарок жене Прахова Эмилии Львовне, в которую был платонически влюблен; когда она отказалась принять такой ценный подарок, он тут же разорвал лист на части (потом его склеили и сохранили). Небрежное обращение со своими вещами оставалось характерным для Врубеля и впоследствии – вплоть до последней его работы над портретом Валерия Брюсова. Его всегда сжигало творческое нетерпение, работа была для него потоком льющейся энергии.
Он покидал Киев, не завоевав «имени», таким же неизвестным широкой публике, каким был по приезде. А между тем он за это время не только достиг творческой зрелости, но создал шедевры – к ним можно без колебаний отнести икону Богоматери для иконостаса Кирилловской церкви и акварельные эскизы для Владимирского храма. Но тогда они прошли незамеченными.
Встреча с древним византийским искусством – и в Кирилловском храме, и в Софии Киевской – дала Врубелю очень много. В нем пробудился монументалист. С. Яремич записал его высказывание: «Главный недостаток художника, возрождающего византийский стиль, заключается в том, что складки одежды, в которых византийцы проявляют столько остроумия, он заменяет простыней. Византийской живописи чуждо понятие рельефа. Вся суть в том, чтобы при помощи орнаментального расположения форм усилить плоскость стены». Этот принцип Врубель потом применял и в декоративных панно, и в станковых картинах, применял своеобразно. Он избегал развертывать пространство картины в глубину, а стягивал его к двум измерениям, чтобы не прорывать плоскость, однако не отказывался от сильной пластической лепки первопланных фигур. В сжатое, почти лишенное глубины пространство он помещает объемные тела – и создается впечатление, что это исполины, которым тесно в мире; тем усиливается драматическая напряженность (так в «Демоне», «Микуле Селяниновиче», «Испании», «Венеции»).
Пребывание в Венеции, где Врубель изучал средневековые мозаики Сан-Марко и произведения мастеров Кватроченто (ему особенно полюбился Джованни Беллини), обогатило его палитру, дало ей звучность. Отсюда берут начало знаменитые врубелевские соцветия – сине-лиловое, золотое, дымно-розовое, вишнево-красное. Четыре большие иконы, созданные в Венеции, – Христа, святых Кирилла и Афанасия, Богоматери, – великолепны по краскам, но в трех первых лики написаны традиционно, без воодушевления, зато Богоматерь – одно из самых одухотворенных созданий Врубеля. Написана Она на золотом фоне, в одеянии глубокого бархатистого темно-красного тона, подушка на престоле шита жемчугом, у подножия – нежные белые розы. Она не склоняется к Младенцу, а сидит очень прямо, держа Его перед Собой – строгий иконографический тип Печерской Божьей Матери. Лицо необыкновенно. В нем сохранено сходство с карандашным портретом ЭЛ. Праховой – любовью Врубеля. Лицо вещей странницы: расширенные светлые глаза словно проникают в грядущее с выражением вопрошающим и скорбным.
Общение со старинным искусством имело для Врубеля еще одно важное последствие: оно облагородило его экспрессию, сделало ее возвышенной и строгой. Внутреннее состояние, даже предельно напряженное, выражается с благородной сдержанностью. Врубелевские герои никогда не жестикулируют, их позы статичны, движения рук сведены к неким лаконичным пластическим формулам: сжатые или поднесенные к сердцу руки апостолов в «Сошествии Святого Духа», повелевающая вытянутая рука шестикрылого серафима, руки, опущенные со сцепленными пальцами у сидящего Демона, стиснутая в кулак рука Мамонтова… Контраст между лаконизмом жеста и силой скрытого за ним переживания делает образы Врубеля особенно впечатляющими.
Подлинная стихия его картин – молчание, тишина, которую, кажется, можно слышать, как музыку. В молчание погружен его мир. Он изображает чувства, не выразимые словами, молчаливый поединок сердец, взглядов, глубокое раздумье, безмолвное духовное общение; мгновения, остановленные на том пределе, когда слова не нужны.
Все это есть и в «Сошествии Святого Духа», и особенно в эскизах «Надгробного плача» для киевского Владимирского собора. Они сохранились в четырех вариантах, во всех только две фигуры – Матери и мертвого Христа (в четвертом варианте введены еще фигуры ангелов по сторонам). Нет бурных проявлений горя – ни рыданий, ни заломленных рук, все сосредоточено в «выпуклом огромном взоре» Матери, обращенном к Сыну с немым вопросом о тайне смерти. Сильнее всего это выражено во втором варианте, где нет никаких аксессуаров и оба лица даны в профиль. Этот эскиз завершен в цвете: синяя гамма – от черно-синего, как грозовая туча, к зеленовато-синему, зеленовато-голубому, разрешающемуся в белом с прозрачными голубыми тенями. Примерно такое же цветовое решение и в фигуре ангела со свечой и кадилом. Должно быть, Врубель мыслил всю роспись храма в этом цветовом ключе.
Не менее замечательны эскизы к «Воскресению Христа». Сюжет трактован необычно: Христос восстает из разверзнувшегося гроба с белыми созвездиями цветов, Его окружает и пронизывает радужное сияние, но тело и лицо еще мертвые, как бы окоченелые, и смотрит Он неживым взором. Узы смерти не отпускают Его.
По художественному строю эскизы Врубеля в чем-то близки библейским эскизам Александра Иванова. Похожа и их судьба: ни тем ни другим не пришлось претвориться в монументальные росписи. Почему не были приняты эскизы Врубеля – осталось не совсем выясненным. Как бы ни было – их трудно представить соседствующими на стенах с композициями Васнецова, Нестерова, тем более Сведомских и Котарбинского: слишком велики были бы и стилистический разнобой, и разница во внутреннем содержании. Вероятно, Прахов был прав, говоря, что для врубелевских эскизов надо было бы и весь собор построить «совершенно в особенном стиле».
А что, если бы такой собор действительно построили (вообразим невозможное) и стены его расписал Врубель? Наверно, это был бы храм, какого на Руси никогда не бывало, храм агностиков, скептиков, атеистов-богоискателей – словом, носителей умонастроений русской интеллигентной элиты середины и конца века. Лучшие ее люди не были, за немногими исключениями, законченными позитивистами, но в большей своей части не были и правоверными христианами. Нерассуждающую веру, «простую веру» образованная часть общества утратила, установленные обряды и ритуалы исполнялись формально.
Однако для мыслящих людей, и особенно для творческой интеллигенции, Библия оставалась «книгой книг», собранием мудрых символов.
На евангельские тексты проецировались современные нравственные проблемы; об этом свидетельствуют произведения Ге, Крамского, Антокольского, Поленова. Русские передвижники были своеобразными богоискателями. Но, конечно, их картины на религиозные темы далеко отстояли от канонических интерпретаций и для убранства храмов не подходили. Художники это понимали. Еще Александр Иванов хотел, чтобы его будущие библейские композиции помещались не в церкви, а в специально для них отведенном здании. Суриков, Поленов, Репин, которым Прахов предлагал участвовать в росписи Владимирского собора, – отказались. Согласился и взял на себя общее руководство В. Васнецов, человек глубоко верующий.
Врубель таковым не был. Его религией было искусство, храмовые ансамбли притягивали его как художественные произведения: в них достигался синтез искусств, в них господствовал величавый гармонический лад. Послужить созданию нового храма значило для Врубеля служить искусству, а не богословию. Но в разведении этих понятий крылось противоречие, которое художник замечал. «Рисую и пишу изо всех сил Христа, а между тем – вероятно, оттого, что вдали от семьи, – вся религиозная обрядность, включая и Христово Воскресение, мне даже досадны, до того чужды» (из письма к сестре). То есть он попросту не мог верить в того Христа, которому молятся в церкви, поправшему смертью смерть. У него получался какой-то совсем другой образ в эскизах к «Воскресению».
Заветной темой Врубеля, к которой сходились все нити его киевских работ, стал в ту пору Демон, существо гордое и непокорное. Над «Демоном» художник трудился напряженно и увлеченно, без всяких заказов, только для себя. Ни один из киевских «Демонов» не сохранился, хотя их было несколько, в том числе в скульптуре; Врубель их не доканчивал и уничтожал. Многие их видели, и сам художник в письмах к сестре постоянно упоминал о работе над «Демоном» как о самой для него важной.
Как понимал Врубель этого своего героя, передавал с его слов А.В. Прахов. «Он утверждал… что вообще Демона не понимают – путают с чертом и дьяволом, тогда как “черт” по-гречески значит просто “рогатый”, “дьявол” – “клеветник”, а “демон” значит “душа” и олицетворяет собою вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе». Можно добавить строки из письма отца Врубеля, видевшего в мастерской сына начатый холст: «Миша говорит, что демон – это дух, соединяющий в себе мужской и женский облик. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем этом дух властный, величавый».
Что «Демон» Врубеля при первом своем возникновении подсказан поэмой Лермонтова, сомнений нет. (Врубель был «литературным» художником, в том смысле, что почти все свои сюжеты черпал из произведений мировой литературы, давая им новую жизнь оригинальной трактовкой.) Труднее понять, почему этот образ так захватил его именно в то время, когда он работал для Церкви. Тут можно только строить догадки. Возможно, первым импульсом обращения к Демону было душевное смятение Врубеля, связанное с любовью к женщине, жене его патрона и покровителя, матери семейства, – любовью благоговейной и грешной, уживающейся с одновременным необузданным увлечением какой-то заезжей циркачкой. Он и в самом деле «не находил примирения обуревающих его страстей», терзался сомнениями, задавался вопросами, остававшимися без ответа. Его блуждания в «трущобах сердца», его личные переживания в творчестве приобретали сверхличный смысл. Смысл требовательного вопрошания, обращенного к некой высшей силе, цели которой непостижимы, а мятежный человеческий дух не может смириться с отказом от их познания. Но, бросая вызов Творцу, Демон оказывается отторгнутым и от Его творения, обреченным на одиночество во Вселенной.
Лишь только Божие проклятье Исполнилось, с того же дня Природы жаркие объятья Навек остыли для меня…У Лермонтова Демон, хотя и страдающий, все же «царь познанья и свободы». В Демоне Врубеля нет царственности, в нем больше тоски и тревоги, он исполнен или глубокой печали, или – угрюмого ожесточения. Оба эти облика, чередуясь, снова и снова возникают; на холсте, в глине, на обрывках бумаги снова и снова появляется незабываемое лицо: узкий овал, косматая львиная грива, излом бровей, трагический рот. То он бросает на мир исступленный ненавидящий взор, то «похож на вечер ясный – ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», то становится жалок.
Первые два года после переезда в Москву были почти целиком посвящены теме Демона: в 1890 году написан «Демон сидящий», в 1891-м исполнены иллюстрации к сочинениям Лермонтова. Художник писал сестре: «Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, второго я напишу еще со временем, а “демоническое” – полуобнаженная крылатая молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, в которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами». Сидящий Демон печален и незлобен. Передано то состояние души, когда охватывает чувство бесконечного одиночества и кажется, что ты отгорожен от живого мира непроницаемой стеклянной стеной. Цветы вокруг Демона – каменные: художник подсмотрел их формы и краски в изломах горных пород. Окаменели и облака. Могучая, мощно вылепленная фигура cropбилась, бессильно поникла. По выражению пронзительной грусти в лице, в глазах, по совершеннейшей пластике, по силе общей концепции картина эта – одна из вершин искусства Врубеля.
Видимо, с ней как-то связан прекрасный рисунок, который в каталогах назван «Головой ангела». Он сделан на обороте одного из эскизов «Воскресения» (может быть, исполнен еще в Киеве). Из глубокого свето-теневого фона выступает лик удивительной красоты, строго и кротко задумчивый. Ангел или Демон? Черты лица очень сходны с «Демоном сидящим». Да ведь и Демон, согласно легенде, – ангел, восставший против Бога, Люцифер или Денница, «утренняя звезда».
У Врубеля демон порой похож на ангела, а в ангелах есть «демоническое»: посмотрим на лицо ангела со свечой и кадилом или на сумрачного ангела из «Воскресения». Вообще что-то грозное и тревожное сквозит в киевских работах Врубеля, даже в убранстве Кирилловской церкви – суровый лик Моисея, фигуры ангелов с лабарумами, написанные взамен несохранившихся древних росписей. Кажется, только в иконе Богоматери ничего демонического нет: это образ того «вечно-женственного», что, по словам Гёте, возносит нас ввысь. Однако и в Ее взоре читается, как и в эскизах «Надгробного плача», скорбный вопрос: не о том, что будет (это Она видит), а – зачем будет?
«Девочка на фоне персидского ковра» (портрет дочери владельца ссудной кассы в Киеве), нарядная, увешанная драгоценностями, как принцесса из восточной сказки, – и она глядит тревожно и грустно, и белая роза почти падает из ее детской руки, отягощенной перстнями.
…Многое изменилось с переездом в Москву. Врубель встретился со старыми товарищами – Серовым, Коровиным, через них познакомился с С.И. Мамонтовым, владельцем знаменитого Абрамцева. Даровитый самородок, человек кипучей энергии, Мамонтов обладал безошибочным чутьем на таланты. Он сразу оценил талант Врубеля, и уже через два месяца тот поселился в его доме, стал непременным участником абрамцевского кружка, где кроме него работали В. Васнецов, Поленов, К. Коровин, Серов, Головин. На произведения Врубеля появился спрос, стали поступать заказы на декоративные панно от богатых москвичей. Перемена образа жизни обновляет – в атмосфере постоянного общения с художниками, соревнования, конкуренции, Врубель ожил, как бы помолодел. Отошли наваждения киевских лет, а с ними был надолго отложен и замысел «Демона».
Но на втором году московской жизни художник вновь встретился со своим роковым героем. Издательство Кушнерева, где главная роль принадлежала П.П. Кончаловскому, с которым Врубель также сблизился, заказало ему иллюстрации к собранию сочинений Лермонтова – к нескольким произведениям, в том числе к «Демону». Как уже сказано, они произвели в публике переполох, но положили начало широкой известности их автора.
В этих листах достигает высшей точки мастерство Врубеля-графика. Исполненные черной акварелью с добавлением белил, они создают впечатление богатой красочности. Вот лист «Пляска Тамары»: нужно необыкновенное искусство, чтобы так передать, не прибегая к помощи красок, эффект пестрых вышивок, узорных ковров, цветных галунов, лент – всего праздничного сверкания восточной пляски. Выражать цвет одними градациями черно-белой гаммы, фиксирующими тончайшую структуру предметов, – эту задачу Врубель ставил сознательно и не имел себе равных в технике монохромного рисунка, как и в технике акварели. Среди иллюстраций к «Демону» есть подлинные шедевры: скачущий конь с мертвым всадником, лик Тамары в гробу, голова Демона на фоне скал. Великолепны по исполнению и листы, изображающие Демона в келье Тамары, но… в облике искусителя появляется привкус театральности, оперности эффектно ниспадающая хламида, голое плечо, даже как будто следы грима на лице (лист «Не плач, дитя»). Образ не столько прочувствованный художником, сколько навеянный оперой Рубинштейна. И совсем неудачны композиции «Демон у стен монастыря» и «Демон побежденный», где ангел уносит душу Тамары, – здесь Врубель неожиданно возвращается к утрированной экзальтации своих юношеских работ.
По-видимому, Демон перестает безраздельно владеть воображением художника – киевский период заканчивается. Из письма к сестре: «…Мания, что непременно скажу что-то новое, не оставляет меня <…>. Одно только для меня ясно, что поиски мои исключительно в области техники. В этой области специалисту надо потрудиться; остальное все сделано уже за меня, только выбирай». И он выбрал, о чем говорится в одном из писем: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада».
Иными словами, теперь Врубеля влечет национальный романтизм. В этом он не был одинок воскрешением русских народных традиций в искусстве тогда увлекались многие. Но для Врубеля «музыка цельного человека» была антитезой Демона. Трагедия врубелевского Демона – это, в сущности, трагедия рефлексирующего интеллекта, потерявшего веру и не нашедшего пути к истинному познанию. А персонажи народного эпоса не задаются неразрешимыми вопросами, они сама природа, их бытие погружено в бытие космического целого, от которого они себя не отделяют; вот она – музыка цельного человека.
Но прошло еще несколько лет, прежде чем Врубель на этой теме сосредоточился и в нее углубился. Эти несколько лет, примерно с 1892-го по 1898 год, чем он только не занимался: и керамикой, и театральными декорациями, и архитектурой, и всевозможными декоративными работами, и писал громадные панно с аллегорическими фигурами, и расписывал плафон в театре, и сочинял костюмы для актеров. Уловить «национальную ноту» ему удавалось в орнаментах – по его проектам изготовлялись красивейшие узорные изразцы для облицовки каминов, – но в сюжетах, да и в стилистике панно и скульптур эта нота еще не звучала. Сильнее чувствовались отзвуки ренессанса, готики, Античности, переплавленные в котле богатой фантазии. Ни к религиозным сюжетам, ни к Демону Врубель в эти годы не возвращался.
В абрамцевском кружке Врубель проявил себя почти идеальным художником-универсалом ренессансного типа, способным на любую художественную работу – архитектора, гончара, живописца, костюмера. Он умел решительно все. Актером, правда, не был, но был очень музыкален, а потому приносил пользу и оперному театру Мамонтова. А.Я. Головин вспоминал: «Все, что бы ни сделал Врубель, было классически хорошо. Я работал с ним в абрамцевской мастерской Мамонтова. И вот смотришь, бывало, на его эскизы, на какой-нибудь кувшинчик, вазу, голову негритянки, тигра – и чувствуешь, что здесь “все на месте”, что тут ничего нельзя переделать».
Да, во всем, что выходило из рук Врубеля, виден артистизм большого мастера. И все же период «универсального» творчества – не лучший его период. «Служенье муз не терпит суеты», а на работах того времени есть налет суетности – разбросанности, спешки, погони за модой. Ничего подобного не было в киевских вещах – там Врубель жил вдали от многоголосья художественной жизни конца века и отдавался своим одиноким поискам, созерцая только величавые памятники старины. Москва его закружила, втянула в сложные отношения с заказчиками, которым приходилось угождать, чтобы с ними не ссориться. Характеру Михаила Александровича не чужды были слабости, простительные рядовому человеку, но для великого таланта опасные: он сам в порыве откровенности называл себя «флюгероватым». Почти забросил работу с натуры, заменяя ее работой с фотографий. В некоторых вещах появляется манерность, какая-то неприятная изысканность, мельчится понятие красоты. Известная беглость и приблизительность становится свойственна и его технике; в панно «Фауст» характерное для Врубеля расчленение формы на планы упрощено и несколько напоминает аппликации.
Именно этот этап творческой биографии Врубеля дает повод считать его типичным художником модерна и даже создателем стиля модерн на русской почве. Впрочем, искусство Врубеля в целом выходит далеко за рамки модерна, сближаясь с ним лишь «по касательной» и ненадолго. Художник такого масштаба и не может быть «типичным представителем» какого-либо стиля или направления, он единствен в своем роде и неповторим.
Чтобы не разменять на частности свой редкостный дар, Врубелю нужен был духовный стержень – центр притяжения. В середине 90-х годов он вплотную подходит к теме «цельного человека», связанной в его представлении с образами русской старины. (Врубель был поляк по отцу, по матери – наполовину датчанин, наполовину русский из рода Басаргиных, имевшего примесь татарской крови; целый букет различных национальностей.) При содействии Мамонтова Врубель получил заказ на два больших панно для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде; темы выбрал сам художник. По воспоминаниям Н.А. Прахова (сына AB. Прахова), он сказал, что «напишет на одной стене “Принцессу Грезу”, как общую всем художникам мечту о прекрасном, а на противоположной – “Микулу Селяниновича”, как выражение силы земли русской». Так он объединил свои две заветные идеи.
Известна нашумевшая история с этими колоссальными по размеру панно. Их отвергло академическое жюри; Мамонтов соорудил для них отдельный павильон на выставке, в который хлынула толпа посетителей; слышались и крики негодования, и возгласы восторга. Драматические перипетии этого события взволновали художника меньше, чем можно было ожидать; в этом же 1896 году с ним произошло событие более важное: он познакомился с певицей Надеждой Ивановной Забелой и вскоре на ней женился. С первого взгляда, с первого звука ее голоса, услышанного на репетиции оперы-сказки «Гнезель и Гретель», Врубелю стало ясно, что она та, кого он ждал всю жизнь, почти как трубадур Жоффруа в пьесе Ростана всю жизнь воспевал Принцессу Грезу, еще не видя ее.
Супружество Врубеля и Забелы было подлинно гармоническим в течение по крайней мере пяти лет, пока не разразилась беда, и для обоих эти пять лет стали временем творческого подъема. Забела стала музой Врубеля, а вскоре и вдохновительницей композитора НА. Римского-Корсакова. Все обаяние ее таланта раскрывалось в исполнении партий в его операх – Волховы в «Садко», Снегурочки, Царевны-Лебеди в «Сказке о царе Салтане», Марфы в «Царской невесте». Две последние партии композитор писал специально для Забелы, в расчете на ее голосовые и артистические данные.
Вместе с женой Врубель вошел в мир музыки Римского-Корсакова. «Я благодаря Вашему доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду», – писал он композитору.
Из воспоминаний Н.И Забелы: «Мне пришлось петь Морскую Царевну около 90 раз, и мой муж всегда присутствовал на спектаклях. Я даже как-то спросила его: “Неужели тебе не надоело?” “Нет, – отвечал он, – я могу без конца слушать оркестр, в особенности море. Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона…”».
Эти тона (Забела называет их перламутровыми, А.П. Иванов – опаловыми) с тех пор преобладают в палитре Врубеля. То вспыхивающие, то приглушенные, они царят в прекрасных больших акварелях «Морская Царевна», «Тридцать три богатыря», в окраске майоликовых скульптур, которые теперь изображают Снегурочку, Леля, Купаву, Садко, Весну, сказочного царя Берендея. Девичьи образы, «тающие и ускользающие», почти всегда имеют сходство с Забелой.
В эти годы созданы и картины-сказки, памятные всем, кто хоть раз был в Третьяковской галерее: «Пан», «Сирень», «К ночи», «Царевна-Ле-бедь». Лучшие портреты также относятся к этой поре: и портрет неукротимого, властного С.И. Мамонтова, достойный кисти Веласкеса, и портрет жены в платье ампир с лорнетом в руках, напоенный светом, воздушный, полный тонкого очарования.
Но в эти же годы – последние годы века – в России нарастает социальное напряжение. Искусство Врубеля как чуткая мембрана реагирует на глухие подземные толчки. Не прямо – Врубель был совершенно равнодушен к политике и нисколько не сочувствовал начинавшимся студенческим волнениям, – но предчувствия надвигающейся грозы уводят его как художника из идиллической страны берендеев. И снова встает перед его мысленным взором Демон – мятежный дух, уже в изменившемся обличье. Теперь он видится художнику не олицетворением мятущейся человеческой души, а некой надчеловеческой или сверхчеловеческой силой. Сначала Врубель хотел изобразить его в полете над пропастями и кручами земли. Сохранился большой неоконченный холст «Летящий Демон». Лицо дано крупно и более всего законченно – но какое холодное, мрачное лицо! Как оно изменилось по сравнению с «Сидящим Демоном», трогательно печальным и задумчивым… Новый Демон не печален, а грозен – и все же создавалось впечатление, что он летит навстречу гибели. Художник решил написать его поверженным, но и в своем падении не сдавшимся.
Мотив «Демона поверженного», по-видимому, почерпнут из Ветхого Завета. В книге пророка Исайи есть место, где гибель царя Вавилонского уподоблена падению Люцифера. «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “…взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой <…>. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14: 12–15).
Врубель работал над «Демоном» лихорадочно, с небывалым еще напряжением. Сестра его жены, Екатерина Ивановна Ге, записывала в дневнике: «Вкусы его артистические совершенно переменились, теперь он презирает художников, которые не интересуются смыслом, даже словами, а прежде он признавал только искусство для искусства». Изменился характер: «вместо прежней ласковости и незлобивости теперь он раздражался, не терпел противоречия и сердился». Прежде молчаливый, теперь говорил без умолку, не стесняясь, стал крайне самоуверен: это были уже признаки надвигающейся болезни. Способность к творчеству его не покидала, «даже как будто росла, но жить с ним уже делалось невыносимым». Е.И. Ге сравнивает состояние Врубеля с машиной, в которой нет тормозного рычага, «и она летит с головокружительною быстротой и исполняет больше работы, чем когда-нибудь, но недолго, так как все в ней стирается и ломается. И странное дело, сумасшедшему Врубелю все, больше чем никогда, поверили, что он гений, и его произведениями стали восхищаться люди, которые прежде не признавали его».
Болезнь Врубеля таинственна: диагнозы врачей так же расходились между собой, как суждения критиков о его картинах. Во всяком случае, она имела какую-то внутреннюю связь с творческими поисками художника: его слабая человеческая натура не выдерживала напряженности этих поисков. «Демон» был не прямой причиной болезни, но ее катализатором, ускорителем. Были, конечно, и другие ускорители – озлобленные поношения за «декадентство», которые усиливались вместе с ростом славы. Масла в огонь подлила статья Льва Толстого «Что такое искусство», появившаяся в 1898 году. Хотя в ней не было ни слова о Врубеле, он воспринял парадоксальные высказывания великого писателя как поругание всего, что ему было дорого, чему он служил всю жизнь. Он был паладином красоты – а Толстой подвергал сомнению само понятие красоты как расплывчатое, темное, только мешающее ясному взгляду на вещи. Врубель видел в искусстве нечто поднимающее над обыденностью – а Толстой призывал искусство «опроститься», стать доступным всем без исключения; то, которое доступно лишь узкому кругу, Толстой называл вредным, так как оно усиливает разъединение людей, вместо того чтобы их объединять. Наконец, Толстой с убийственной иронией отозвался о предметах, которые принято считать «поэтическими» (девы в белых одеяниях, охотники в шляпах с перьями, лунный свет, море и пр.) и упомянул в этой связи «Принцессу Грезу» Ростана, в которой, по его мнению, нет ни грана поэзии. А Врубель именно «Принцессе Грезе» посвятил свое программное произведение, так что сарказмы Толстого воспринимались им почти как личное оскорбление.
Свою позицию по отношению к искусству Лев Толстой обосновывал своим пониманием христианства. И то и другое слилось воедино в возбужденном уме Врубеля: он восстал против толстовских, а заодно и христианских идей (тогда Толстой еще не был отлучен от Церкви известным постановлением Синода). В противовес им он увлекся (ненадолго) философией Ницше, зовущей к «сверхчеловеческому», – в этом ключе ему мыслился патетический образ Демона. В 1901 году Н.И. Забела писала Римскому-Корсакову: «Демон у него совсем необыкновенный, не лермонтовский, а какой-то современный ницшеанец».
В том же 1901 году у Врубелей родился первенец – мальчик, названный Саввой. К этому событию они радостно готовились и радостно его встретили. Ребенок был мил и даже красив, если бы не раздвоенная «заячья» губа. В разгар работы над «Демоном» Врубель написал большой акварельный портрет шестимесячного сына в колясочке. Художнику не суждено было оставить потомство: маленький Савва прожил на свете меньше двух лет. Однако он был еще жив и здоров, когда трагическая судьба настигла его отца. В первые месяцы 1902 года жена художника, а вскоре и другие стали со страхом замечать у него симптомы уже несомненного психического расстройства.
Казалось, Демон теперь больше владел им, чем он – Демоном. Врубель не мог остановиться, работая над картиной, писал и переписывал без конца. Е.И. Ге вспоминала: «В это время картину “Демон” перевезли в Петербург для выставки “Мира искусства”, и Михаил Александрович, несмотря на то что картина была уже выставлена, каждый день с раннего утра переписывал ее, и я с ужасом видела каждый день перемену. Были дни, что “Демон” был очень страшен, и потом опять появлялись в выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота…»
Многие посетители выставки видели этот отчаянный поединок художника с собственным творением. Тот вариант, на котором поединок оборвался и дух художника изнемог, представляет Люцифера побежденным и жалким: некогда могучие руки стали плетьми, тело деформировано, крылья разметаны, рот мучительно искривлен, взор как у загнанного зверя. Но сверкал венец, розово сияли вершины гор – картина была феерична, ослепительна, затмевала все другие вещи, развешанные в зале. Теперь о ее красочном великолепии можно только догадываться – от него мало что осталось: краски пожухли и потемнели. Врубель не заботился о качестве красок, добавлял бронзовый порошок, чтобы усилить блеск; порошок действовал губительно, и полотно начало тускнеть скоро, еще при жизни его создателя.
Таким был конец Демона – но не Врубеля. Врубелю еще предстояло создать прекрасные вещи, но к Демону он больше не возвращался.
Картина «Демон поверженный» еще висела на выставке в Петербурге, когда ее автора пришлось поместить в одну из московских психиатрических больниц. В течение полугода его состояние было тяжелым, но потом вернулось ясное сознание, его выписали из больницы, но в подавленном, угнетенном настроении. Если во время работы над «Демоном» им владели мания величия и эйфорический подъем, то теперь обратное: он считал себя ни на что не годным и работать не мог. В мае 1903 года Врубель с женой и ребенком отправился в Киевскую губернию, в имение В. фон Мекка, одного из его богатых поклонников, который приобрел «Демона». В дороге неожиданно заболел Саввочка, только начинавший говорить; через два дня его не стало…
К началу следующего года Врубель почти умирал. Его поместили в частную лечебницу доктора Ф.А. Усольцева в окрестностях Москвы. И вот тут произошло чудо: Врубель выздоровел. В течение двух лет он оставался совершенно нормальным человеком и по-прежнему (если не больше прежнего) блистательным художником. На одном из рисунков, сделанных у Усольцева, он надписал: «Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».
Усольцев применял оригинальные методы лечения. Свою лечебницу он предпочитал называть «санаторией». Врубель жил в «санатории» совершенно свободно, часто уезжал домой (жена поселилась поблизости). И не переставал рисовал: портреты врачей, больных, посетителей, уголки гостиной с группами играющих в шахматы или в карты, пейзажи, видные из окна, самые простые предметы – кровать, подсвечник, графин, брошенное на стул платье. Все эти зарисовки сделаны твердой, уверенной рукой мастера; техника Врубеля отточена как острый стилет. Особенно замечательны два больших портрета – Федора Арсеньевича Усольцева и его младшего брата, студента. На портрете Усольцева передан пристальный, гипнотизирующий взгляд в упор – взгляд врача-цели-теля, каковым он, вероятно, и был.
Есть еще портрет Усольцева, не вполне оконченный, – на фоне иконы Богоматери в золотом тисненом окладе. Тут решается сложная техническая задача, какую Врубель не раз перед собой ставил: передать черным карандашом, без цвета, искристую дробную фактуру фона и сделать так, чтобы лицо портретируемого не терялось в этой узорчатости и гармонировало с ней. Но в данном случае выбор иконы в качестве фона имеет и значение смысловое: Усольцев был глубоко религиозным человеком. На обороте этого портрета имеется надпись по-французски, сделанная рукой Врубеля: «За свои 48 лет я полностью потерял образ честной личности, особенно в портретах, а приобрел образ злого духа; теперь я должен подчиниться строгой обязанности видеть всех других и полноту образа моего Бога».
Не следует принимать этот не очень ясный текст за бред душевнобольного. Он написан в 1904 году выздоровевшим художником и выражает перелом в его миросозерцании, новый этап его духовных поисков. Примерно тогда же был создан «Шестикрылый серафим» (другое название – «Азраил») – картина необыкновенной красоты и силы, последняя написанная в технике масляной живописи (позже Врубель работал только пастелью и акварелью). Как в ярком сне, возникает из зелено-синих и красно-лиловых жгучих переливов строгий бледный лик ангела смерти в обрамлении черных волос, держащего в поднятых руках меч и горящую лампаду. Он надвигается неотвратимо – это лик возмездия, но возмездия справедливого, он не ужасает, он посланец Бога, а не Демона.
К осени 1904 года Врубелям пришлось переехать в Петербург (Надежда Ивановна получила ангажемент в Мариинском театре). В Петербурге Врубель вел жизнь вполне здорового человека и трудился без устали. «Жемчужная раковина», портреты жены, несколько автопортретов – уже этих вещей было бы достаточно, чтобы убедиться в красоте его предзакатного периода. Пастель «Раковина» – маленькое чудо искусства, так же как натуральная раковина – маленькое чудо природы. Художник «под занавес» раскрыл этой картиной природный родник своих вдохновений. Портрет жены на фоне березовой рощи, начатый еще в Москве, и ее портрет «После концерта» – это прощальная песнь песней Врубеля, поэма любви, рассказ о хрупкой, но стойкой женщине, все так же нежно и благоговейно любимой, как и девять лет назад. А его автопортрет в интерьере, с лежащей на столе раковиной, – тайно-исповедальный рассказ о себе. По воспоминаниям сестры художника, он работал над этим автопортретом с особенной интенсивностью, но, несмотря на настояния Дягилева, отказывался дать его на выставку, считая вещью слишком интимной.
Исповедь менее интимная, но более масштабная заключена в других произведениях того времени, посвященных теме Пророка. Эта тема является сквозной, доминирующей у позднего Врубеля, подобно тому как прежде доминировали темы Демона и русского сказочного эпоса. «Демон» исходил из поэмы Лермонтова, «Пророк» – из знаменитого стихотворения Пушкина:
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, — И шестикрылый серафим На перепутье мне явился.Впервые иллюстрация к пушкинскому «Пророку» была заказана Врубелю еще в 1898 году для юбилейного издания сочинений Пушкина. Там стоят рядом две фигуры: библейский старец в хламиде и полуобнаженный ангел, слегка касающийся его руки. Рисунок по-врубелевски красив, но и только, сделан без вдохновения; чувствуется, что тогда тема пророка еще не затрагивала Врубеля глубоко, им владели совсем другие замыслы. Но уже в следующем году он посвятил ей большую картину, где найдена концепция экстатическая и торжественная. Фигуры заменены полуфигурами, пророк (все тот же бородатый старец) откинул голову назад, он потрясен явлением ангела, который вырастает перед ним в грозном шуме и сиянии тяжело веющих крыльев. У ангела словно из металла выкованный профиль, взор, повелевающий без слов.
Затем художник возвращается к профетической теме через несколько лет – начиная с упомянутой выше картины «Шестикрылый серафим» («Азраил»). В следующих вариантах снова появляется пророк теперь он стал другим, страдальчески-просветленным, а в кротком лице серафима сквозит сострадание. Зашифрованная автобиографичность этого образа вполне очевидна в рисунке «Голова пророка»: почти автопортрет, но преображенный, поднятый до высшей степени духовности.
Весной 1905 года Врубель снова ощутил симптомы приближения недуга. Усольцев увез его в Москву, в свой «санаторий». И снова пребывание там подействовало на Врубеля благотворно. Еще год он продолжал работать. Здесь он задумал и начал «Видение Иезекииля» – новое произведение на тему Пророка. Рисовал и на евангельские сюжеты, чего ни разу не делал после киевского периода: несколько изображений Иоанна Крестителя, «Путь в Эммаус» – композиция, исполненная мистического вдохновения. Рисовал и портреты: семьи Усольцевых, пациентов. Последним шедевром Врубеля был портрет поэта Валерия Брюсова – работая над ним, художник ослеп.
«Пока жив человек, он все дышит; пока дышал Врубель, он все творил, – писал Усольцев. – …Это был настоящий творец-художник».
Брюсов вспоминал: «В жизни во всех движениях Врубеля было заметно явное расстройство <…>. Но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость <…>. Творческая сила пережила в нем все».
Но странные речи слышал Брюсов от художника, когда тот писал его портрет. «Очень мучила Врубеля мысль о том, что он дурно, грешно прожил свою жизнь и что в наказание за то, против его воли, в его картинах оказываются непристойные сцены <…>. “Это – он (Врубель разумел Дьявола), он делает с моими картинами. Ему дана власть за то, что я, не будучи достоин, писал Богоматерь и Христа, он все мои картины исказил”». Так преломилась в помраченном сознании Врубеля уже давно преследовавшая его мысль о своей вине – вине художника, не справившегося с возложенной на него миссией «глаголом жечь сердца людей». Демоническое высокомерное самомнение мешало внимать гласу Бога со смирением, подобающим пророку, – так ему теперь казалось, – и за это приходилось расплачиваться.
Последние четыре года жизни Врубель, слепой и безумный, доживал в петербургских психиатрических клиниках. Он был тих, спокоен и кроток, но не хотел встречаться ни с кем, кроме жены и сестры, которая навещала его ежедневно. Он изнурял себя «искупительным» стоянием на ногах ночи напролет, отказом от мясной пищи и говорил, что после десяти лет такого искуса он прозреет и у него будут новые глаза из изумруда. Иногда ему грезилось, что прежде он жил во все века, присутствовал при закладке Десятинной церкви, участвовал в постройке готических соборов, расписывал вместе с Микеланджело Сикстинскую капеллу. Жена, приходя к нему, пела для него – это он очень любил. Любил и слушать сестру, читавшую ему вслух, часто сам указывал, что читать (Библию, книги по истории итальянской живописи, Тургенева, Чехова), все понимал, иногда делал разумные и тонкие замечания. Только не переносил грустных концов и на место их сочинял другие, более счастливые.
В апреле 1910 года Врубель скончался от воспаления легких. Накануне он сказал ухаживавшему за ним санитару: «Николай, мне надоело здесь лежать, поедем в Академию». На следующий день его действительно отвезли в Академию художеств – в гробу. Врубель был академиком – это почетное звание ему присвоили, когда он был уже неизлечимо болен. Академия устроила торжественные похороны на петербургском Новодевичьем кладбище, в солнечный весенний день, при большом стечении народа. Речь над могилой держал только один человек – поэт Александр Блок. Он говорил о борьбе ночных лилово-синих миров и золотого сияния в «Поверженном Демоне». «Врубель потрясает нас, ибо в его творчестве мы видим, как синяя ночь медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, быть может, свое грядущее поражение».
Священник Новодевичьего монастыря сказал: «Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, так как ты был работником».
Искусство XX века
Опыты самопознания[25]
I
Осип Цадкин. Торс «Разрушенный город». 1951
С хронологическим началом XX века приблизительно совпадает начало целой серии переворотов в стилистике пластических искусств, коренным образом меняющих и традиционные методы этих искусств. Традиционные – те, которые идут от эпохи Ренессанса. Может показаться, что в XX веке европейское искусство возвращается к доренессансным принципам. Это впечатление обманчиво: возникает нечто совершенно отличное от старинных эпох, хотя какие-то их черты усваиваются современным художественным сознанием, склонным и к историзму, и к эклектике. Оно пользуется ими, ища опору в истории для своего нового, беспрецедентного мировидения. А так как воспринимаемые особенности – искусства ли европейских «примитивов» или народов Африки – были вызваны к жизни совсем иной исторической и социально-психологической ситуацией, то они в искусстве новейшего времени полностью изменяют свой первоначальный смысл.
Но в одном существенном отношении новейшее искусство действительно сближается с доренессансным в той же мере, в какой отходит от ренессансного и послеренессансного. В последнем художник (живописец или скульптор) – прежде всего созерцающий глаз. Это не значит, что он пассивное зеркало. Но его страсти и раздумья, любовь и негодование, вся полнота его собственной индивидуальности выражаются так и постольку, как и поскольку они способны преломляться через объективное свидетельство зрения. Глаз – непререкаемый контроль, граница, положенная вымыслу, блюститель истины. «Все прочее – литература».
Вот этим «прочим», этой «литературой» полнится новейшее европейское искусство. Художник XX века – уже не «глаз» в ренессансном понимании; прямые показания зрения участвуют в его работе лишь как один из компонентов. Отпечатки видимостей, звуки, мысли, эмоции, воспоминания, ассоциации образуют единый силовой напор. То, что он материализуется в виде полотна, покрытого красками, или пластической конструкции и, следовательно, воспринимается не иначе как зрением, внушает представление об искусстве по-прежнему всецело зрительном, но тут происходит невольная подмена понятий. Оно зримое, но не зрительное или не только зрительное – в работе художника доминанта оптического восприятия уступает место сплаву различных импульсов.
В этом пункте современное художественное сознание и в самом деле сходствует с ранними стадиями, когда оптическое восприятие также не было верховным арбитром. Египетский скульптор изображал фараона в несколько раз более высоким, чем его слуг, хотя фараон был обычного человеческого роста, и трудно предположить, что художник этого не видел. Так же трудно допустить, что африканский художник наблюдал у своих соотечественников цилиндрические глаза и пирамидальные головы, что иконописец видел вещи в обратной перспективе, не замечал, что удаленные предметы уменьшаются и видятся менее четко (тогда бы он просто не мог ориентироваться в пространстве). Высказывалось предположение, что обратная перспектива связана с религиозным сознанием: чем дальше находится нечто, тем оно больше (значительнее), чем ближе – тем меньше. Зрительное же восприятие в древние эпохи, вероятно, было примерно таким же, как наше, но изобразительное искусство не подчинялось его диктату, а исходило из иных, по тем понятиям высших, норм – религиозных, ритуальных, магических, иерархических. Во всяком случае, достаточно твердых.
Таких твердых норм и критериев, ощущаемых как высшие, у современного художника нет. Во имя чего же он отказывается от простой формулы «пиши, как видишь» – от этого, как бы ни было, достойного самоконтроля и самоограничения? Ведь искусство нуждается в самоограничениях, нуждается в объективной опоре, чтобы не расплываться в дурной бесконечности. Расплывание, сопровождаемое утратой сколько-нибудь общезначимых критериев ценности, разгулом релятивизма, а отсюда и деградацией общего уровня, действительно происходит: нельзя отрицать, что в целом искусство западного мира переживает сильно затянувшуюся ситуацию кризиса и блужданий.
Можно представить себе несколько гипотетических ответов на вопрос, для чего же изобразительное искусство отреклось от надежных заповедей Возрождения. Во имя большей активности художника и свободы выразить то, что он хочет. Ради вычленения собственно пластических ценностей и поисков их непосредственного воздействия на эстетическое чувство. В силу вспыхнувшего интереса к иным, неренессансным художественным традициям. И наконец, просто в поисках чего-то нового, еще не испробованного, поскольку прежние методы себя исчерпали.
Каждый из этих ответов имеет свою долю истины; более убедительны они в совокупности, потому что в них указываются разные стороны одного и того же. Хотя вполне резонный ответ, по-видимому, невозможен, так как упомянутые перемены не были результатом рассудочного решения, а возникли как бы стихийно – налетел циклон. Уже задним числом теоретики и социологи могут выдвигать гипотезы о происхождении циклона, заменяя вопрос «для чего?» вопросом «почему?». Чем плоха, например, гипотеза: искусство вступило на этот сомнительный путь, изверившись в своей жизненной миссии, потеряв надежду на продуктивное общение с людьми в буржуазном мире и с отчаяния уйдя в эзотерическое, замкнутое на самом себе волхвование и экспериментаторство с формами.
Но и тут остается много неясного.
Во-первых, среди пионеров новых течений было не так уж много склонных к холодному формализму, а равно и к самодовлеющей «магии». Нельзя этого сказать ни о Пикассо, ни о Матиссе, ни о Модильяни, ни об экспрессионистах. Напротив, это были художники в общепринятом смысле слова человечные, и двигателем их была скорее жажда прорыва к людям, чем желание отвернуться от людей. Даже Кандинский и тот обосновывал свои новации не чем иным, как намерением обновить и возродить силу духовного воздействия искусства.
Во-вторых, пусть даже тут был элемент эскапизма; но почему он предполагал разрыв с ренессансной оптической системой? В рамках ее вполне возможен культ «искусства для искусства», чему было немало примеров. Она не обязательно связана с поучительными сюжетами, морализированием, общедоступностью. Возможна и «магия», хотя бы как у символистов типа Гюстава Моро или Бёклина. Для упоения формами как таковыми оптическая система оставляет много простора: что же и видит наш глаз в натуре, как не формы, формы и формы?
Какие богатые плоды еще могла приносить эта традиционная система в ее новаторских ответвлениях, показывает искусство Сезанна – он-то оставался в классической позиции: художник – натура; контакт между ними – исключительно через канал зрения. Сезанн не одобрял отклонений от этой позиции и, наверное, ужаснулся бы, узнав, что кубисты признали его своим предшественником. Это было лишь почетное звание, присвоенное «гонорис кауза», но не отражавшее истинного положения вещей. Сезанн ни субъективно, ни объективно не был предшественником кубизма. Он был последним из могикан прежней великой традиции.
Тем не менее при всей любви к Сезанну следующие за ним художественные поколения отвергли или неузнаваемо преобразовали веками отточенную, а вместе с тем и незамкнутую, допускавшую новые открытия систему, основанную на показаниях глаза – честного судьи. На это отважились очень различные по своему складу сильные и самобытные художники нового века – и солнечный Матисс, желавший нести людям покой и отраду, и беспощадный Пикассо, и сумрачный Руо, и открытый, грубоватый Леже, и утонченный Модильяни.
Было ли это уходом от действительности? В какой-то мере – да, но тут был и отклик на ее сигналы.
Современная действительность побуждала не доверять видимости-. внешний вид вещей – не столько обнаружение внутренней сущности, сколько ее сокрытие, маска. Что «внешность обманчива», никогда еще не казалось столь несомненным. Более всего это, естественно, относилось к главному объекту искусства – человеку. «Мы – существа незримые», – сказал Метерлинк. Внутренний мир личности, все более усложняясь, дифференцируясь и одновременно отчуждаясь от общественного целого, все менее находил себе адекватное выражение во внешних проявлениях – в исполнении общественных функций, в предметной обстановке, в межиндивидуальных связях. На все явное ложится тень неподлинности, а подлинное содержание личности неявно, и ему грозит растворение в наплыве мнимостей. Маска может прирасти к лицу, и ее не оторвать.
Усложнение структуры личности, отчужденной от результатов своей деятельности, освободившейся от сословной закрепленности, от традиций предков, от веры в извне данные нравственные постулаты, усомнившейся в религиозном оправдании жизни и, таким образом, более, чем когда-либо, предоставленной самой себе, оказалось парадоксально связанным с угрозой разрушения личности. Но чем больше оно угрожает, тем лихорадочнее становятся «поиски себя». Теряя в цельности, личность не теряет способности рефлектировать, напротив, эта способность обостряется.
На эти темы написаны горы специальных исследований – социологических, психологических и философских; нет ни возможности, ни надобности их перечислять. Обратим особое внимание лишь на то, что и для пластического искусства, более всех других зависимого от «внешности», это имело свои последствия и было связано с потрясениями его основ.
Конечно, не в XX веке начался процесс «поисков себя» посредством самоанализа. Его истоки очень давние (призыв «познать самого себя» исходит еще от Сократа); в XVI–XVII веках он становится предметом медитаций мыслителей (Монтень, Паскаль, Ларошфуко); на исходе
XVIII века и затем в течение всего XIX процесс этот происходит в искусстве – прежде всего в литературном, особенно в творчестве романтиков. С наступлением XX века саморефлексия достигает большой напряженности, обнаруживая тенденцию сосредоточиваться на «сокрытом», «неявном». Стремятся нащупать потаенные пласты, лежащие под покровом культуры и самого разума.
Теперь в этом принимает участие и наука. Возникают методы психоанализа, проникающего в области, недоступные простому наблюдению. Инструментом служит анализ снов, галлюцинаций, свободных ассоциаций, представлений, ошибок, смутных воспоминаний детства. Открывают, что вся когда-либо полученная человеком информация хранится в мозгу, но только небольшая ее часть составляет актуальную сферу сознания. Высвечивание хранимого в подсознании – неизбежный шаг в познании человеческой природы, коль скоро ее хотят познать и надеются в этом преуспеть. Генерализация либидо, произведенная Фрейдом, тут не обязательна, новейшие школы психоанализа от нее просто отказываются. У науки, однако, есть свои пределы. Не всюду ей открыт доступ. Может быть, плоская вульгарность фрейдизма в его расхожих формах отчасти зависит от того, что психология вторглась в заповедные сферы, больше подобающие не науке, которая твердо режет и резко членит, а искусству, которое способно отразить струящийся поток. Правда, оно мало что расшифровывает, скорее, множит загадки, зато обладает неоспоримой силой обратного воздействия на психику человека.
Каким же образом может стать зеркалом потока и отражением неявного изобразительное искусство? Ему пришлось для этого подрубать сук, на котором оно держалось, то есть доверие к предметному миру, данному в зрительном восприятии. Так изобразительное искусство вступило на рискованный путь – только сильнейшим он под силу. С самого начала он производил впечатление авантюры – не ложное впечатление, поскольку он и был авантюрой: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Не чем иным, как грандиозной авантюрой, были «Авиньонские девицы» Пикассо, так их восприняли и его товарищи по искусству. Но ведь и многие прорывы в неведомое начинались с авантюрного, очертя голову, броска. Примечательно, что «Авиньонским девицам» предшествовало писание с натуры портрета Гертруды Стайн в течение 80 сеансов! – героическая попытка извлечь максимум возможностей из традиционного метода. Пикассо не был удовлетворен результатом и переписал лицо модели упрощенно, в духе протокубизма. После этого появились ни на что не похожие «Авиньонские девицы», бросавшие насмешливый вызов многовековой традиции, но еще ничего не водрузившие на ее место.
Если Пикассо так долго и мучительно писал (что ему вообще-то было несвойственно) портрет Гертруды Стайн, то, видимо, он и хотел создать истинный портрет – подлинный образ личности. Методы были традиционными, а новое, дифференцированное до неуловимости представление о личности им не поддавалось.
Достичь прогресса в развитии традиционного метода – «смотрю на натуру и пишу», «кладу верный цвет на верное место» – скорее могли те художники, кого сравнительно мало волновали проблемы зондирования внутреннего мира. Такие, как Сезанн. Как ни высоко его искусство, трудно отрицать его «натюрмортный» подход к изображению человека. Вспомним «Портрет жены» Сезанна, который мы видели на выставке картин американских музеев в Москве. Он ошеломлял мощью трактовки материальных форм. Рядом висели полотна выдающихся мастеров – «Обнаженная» Ренуара, женский портрет Модильяни. И они меркли, казались легковесными перед грандиозной живописью Сезанна. В известном смысле она побивает и затмевает едва ли не всех его современников, старших и младших. А вместе с тем кто мог бы без натяжки утверждать, что изображенное под названием «Портрет жены» монументально-неуклюжее существо допускает проникновение во внутреннюю сущность – свою, или человека вообще, или современного человека? Оно непроницаемо, как древний идол. Можно понять Серова, который ломал голову над загадкой сезанновских «Пьеро и Арлекина»: то они казались ему просто деревянными истуканами, то он с удивлением убеждался, что после этих «истуканов» не хочется смотреть ни на что другое.
Сам Серов положил много таланта и ума на создание портретов своих современников в их социальной и психологической характерности. Он всматривался глазами вдумчивого наблюдателя в лица, позы, осанку, манеру держаться, подмечал жесты, взгляды, движения рук, особенности костюма и интерьера. Люди на его портретах, в отличие от сезанновских, охотно и явно говорят о себе: я – преуспевающий деятель, я – вдохновенная артистка, я – светская львица. Композиция и антураж подкрепляют характеристику.
И все же есть что-то не до конца удовлетворяющее в этих превосходных и вовсе не элементарных портретных характеристиках. Подчеркнутая наглядность, вместо того чтобы убеждать, заставляет усомниться. Сухой, бескрасочный портрет Достоевского работы Перова имеет преимущества психологической глубины, какой-то истовой серьезности перед блестящими серовскими портретами.
Должно быть, имеет значение то отождествление «внешнего» с «поверхностным», которое носилось в воздухе в то время, когда работал Серов. И та дискредитация психологического портрета, которая в этой связи происходила. Во Франции замечательный портретист Дега отошел от работы над портретом. Женщины Ренуара, при всем их обаянии, – скорее душистые цветы, чем люди «железного» XIX века (симптоматично, что Модильяни, встретясь с Ренуаром, не нашел с ним общего языка). О портретах Сезанна уже говорилось.
Только немногим художникам рубежа веков было дано, оставаясь (относительно) в пределах традиционной системы, создать глубокий человеческий образ. Ван Гог, Тулуз-Лотрек, в России Врубель. Необыкновенный дар экспрессивного вчувствования, проницания сквозь внешнюю оболочку сделал их последними настоящими мастерами психологического портрета, исполненного в бережном соответствии с видимой натурой. Ван Гог возлагал самые большие надежды на портретную живопись, считал, что именно ей принадлежит будущее, что не в чем ином, как в портрете, осуществится прогресс искусства. Его пророчества, по-видимому, не сбылись, вышло даже обратное: в последующие десятилетия портретный жанр, за немногими исключениями, деградировал. Не только портрет как таковой, но и вообще «лик человеческий» как образ внутреннего мира и фокус бытия словно бы разочаровал художников. Казалось, они ему больше не верили и потеряли к нему интерес.
Ренато Гуттузо, бросая ретроспективный взгляд на европейское искусство первых тридцати лет нашего века, сказал «Так случилось, что перестали замечать человека, от него отвернулись»1.
Но спрашивается: могут ли люди не замечать людей?
Пожалуй, точнее будет сказать, что искусство, пускаясь в свою авантюру, искало окольных путей для выражения человеческого, так как прямой путь «вижу и пишу» представлялся исчерпанным. Человек – это не только его лицо, фигура, одежда и обстановка, не только ситуация, в какой он в данную минуту находится, а что-то и более сложное, тайное, и менее определенное. Однако опыта в уловлении этих неуловимостей у пластического искусства не было. Предстояло создать хотя бы «грамматику» нового языка – способом проб и ошибок, причем ошибок было больше всего.
Мы не откроем никаких америк, утверждая, что наибольшими возможностями анализа и самоанализа человеческой личности обладало искусство слова как в силу несравненной гибкости и универсальности своих художественных средств («вокруг вещи слово блуждает свободно», по выражению Мандельштама), так и благодаря опыту, накопленному в предшествующее столетие. Уже Бальзак знал о человеческих характерах больше, чем наука психология в начале XX века, и уже Достоевский открыл такие тайники душевной и духовной жизни, которые «не снились мудрецам» – философам и психологам. А лирическая поэзия владела секретом спонтанного самовыражения, подобного изливающемуся потоку.
Пластическому искусству в его новых исканиях естественно было обратить взоры на опыт словесного искусства. Но не так, как это было в XIX веке, когда оно, твердо оставаясь на своем ренессансном фундаменте, стремилось перенять у романистов принцип событийности и социальной конкретности рассказа, а по-другому: перерабатывая в своем лоне гибкую структуру словесного образа, основанного на ассоциативности, на установлении сокровенных связей между внешне разделенными явлениями, на «свободном блуждании вокруг вещи».
И действительно, новейшее изобразительное искусство в этом отношении исподволь шло навстречу словесному, не признаваясь в том и даже с запальчивостью отрекаясь от «литературности», привычно понимаемой как «сюжет» или, того хуже, «анекдот».
Несмотря на демонстративное отмежевание, художников тянуло к литературе и литераторам, к поэзии и поэтам, кажется, больше, чем когда-либо раньше, и в первую очередь тех художников, чей главный интерес сосредоточивался на человеке, на стремлении понять его изнутри, Уже Врубель и Ван Гог, каждый на свой лад, были одержимы словом. Образы Врубеля почти все вдохновлены литературными и литературно-музыкальными источниками; он первый и единственный создал конгениальные вариации на темы Лермонтова. Ван Гог никогда не иллюстрировал литературных произведений и не писал фабульных картин, однако вдохновлялся литературой и прямо учился у нее, ассимилируя ее поэтику, ее метафоричность, пытливо вникая в «характерологию», созданную писателями.
Контакты художников кисти и пера становились тесными, личными. В первое десятилетие века причудливый «дом-корабль» на Монмартре, Бато Лавуар, был приютом художественной богемы, живописцев и поэтов. Их объединяла не только общая непризнанность, тут завязывались творческие содружества, крепло сознание близости творческих задач. Взаимообогащающая дружба Аполлинера и Пикассо – самое яркое олицетворение этой близости. Друзьями и спутниками Пикассо были также Жакоб, Элюар, Арагон, Кокто, Эренбург. Связи с поэтами были у него, пожалуй, более глубокими, чем с живописцами.
Можно добавить, что в «литературную» стихию образности был погружен Роден, а утонченный поэт Рильке написал о нем книгу; что Модильяни – едва ли не единственный большой художник новой формации, посвятивший себя целиком портрету, – питал исключительное пристрастие к поэзии, декламировал страницами наизусть Бодлера, Верлена, Малларме, Лотреамона, Рембо, Франсуа Вийона; что многие писатели занимались живописью (Г. Гессе, Г. Манн), а художники – литературой (Э. Барлах, О. Кокошка). Выдающиеся художники XX столетия охотно обращаются к иллюстрированию и оформлению книг, преимущественно поэтических, что в XIX веке было скорее исключением, чем правилом: тогда этим занимались профессиональные иллюстраторы, среди которых было не очень много значительных фигур, художники большого масштаба до иллюстрирования снисходили редко. А у Пикассо, Матисса, Шагала работа над книгой заняла почетное место как раз тогда, когда их слава находилась в зените.
Конечно, и в XIX веке литература и живопись не были разобщенными мирами и примеров личного сочувственного общения литераторов и художников можно найти сколько угодно. Писатели иногда писали о художниках, а художники писали портреты писателей. Но и то и другое выходило не очень хорошо, как скептически замечал Ван Гог. Полное творческое взаимопонимание было редким. Говорили, в общем, на разных языках. Писатели, как правило, ценили в живописи не то, что сами живописцы. Если живописцы проявляли повышенный интерес к литературе, то преимущественно к прозе и драме. Меньше всего точек соприкосновения у них находилось с лирической поэзией2.
В новую же эпоху именно поэзия влечет художников. В ней они сознательно или бессознательно ищут ключи для своего собственного «сезама». Интеллектуальная проза не пользовалась большим успехом – например, Анатоль Франс вызывал даже неприязнь у молодых французских художников, а у сюрреалистов прямо-таки ненависть. Его изящный интеллектуальный скепсис, преданность классическим вольтеровским традициям, кристальная прозрачность мысли нисколько не импонировали тем, кто, как Аполлинер, «хотел исследовать край необъятный и полный загадок»; может быть, проза Франса даже представлялась им чем-то подобным академизму.
У их художественных предтеч старшего поколения, еще кровно связанных с XIX веком, литературные симпатии были другими: они чтили реалистическую прозу. Ван Гог любил Диккенса, Гюго, Золя, Мопассана и оставался равнодушен к Бодлеру и Верлену. Врубель также не проявлял особого интереса к новой поэзии, хотя поэты интересовались им, а больше всего из современников любил Чехова.
Личные вкусы прихотливы, но если их суммировать, какие-то общие линии проступают: к реалистической прозе тяготели новаторы, не разрушительные по отношению к традиционной пластической системе, а только стремившиеся ее по-новому одухотворить. Новаторов радикальных влекла поэзия или старинная (Данте, Вийон, Ронсар), или наиновейшая (от Бодлера и Верлена до Аполлинера и Сандрара). Последние уже были не только современниками, но и союзниками мятежных художников.
Н. Балашов в послесловии к однотомнику Аполлинера не без основания замечает, что у поэтов этого круга в отличие от их друзей-художни-ков не было потребности в радикальном «бунте». Он пишет: «…B эти годы поэзия и живопись развивались, можно сказать, в противоположном направлении. Они, как отмечалось некоторыми исследователями, будто поменялись местами. Живопись Пикассо частично отказывалась от прямого воспроизведения окружающей действительности и пыталась принять на свои полотна чистую лирику, авторское “самовыражение”, тончайшее движение человеческих чувств, стремилось к максимуму лирической экспрессии. Напротив, лирика Аполлинера (а затем и многих других крупных поэтов века) прорвалась в область романа и живописи, взялась за большие сюжеты, за прямую зарисовку с натуры, за непосредственную передачу важных предметов в их прозаическом хитросплетении… был создан лирический эпос XX столетия. <…> Живопись в своих попытках создать чистую лирику оказалась вынужденной решать противоречащие самому ее естеству проблемы, вроде передачи на плоскости четырехмерности пространства и времени. Никакой надобности в подобной ломке в поэзии не возникало. Крайности дадаистов или эксцентрика Бретона оставались исключениями, а серьезный поэт, как бы он ни был увлечен новациями, не имел внутренних побуждений ставить в поэзии радикальный эксперимент, действительно аналогичный кубистскому эксперименту в живописи»3.
Думается, здесь многое верно, но не все. Творческая близость задач у поэтов и художников все же была, и не только по дружбе Аполлинер писал статьи о кубизме.
Едва ли лирика Аполлинера «прорвалась в область романа и живописи» – по крайней мере, романа и живописи в их привычных формах. Она представляла собой нечто глубоко на них непохожее, а «лирический эпос», бравшийся за большие сюжеты, существовал очень задолго до Аполлинера (разве не подходит под это определение «Евгений Онегин»?). Не в том, вероятно, было новаторство Аполлинера, что он приобщал к поэзии прозу, реалии повседневности, зарисовки с натуры и пр., а в том, как он это делал, как вольно выстраивал фрагменты наблюдений, воспоминаний, мыслей, перемешивал их, внезапно обрывая одно, неожиданно переходя к другому посредством сложных ассоциативных сцеплений – и все соотнося со своим внутренним миром, со своим «я». «Поэтический каскад» Аполлинера становился портретом личности, взятой изнутри, в калейдоскопическом переливе, в мозаике отпечатков, оставляемых на ней текущей действительностью (примерно то же – у раннего Маяковского).
Это новое в поэзии Аполлинера появилось не с самого начала, не в цикле «Рейнских стихов», еще традиционных в своей поэтической интерпретации народных легенд, а позже – именно когда он сблизился с кругом художников и с Пикассо.
Так написана «Зона», где от изображения Парижа, его рабочих кварталов, улиц с «поющими афишами», стадами «мычащих автобусов», скорбного зрелища толпы эмигрантов неотделим автопортрет поэта. Что его окружает, что им замечается, переживается, что вызывает встречный наплыв образов-воспоминаний и образов-метафор, это и есть он сам, то, из чего складывается его «я», состав его личности. Состоит же она не только из роз, звезд и очей возлюбленной, а из множества куда более прозаических вещей. Она выплеснута в мир и наполнена миром, чьи противоречия претворяются в его личные противочувствия, чья много-составность становится его личной многосоставностью.
Но, кроме того, она, эта личность, сопряжена еще и с бесконечной глубиной прошлого, невидимого, непомнимого, однако присутствующего в ней самой. В стихотворении «Кортеж» (в переводе М. Кундинова) Гийом Аполлинер, «самого себя ожидая», «в толпе искал свое тело»:
Те, что в мир приходили и не были мною, Приносили частицу того, что впоследствии сделалось мною. Наподобие башни, меня не спеша воздвигали, Народы толпились, и вот я возник наконец, Сотворенный из множества тел, из деяний людских сотворенный.«Я» продолжает твориться и из сегодняшнего дня, даже из каждой минуты дня, фокусирующей много разных вещей, видимых и невидимых: все они «есть» и все входят в спектр «я». «Есть» – так и названо одно из стихотворений, написанных на фронте. Двадцать восемь строк начинаются словом «есть», Ну а, как бы клятвенным утверждением, что все перечисленное – реальность и что оно составляет реальность его, Гийома Аполлинера, солдата. Соотнесенность с личностью, себя во всем этом находящей и осознающей, делает поэтически оправданным нанизывание лаконичных назывных предложений – личное самоощущение их цементирует, иначе они бы рассыпались. Они разного свойства. «Есть в небе полдюжины длинных колбас, которые ночью личинками будут казаться» – это находится сейчас перед глазами. «Есть солдат-пехотинец, ослепленный удушливым газом» – это и перед глазами, и перед совестью. «Есть мое ожиданье письма, что запаздывает и заставляет меня волноваться» – это интимное переживание, однако входящее в общий пейзаж войны тоже как его реальная часть. «Есть в Мехико женщины, которые с воплями молят маис у Христа, обагренного кровью» – это где-то далеко и только воображается, но, как и все остальное, «есть», потому что здесь и сейчас, в траншеях, возникает перед мысленным взором поэта видение окровавленного и бессильного Христа, напрасной жертвы, к которой воссылаются напрасные мольбы.
Способ нанизывания внешне разнородных вещей на стержень подразумеваемого «я», которое их видит, слышит, чувствует, умопостигает, желает, воображает, вошел в новую поэзию. Подобным образом строили стихи Арагон, Элюар (его знаменитая «Свобода» с повторяющейся строкой «имя твое пишу»). Стихотворцы стали минимально пользоваться связующими, логическими элементами речи, указывающими на последовательность действий, на интервалы во времени, на причинно-следственную зависимость и т. д.; отказывались и от пунктуации, тоже являющейся логизирующим элементом языка. Он ощущался излишним: реалии стихотворения, пусть прозаически-обиходные, пусть обрывки уличных разговоров, газетных сообщений, связуются исключительно личностью поэта, мосты между ними наводятся в глубинах его сознания; никакие «также как», «потому что», никакие вопросительные знаки и запятые не расшифруют филиацию идей, не уяснят ассоциативных разветвлений, по которым движется мысль поэта. Читающий стихи должен постигать их интуитивно, через звучание, ритм, паузы, сколь возможно отождествляясь с личностью автора. Это нелегко, в иных случаях почти невозможно, иногда надо знать что-то об обстоятельствах жизни автора или обращаться к комментариям, чтобы почувствовать его метафоры.
Иногда стихотворение остается полнейшей загадкой:
Он вошел Уселся на стул. Он не смотрит на красноволосое пламя. Загорается спичка. Он встал и ушел.В пяти предельно лаконичных строчках зашифровано какое-то воспоминание о пережитом, возможно значительное для поэта. Но отсутствие ключа к шифру и аскетическая оголенность предложений затрудняют читающему сопереживание. Он может лишь смутно угадывать что-то горестное в ритме обрубленных строк: первая – совсем короткая, вторая – длиннее, третья – еще длиннее, потом опять спад и замирание на последней, как глубокий вздох.
Итак, соглашаясь, что для новаций Аполлинера, Незвала, Элюара и других не потребовалась такая же кардинальная ломка поэтических основ, какая осуществлялась в живописи, надо признать, что известная перестройка происходила и тут: исконная понятийность (=понятность) словесной речи как-никак подверглась большим трансформациям, вплоть до нарушения синтаксиса. В какой-то мере и слово, предаваясь скрупулезному рассматриванию «эго», вступало на рискованный путь, и Аполлинер в своем потрясающем призыве: «Снисхождение к нам!» – выступал от лица и поэтов, и художников.
Новая поэзия и новая живопись шли все-таки не в противоположном направлении, а навстречу друг другу. Дальним прицелом их было изображение действительности изнутри – в клубке рождаемых ею ощущений, эмоций, мыслей, припоминаний, отдаленных аналогий, неожиданных сопоставлений. Этот клубок – в живописи еще менее, чем в поэзии, – мог представать логически упорядоченным комплексом, его составные элементы всплывали, комбинировались, накладывались друг на друга в неуловимой и непредсказуемой последовательности. «Порядок» исчезал. Он исчезал, потому что его не было в глубинных недрах индивидуального сознания, куда стремились проникнуть. Упорядочивающее начало вносится только верхним слоем «суперэго». А под ним «шевелится хаос». Аполлинер в программном стихотворении «Рыжекудрая красавица» недаром противопоставлял «нас, стремящихся всюду найти неизвестность», «тем, кто был идеалом порядка». «Я сужу беспристрастно о затянувшейся распре между традицией и открыванием новых путей, между Порядком и броском в Неизвестность».
Но упорядоченность в искусстве непременно должна быть. Искусство ведь на то и искусство, что всегда «формирует», строит из неких кирпичей архитектурное здание. Зеркалом энтропии оно быть не может; оно победа над энтропией; где воцаряется хаос, там умирает искусство. Оно может поведать о хаосе, только поднимаясь над ним, не на его уровне. Это истинные художники всегда знали; отлично понимали и Аполлинер, и Пикассо. Поэтому так опасен «бросок в Неизвестность», поэтому Аполлинер провидит, «ждет наяву и во сне» восход «пылающего Разума».
Оно медлило восходить, это солнце (или ему «перерезали горло»), а в минуты рокового броска где найти ресурсы упорядочения? Если «жизнь изнутри» ускользает от привычных логических скреп и не поддается привычному оптическому наблюдению, чем объединить ее расшатанные, разбегающиеся элементы?
Даже стихотворение «Есть», вовсе не заумное, уязвимо со стороны своей поэтической архитектуры. Его можно продолжить в обе стороны до бесконечности, можно добавлять новые и новые звенья к этой цепочке, а другие отбрасывать – что изменится? Ведь помимо того, что в нем названо, в восприятии и в мыслях поэта, наверное, было еще многое, что тоже «есть» и тоже входит в состав «эго». Подобная конструкция стихотворения, быть может, как раз и намекает на множественность, неисчерпаемость импульсов, идущих от мира к человеку и образующих спектр его личности. В этом ее значение. Но в отношении «порядка», стройности, целостности она, как произведение искусства, теряет, находится под угрозой аморфности, она менее всего удовлетворяет идеальному требованию: «ничего ни убавить и ни прибавить» и «ничего лишнего». Определить, что лишнее и что главное в этой эстетической системе, вообще трудно. И все же она должна оставаться системой! Усиленное внимание к ритмической структуре было призвано как-то разрешить это противоречие.
Если и поэзия в своих прорывах к непознанному наталкивалась на антиномии, то насколько же большими они были для пластического искусства, по своей природе гораздо менее способного к отражению «потока сознания».
И вот тут на выручку явились «первичные формы» с их имманентными закономерностями ритма, архитектоники, пропорций, контрастов. Они стали заменой, а вернее, подменой исчезающей логической упорядоченности. Той уздой, тем спасительным самоограничением, которое налагало на себя искусство в попытках выразить ускользающее, незакрепленное. Явился кубизм.
Парадокс этого направления в том, что оно, вызванное к жизни потребностью личностного самовыражения, пожелало быть почти безличной стилевой системой. Кубисты принципиально не подписывали своим именем полотна, кубистские произведения Пикассо и Брака практически трудноразличимы. Кубизм был барьером, воздвигнутым на пути стихийного лирического наводнения. Он оборонялся от хаоса некими формообразующими принципами, быть может веря, что переживание «чистых форм» аналогично (или гомологично) внутренним переживаниям в более общем и обширном смысле, как переживание звуков в музыке (музыка, конечно, была идеальной моделью искусства и для новой поэзии, и для новой живописи). Совмещения разных аспектов предмета в пространстве и разных его состояний во времени, всплывания и просвечивания, вибрация зыблющихся, взаимопроницающих плоскостей – пластическая аналогия тому, как человек воспринимает мир в своих потаенных, наполовину бессознательных представлениях и чувствованиях.
Также и идеограммы Аполлинера были чем-то большим, чем простая игра: он пробовал дополнить ритмический звуковой рисунок, которому придавал конструирующее значение, еще и визуальным, вдохновляясь опытами своих друзей-художников. Идеограмма, включенная в стихотворение «Маленькое авто», не просто приблизительно напоминает очертания автомобиля – рисунок строчек силится передать тревожный ритм поездки навстречу «новому веку» и прощания со старой эпохой (стихотворение посвящено первому дню войны). Первая строка, начинаясь с высокой точки, описывает затухающую кривую, понижающуюся на словах «никто из нас не произнес ни слова»; последняя (нижняя) строка описывает фигуру, где самая низкая часть совпадает со словами «мы остановились», а взлет, доходящий до слова «утро», приходится на «лопнувшую шину», как бы символизируя ее громкий неожиданный звук. Слова «Призванные кузнецы» (Maréchaux-ferrants rappelés) помещены в центре и выделены самыми большими буквами, видимо намекая, что кузнецы и есть те «проворные новые люди», которые «вселенную новую строят» (о чем говорилось в строфе, предшествующей идеограмме).
Нельзя сказать, что все это заметно повышало эмоциональную силу стихотворения, но в конце концов что-то из этих ухищрений оказалось жизненным, оплодотворив стилистику плаката, афиши, кинематографических титров, да и расположение стихотворных строчек лесенкой имеет те же основания: визуальное подчеркивание ритмически-смыслового рисунка.
Кубисты, со своей стороны, вводили в композиции слова. Они нуждались в них больше, чем слово нуждалось в графемах. Брак написал картину «Симфония Баха» – это одна из самых впечатляющих кубистских картин, в ней действительно слышится музыка. И все же понадобилось ввести в нее слова и нотные знаки. Такая потребность возникала всякий раз, когда художник-кубист хотел направить переживание зрителя по сколько-нибудь определенному руслу, – тут он должен был или идти на компромисс с оптической системой (портреты), или прибегать к слову. Пластическая «музыка» могла быть только программной. Иначе разъятые гитары, стулья и папиросные коробки оставались эмоциональными ребусами, предоставляя созерцающему разгадывать их как угодно – или никак. «О, если б без слова сказаться душой было можно!»
Граненость и угловатость кубистских форм были подхвачены – в упрощенном виде – эстетикой прикладных и промышленных изделий, нашли отголосок в конструктивизме, но это было совсем не то, к чему стремились основоположники кубизма.
Соответствие между переживанием «первичных форм» и языком души оказалось слишком отдаленным, не то, что в музыке (Пикассо впоследствии и слышать не хотел об аналогиях живописи и музыки). Но все же опыт кубизма не был чисто негативным – он остался в истории искусства важной, переломной вехой и эстетически значимым явлением.
Он на свой лад раскрепостил художественное сознание, показав, что в принципе для живописи не заказаны другие пути, кроме ренессансного, что для нее, как для поэзии, возможны совмещения разъединенных во времени и пространстве явлений – совмещаются же они в памяти и воображении; что для нее не исключена возможность новой семантики посредством специфической организации элементов, которыми пластические искусства пользовались испокон веков, – линий, объемов, цвета, света и тени. Эти элементы, абстрагированные от предмета наподобие того, как химически чистые вещества искусственно выделяются из природных соединений, подверглись пристальному вниманию к их имманентным свойствам. Вертикаль дает ощущение подъема, горизонталь – покоя; овал более динамичен, чем круг; разомкнутые фигуры более «событийны», чем замкнутые; округлые формы рифмуются с остроконечными; несколько точек и черточек можно расположить на плоскости так, что они дадут впечатление уравновешенности, а можно расположить их «конфликтно» и т. д. и т. д. Подобные закономерности, как и закономерности цветовых отношений, интуитивно использовались художниками и прежде, а наиболее простые даже входили в систему академического обучения основам композиции. Но теперь, предоставив первичным элементам не «умирать» в изображении предмета, а оставаться самими собой, в их постижении достигли нового, изощренного уровня.
Вместе с тем оказалось, что вне предметного контекста они слишком многое теряют в эмоциональной определенности, силе и сообщаемости, то есть в человеческой значимости. И значит, назревало возвращение к фигуративности, уже не прежней, а видоизмененной в соответствии с новой «грамматикой». Собственно, кубизм никогда полностью не порывал с фигуративностью и в своей внутренней эволюции становился фигуративным все более – эту эволюцию проделали и Пикассо, и Брак, и Леже. Беспредметная живопись как таковая развивалась уже помимо кубизма, даже в оппозиции к нему, как тупиковое ответвление начатых им реформ живописного языка. Ее сравнительная долговечность еще не служит доказательством эстетической продуктивности. В эпоху потрясений, кризисов и поисков вслепую множатся тупики и ложные альтернативы во всех сферах духовной жизни. Особенно много званых, особенно мало избранных.
Немало бесплодных продолжений имело и течение экспрессионизма, само по себе не бесплодное, для которого самовыражение личности было прямой целью. В отличие от кубизма экспрессионизм и не пытался внести упорядочивающую формальную систему в спонтанное излияние внутренней жизни. Система принципиально отвергалась, все предоставлялось интуиции художника. Обнаженное чувство должно непосредственно идти от души к душе; картина – лишь мост, по которому оно передается («Мост» – называлось объединение экспрессионистов). Из всех первоэлементов живописи цвет – самая эмоциональная стихия – имел для экспрессионистов (как и для фовистов) наибольшее значение. Фигуративность у большинства сохранялась – она-то и была настоящим «мостом», благодаря которому переживание художника действительно могло быть передано воспринимающему. Мысленное сопоставление оптического образа предмета с его деформированным образом на картине, реального цвета предмета с цветом его на картине давало воспринимающему путеводную нить: следуя ей, он мог приблизительно уловить «логику» деформаций и последовать за художником в лабиринты его души.
У экспрессионистов часто был – у каждого свой – круг повторяющихся «фигурных» мотивов. В этом как будто нет нового по сравнению с традиционной живописью: ведь и там почти у каждого художника имелся излюбленный круг предметов изображения, и, разумеется, по нему можно судить, что художник любил, а значит, они, эти предметы, также в известном смысле представляют его духовный «автопортрет». Но, как говорит автор раннего исследования об экспрессионизме Марцинский, то были «субъективированные объекты» внешнего мира, тогда как образы экспрессионистов суть «объективации субъекта». Их искусство «приливает к субъекту». Иными словами, художник прежнего типа через призму своей личности выражал другое, внеположное ей, хотя и родственное, художник-экспрессионист посредством «другого» выражает себя. «Другое» в его интерпретации не автономно: будучи символом его внутренних состояний, их проекцией на внешний мир, оно может выступать в самых вольных сочетаниях и подвергаться самым странным деформациям. Картины экспрессионистов подобны «магическому театру», театру душевных мистерий, который созерцает герой романа Г. Гессе «Степной волк».
Хотя экспрессионизм – преимущественно немецкое течение, наиболее выдающиеся плоды экспрессионистская концепция принесла не на германской почве. Как это и вообще бывает, самые сильные художники стоят как бы несколько в стороне от течений и направлений, воспринимают исходящие от них флюиды, но идут своим путем, не становясь адептами какой бы то ни было художественной доктрины. Следование доктрине – удел посредственностей. Пикассо «изобрел» кубизм, но он же первым и отошел от него, когда тот сделался чем-то вроде «школы». Искусство Марка Шагала, по своей сущности близкое экспрессионизму, вполне самобытно. Как художник Шагал сформировался во Франции, в общении и с Пикассо, и с кругом поэтов, где царил Аполлинер. В своих «объективациях» Шагал удивительно постоянен, неизгладимые впечатления детских и юных лет, вынесенные из Витебска – его родины, иррадиируют на его долгое творчество. Все оно – грандиозный лирический гимн, нескончаемая Песнь песней, поистине портрет души, открытый созерцанию и доступный восприятию, хотя непереводимый на понятийный язык. Не сообщение, а приобщение. Лирические образы Шагала захватывают, не нуждаясь во вспомогательном ключе. Александр Бенуа, вообще с неприязнью относившийся к новейшим «неаполлоническим» течениям, не делая исключения для самых крупных художников, в том числе и для Шагала, все же начинал статью о его выставке 1940 года словами: «Ну, что же? Должен сознаться – c’est captivant[26]».
Мы встречаем на картинах Шагала в разных вариантах и сочетаниях возобновляющиеся мотивы: захолустные домишки старого Витебска, бородатые старики, похожие и на библейских пророков, и на местечковых раввинов, телята и козы, летающие и музицирующие фигуры, нежные букеты цветов, полумесяц, часы, семисвечники, влюбленные, парящие где-то между землей и небом. Да и все действие, если можно так назвать мистерии Шагала, развертывается между землей и небом, в какой-то сновидческой атмосфере, пронизанной то синими, то алыми, то зеленовато-лунными сияниями, они проходят сквозь густой мрак, сквозь пелены талого снега, создают радужные ореолы вокруг самых бедных и убогих существ или вспыхивают огоньками, блуждающими в пустыне ночи. Существа и предметы располагаются по отношению друг к другу не только помимо пространственных законов, но и вопреки им; никогда нельзя сказать, где что находится – ближе, дальше, выше или ниже. Всем строем картины отрицается пространство как таковое, утверждается пространство как душевное поле, где нет ни верха, ни низа, нет земного притяжения.
В лирической поэзии такое «душевное пространство» с наложением, напластованием ассоциативно сопряженных образов не кажется чем-то неестественным. Однако и Шагал в лучших своих вещах достигает поэтической естественности. Его картины воспринимаются примерно так, как стихи Блока, где «красный парус в зеленой дали, черный стеклярус на темной шали», и «Христос, уставший крест нести», и прощание с «Адриатической любовью, моей последней» соединены по таким же неуловимым законам.
Но нужно быть Блоком, нужно быть Шагалом. В качестве общего рецепта экспрессионистский метод порождал не только шарлатанствующих голых королей, холодных имитаторов, но и художников, чье самовыражение попросту не состоялось или не представляло интереса, несмотря на то что они были искренни. Между тем когда, говоря словами Бенуа, «инстинкт уступает место воле, знанию, известной системе идей и, наконец, воздействию целой традиционной культуры»4, – тогда путь к продуктивному творчеству не закрыт и для художника скромного дарования.
Когда-то Микеланджело сказал, посмотрев на маньеристскую статую, что его искусство многих сделает дураками. Гораздо больше оснований для таких опасений было у основоположников новейшего искусства, да они их и действительно высказывали – и Пикассо, и Матисс, и Шагал. Но, несмотря на предостережения корифеев, соблазнительная идея о том, что «выражать себя» доступно каждому, наплодила много художественных нонсенсов, включая «автоматическое письмо», выливание краски из ведра на холст и т. п. На гребне этой волны поднимались и вскоре опадали дутые репутации. Лишь сравнительно немногие имена остаются на фильтре истории искусства XX столетия, которое уже на исходе, – их куда меньше, чем в живописи предшествующего века, так часто коримого за «упадок». Зато эти немногие в самом деле коснулись кистью «невидимого», открыв новые возможности пластического искусства.
II
Ход истории подводил к перемещению акцентов самопознания: вопрос «кто я?» становился подчиненной частью вопроса «кто мы?», поглощался этим вопросом, который приобрел грозную актуальность после мировых войн, Первой и особенно Второй. Впервые в истории человечества разразились одна за другой войны не локального, а мирового масштаба, втянувшие в свою орбиту несметные массы людей разных государств, регионов и даже частей света. Первое всеобщее действие – и оно было не созидательным актом, направленным к общему благу, а разрушительным. В перспективе же маячит призрак третьей мировой войны, которая может стать уже в полном смысле глобальной – без тыла, без нейтральных зон, без спасения для кого бы то ни было. Есть веские причины задуматься: что же это за существо – человек, какова его природа?
Перед этим меркла проблема личности как автономного мира. Уже после Первой мировой войны ощущалось обесценение личности. Война приучила воспринимать гибель отдельного человека как обычное явление, и если, как говорил Гёте, «каждый человек – это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает», то гибель стольких миров не очень-то помешала уцелевшим мирам бурно развлекаться в кабаре, дансингах, на спортплощадках: свистопляска лихорадочных «наслаждений жизнью» охватила в послевоенные годы европейские буржуазные круги. А главное, убеждались, что личность, ее воля, ее потенции для судеб человечества мало значат: надличные анонимные силы играют ею как пешкой.
Но, поскольку и эти анонимные силы все же формируются не кем иным, как людьми, и из людей состоят, проблема самопознания сохранила всю свою остроту, только акцент, как уже сказано, перемещался: менее значительным стало выглядеть то, что отличает одного человека от другого и делает его уникальным, более значительным – то, что является для людей общим: личность как представитель человеческого рода.
После Первой мировой войны еще оставалось место для известного оптимизма во взглядах на человеческую природу: она еще не настолько осрамилась, чтобы получила преобладание ее мрачно-негативная оценка. Верили, что из огненной купели человечество выйдет образумившимся, обновленным. Великая Октябрьская революция и революционные движения в ряде стран на исходе войны вселяли большие надежды, поднимали дух у прогрессивной интеллигенции Запада. Пробуждалось и сознание практического единства человеческого рода, который соединенными усилиями наведет разумный порядок в своем общем жилище, на своей общей планете – она уже тогда стала ощущаться «небольшой» благодаря усилившимся коммуникациям.
Тогда Ромен Роллан возвещал наступившую эру единства и единения; тогда Аполлинер страстно мечтал о «солнце Разума»; тогда Пикассо неожиданно перешел к светлым «классическим» образам.
В 1932 году Томас Манн писал одному из своих корреспондентов: «Страдания и приключения, выпавшие на долю европейского человечества в последнее время, вызвали новый, особой силы интерес к проблеме самого человека, к его сущности, его положению в космосе, его прошлому, его будущему, интерес, который таким насущным и всесторонним никогда раньше не был <…>. Налицо, особенно, может быть, у нас в Германии, новая, вдохновленная этим интересом антропология, своеобразное оживление в области науки о древнем мире, истории мифов и религии, любопытные попытки проникнуть в первобытную древность человечества <…>. Физиогномика, характерология, изучение экспрессивных средств оживились по-новому»5.
Т. Манн в то время работал над библейско-мифологическим романом об Иосифе. В этом же письме он далее говорит: «…я отчетливо вижу связь этого замысла с теми общими тенденциями, что я сейчас пытался определить, и снова нахожу, что человек, и особенно художник, является индивидуумом в куда меньшей мере, чем он на то надеется или того боится»6.
Роман «Иосиф и его братья» – одно из самых оптимистически-благожелательных по отношению к человеческой природе произведений
XX века, хотя человек в нем нисколько не идеализируется. Он берется в своей двойственной сущности, открытой и тьме и свету, эта двойственность в прологе шутливо-философически осмысливается как тайный замысел Бога, сочувственно следящего за «приключениями духа», пожелавшего низойти в дольний мир. Главный герой наделен «благословлениями небесными свыше, благословлениями бездны, лежащей долу» (эти слова, взятые из Библии, Манн считал ключевыми для своего романа).
Прошел всего год с тех пор, как Манн написал цитированное выше письмо, и ему пришлось навсегда покинуть свою Германию. Страна Гёте и Шиллера, которая, как Манн предсказывал, еще внесет весомый вклад в теоретическое познание человека, эта Германия совершила практическую акцию, добровольно подчинившись «мерзейшему шуту». Горький корректив к теории! Вместо новой антропологии рождалась новая антропофагия. Следующий большой роман Т. Манна, «Доктор Фаустус», далек от светлой тональности «Иосифа…». Он посвящен не благословенному, а проклятому герою, повествует о сделке с дьяволом, а о косвенном участии небесных сил больше нет речи, пролог на небе отсутствует.
Между тем «особой силы интерес к проблеме самого человека» не угасал, находя выражение в искусстве, литературе, социологии и психологии, но события Второй мировой войны сообщили неутешительный тон этим изысканиям.
Известный социолог и психолог Эрих Фромм пишет в книге «Человек для себя», вышедшей в 1947 году: «Начиная с литературы древности и Средневековья вплоть до конца XIX века много усилий было обращено на описания того, каким должен быть хороший человек и хорошее общество. Эти идеи выражались частью в форме философских и теологических трактатов, частью в форме утопии. Для XX столетия характерно отсутствие подобных идей. Акцент ставится на критическом анализе человека и общества, а позитивное представление о должном лишь подразумевается. Хотя критицизм, несомненно, является важным условием улучшения общества, отсутствие позитивного образа “лучшего” человека и “лучшего” общества парализует веру человека в себя и в свое будущее (являясь в то же время и результатом этого паралича)»7.
Фромм – один из немногих буржуазных мыслителей современности, который концентрирует внимание на позитивном аспекте проблемы и стремится выработать новую гуманистическую этику, опираясь на традиции Аристотеля, Спинозы и просветителей. Коротко говоря, главная мысль Фромма сводится к идее «самореализации» человеческой личности, к максимально полному развертыванию ее потенций в процессе деятельного, «продуктивного» отношения к людям, вещам и самому себе. Причем ни религия, ни какие-либо внеличные авторитеты опорой быть не могут: «цель человека – в нем самом», «ценностные этические нормы должны быть сформированы человеческим разумом и только им», «человек должен принять на себя ответственность за себя самого», а для этого – познать себя самого.
Все это было бы прекрасно, если бы не заколдованный круг: может ли человек стремиться к развертыванию своих потенций, если он в них-то и усомнился, познавая себя самого? И может ли всецело опираться на разум, если усомнился в разуме, вкусив его плоды (атомное оружие ведь тоже сработано разумом)? Сам же Фромм в приведенных выше словах мимоходом констатирует наличие заколдованного круга, замечая, что отсутствие положительной модели поведения парализует веру человека в себя, а в то же время и является само результатом паралича веры в себя. Вероятно, в большей мере результатом, чем причиной.
Не странно ли, в самом деле, что в эпоху Возрождения, когда познания человека об окружающем мире были сравнительно ничтожны, а злодеяний и несправедливостей творилось достаточно (если они не были столь широкомасштабными, как в XX веке, то ведь и нужной для того техники не было), человек тем не менее был преисполнен чувства горделивого достоинства, значительности, могущества своей личности. И что человек XX века, достигший сказочных успехов в науке и технике, создавший материальные предпосылки для процветания своего рода, проникший в космос, побывавший на Луне, так мало расположен гордиться собой и, напротив, склонен всячески унижать себя устами своих мыслителей и художников.
Западная литература последних десятилетий часто высказывает суждения о человеческой природе, которые по своей горечи и скепсису имеют мало подобий в литературе прошлых веков. Разве что у Свифта. Однако свифтовского яростного негодования, обращенного на человеческие пороки, у современных писателей нет, им недостает веры в способность разума твердо отличать добро от зла. Анализируя характеры и мотивы поведения, чаще всего находят в них лишенную устойчивого ядра смесь многоразличных потенций; какие из них возобладают и обнаружатся в действии, зависит от случайного поворота обстоятельств, от гипноза коллективных предубеждений, от «роли», которая выпадает на долю личности, причем не сама она и выбирает роль. «Бог, играющий в кости», распоряжается не только судьбами, но и характерами, которые из-за своей потенциальной вариантности и эластичности легко поддаются всему. Игральные кости встряхнули – и те же составные элементы образовали иное целое; повернули калейдоскоп – и те же стеклышки сложились в иной узор.
Весь мир содрогнулся, узнав о массовых злодеяниях, совершенных во Вторую мировую войну германским фашизмом. Но содрогание вызывало и то, что люди, по чьей воле совершались эти неслыханные акции, имели нормальный человеческий облик, любили своих детей, ценили музыку, считали себя преданными «родине» и «долгу». Это с трудом вмещалось в сознание.
По материалам судебного процесса над военными преступниками писатель Петер Вайс написал документальную пьесу «Дознание». Один из свидетелей, бывший узник концлагеря, говорит там следующее:
…и палачи, и узники обычными были людьми: масса людей доставлялась (курсив мой. – Н.Д.) в лагерь, масса людей доставляла в лагерь – одни доставляли других, но и эти, и те были люди. Многие из тех, которые были предназначены играть роль узников, выросли в том же мире, что и те, кто попал на роль палачей. Кто знает, многие, если бы их не назначила судьба на роль узников, могли бы стать палачами…Говоря, что и палачи, и узники «выросли в том же мире», свидетель подразумевает мир фашизма, нацистский рейх. Но, трактуемые расширительно, такие гипотезы, увы не вполне беспочвенные, наложили определенный отпечаток на западное «человековедение». Конечно, единодушия в оценке человеческой натуры нет; этот вопрос остается полем напряженной борьбы идей, безнадежным концепциям противостоят относительно более светлые, поиски «человеческого в человеке» продолжаются. Героический гуманизм Антуана Экзюпери («Уважение к человеку!.. Вот пробный камень!»), оптимистическая философия Тейяра де Шардена, где человеку отводится роль продолжателя космической эволюции, апелляция к разуму у Э. Фромма, социальный оптимизм Брехта – эти разные по своей сущности и установкам явления сближает вера в человека.
Но во всех случаях индивидуализм лишается романтического ореола, каким его окружали в байроновские времена, да и в начале нашего века. (Соответственно и лирическая поэзия уменьшается в своем удельном весе по сравнению с жесткой аналитической прозой.) Нет больше веры в то, что личность, дай только ей свободу, воссияет в своем величии. Заглянув в «магический театр» индивидуального сознания (как это делали Пруст, Джойс, экспрессионисты), западноевропейские художники начинают подозревать, что оно, аморфное и зыбкое в своих глубинах, больше жаждет зависимости, чем свободы. Ответственность за свои действия тягостна. Предоставленная себе, индивидуальность теряется, пустеет, ищет отождествления с «группой», хочет, чтобы ее вели, обуздывали всяческими табу, чтобы пришел некий «Годо», который всеустроит. Отсюда – конформизм, отсюда – подчинение фашистским режимам. А «нонконформизм» сплошь и рядом оборачивается конформизмом наизнанку. Лозунги «Долой!» принимаются так же стадно и слепо, как «Да здравствует!».
Эту пассивную даже в своей агрессивности личность современная литература подвергает изощренным и искусительным мысленным экспериментам, ставя ее в гипотетические ситуации: что было бы, если бы?.. Что, если в какой-то момент жизни обстоятельства сложились бы чуть-чуть иначе или вместо одного незначительного поступка был совершен другой, тоже, по-видимому, незначительный, – не пойдет ли жизнь индивидуума по другому руслу и не предстанет ли он уже в каком-то другом из многих возможных вариантов своей личности, оставаясь все той же индивидуальностью? Подобные опыты над своими героями производят Брехт, Фриш, Дюрренматт, Кобо Абэ. Всевозможными допущениями живет современная фантастика, не чуждающаяся психологического анализа. И иногда приходит к выводу, что не только судьба и характер отдельного человека, но и судьба и характер общества зависят от случайных сдвигов. Классический пример – известный рассказ Рея Брэдбери «И грянул гром…», где персонаж, отправившийся на машине времени в доисторическую эпоху, раздавил там по неосторожности одну-единственную маленькую бабочку. Это пустяковое изменение прошлого оказало такое влияние на будущее, что, вернувшись в свой век, герой нашел его социальную ситуацию резко ухудшенной по сравнению с той, что была до его поездки.
Странным образом опыты прогнозирования будущего, составившие в наши дни целую науку – футурологию, – сосуществуют с идеей «непредсказуемости», всемогущего случая, бесконечной вариантности путей развития.
Герман Гессе много раздумывал над многоликостью человеческого «я», пожалуй, это было основной его темой в 1920-е годы. В романе «Степной волк» таинственный Шахматист говорит Галлеру: «Вам известно ошибочное и злосчастное представление, будто человек есть некое постоянное единство. Вам известно также, что человек состоит из множества душ, из великого множества “я”»8.
Эта неоднократно повторяемая идея представлялась Гессе романтически-красивой: несмотря на все страхи и ужасы, живописуемые в «магическом театре», он, в сущности, ею любуется, видя здесь источник нескончаемых приключений души и «аллегорическое отражение самого священного, что мы знаем, – жизни». По прошествии десятилетий та же идея приобретает у других художников слова более прозаичный, угрюмый колорит. Она не воодушевляет, а подавляет. Может быть, потому, что Гессе еще полагал, будто личность вольна перестраивать свои «шахматные фигуры», составляя из них меняющиеся комбинации и наслаждаясь этой игрой. Личность – одновременно и шахматы, и шахматист, и материал для лепки и скульптор. Тогда это в самом деле увлекательно. Но что, если личность – только набор шахмат, а не игрок, только глина, но не скульптор? В пьесе М. Фриша «Биография» даже метафора та же самая – шахматы; герою пьесы позволено переиграть сыгранную партию жизни с тем, чтобы избежать сделанных ошибок. Однако, хотя вариантов много, выбрать оптимальный ему не удается, ибо он не знает, чего, собственно, хочет, а кроме того, каждое изменение «хода» влечет за собой другие непредусмотренные конфликты и приводит к еще худшему. Хотя Фриш в автокомментарии говорит: «Этой пьесой автор ничего не хотел доказать»9, – он доказывает бессилие личности что-либо выбрать.
Притчи, параболы, иносказания… Они стали в послевоенной литературе едва ли не господствующим жанром: ведь как иначе можно исследовать «человека вообще»? Как гласит эпиграф Камю к роману «Чума», взятый у Дефо, приходится «изображать то, что действительно существует, с помощью того, что не существует вовсе». Но вот роман популярной английской писательницы Айрис Мёрдок «Черный принц» – не притча, а довольно традиционный по форме психологический роман с занимательной фабулой с любовной историей. И здесь на житейском материале показана непредсказуемость поведения личности и хамеле-онная ее изменчивость. Все повороты неожиданны. Все персонажи неуловимо изменяются на протяжении повести; к концу они становятся как бы уже совсем другими людьми, выкроенными из того же материала. Они плохо понимают друг друга, потому что и сами себя не понимают; неправильно истолковывают мотивы поведения своих партнеров, потому что тем и самим неясны эти мотивы. В каждом намешано много всякого; как правило, побеждает худшее – зло по своей сущности агрессивно, а значит, и более деятельно, чем добро.
Непредсказуемость – характерный мотив не только «большой» литературы. В современных детективных психологических романах виновником преступления всегда оказывается тот из действующих лиц, кто выглядел менее всех способным на преступление. Это, конечно, исконная особенность детективного жанра, но теперь она несколько иначе мотивируется авторами: дело оказывается не столько в том, что преступник очень искусно маскировался, сколько в том, что в нем бок о бок уживаются разные, даже противоположные потенции и побуждения. Иногда преступление выглядит извращенным проявлением добрых потенций. В романе Агаты Кристи «Десять негритят» убийца – старый судья, одержимый манией справедливости и возмездия виновным: во имя справедливости он и убивает десятерых человек. В этом же произведении с наглядностью дидактического пособия проводится мысль, тоже очень характерная, о всеобщей виновности: каждый из десятерых убитых так или иначе повинен в чьей-то смерти.
В качестве примеров крайне пессимистической оценки человеческих возможностей обычно указывают на произведения писателей-абсурдистов – Беккета, Ионеско. Не менее сильные примеры можно почерпнуть и у писателей, далеких от абсурдизма. Например, у знаменитого Олдоса Хаксли, автора нашумевшей антиутопии «Этот прекрасный новый мир». Это раннее произведение Хаксли; после него он написал множество книг. Много позже написан роман «After Many а Summer…» – произведение лишь с легким налетом фантастичности. Фантастическое допущение сводится к тому, что в XVIII веке некий английский аристократ открыл эликсир долголетия и дожил до наших дней. Что из этого получилось – выглядит саркастической антитезой идеи Э. Фромма о «реализации потенций личности». Фромм видит экзистенциальную трагедию человека в краткости жизни: «Человек всегда умирает раньше, чем успевает родиться полностью». В романе Хаксли человек, проживший двести лет и сохранивший жизненные силы, становится чудовищем. Ибо время – аккумулятор зла.
Большую часть романа Хаксли занимают пространные философические рассуждения некоего мистера Проптера – это персонаж, почти не связанный с фабулой, но роман в целом как бы приложен к его рассуждениям в качестве иллюстрации. Суть философии мистера Проптера, по-европейски жестко интерпретирующей восточные учения о самообмане личного бытия в сочетании с идеями средневековых мистиков, в том, что «человеческое», «личностное» начало есть само по себе зло и ничего, кроме зла, продуцировать не может. «Эго», с его ненасытными алканиями и тревогами, и время, которому оно подчинено, – «два аспекта одной и той же вещи. И эта вещь есть субстанция зла».
Эту мысль мистер Проптер развивает и иллюстрирует на многих примерах. Его молодой собеседник, вернувшийся из Испании, где он сражался против фашистов в Интернациональной бригаде, растерянно спрашивает: а как же дружба, солидарность, самопожертвование, идеалы, социальная справедливость? Мистер Проптер отвечает. «Самопожертвование осуществляется во имя идеала, а идеал – простая проекция “я”. То, что обычно называют самопожертвованием, есть жертва одной части своего “я” в пользу другой части <…>. Большинство вещей, которые нас учили уважать и преклоняться перед ними, не заслуживают иного отношения, кроме циничного <…>. Вас учили поклоняться идеалам патриотизма, социальной справедливости, науки, романтической любви <„>. Вас уверяли, что самопожертвование всегда возвышенно и утонченные чувства всегда прекрасны. Но ведь все это бессмыслица, это только красивая упаковка лжи <…>. Если вы не вооружитесь непоколебимым цинизмом по отношению ко всей высокопарной болтовне священников, профессоров, политиков и им подобных, вы пропали. Окончательно пропали. Тогда вы обречены на вечное заключение в своем эго – обречены оставаться личностью в личностном мире, а личностный мир – это здешний мир, мир алчности, страха, ненависти, капитализма, диктатуры и рабства»10.
Социальная справедливость? Мистер Проптер отвечает: «Наполеон был порождением Французской революции. Германский национализм был порождением Наполеона. Война 1870 года – порождение германского национализма. Война 1914 года – следствие войны 1870 года. Гитлер – следствие войны 1914 года. Таковы печальные результаты Французской революции».
«Почему вы падаете, прыгнув с десятого этажа? Потому что таковы законы природы – вы должны упасть. А законы действительности на собственно человеческом уровне, на уровне времени и желаний, таковы, что вы не можете содеять ничего, кроме зла. Если вы решаете действовать исключительно на этом уровне и исключительно ради идеалов и принципов, ему свойственных, тогда вы безумны. Вы безумны, так как опыт ясно показывает вам: на этом уровне не достигается добро. Есть только разные степени и роды зла».
А где же достигается добро? – спрашивает собеседник. «На уровне, лежащем под человеческим, и на уровне – над человеческим. На животном уровне и на уровне – я предоставляю вам выбрать для него название: уровень вечности или, если вы не возражаете, уровень Бога, уровень духа – хотя это слово принадлежит к самым двусмысленным словам нашего языка. На низшем уровне добро существует в виде правильного функционирования организма, в согласии с законами его бытия. На высшем уровне оно существует в форме познания, чуждого желаниям и отвращениям; оно существует как переживание вечности, данное в опыте, как трансценденция личного, как распространение сознания за пределы, поставленные эго. Собственно человеческая активность – это активность, препятствующая распространению добра на двух других уровнях. Потому что постольку, поскольку мы подвластны времени, мы страстно цепляемся за наши личности, которые называются нашей политикой, нашими идеалами, нашими религиями. А каков результат? Пленники времени и эго, мы обречены вечно жаждать и вечно находиться в тревоге».
Такова концепция «человеческого», не оставляющая никаких надежд, кроме возврата к «безвредному животному уровню», поскольку второй, высший выход – трансцендирование за пределы эго – практически не удается даже и самому мистеру Проптеру. Не следует, конечно, отождествлять его воззрения с воззрениями писателя О. Хаксли. Однако писатель с нескрываемым пиететом относится к своему старику-философу.
Хотя не в столь крайнем выражении, как у Хаксли, недоверие к активно-деятельному началу пронизывает литературу послевоенных десятилетий. Романтизированный образ волевого, энергичного героя деградировал до Джеймса Бонда, до массовой литературы в ее наиболее низменных образцах, до китча. «Большая литература» подвергает сомнению ценность активного действия и ценность идей, вдохновляющих на такие действия. Грэм Грин взял эпиграфом к роману «Тихий американец» строки поэта А Клафа:
Нет, не поддамся чувству: к действию волю пробудит; А в действии скрыта опасность. Всякой неправды страшусь я, Всякой ошибки сердца, несправедливого дела. К ним так часто влечет нас ложное чувство долга.Ромул Великий в пьесе Ф. Дюрренматта – никудышный император: он сложа руки смотрит, как разваливается Римская империя, и в дни страшных бедствий невозмутимо занимается разведением кур. Но выясняется, что бездействие и было в данной ситуации оптимальным вариантом и что Ромул дальновиднее, да и благороднее других.
Где в современной буржуазной литературе появляются в качестве положительных героев активные политические деятели, крупные ученые, мудрые полководцы? Таких что-то не видно. Персонажи, затевающие «большую игру», как правило, ее проигрывают, а если выигрывают, то благодаря своей крайней бессовестности. Персонажи, служащие, как они считают, большой идее, незаметно для себя становятся слугами дьявола. А откуда брезжит свет?
Слабый, маленький, он исходит от слабых и маленьких людей, которые ни на что особенное не претендуют и с точки зрения окружающих и самих себя являются или обыкновенными грешниками, или нищими духом, или комическими фигурами. Нескладные подростки и чудаковатые старухи (у Фолкнера, у Трумена Капоте, у Сэллинджера), клоун у Г. Бёлля, писатель-неудачник, работающий в акцизе, у А. Мёрдок, мелкий служащий, который один во всем городе не согласился превратиться в носорога, у Ионеско, нищий Акки у Дюрренматта, проститутки у Ремарка. Это в общем аутсайдеры, стоящие вне игры, на обочинах социальной жизни, они не «служат идеалам», но сохраняют интуицию добра. Надежды возлагаются не на сильных, а на слабых.
Ужасный призрак фашистского «активизма», фашистского «долга», фашистской «идеи» вызвал реакцию недоверия к плодам человеческой активности вообще и преувеличенное мнение о пассивной податливости человеческой натуры.
III
Откликается ли на все эти проблемы изобразительное искусство, прошедшее школу кубизма, фовизма, экспрессионизма? Или оно действительно погрузилось в чистое формотворчество с сильной примесью самоглумления?
Если не говорить о затянувшемся абстрактивизме и многих экстравагантных и недолговечных поветриях (чей количественный удельный вес, впрочем, очень велик, включая бесчисленных эпигонов), свои ответы на вопросы «кто мы?» дают и художники.
Неообъективизм – так называли течение, наследовавшее экспрессионизму после Первой мировой войны. В самом наименовании зафиксирован отход от субъективности самовыражения, новый «прилив к объекту». Но речь о находящемся «вне» ведется на языке, созданном ранними экспрессионистами, говорившими главным образом о том, что «внутри». Деформации, гиперболы, метафоры, утрированная экспрессия, свободное обращение с пространством, неподчиненность законам визуального восприятия – все это, так сказать, берется на вооружение, и складывается новый подход к реальности. Если, к примеру, кричащая фигура на мосту в знаменитой композиции Мунка (который был одним из прямых родоначальников экспрессионизма) – символический образ крика одинокой души, то «Раненый солдат» Дикса – это и есть раненый солдат, жертва реальной войны, а не проекция личности художника. Но так изобразить раненого солдата можно было только после Мунка, пройдя экспрессионистский искус. Когда Георг Грос говорил, что «простой набросок столяра лучше, осмысленней, наконец, эстетически прекраснее, чем более или менее абстрактное, неясное, весьма индивидуальное проявление внутреннего, мистически тревожного переживания»11, он проявлял некоторую неблагодарность к своим предшественникам-экспрессионистам. Предпринятые ими путешествия в «трущобы сердца» не прошли впустую и дали язык неообъективистам. В спутанных и смутных недрах «я» в конце концов обнаруживалось нечто, роднящее его с другими «я». «Я» выводилось из своего сакрального заточения. Возникало чувство приобщенности, о котором говорится в стихах Элюара:
Я и зритель, и автор, и каждый актер, Я и женщина, и муж ее, и ребенок, И первая любовь, и последняя любовь, И случайный прохожий в толпе…Опыт художественных исповедей создал основу для художественных притч. Он дал возможность живописцам так самоотождествиться хотя бы с раненым солдатом, как нельзя было сделать в традициях Жерико или Верещагина. Близко экспрессионизму драматическое искусство Кэте Кольвиц, эпическое искусство Мазереля, дающее широкую панораму современной жизни с ее проблемами – опять-таки в форме притчи.
Можно употребить термин «неообъективизм» расширительно – по отношению ко многим явлениям послевоенного искусства. И кубизм в лице Пикассо вступил в свою неообъективистскую стадию. Пикассо после Первой мировой войны создает серии гротескных изображений, которые в конечном счете представляют собой портрет современного человечества. Портрет, что и говорить, не лестный, но в своем роде пророческий, беспощадно «называющий» те людские черты, которые сделали возможными и фашизм, и Вторую мировую войну. Люди-плазмодии, составленные из гнутых, искривленных, неустойчивых форм; «женщины в кресле» – покорные пассивные, дремлющие; зловеще-агрессивные конструкции, напоминающие и механизм, и злое насекомое. Заблуждаются те, кто видит в этих произведениях лишь дразнящую и шокирующую игру с формами. Нет, это целая социальная психология. «Первичные формы» теперь стали у Пикассо языком, на котором высказываются горькие и сокровенные истины. Кульминационное высказывание – «Герника». Безвинно виновные существа, те самые, которые расслабленно никли в своих «креслах», дико плясали в своих дансингах, погибают; непрочно составленные тела расслаиваются; виновника катастрофы не видно – зло, замедленно источавшееся из их собственных пор, сгустилось над ними и обрушилось на них, тупых и беспечных, жалких и страдающих.
Глубокий иносказательный смысл заложен и в графических сериях о Минотавре. Образ мифического человеко-быка отсвечивает у Пикассо многими гранями и от простой аллегории далек. Минотавр и свиреп и добродушен, и страшен и трогателен, он и насильник и жертва, он бездумно сеет разрушения и убивает играя. За буйствами Минотавра задумчиво наблюдают свидетели, нечто вроде античного хора – молодые девушки с тонкими, нежными лицами. Они окружают кольцом раздумья арену жизни с ее разгулом слепых страстей. Когда Минотавр убивает, «одна из хора» встает с зажженной свечой на его пути. Когда он спит, она бодрствует, пытливо всматриваясь в лик чудовища, ставший во сне простодушным. Когда Минотавр слепнет, она становится его поводырем.
В пластическом искусстве XX века можно заметить тенденцию к собирательному образу человека. Это нечто новое: живопись и скульптура всегда тяготели к конкретным вещам, к «этой» конкретной личности. На заре Возрождения индивидуальные образы появились раньше в изобразительном искусстве, чем в словесном, где описания и характеристики долго оставались «типовыми». Теперь живопись и скульптура акцентируют «общее» даже в портрете.
Уже в портретной галерее Модильяни, при острой индивидуальной характерности каждого лица, подчеркнуто проступают родовые черты. Удлиненность пропорций, очень узкие лица, очень покатые плечи, очень длинные шеи, глаза часто без зрачков или один глаз зачернен. Этот устойчивый у Модильяни тип деформации берет начало от его скульптурных работ – в юности, прежде чем посвятить себя портретной живописи, он делал загадочные каменные головы, отдаленно навеянные то ли негритянскими масками, то ли архаическими греческими корами. Они яйцеобразны и так сильно вытянуты в длину, что, составленные в группу, напоминают трубы органа. Эти головы имперсональны, скорее архитектурны, чем изобразительны, – автономной экспрессией обладает сама пластическая форма длинного, узкого, заостренного овала, подчиняющая себе структуру лица. Она вызывает ощущение герметизма, замкнутости и вместе с тем какой-то хрупкости. Эта форма и стала для Модильяни ключевой в его понимании человеческого существа. Люди Модильяни все без исключения интровертны, если воспользоваться термином современной психологии. Будь то его юная жена, поэт Макс Жакоб, художник Сутин, маленькая служаночка, крестьянский мальчик – нисколько друг на друга не похожие, они вместе с тем и похожи: все таят в своей сердцевине тот же орешек – одинокую, молчаливую, несообщаемую сущность. Своему одиночеству они печально-покорны – и руки у них сложены с трогательной покорностью, образуя опять-таки замыкающие овальные очертания. Форма вытянутого овала для художника эквивалентна тому, что он хочет сказать о людях – не о каждом в отдельности, а обо всех.
Модильяни прозревает общечеловеческое, как он его понимает, сквозь все оттенки индивидуального. Многие художники позднейшей генерации отвлекаются от индивидуального, создавая каждый своего «человека», человеческую особь. У скульптора Альберто Джакометти это проволочно-тонкие, длинные, почти бесплотные фигуры, вокруг них всегда ощущается зона пустоты; в пустом пространстве они шагают мерно и завороженно, как сомнамбулы.
Другого типа человек у Генри Мура. Движущихся фигур у него нет – или сидящие, или полулежащие; особенно в последних скульптор дает почувствовать массивную глыбистость тел – как бы тяжелые валуны, отшлифованные волнами времени. Скульптуры Мура надо смотреть с разных сторон, обходя кругом, – тогда меняется соотношение объемов, пустот, впадин, неведомые существа медленно движутся, оживают. В некоторых аспектах они отождествляются с природой, становятся похожи на те причудливые большие камни, оставленные ледниковым периодом, которые разбросаны там и сям в долинах. Чуть меняется угол зрения – и в них ясно различимы формы человеческого тела, усилием воли приподнимающегося с земли. Но головы у многих статуй представляют собой странные рудименты, как у некоторых фигур Пикассо. Такие головы и у величественных «Короля и королевы», и у фигуры возле здания ЮНЕСКО. О своей скульптуре «Воин» Мур говорил: «Подобное быку, но покорное существо, сильное, но сломленное. Рассеченный посередине череп выражает страдание – в фигуре чувствуется смирение, но вместе с тем – отказ смириться окончательно. Противопоставление головы естественному построению остального выявляет всю идею фигуры»12. Концепция человека у Мура драматична, конфликтна, но далеко не так безотрадна, как у Джакометти. Мур считает: «Никогда истинное отчаяние не могло быть источником какого-либо искусства и творчества в жизни художника. Быть художником – это по своему состоянию противоположно состоянию отчаяния. Быть художником – значит верить в жизнь»13.
Это сказано хорошо. Художнику необходимы запасы мужества перед лицом действительности, иначе он не сможет творить. Один из источников мужества – юмор, способный созерцать противоречия жизни отстраненно, с горькой, но и спасительной улыбкой. В искусстве XX века роль юмора исключительно велика. Ирония, гротеск, скептическая шутливость, пародия и самопародия пропитывают его как увлажняющее начало, поддерживающее обходным путем контакты с разумом, помогающее сохранять самообладание. Даже Джакометти не чужд юмор.
Юмор примиряет с жизнью печального художника Л.С. Лаури, также создавшего свой образ «человека» или, вернее, «человечка». Лаури, английский живописец, умер в 1976 году в 88-летнем возрасте; он вел тихую, уединенную жизнь, сторонясь новшеств современной цивилизации, и как художник всегда шел своим одиноким путем. Его своеобразное видение и манера сложились еще в 1920-е годы, с тех пор мало изменяясь, но «открыли» этого художника поздно, и только в старости он стал знаменит. Лаури писал полуреальные, полупризрачные индустриальные панорамы в районе Манчестера и городские улицы; они кажутся странно пустынными, несмотря на то что кишат людьми – маленькими фигурками, снующими в разных направлениях наподобие броуновского движения. Хотя фигурок множество, а пространство обширно и взято с высокой точки зрения, они не сливаются в общую толпу: каждая видна отчетливо. Тут мужчины, женщины, дети, они везут колясочки с младенцами, прогуливают собачек. Все более или менее похожи, у всех мушиные ножки и узенькие, муравьиные тельца, все подаются вперед при ходьбе и ужасно куда-то торопятся. Они не противны – скорее, внушают какое-то насмешливое умиление. Так видит художник своих современников – существа и массовидные, и одинокие среди мельтешения себе подобных. «Не будь я одинок, я б никогда не увидел того, что я увидел, – говорил Лаури. – Они – символы моего настроения, они – это я».
Говоря о юморе и о «человечках», невозможно не вспомнить «человечка» современных карикатуристов, точнее, мастеров юмористического рисунка. Угловатый меланхолический человек Сола Стейнберга, ватный человечек Джеймса Тербера, мышеподобный человечек Семпе, большеротый человечек Мориса Сине – помесь лягушки и кошки. Мы уже так привыкли к этим универсальным маскам, что забываем их сравнительно недавнее происхождение. Прежняя карикатура их не знала. Она пользовалась шаржем, утрировкой, диспропорциями, создавала юмористический типаж – скажем, тип прожженного политикана, самодовольного буржуа, суетной модницы и т. д. У современных юмористов их человечек – представитель человеческого рода, «землянин». Он один исполняет все роли человеческой комедии: он и мужчина, и женщина, и ребенок; он тюремщик, и он же узник; он бизнесмен и безработный; он громила и чиновник. Он же Адам и Ева. Юмористический эпос «от сотворения мира» в рисунках Тербера выглядит парадоксальной историей о том, как этот пресловутый человек, раз появившись на свет и умножившись, сам себя порабощал, преследовал, истреблял, пока не истребил окончательно и снова остался один со своим женским двойником на голой земле.
А вот как рассказана история «человечка» от Средневековья до буржуазной демократии Стейнбергом в сюите из семи рисунков, изображающих семь монументов. На первом монументе рыцарь в латах попирает поверженного дракона. На втором – король попирает рыцаря.
Потом Республика попирает короля. Четвертый рисунок – господин в цилиндре попирает Республику. Форма монументов все время усложняется, начиная от строгой простой колонны, на которой стоит рыцарь, до затейливо разукрашенного постамента, на котором стоит господин в цилиндре. Но дальше стиль постамента снова упрощается. На пятом рисунке генерал в пышных эполетах попирает штатского господина. На шестом – человечек появляется в своем первозданном виде, без всяких атрибутов: он стоит на элементарном постаменте-прямоугольнике и попирает генерала. Что же дальше? На седьмом рисунке тот же человечек на том же постаменте попирает собственную голову – больше ему нечего попирать.
Современный юмористический рисунок – еще недооцененное, в высшей степени характерное и примечательное «исчадие» XX века, зеркало его алогизмов, сведенных к наглядным графическим символам. Это философия наизнанку или изнанка философии. Человечки карикатуристов живут в удивительном, абсурдном мире. Они бродят по лестницам, ведущим в никуда, балансируют над пропастями, блуждают по запутанным лабиринтам, убегают от настигающего их огромного вопросительного знака, срастаются со стулом, снимают шляпу вместе с головой, стреляют в собственную тень, сами себя перечеркивают жирным крестом… И жуткая, и безумно смешная клоунада.
Но ведь клоунада и цирк – вообще одна из излюбленных тем искусства XX века. Не говоря уже о великом Клоуне, созданном гением Чаплина, кто только не изображал цирк! Сёра и Тулуз-Лотрек, а потом Пикассо, Руо, Матисс, Шагал – и для них это был не просто один из сюжетов, но особо многозначительный, емкий по смыслу. Судя по количеству изображений цирка – клоунов, акробатов, арлекинов, жонглеров, – можно подумать, что это популярнейшее зрелище в нашу эпоху, чего на самом деле нет: цирк любят дети, а большинство взрослых не посещает его годами, никакого сравнения с популярностью кино, футбола и хоккея. Но не спортивная площадка и не царство великолепно слаженных механизмов, а старинное ремесло циркачей почему-то стало метафорой мира у художников эпохи научно-технической революции.
Смогут ли далекие потомки по произведениям «изобразительного» (беру это слово в кавычки) искусства XX века получить представление о людях этого века и их жизни? Говорят, что из картин Терборха, Мет-сю и Питера де Хоха историки даже черпают сведения о торговых сношениях Голландии в XVII столетии; глядя, например, на изображенные на этих картинах ковры, можно понять, из какой страны они вывезены. Нет, конечно, ничего такого будущие историки не смогут узнать из произведений Пикассо и Брака, Матисса и Шагала, Джакометти и Мура. О том, как выглядели люди, как они работали, пили, ели, одевались, проводили досуг, эти произведения не расскажут ничего достоверного, и если потомки вздумают брать их на веру, они получат самое превратное представление даже о внешности своих предков. И даже журнальный рисунок, карикатура, которые в XIX веке давали обильный материал для изучения нравов и бытовых реалий, окажутся малоинформативными, сбивая с толку своими нонсенсами.
За более точной информацией человеку энного столетия придется обращаться к фотографическому материалу, который, к счастью, огромен; возможно, он вызовет удивление своим разительным несовпадением с тем, что тогда же показывали живопись, графика, скульптура.
Зато последние дадут информацию другого рода тому, кто окажется к ней восприимчив. О том, как люди видели себя изнутри. О сомнениях и неуверенности в себе людей атомного века, об их страхах, подавляемых усмешкой, об их предчувствиях, самопредостережениях и самоиронии «проницательный зритель» будущего узнать сможет. Этим он будет обязан тому, что искусство XX века, многим пожертвовав, многое утратив, научилось давать метафорическое тело вещам незримым.
Ссылки
1 Цит. по: Художники XX века. М., 1974. С. 259.
2 В противоположность искусству Востока, особенно Китая и Японии, где связь живописи и поэзии искони была тесной и неразрывной.
3 Балашов Н.И. Аполлинер и французская поэзия // Аполлинер. Стихи. М., 1967. С. 228–29.
4 Александр Бенуа размышляет. М, 1968. С. 271.
5 Манн Т. Письма. М., 1975. С. 47.
6 Там же. С. 48.
7 Fromm E. Man for Himself. N.Y., 1947. P. 89–90.
8 Гессе Г. Степной волк // Иностранная литература. 1977. № 5. С. 159.
9 Фриш М. Пьесы. Биография. М., 1970. С. 512.
10 Здесь и далее перевод произведений О. Хаксли выполнен самой Н.А. Дмитриевой. – Прим. сост.
11 Цит. по: Турова В. Графика экспрессионизма // Экспрессионизм. М., 1966. С. 103.
12 Англия. 1966. № 3. С. 79.
13 Там же. С. 80.
Томас Манн о кризисе искусства (Опыт комментирования романа «Доктор Фаустус»)[27]
Своим многолетним размышлениям над характером современной культурной эпохи Томас Манн подвел итог в романе «Доктор Фаустус», представляющем вершину его творчества, его жизни. Он писал его с отчетливым сознанием задачи. «Если прежние мои работы – во всяком случае, большинство их – и приобретали монументальный характер, то получалось это сверх ожидания, без преднамерения. <…> На этот раз, в отношении труда моей старости, дело впервые обстояло иначе. В этот единственный раз я знал, чего я хотел и какую задачу перед собой поставил: я задал себе урок который был ни больше, ни меньше, чем роман моей эпохи в виде истории мучительной и греховной жизни художника»1.
«Доктор Фаустус» – одновременно и художественное произведение, и исследование, которое можно назвать философским, социологическим или эстетическим, – эти аспекты в нем совмещены. Подобная форма, может быть, предвосхищает будущее гуманитарных наук, всегда тяготевших к союзу с художественными способами познания, с искусством.
Художественное мышление пристально и гибко, оно способно прильнуть вплотную к предмету познания. Оно позволяет постичь, как связаны в человеческом обществе макро– и микроявления, как одно отражается в другом. Чтобы уловить извилистые ходы, которые роет «подземный крот» истории, мало выстроить в ряд самые заметные факты, очищенные от индивидуальных деталей и случайностей. Нужны и детали и случайности. Нужно чутье художника на детали. И нужна прозорливая смелость художника, сопоставляющего и находящего связи в явлениях, лежащих, казалось бы, в разных плоскостях.
Это и делает Томас Манн. Биография вымышленного композитора Адриана Леверкюна собирает в фокусе многообразные излучения эпохи. Драмы личных судеб сливаются с драмой идей, противоречия времени обнажаются в противоречивости характеров, теоретические рассуждения приобретают значение вопросов жизни и смерти. Попробуйте мысленно вынести философскую концепцию «Доктора Фаустуса» за скобки, как сделал Толстой в «Войне и мире», – это окажется невозможным, от романа ничего не останется. «Доктор Фаустус» – произведение искусства, «жизнь в формах самой жизни», но также и философия в формах самой жизни.
Более того, это столь глубокая философия современной культуры, что едва ли мы найдем что-нибудь равное ей по значительности в нынешней западной философии, в ее традиционных формах эстетических трактатов. Современный философский роман явным образом посрамляет современные философские трактаты. Это характерно. Если у истоков ученой немецкой эстетики, эстетики «самого теоретического народа Европы» (выражение Энгельса), фигуры «чистых» философов Канта и Гегеля едва ли не заслоняли Шиллера и Гёте, то через столетие крупнейшим немецким теоретиком искусства оказывается художник, причем именно в качестве художника.
Томас Манн посвятил своему роману обширное авторское исследование («История “Доктора Фаустуса”. Роман одного романа») и кроме того написал ряд статей-спутников, рассматривающих те же или близкие проблемы. Но и на этом проблемы «Доктора Фаустуса» не исчерпаны, они вообще неисчерпаемы, так как продолжаются в настоящем. Свой рассказ о том, как был написан «Доктор Фаустус», Манн кончает словами: «Роман его становления закончился. Начался роман его земной жизни»2. Эта земная жизнь «Доктора Фаустуса» длится и сейчас, обогащаясь новыми аспектами, по мере того как растет опыт современной культуры. В «Докторе Фаустусе» можно проследить несколько главных тем и много дополнительных мотивов – все они переплетены между собой в сложном живом комплексе.
Прежде всего роман этот, задуманный и рожденный в 1943–1945 годах, под взрывы бомб, сотрясавшие весь мир, в атмосфере начала и конца гибели немецкого фашизма, ставит тему исторической вины и расплаты Германии.
Манн начал писать «Доктора Фаустуса» «23 мая anno 1943» – тогда же, когда приступает к своим запискам доктор философии Серенус Цейтблом, от лица которого ведется рассказ. В это время гитлеровские войска еще предпринимали попытки наступления, и поражение Третьего рейха отнюдь не всем казалось предрешенным. Но Томас Манн был еще за много лет до того уверен в обреченности «человеконенавистнического режима, ничего не понимающего в требованиях истории» (см. послание Манна декану Боннского университета в 1936 году). И, начав писать роман в разгар войны, он уже мысленно включил в его композицию близкую «кару Германии». Теперь предметом его раздумий был вопрос: как могло случиться, что немецкий народ, «склонный к умствованию и идеализму», издревле одержимый фаустовской жаждой познания, – как мог он допустить у себя позор нацизма, и не только допустить, но и поддаться нацистскому одурманиванию?
Не нужно думать, что Манн не понимал общесоциальных корней фашизма и считал его лишь национальной немецкой болезнью. Он говорит о нем как о проявлении растущей агрессивности империализма. Но почему все же Германии, именно Германии, стране великих философов и великих музыкантов, суждено было стать носителем этого зла?
Ответ на этот терзавший писателя вопрос (а он терзал его глубоко, ибо Томас Манн не отрекался от своей нации и всегда считал себя немецким писателем) он высказывал еще в статьях довоенного времени и окончательно развил его в докладе «Германия и немцы», сделанном в 1945 году в Америке. Прослеживая истоки нацистского позора немцев, Манн отказывается попросту делить Германию на «добрую» и «злую», но приходит к убеждению, что в исторических традициях «доброй» Германии заключалось и нечто такое, что могло выродиться в предрасположение к злу.
В статье 1939 года «Культура и политика» он связывал историческую вину немецкого бюргерства с высокомерной аполитичностью, которая на практике оборачивалась антидемократизмом. «Духовную жизнь нельзя начисто отделить от политики», «культура стоит перед лицом грозной опасности, если ей недостает политического инстинкта и воли» – вот главная мысль. С этой позиции Томас Манн осуждает и свою прежнюю, написанную в эпоху Первой мировой войны книгу «Размышления аполитичного»: «…я во имя культуры и даже свободы всеми силами сопротивлялся тому, что называл “демократией”, имея в виду политизацию духовной жизни»3. Манн не слагает вину Германии и с самого себя.
В работе «Германия и немцы» он подвергает ее дальнейшему анализу, который уже является плодом художественного исследования, выводом из работы над «Доктором Фаустусом». Он говорит о «немецкой отчужденности от мира, немецкой далекости от общемировых вопросов, глубокомысленной отрешенности от всемирного бытия; в прежние времена все это, в сочетании со своеобразным обывательским универсализмом, так сказать, космополитизмом в ночном колпаке, характеризовало душевный строй немца»4. Истоки этой социальной психологии бюргерства Манн видит в эпохе Реформации и персонифицирует ее в фигуре Лютера, «консервативного революционера», боровшегося за «духовное освобождение», но против политического освобождения.
Ход рассуждений Манна таков: культурное немецкое бюргерство, на многое дерзавшее в сфере «чистого духа», издавна питало отвращение к революции и к политике, видело в политических движениях только ложь и насилие, нечто грязное, оскорблявшее духовную сферу. Когда же оно в накопившейся жажде «прорваться» к миру, выйти из застойного провинциализма, из одиночества, на которое само же себя обрекло, «из мирского тщеславия отдается ей» (политике), оно и «действует сообразно этой философии», то есть безоглядно предается насилию, грязи и лжи. «Всему этому мы были свидетелями», – говорит Томас Манн.
Традиция размежевания духовной и политической свободы привела к тому, что политический элемент не вошел составной частью в немецкое понятие культуры, а отсюда неизбежное попрание и гибель самой культуры, когда вступает политический элемент, отданный на откуп «дьяволу».
Здесь и возникает у Манна символика ада и сатаны, звучит старинный мотив продажи души черту. «Где высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, таи появляется – черт (курсив мой. – Н.Д.). Поэтому черт – черт Лютера, черт “Фауста” – представляется мне в высшей степени немецким персонажем, а договор с ним, прозакладывание души черту, отказ от спасения души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами, всею властью мира, – подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу самой его натуры. Одинокий мыслитель и естествоиспытатель, келейный богослов и философ, который, желая насладиться всем миром и овладеть им, прозакладывает душу черту, – разве сейчас не подходящий момент взглянуть на Германию именно в этом аспекте, – сейчас, когда черт буквально уносит ее душу?»5
Такова одна из главных тем «Доктора Фаустуса» – «немецкая». Хотя это только одна из тем, отвлечься от нее нельзя, она пронизывает собой всю ткань романа. Она определяет собой и его своеобразную временную структуру – сопоставление и параллелизм трех пластов времени, трех эпох немецкой истории. Первая, которую описывает Цейтблом, – годы жизни и творчества композитора Леверкюна, от конца XIX века до 1940 года. Вторая – та, в которую Цейтблом пишет свои записки, – 1943–1945 годы. Немного лет отделяет ее от первой, но между ними пролегает рубеж гитлеризма, сделавший явным то, что в предшествующее время вызревало подспудно. И наконец, еще третья эпоха как неотступный призрак присутствует в романе, напоминая о себе то в описании сохранившего средневековый облик «города ведьм и чудаков» – Кайзер-сашерна, то в подробнейше изложенных лекциях богословского факультета, то в разглагольствованиях зловещего гостя Леверкюна, – это позднее немецкое Средневековье, начало XVI века, Реформация, Лютер. Тогда, по мысли Манна, начинали оплетать Германию духовные путы, трагически разрубленные через четыре с половиной столетия. А период, предшествующий диктатуре фашизма, – главное время действия в романе, – когда немецкая интеллигенция по видимости оставалась традиционно далекой от политики, скрыто нес в себе не только вину настоящего, но и вину далекого прошлого и кару близкого будущего.
Трагедия и вина музыканта Леверкюна есть, в плане этой темы, и отражение, и символическая параллель трагедии и вины немецкой интеллигенции. Это не значит – и это важно уяснить себе с самого начала, – что мировоззрение и творчество Леверкюна в какой бы то ни было мере перекликается с идеологией фашизма. Напротив, Томас Манн везде подчеркивает абсолютную чуждость Леверкюна всему, что хотя бы и в очень рафинированном, философическом виде подготавливало эту идеологию. Леверкюн скептически и насмешливо относится к любым тенденциям немецкого национализма: к разговорам об «особой исторической миссии» немцев, о немецкой «метафизической первозданности», призванной якобы «сбросить оковы отжившей цивилизации», – ко всем этим возвышенным бредням, которые он слышал еще в годы юности от людей, наивно не подозревавших, во что все это со временем выльется. Леверкюн, скорее, космополит, хотя это именно «космополитизм в ночном колпаке». Он столь же чужд идеям «прорыва» в политическом смысле, то есть покорения мира. В Первую мировую войну, когда даже гуманист Цейтблом на недолгий срок поддается «патриотическому» угару (как в то время и сам Томас Манн), Леверкюн смотрит на вещи трезвее, чем трезвый Цейтблом. Наконец, пресловутый идеал «сильной личности», «белокурой бестии» также ничего не имеет общего с идеалами Леверкюна.
И «демонизм» Леверкюна ничем не напоминает мистического комедиантства «мелких бесов» типа фейхтвангеровских Оскара Лаутензака или лже-Нерона, которых фашизм использовал как своих подручных оракулов. Леверкюн не комедиант: он действительно гениальный художник. Словом, этот любимый герой Томаса Манна не только не причастен, но и враждебен духовной подготовке почвы для фашизма; в этом смысле он не похож и на Ницше, чья биография послужила Манну канвой для биографии Леверкюна. Устами Цейтблома Манн говорит, что при нацистском режиме на творения Леверкюна была наложена «печать запрета и забвения», а сам Леверкюн, если бы жил в эти годы сознательной жизнью, неминуемо оказался бы в числе жертв.
И все же – Леверкюн повинен в фашизме постольку, поскольку повинна в нем аполитичность немецкой интеллигенции. Здесь Томас Манн не скупится на символические аналогии. Леверкюн, стремясь вырваться из кризиса (художественного), вступает в союз с дьяволом, подобно тому, как идет на сделку с дьяволом немецкое бюргерство, стремясь выйти из кризиса исторического. Он также покупает себе болезненный и недолгий подъем сил, пьянящее ощущение всемогущества. Но все время присутствует сознание обреченности и неизбежности расплаты.
Символический параллелизм проводится вплоть до деталей – в многозначительности совпадений, повторов, дат. Леверкюн в 1930 году погружается в беспроглядный мрак безумия, хотя еще продолжает физически жить. И в это же время погружается во мрак Германия – гитлеризм уже на пороге. Через десять лет умирает тело Леверкюна – в это время гитлеровская Германия, развязав войну, спешит навстречу неотвратимой катастрофе; давно подстерегающий черт «уносит ее душу».
Аналогичны поиски выхода из кризиса, вина и расплата. Но сама ситуация кризиса, в которой находится Леверкюн, не покрывается ситуацией исторического кризиса Германии и не вполне с ней сходствует. Беда Леверкюна – лишь отчасти немецкая беда; это в большей мере беда эпохи, «нашего глубоко критического времени», как говорит Томас Манн. В творческой судьбе Леверкюна отразилась судьба искусства поздней капиталистической эпохи, общая всем европейским культурам, в том числе и последовательно развивавшимся в лоне буржуазной демократии. Ведь Леверкюн творил еще в условиях относительной демократии – при фашизме его творчество просто не могло бы состояться, – призрак грозящего тупика, призрак бесплодия тогда и вставал перед ним; он-то и побудил его подвергнуться роковой «хмельной инъекции».
Тут мы имеем дело уже со второй главной темой романа – темой судьбы современного искусства и его кризиса. В этом плане мотив продажи души черту поворачивается уже новой смысловой гранью, «интернациональной» по существу, хотя и выдержанной в немецком колорите.
Томас Манн даже опасался, как бы из-за совмещения и наложения немецкой и общей проблематики «Фаустуса» первая не заслонила собой вторую – он же хотел, скорее, обратного: подчинить первую второй. «…Не помочь бы своим романом созданию нового немецкого мифа, польстив немцам их “демонизмом”. Похвала коллеги (Леонгарда Франка. – Н.Д) послужила мне призывом к интеллектуальной осторожности, к сколь можно более полному растворению очень немецкой по колориту тематики, тематики кризиса, в общих для всей эпохи и для всей Европы проблемах» (курсив мой. – Н.Д)6.
«Общие проблемы» кристаллизовались в «Докторе Фаустусе» как проблемы искусства, преимущественно музыки. Музыку и теорию музыки Томас Манн специально и углубленно изучал, работая над романом. Ему удалось достичь едва ли не единственного в мировой литературе поразительного результата: так описать языком слов никогда не существовавшие в звуковой материи музыкальные произведения Леверкюна, что у читателя создается чуть ли не иллюзия слышания.
Многие страницы «Фаустуса» посвящены сугубо специальным вопросам теории музыки, однако интерес их и смысл сохраняется и для неспециалистов, так как с полной прозрачностью сквозь них проступают общие проблемы искусства и гуманизма. Томас Манн сам указывал на подчиненную роль музыковедческого аспекта романа: «…Музыка, поскольку роман трактует (курсив мой. – Н.Д.) о ней… была здесь только передним планом, только частным случаем, только парадигмой более общего, только средством, чтобы показать положение искусства как такового, культуры, больше того – человека и человеческого гения в нашу глубоко критическую эпоху»7. (Это может послужить некоторым оправданием тому, что в настоящей статье музыкально-теоретические проблемы «Доктора Фаустуса» не рассматриваются.)
Вокруг темы кризиса культуры группируются и другие, связанные с ней, но вместе с тем и самостоятельные темы – о них позже. Очень важно не упускать из виду их единство в системе художественного целого.
Это целое, в свою очередь, отличается примечательной чертой: будучи, как целое, плодом вымысла, оно почти сплошь построено из деталей, прямо взятых из действительности, то есть в «формах самой жизни» в буквальном и прямом смысле.
Томас Манн называет это монтажом биографических и иных фактов, даже целых лиц и характеров, ситуаций, событий и обширных книжных реминисценций. Манн черпает из разнообразных источников: поистине «я беру свое всюду, где его нахожу». Еще за много лет до работы над «Доктором Фаустусом» Манн отстаивал закономерность такого метода, свое право на «одухотворение» фрагментов действительности, смонтированных в книге (см. статью «Бильзе и я» – «маленький манифест» молодого Манна по поводу «Будденброков»). Уже тогда он видел в монтаже симптом максимального сближения деятельности художника с деятельностью познающего.
«Доктор Фаустус» среди всех произведений Томаса Манна в наибольшей степени монтаж, можно даже сказать – местами «коллаж»: некоторые куски прямо-таки живьем вклеены в общую панораму.
Роман «Будденброки» в свое время вызвал нарекания со стороны обиженных портретным сходством, вернее – тенденциозностью нарисованных портретов. Не избежал нареканий и роман «Доктор Фаустус», правда, уже по другим мотивам: композитор Шёнберг был задет тем, что Манн использовал в романе принадлежащую Шёнбергу идею двенадцатитоновой техники, не упомянув его имени. Манн был вынужден упомянуть Шёнберга в отдельном примечании. Но впоследствии он писал, что это было ему не по душе: «…по той причине, что в сфере моей книги, этого мира дьявольской сделки и черной магии, идея двенадцатитоновой техники приобретает такой оттенок, такой колорит, которого у нее – не правда ли? – вообще-то нет и который в известной мере делает ее поистине моим достоянием, то есть достоянием моей книги»8.
Писатель так верил в преобразующую силу «одухотворения», что не останавливался перед введением в роман интимных и горьких событий из собственной семейной хроники. Так, самоубийство Клариссы Родде в точности воспроизводит обстоятельства самоубийства сестры писателя, вплоть до дословного повторения ее предсмертной записки.
Между фактами, идеями, деталями, штрихами, взятыми из различных источников, устанавливаются скрытые связи, «сцепления», и возникает совершенно новое качественное целое, несводимое к сумме частей и обладающее таким содержанием, к какому эти фрагменты не причастны вне художественного целого. А вместе с тем их невыдуманность сообщает произведению особый колорит достоверности, «самобытной действительности», которую художник исследует как ученый, но иначе, чем ученый.
Сама фигура Адриана Леверкюна в большой мере «смонтирована». События его жизни заимствованы из биографии Ницше. Основные музыкальные идеи навеяны Шёнбергом, Адорно, отчасти Стравинским. Сделка с дьяволом – свободная интерпретация «Фауста», разговор с дьяволом напоминает знаменитый диалог с чертом Ивана Карамазова. Отношения Леверкюна с невидимой поклонницей и покровительницей г-жой фон Толна воспроизводят соответствующий эпизод из биографии Чайковского – отношения с фон Мекк. Наконец, в художественных наклонностях Леверкюна, как увидим дальше, много автобиографического.
Но Леверкюн – не Ницше, не Шёнберг и не автопортрет Томаса Манна. Как художественная индивидуальность, он не имеет непосредственного прообраза, так же как не имеют прообразов его музыкальные произведения, столь слышимо описанные в романе. Леверкюн – вымышленный образ, обладающий настолько большой емкостью типа, что чем дальше, тем больше в нем открывается общностей с такими художественными явлениями эпохи, о которых Томас Манн в этой связи не думал, а может быть, их и не знал. Нечто «леверюоиовское» разными гранями проступает в творчестве Сезанна, Ван Гога, Врубеля, Пикассо, Кафки, русских поэтов-символистов.
Не только характер Леверкюна является воображенным и собирательным, таков же другой герой, скромный фамулус Леверкюна, чья роль в общей концепции романа гораздо значительнее, чем пассивная роль рассказчика. Серенус Цейтблом – и друг, и антагонист Леверкюна. На протяжении всего романа между ними идет диалог-спор – то прямой, то скрытый. Сам Цейтблом рекомендуется читателю как «преемник немецких гуманистов эпохи “Писем темных людей”». Он – терпимый и человечный сторонник светлого разума, поклонник классического «аполлоновского» начала культуры. Некоторая архаичность его принципов придает чуть-чуть комический оттенок облику Цейтблома, что особенно подчеркнуто на первых страницах: пристрастие к латинским изречениям, приятно-старомодная витиеватость слога.
Этот оттенок комизма разве что самый легкий и ничуть не дискредитирующий Цейтблома как проницательного гуманистического критика Леверкюна. На чем бы ни сталкивались их суждения, Цейтблом всегда носитель естественно-гуманного, здравого, чистого и при том вовсе не поверхностного и не филистерского взгляда на вещи. Его неприязнь к богословию, отвращение к суевериям, недоверие к реминисценциям «варварского» в искусстве, вообще то, что он всегда и во всем на стороне разума, делает его в конце концов совершенно сознательным (хотя и пассивным) противником фашизма, не восприимчивым к идеологическому дурману.
Но вот что примечательно: Цейтблом, враг мрака и друг света, любит Леверкюна «с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом». Любит столь самозабвенно, что его собственная жизнь проходит для него как бы под сурдинку, как что-то второстепенное и неважное. Цейтблом живет как будто только для того, чтобы «не спускать глаз» с Леверкюна. Правда, Леверкюн жестоко не замечает ни его преданности, ни его предостережений. Но Цейтблома это не охлаждает: его преданность – нечто большее, чем дружеская привязанность. Это сверхличное чувство, извечно побуждающее простое благородное сердце склоняться перед тем, в чем оно чувствует высшее начало (так здравомыслящий Санчо Панса преданно следует за безумным Дон Кихотом). Цейтблом проницателен не только в своей критике Леверкюна, но и в своей любви к нему, проницателен настолько, чтобы понимать, что бывают времена, когда безумие леверкюнов выше ясного разума цейтбломов.
О себе Томас Манн говорит: «…Ни одного своего вымышленного героя… я не любил так, как любил Адриана <…>. Я буквально разделял те чувства, которые питал к нему добрый Серенус, я был тревожно влюблен в него начиная с поры его надменного ученичества, я был до одури покорен его “холодом”, его далекостью от жизни, отсутствием у него “души”, этой посреднической инстанции, примиряющей ум и инстинкт, его “бесчеловечностью”, его “искрушенным сердцем”, его убежденностью в том, что он проклят»9.
Далее Манн объясняет, почему он нигде не описал внешность ни Адриана, ни Серенуса, опасаясь «принизить и опошлить духовный план с его символичностью и многозначительностью». И добавляет, что известной картинностью, зримостью могли быть наделены второстепенные персонажи его книги, «но отнюдь не ее протагонисты, один и другой, обязанные скрыть слишком большую тайну – тайну их тождества»10.
Больше Манн не возвращается к таинственному пункту «тождества» главных героев. Но мы, желая расшифровать зашифрованное и распрямить образы писателя по радиусам общих идей, не можем пройти мимо этого замечания.
Оно, видимо, может означать только одно: в образах таких различных, даже противоположных людей писатель объективировал и разделил некую внутреннюю самопротиворечивость явления. Едва ли будет натяжкой предположить, что Томас Манн сам, как художник, как деятель, ощущал в себе это двуединство, сознавал себя и Леверкюном и Цейтбломом, сам в себе переживал их внутреннюю борьбу. И если есть в романе что-то автопортретное, то оно складывается из этих противоположных и совокупных начал. «Исповедь» Манна содержится в равной мере в речах Леверкюна и Цейтблома. Причем, конечно, в писателе Томасе Манне присутствовало и третье, разрешающее начало синтеза.
Главное же то, что противоречие-тождество Леверкюна и Цейтблома есть противоречие-тождество внутри художественной культуры на рубеже эпох.
Закваска «доброго старого гуманизма» прочно присутствует в ней. Беда, однако, в том, что этот гуманизм, оставаясь добрым, становится старым. Его точит червь бессилия. Он бессилен сопротивляться натиску обнаглевшего и воинствующего зла; перед злом фашизма гуманистический разум печально отходит в сторону и стоит в позе горестного наблюдателя – также как Цейтблом удаляется от дел с приходом Гитлера к власти и в замкнутом одиночестве пережидает эту страшную пору, пока его собственные сыновья «служат своему фюреру».
Этот обреченный на пассивность разум оказывается в XX столетии обреченным на бесплодие и в искусстве. Цейтблом питает «любовь к прекрасному», он знаток Античности, «не вовсе чужд искусству» и прилично играет на старинном инструменте viola d’amore. Но это и все. Впрочем, не все: скромный Цейтблом одарен способностью понимания. Он понимает искания своего гениального друга лучше его самого, и он в состоянии, несмотря на свою влюбленность, отнестись к ним критически. Да и влюбленность его в Леверкюна тоже в конечном счете идет от понимания. Паралич действия не означает паралича аналитической способности. Цейтбломам в эту эпоху дано многое понимать и мало свершить, если не считать свершением то, что они могут поведать о своем понимании. И так ли уж это мало? В конце концов, подвиг вдумчивого летописца – важный подвиг. При условии, если ему будет что описывать, если кто-то другой даст ему материал. Леверкюн и есть этот другой – то есть действующий. Цейтблом любит его еще и потому, что в нем – единственный его способ активного самоосуществления через Леверкюна; повествуя о Леверкюне, анализируя творчество Леверкюна, он реализуется сам, без Леверкюна он – только эхо прошлого, академическая тень когда-то живых ценностей. Здесь есть некоторый парадокс. С виду Леверкюн более пассивен, «удален от жизни», чем его спутник. Цейтблом все-таки и занимается «любезной его сердцу педагогической деятельностью», и участвует в войне, и обзаводится семьей. Вообще он отдает умеренную дань всему «нормальному». Леверкюн же погружен в надменное уединение, и кажется, что никакие общественные страсти, ничто, кроме музыки, его не занимает. Но у Цейтблома его жизнь, нормальная и в меру общественная, протекает «мимоходом, рассеянно, как бы вполсилы», и не будь Леверкюна, он прожил бы ее, как те «не знавшие ни славы, ни позора смертных дел» злополучные тени, которых Данте поместил в преддверии Ада. А у Леверкюна отшельническая келья его жизни открыта настежь ветрам «критической эпохи». Леверкюн – не пассивное, а действующее лицо современной трагедии. Он-то стоит на костре, как Фарината дель Уберти.
Леверкюн – это Цейтблом, пожелавший вырваться из тупика бесплодия. В эпоху наступившего тотального отчуждения – отчуждения людей от результатов их действий, искусства от людей и людей друг от друга – он не может сделать этого, сохраняя гармонию и равновесие духа. Он должен – так или иначе – нарушить равновесие. Опасный, но неизбежный путь. Мы увидим, что он оказался для Леверкюна и катастрофическим: ему не удалось прорвать путы отчуждения. Но уже то важно, что им владеет героическая воля к прорыву.
Во многих своих теоретических работах Томас Манн называет подобный процесс прорывом к новому гуманизму. В основе лежит осознание недостаточности, изжитости, одряхления прежнего гуманизма – «цейтбломовского». И невозможности обрести новое гуманистическое мироощущение плавно, без катаклизмов, без болезненного потрясения привычных устоев – социальных, культурных и нравственных, – без риска «потерять душу», потерять духовное здоровье, но с тем, чтобы проложить путь к новому духовному здоровью новых поколений.
За эту готовность, которой нет у него самого, любит Леверкюна «добрый Сереиус» – любит, если он действительно добрый.
А что такое этот «новый гуманизм»? Ответить так же непросто, как предсказать, каким будет ребенок, только что появившийся на свет. И сами рождающие его в муках этого доподлинно не знают.
Конечно, процесс рождения нового происходит всегда и постоянно. Но первые десятилетия XX века дают нам картину как никогда напряженных, крутых и лихорадочных переломов, поисков еще неведомого. У самых разных, непохожих друг на друга художников мы находим общее – вот это состояние неодолимой тревоги, потребность «прорыва», сознание: «Больше нельзя по-прежнему, нужно иное». Старый Лев Толстой говорит себе и всему миру: «Больше нельзя по-прежнему», разрывает с прошлым, становится несправедливо критичен к самому себе как к автору «Войны и мира», «Анны Карениной» и зовет к искусству безыскусственному, необманному, органическому, которое было бы плотью от плоти народной жизни. В это время Ромен Роллан горит идеей создания народного зрелища, народного театра. В это время Горький атакует старое бурным натиском «плебейского» романтизма. В это время Маяковский провозглашает: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!». В это время Пикассо дерзостно разрушает вековые принципы «иллюзорного» изображения. В это время и позже многие, куда менее значительные, тоже говорят: «Больше нельзя по-прежнему» – и деятельно участвуют в разрушении; у одних разрушение так и остается разрушением, геростратовским актом, приводя к тупику «черного квадрата», у других в воцаряющемся хаосе проступают еще неясные, неуверенные очертания новых ценностей.
Ситуация бесконечно сложная, в которой отделить плевелы от зерен не так-то просто.
В конечном счете мера «вины» и «заслуги» художника в это переходное критическое время определяется, вероятно, тем, действительно ли в его творчестве живет созидательная воля, воля к рождению нового гуманизма. Или же он смакует ситуацию кризиса, вступает в нечистоплотную игру с хаосом, разложением, смертью, видит в «отчуждении» естественное состояние общества, человека, искусства; состояние, с которым, в общем-то, можно и примириться, ибо внутри него, внутри этого глухого лабиринта, есть возможность достаточно комфортабельного устройства собственного существования. Знало же искусство «апологетов смерти», которые весьма благополучно жили, как, например, Федор Сологуб. И их много в современном западном искусстве, где кризис ныне принимает застойно-благополучные, чуть ли не «академические» формы. Вот это – собственно буржуазная форма разрешения кризиса ведь буржуазность есть «пошлое самоудовлетворение».
Томасу Манну в новом гуманизме виделось освобождение «цейтбломовского» буржуазного гуманизма и оптимизма от самодовольной ограниченности, от прекраснодушных иллюзий, от замкнутости, от стремления, подобно страусу, прятать голову под крыло и попросту отворачиваться от того, что несовместимо с негибкими идеалами. Даже если с ними несовместимы законы природы – тем хуже для природы. В «Докторе Фаустусе» есть обширный вводный эпизод, где Леверкюн рассказывает Цейтблому о «чудесах Вселенной». Он говорит о непредставимой огромности космических пространств и чисел, о незначительном окраинном месте во Вселенной нашей галактики, о гипотезах происхождения жизни на Земле, которая, может быть, просто «продукт болотного газа какого-нибудь соседнего светила». Цейтблом не может скрыть своей неприязни к этим материям, какого-то страха перед ними, они ему кажутся чуждыми человеческому духу и «непродуктивными в религиозном отношении». Он предпочел бы ничего о них не знать. И тут Леверкюн насмешливо замечает ему, что, в сущности, его, Цейтблома, гуманизм – типичный продукт Средневековья: он сродни средневековому геоцентризму и антропоцентризму. Это замечание не в бровь, а в глаз. Тут действительно Леверкюн и Цейтблом неожиданно как бы меняются местами: воспитанный на богословском факультете, Леверкюн смотрит в лицо фактам трезвыми глазами материалиста, а «классик» Цейтблом оказывается в позиции средневекового схоласта. Здесь обнаруживается слабое место гуманизма Цейтблома: он хочет знать о мире не всю правду, а только ту, что льстит его аполлоническому «человеческому духу».
Еще в романе «Волшебная гора» Томас Манн, по собственным его словам, «заставил пройти своего героя через болезнь и смерть, через страстное изучение органического, заставил пережить его явление медицины (курсив мой. – Н.Д.) как событие – все это для того, чтобы он, поскольку это допускала лукавая наивность героя, подошел к предчувствию нового гуманизма»11. В это же время, в 1920-е годы, Манн говорил: «…Если бы мне позволено было мечтать о посмертной славе для моего творчества, мне бы хотелось, чтобы о нем сказали: оно было обращено к жизни, хотя и знало смерть. <…> Есть два вида любви к жизни: одна – ничего «не знает о смерти; это незатейливая, грубоватая любовь; и другая, та, которая хорошо ее знает; только эта любовь, как мне кажется, обладает настоящей духовной ценностью»12.
И еще яснее сказано в поздней работе о Достоевском: искусство, подобное искусству Достоевского, действует «во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания»13.
Это близко к тому, что составляет пафос творчества Ромена Роллана: «Видеть действительность такой, какая она есть – без ложного идеализма, без иллюзий, без покровов, – и все же любить ее». «Жизнь – трагедия; да здравствует жизнь!»
Не случайно это невольное сближение воззрений двух великих писателей, которые были свидетелями самых крайних форм «отчуждения», самых сокрушительных в истории войн и самых античеловечных режимов в лице фашизма. И ко всему этому они были современниками научных открытий, не оставлявших места былому антропоцентризму и подорвавших веру в пресловутый «здравый смысл». Эти же «апокалиптические» времена явились периодом пролетарских революций и широких демократических движений, где и был реальный очаг нового гуманизма. Каким бы он ни сформировался, он должен был быть прежде всего демократическим, мужественным, свободным от иллюзий, умеющим принимать самую суровую правду, умеющим смотреть в глаза современной Горгоне, не боясь превратиться в камень. Словом – обращенным к жизни, но хорошо знающим смерть.
Всячески прославлять человека – этого еще мало, это по-цейтбломовски. Нужно еще иметь мужество видеть и принимать человека и жизнь такими, какие они действительно есть, «без ложного идеализма, без иллюзий, без покровов».
Не одно поколение европейской интеллигенции (и русской тоже) сформировалось под влиянием пессимистической философии Шопенгауэра и Ницше, которая была своего рода реакцией на оптимизм буржуазных рационалистов. Проще всего было бы отбросить пессимистические концепции как «неправильные», отказаться от них, объявить ошибкой. Но Томас Манн считал, что новое, по-новому оптимистическое мировоззрение должно не просто отбросить, но «снять» шопенгауэровский пессимизм: впитать его, переработать и превзойти. Устоять перед ним. Как говорит Ромен Роллан, «побеждают страдание те, кто дерзнул отдаться ему целиком».
Однако испытание смертью – нелегкое испытание: почувствовав до конца, что «жизнь – трагедия», не так-то просто вслед за тем воскликнуть: «Да здравствует жизнь!» Композитору Жану-Кристофу – герою Ромена Роллана – это удается. Он менее всего человек холодного, изверившегося интеллекта; он в полном смысле слова дитя народа, он как бы сама жизнь, непрерывно самообновляющаяся. Композитор Адриан Леверкюн – герой Манна, лишенный счастливой цельности и жизненной переполненности Кристофа, – не выдерживает испытания смертью. Он избавляется от бесплодия дорогой ценой отчаяния, и его «прорыв» трагически обрывается. Только тонкая нить «надежды по ту сторону безнадежности» связывает его с будущим – «звенящая нота, повисшая среди молчания», та, которой заканчивается последнее творение Леверкюна.
Его трудный путь, состав его «трагической вины», шаг за шагом раскрывается в романе. Чтобы проследить его, вслед за писателем, возможен способ, подобный тому, какой применял один из персонажей «Доктора Фаустуса» – музыкант Кречмар, знакомя своих слушателей с творчеством Бетховена. Кречмар играл сонату Бетховена с начала до конца, сопровождая и перебивая игру словами, оттеняя важные места голосом, на ходу проводя сравнения и параллели, комментируя музыку.
Попытаемся и мы так прочесть произведение Томаса Манна, которое само подобно сложной музыкальной композиции.
После вступления, где рассказчик Цейтблом в слегка пародийной манере добросовестного повествователя старых времен представляет читателю своего героя, а также сообщает «необходимейшие сведения» о своей собственной «vita», следуют главы, подробно обрисовывающие место и атмосферу детских лет Л еверкюна и Цейтблома, – город Кайзерсашерн и его обитателей. Старинная немецкая провинция, гнездо консервативного бюргерства. Все дышит Средневековьем – даже гимназия, где учатся Адриан и Сереиус, основана в XV веке и сохраняет название «Школы братьев убогой жизни». Родители Леверкюна – добропорядочные зажиточные землевладельцы, жизнь в их родовой усадьбе со старой липой посреди двора протекает тоже как бы вне времени, безмятежно, патриархально. Некое веяние «тихого сатанизма» чувствуется в застывшем воздухе – начиная с гротескных фигур городских чудаков и кончая пристрастиями Леверкюна-отца к странным феноменам природы. Старик любит на досуге не только перечитывать фамильную Библию, но и рассматривать зоологические атласы, дивясь и восхищаясь причудливым видом морских животных, бабочек и их способностью к мимикрии; любит производить и сам несложные опыты. Он – «любомудр и созерцатель». Уже здесь, в описании невинных занятий любознательного папаши Леверкюна, начинает тихо, поначалу безобидно, звучать тема, которая потом, разрастаясь, ветвясь и расширяясь по концентрическим кругам, становится грозной – тема двусмысленности, двуединства добра и зла, сокрушительной иронии
Экзотические бабочки самой роскошной расцветки летают медленно и лениво, не скрываясь: птицы их не трогают, потому что эти великолепные бабочки – мразь, их сок зловонен. Очаровательные обитатели некоторых раковин обладают ядовитым жалом. Раковины употреблялись двояко в людском обиходе: как сосуды для яда и любовных напитков, но также как дарохранительницы в церквах. Неживая природа на каждом шагу карикатурно подражает живой (предваряет или повторяет ее?): морозные кристаллы – растениям, «питающаяся капля» – животным. Самый занятный из опытов Леверкюна-отца – опыт с выращиванием «сада» из посевов кристаллов калия и купороса. Из аптечного семени развиваются «грибки, фаллические стебли полипов, деревца, похожие на полусформировавшиеся члены человеческого тела», и все они, как настоящие растения, тянутся к солнцу. Леверкюна-отца эта странная растительность трогает: «И подумать только, что они мертвы», – говорит он со слезами на глазах. Цейтблома такие опыты смущают и отвращают, как «панибратское заигрывание со сферой подзапретного». «В благородном царстве гуманитарных наук мы не сталкиваемся с подобной чертовщиной»14, – добавляет он. У Адриана Леверкюна аптечная поросль вызывает неудержимый смех.
Отсюда и дальше, на протяжении всего романа подчеркивается в ледяном, замкнутом характере Адриана одно многозначительное свойство – его странная смешливость, не содержащая ничего веселого. Приступы смеха овладевают им, когда другие испытывают сострадание или ужас и даже когда он сам их испытывает, – это преддверие той темы сатанинского хохота, раскаты которого звучат в оратории «Апокалипсис».
В гимназии Адриан «плохой и вместе с тем первый ученик». Он без усилий все схватывает, все понимает и помнит, и все вызывает у него нетерпеливую скуку: «Ладно, ладно, я все понял, хватит уж, дальше!» Его быстро насыщающийся и как бы уже изначально пресытившийся ум находит некоторый интерес только в математике: ему любопытно «наблюдать за порядковыми соотношениями». «Порядок – всё». Такое же любопытство побуждает его, пока втайне, заниматься музыкой – и в музыке его занимают упорядоченные связи в созвучиях.
И еще один важный для дальнейшего мотив зарождается в первых главах, мотив «Hetaera esmeralda». Так называется порода бабочек (из атласа папаши Леверкюна) со стекловидными прозрачными крыльями – нечто эфемерное, носимый ветром лепесток, порхающее ничто. Гетера Эсмеральда – так впоследствии назовет Леверкюн, вспоминая эту бабочку, женщину из публичного дома, сыгравшую роль дьявольской приманки, чье настоящее имя так и остается неизвестным читателю.
Таким образом, основные лейтмотивы и общая атмосфера романа подготовлены уже в рассказе о детстве героев. Затем следующие главы посвящаются лекциям о музыке, которые читает нескольким неискушенным слушателям первый учитель Леверкюна – Кречмар. Тут уже автор вводит нас в круг проблем и противоречий современной культуры, с которыми встречается молодой Леверкюн.
На примере музыки Бетховена Кречмар развивает идею о том, что «искусство в конце концов всегда сбрасывает с себя видимость искусства»15. Сложнейшие, искуснейшие, хитроумнейше разработанные музыкальные формы и жанры, дойдя до вершины, начинают тяготиться самими собой; перед искусством встает манящее видение безыскусственной простоты, материя музыки «уплотняется» до монотонной мелодической фразы, отбрасывая все остальное как излишнее.
Молодого Леверкюна особенно заинтересовывает в лекциях Кречмара мысль о различии эпох культа и культуры. «Он был захвачен мыслью, которую лектор не высказал, но зажег в нем, а именно что отрыв искусства от литургического целого, его освобождение и возвышение до одиноко-личного, до культурной самоцели, обременило его безотносительной торжественностью, абсолютной серьезностью, пафосом страдания; словом, тем… что не должно стать вечной судьбой искусства, постоянной его душевной атмосферой». И Адриан говорит своему собеседнику «о предстоящем, вероятно, умалении нынешней его [искусства] роли, о том, что она сведется к более скромной и счастливой, к служению высшему союзу, который вовсе и не должен, как некогда, быть церковью. Чем он должен быть, Адриан сказать затруднялся. Но что идея культуры – исторически преходящая идея, что она может раствориться в чем-то высшем, что будущее не обязательно должно ей принадлежать, эту мысль он выловил из рассуждений Кречмара»16.
Отрицание искусства как культурной самоцели, искусство как служение, искусство, растворенное «в чем-то высшем» и находящееся в непосредственном союзе с людьми, причем союзе «не церковном», – не правда ли, все это звучит достаточно знакомо и нам, воспитанным в традициях русской культуры? Представления о «чистом самому себе довлеющем искусстве» были, за немногими исключениями, чужды русским художникам XIX века, вызывали к себе насмешливо-сожалительное отношение, в них видели презренные пустяки. Высшей притягательностью обладала идея искусства как служения. Самые большие русские художники были склонны видеть в искусстве средство, путь к растворению в высшем, не останавливаясь перед горделиво-смиренным самоумалением, – поэтому-то Томас Манн еще в ранней повести «Тонио Крегер» называл русскую литературу достойной преклонения и святой. Тут припоминается и искусство-исповедь или проповедь, каким оно было для Гоголя и Достоевского, и искусство-публицистика, как понимал его Щедрин, и создаваемый средствами искусства «храм человечества» – утопическая трогательная идея, владевшая Александром Ивановым. Вспоминаются и живописцы-передвижники с их истинно подвижническим самоограничением во имя «чего-то высшего» – союза с жизнью; наконец, Толстой, имевший мужество сказать: «Художник будущего будет понимать, что сочинить сказочку, песенку, которая тронет, прибаутку, загадку, которая забавит, шутку, которая насмешит, нарисовать картинку, которая будет радовать десятки поколений или миллионы детей и взрослых, – несравненно важнее и плодотворнее, чем сочинить роман, симфонию или нарисовать картину, которые развлекут на короткое время несколько людей богатых классов и навеки будут забыты»17.
Если во всем этом и таился некий надрыв, некий элемент «самопожертвования» искусства, то виной было время, разлучившее искусство с народной жизнью и сделавшее невозможным их естественный, бескомпромиссный союз. Но даже идеальное стремление к такому союзу делало русское искусство великим, причем художественно едва ли не самым великим в европейской культуре XIX столетия, – несмотря, а вернее, как раз благодаря тому, что оно не хотело быть «чисто» художественным.
Однако мысль об искусстве как служении звучит достаточно парадоксально в устах такого художника, как Леверкюн. Его асоциальность, аполитичность (то самое, в чем Томас Манн видел главную вину немецкой интеллигенции) делает эту мысль чем-то бесплотным, почти фантасмагорическим: слабый, неверный свет далекого маяка. Тем не менее он светит Леверкюну на всех этапах его пути. Он вызывает жажду «прорыва из одиночества к людям». Но как осуществить его художнику, по-видимому, вовсе лишенному социального инстинкта? Художнику, которого искусство привлекает как математическая игра соотношений? Художнику с замороженными чувствами, преисполненному холодной иронии?
Характерно, как заканчивается его разговор с Цейтбломом по поводу лекций Кречмара. Увлечение идеей «растворения культуры в чем-то высшем» не мешает Леверкюну холодно рассуждать об абстрактной, рационалистической природе музыки, которая лишь маскируется чувственной прельстительностью ее звучания. Цейтблом, рассердившись, говорит ему: «Музыку надо любить». Адриан же отвечает, что любви он предпочитает заинтересованность.
Томас Манн, как видим, объединил в образе Адриана Леверкюна различные тенденции эпохи, или даже двух близко соприкасающихся эпох, и тем заострил противоречивость самой проблемы – проблемы судьбы искусства. Он окрылил своего вымышленного композитора великой мечтой о слиянии искусства с жизнью и вместе с тем наделил его пресыщенным интеллектом, утратившим непосредственность и с холодным любопытством «разнимающим музыку как труп». Если первое вызывает ассоциации с исканиями русских художников, то ко второму напрашиваются иные параллели. «Аналитические» рассуждения Леверкюна могут напомнить о геометризме Сезанна, о таблице цветов Сёра, о кубистическом расчленении предметов в живописи. Можно вспомнить о теории и практике законченного псевдорационалиста в искусстве (рационалиста на «магический» лад) Пита Мондриана. Мондриан, исходя из того, что «жизнь сегодняшнего цивилизованного человека… становится все более и более абстрактной жизнью», полагал, что «как чистое воплощение человеческого духа, искусство выражается в формах эстетически очищенных, то есть абстрактных». Новая пластика «должна… находить себе выражение в абстракции форм и цветов, то есть в прямых линиях и первичных цветах. Эти универсальные средства выражения были открыты в новейшей живописи посредством исследования прогрессирующей абстракции и логики формы и цвета. Единственное решение – это точное изображение соотношений, существенный, основной фактор всякой пластической эмоции красоты»18.
У Манна молодой Леверкюн тоже склонен считать музыку чистым, отвлеченным воплощением духа, его тоже увлекают закономерности соотношений, и он решает музыкальные проблемы «как шахматные задачи». Разница в том, что Леверкюна все это в глубине души не удовлетворяет, и он, в отличие от Мондриана, хорошо видит реальную опасность тупика на этом пути.
Совмещение в художнической натуре Леверкюна названных противоположных начал – жажды «прорыва из одиночества» и абстрактного интеллектуализма – не является произволом писателя: в сложной духовной атмосфере XX века такие совмещения вовсе не редкость. Это противоречие переходной культуры, где сосуществуют «концы» и «начала», но оно также может быть и внутренним конфликтом художника с самим собой. Конфликтом трагически и трудно разрешаемым. Леверкюн с самого начала сознает в себе «недостаток наивности» (то есть непосредственности и одушевленности) как губительный для искусства недостаток, но это сознание мало ему помогает, так как он пытается искусственно обрести наивность с помощью все той же рассудочности. А это так же трудно, как мальчику из сказки Андерсена, попавшему в царство льда, сложить из льдинок слово «вечность».
«Где высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, там появляется черт». И черт не замедляет появиться.
Его пока еще незримым присутствием полны следующие главы романа, где речь идет о годах обучения Леверкюна на богословском факультете. Леверкюн не решается отдаться музыке и выбирает богословие в надежде смирить, сломать свой высокомерный интеллект. Директор гимназии, напутствуя высокоодаренного ученика, предостерегает его от гордыни и от происков сатаны: «Худой гость, рыкающий лев, он бродит между нами, ища себе добычу».
Профессора богословия только расчищают «худому гостю» путь к душе Леверкюна. Один из них, Кумпф, – пародия на Лютера или Лютер Нового времени, самый «сочный оратор» в университете, сдабривающий лекции «злосквернословием» по адресу черта, с которым он «накоротке» (как некогда Лютер, запустивший в черта чернильницей). Кумпф – убежденный враг всякого «людского умствования», причем ненависть к умствованиям делает его даже «либералом» в отношении религиозной догматики, ибо и догмы – тоже плод людского суемудрия. Когда-то, в молодости, Кумпф был поклонником Гёте и Шиллера, но теперь считает себя «духовно раскрепощенным»; его духовная раскрепощенность в высшей степени карикатурна – она выражается в том, что он живет «бесхитростно», как «добрый немец» (и притом заядлый националист), не чураясь чревоугодия и фривольностей. В духовном облике Кумпфа есть нечто профашистское – сознательное отречение от доводов разума, как условие иррационального приятия нацистского «духа» и «откровения», идеализация обывательского безмыслия, явившегося для фашизма питательной почвой.
Более утонченный профашизм таится в лекциях другого богослова – Шлепфуса, который в романе выступает уже как бы прямым наместником черта. Излагая лекции Шлепфуса, Томас Манн заставляет снова звучать тему «двойственности» – на этот раз в сгущенно зловещей тональности.
Мы помним, что впервые она возникает в связи с опытами отца Леверкюна: метафизические критерии и противоположения «греховного» и «морального» не выдерживают проверки перед лицом природы, перед ее диалектикой. Суть здесь в равнодушии природы к добру и злу, в перемешивании их, в способности природы творить из одних и тех же составных элементов противоположные по смыслу и назначению создания, иронически сходствующие между собой. Сама природа как бы провоцирует на иронию над человеческими понятиями о добром и злом, здоровом и болезненном, животворящем и губительном, о знаках плюс и минус.
Не нуждается ли и человеческая мораль в диалектических коррективах? Манн ставит нравственную проблему и, в частности, проблему «морали художника» с предельным бесстрашием, мужеством и широтой взгляда. «Что такое мораль художника?» – задает он вопрос в одной из статей 1909 года. И отвечает на него так «Только мещанин полагает, будто греховность и нравственность суть понятия противоположные. Они – единое целое. Для того, кто не познал греха, кто не отдался его губительной, изнуряющей власти, для такого человека мораль является лишь пошлой добродетелью. Не к чистоте и неведению в нравственном смысле надлежит стремиться, не себялюбивая осторожность и жалкое умение сохранять чистую совесть исчерпывают понятие нравственного, но, напротив, – борьба и горе, страсть и боль. Где-то у Генриха фон Клейста говорится, что “тот, кто любит жить с осторожностью, морально уже мертв, ибо, заботясь о своей жизни, он истрачивает и обращает в прах свою высшую жизненную силу”. <…> Мораль художника – это собранность, это сила для эгоистической концентрации, это решимость создавать образы, форму, это стремление к ограничению, к вещественности, к отказу от свободы, от бесконечности, от пребывания меж сном и действием в безграничном царстве ощущения; одним словом, мораль – это воля к созиданию. Но безнравственно и неблагородно, бескровно и отвратительно произведение, родившееся из холодно благоразумной, добродетельной и законченной искусности. Мораль художника – это отдача себя без остатка, заблуждение, самозабвение, это борьба и нужда, переживание, познание и страсть. Мораль, несомненно, высшее проявление жизни, быть может, она и есть воля к жизни»19.
Итак, мораль художника (высшая мораль) – это воля к созиданию; в этом смысле она совпадает с той «волей к жизни», которую человеческий ум усматривает в природе. Если перевести закономерности природы на язык человеческих моральных понятий, то можно сказать, что природа творит и охраняет жизнь путем смерти, упорно, расточительно и безжалостно создавая миллиарды зародышей живых существ, чтобы уцелели лишь некоторые, убивая ежечасно одних, чтобы могли жить другие, наделяя свои создания упрямым инстинктом борьбы за существование и «коварной» способностью к мимикрии. Одним словом, «греховность» – одно из условий творчества жизни в природе; то же и в действиях человека, обладающего волей к созиданию. Коль скоро он творит, он отдает себя без остатка, не бережет «чистоту неведения» и презирает благоразумную осторожность. «Надеюсь, верую – вовеки не придет ко мне позорное благоразумие».
С этой позиции отчаянный акт Адриана Леверкюна, продавшего душу дьяволу, чтобы, поднявшись над «холодно благоразумной искусностью», обрести волю к созиданию, выглядит героическим актом высшей нравственности. Действительно, ореол героизма духа окружает образ Леверкюна. Но так же несомненно, что над ним, как он показан в романе, тяготеет и вина, преступление перед высшей нравственностью, и не только объективное, обусловленное временем, но и такое, за которое он несет субъективную ответственность.
Очевидно, что воззрения самого Манна претерпели определенную эволюцию. В приведенных выше рассуждениях о морали художника есть ощутимый оттенок ницшеанства. Томас Манн был тогда под обаянием философии Ницше, хотя никогда не принимал ее до конца и уже в этой статье делал оговорку: «мораль» как воля к жизни сама нуждается в каком-то более высоком коррективе. Горький опыт последующих десятилетий – Первая и особенно Вторая мировая война, распространение и господство фашизма – побудил Манна еще и еще раз углубить критическое отношение к Ницше, а вместе с ним и свое понимание эстетиче-ско-нравственной проблемы. Он вносит такие углубляющие коррективы в свой взгляд на «мораль художника», которые, по существу, меняют акценты. Акценты в пользу разума и доброты.
Я не буду здесь рассматривать сложную историю отношений Томаса Манна к философии и личности Ницше. Достаточно будет сказать, что в итоге критически восхищенное и критически сострадательное отношение Манна к Ницше очень близко к его отношению к Леверкюну, хотя, собственно, идеи Леверкюна имеют немного точек соприкосновения с ницшеанством. Сходство героя «Доктора Фаустуса» с автором «Заратустры» – главным образом психологическое, сходство структуры личности, и только в этом смысле Ницше можно считать прообразом Леверкюна.
Вернемся к лекциям Шлепфуса. Они – пример того, в какое кощунственное попирание «высшей нравственности» вырождается догмата-ческое размежевание святости и греха, заигрывающее с современной «философией жизни». Как богослов, Шлепфус видит в добре и зле два неподвижных полюса, изначально данных, не подлежащих развитию. Как человек, вкусивший от плодов новейшей философии, он утверждает, что оба полюса, входя в состав жизни, являются ее условием и, следовательно, двумя ипостасями одного и того же. Здесь-то мотив «двусмысленности» и начинает звучать зловеще. У Шлепфуса получается, что возможность грешить, «огрязнять добродетель», есть единственно данное человеку проявление свободы воли и «неиспользование этой свободы привело бы к экзистенциальному размягчению, к умалению интенсивности бытия, наделенного собственной волею творения»20. Зло, следовательно, по природе своей активно, а благочестие, состоящее в добровольном воздержании от свободы, – пассивно. А так как функция зла, по Шлепфусу, – оттенять добро и, значит, в конечном счете содействовать добру, то выводы очевидны. Их нетрудно сопоставить с тем комплексом «вины» немецкого бюргерства, о котором Манн говорит и в романе и в статьях: для немецкого бюргера политика – всегда зло, но зато это зло – единственная возможность активного действования, «интенсивного бытия». И если он пытается действовать – он сознательно подчиняется законам зла.
Так метафизическое противоположение добра и зла, как неподвижных начал, практически переходит в их отождествление, приводит к имморализму. В действительности добро и зло не абсолютны и тем самым не тождественны. Моральные понятия подвержены закону исторической диалектики, нравственная истина, как и всякая истина, конкретна, и судить о ней дано историческому разуму, а не сверхисторическому инстинкту. Права разума и отстаивает в данном случае Томас Манн. Здесь содержится скрытая полемика с Ницше, с его антирационализмом, с его апологией инстинкта жизни и его склонностью «трактовать жизнь и мораль как две противоположности» – полемика, которая развернута в статье 1947 года «Философия Ницше в свете нашего опыта» (эту статью Томас Манн считал «публицистическим эпилогом» романа «Доктор Фаустус»).
В «Докторе Фаустусе» писатель решительно стоит на стороне гуманистического критического разума и гуманистической морали. Но это уже новый гуманизм, прошедший через искушение «двойственностью» и сознательно над ним поднявшийся, а не гуманизм Цейтблома, пугливо открещивающийся от подобной «чертовщины».
На Леверкюна богословские лекции как будто не оказывают прямого и явного влияния, оно остается подспудным и косвенным. Пока что он убеждается, что его надежды смирить богословием умственную гордыню напрасны. Потребность в переоценке ценностей только укрепляется, но ее пути и цели представляются более прежнего проблематичными и, главное, недостижимыми из-за внутреннего холода, скепсиса, который во всем видит прежде всего «как это сделано», иронизирует над сделанностью и вызывает, как некогда на уроках в гимназии, нетерпеливое: «Ладно, это понятно, дальше!» И у Леверкюна зреет последняя тайная надежда (не без влияния теологии Шлепфуса): любой ценой растопить оковы парализующего действия рассудка, пробудить иррациональную стихию инстинкта и довериться ей; пусть она сама сделает дело, в то время как разуму останется только послушно организовывать и упорядочивать ее импульсы и наития. Таким образом, Леверкюн хочет купить возможность творчества ценой утраты свободы, то есть отказа от дара разума-путеводителя. «Высокомерие интеллекта» остается, а «душевная несвобода» усугубляется – так Леверкюн делает еще один шаг навстречу «худому» гостю».
Теперь он решает «забросить Священное Писание под лавку» и посвятить себя музыке, как «магическому слиянию богословия и математики». Пишет письмо своему музыкальному наставнику Кречмару, где в последний раз говорит о своих сомнениях и дает очень точную авторскую характеристику. Он говорит: «…я боюсь, боюсь обета искусству, ибо мне кажется, что моя натура – способности я оставляю в стороне – не может удовлетворить его, мне ведь отказано природой в той здоровой наивности, которая, насколько я понимаю, наряду с другими качествами отнюдь не в последнюю очередь и составляет дух искусства»21. И почти в отчаянии спрашивает: «…почему я смеюсь? <…>. Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почему мне чудится, будто почти все, нет – все средства и условности искусства ныне пригодны только для пародии?»22
Очень важен для внутреннего смысла романа ответ Кречмара на это письмо. Кречмар, энтузиаст исторического подхода к явлениям, чьей страстью было «сравнивать, открывать соотношения, прослеживать влияния, обнажать путаные сцепления, образующие культуру»23, не находит ничего противопоказанного искусству в саморазоблачениях Адриана (он ведь не знает о его стремлении отречься от разума, да и сам Адриан пока об этом не знает). Напротив, Кречмар уверен, что эти-то свойства художника и необходимы ныне искусству для того, чтобы оно могло двигаться дальше.
«Искусство движется вперед, – писал Кречмар, – это движение осуществляется при посредстве личности, личность же есть продукт и орудие времени, и в ней так неразличимо переплетаются объективные и субъективные мотивы, что одни принимают образ других. Жизненная потребность искусства в революционном продвижении вперед и в становлении нового не может обойтись без рычага сильнейшего субъективного ощущения своей отсталости, своей немоты оттого, что больше нечего сказать, исчерпанности своих обычных средств, и оно обращает себе на пользу мнимо нежизнеспособное, утомляемость и интеллектуальную скучливость, отвращение к тому, “как это сделано”, злосчастную склонность видеть вещи в их пародийном искажении, “чувство комического”, – иными словами: воля искусства к жизни, к движению вперед, надевает личину этих унылых личных свойств, дабы в них проявить себя, объективироваться, сбыться»24.
В этих словах Кречмара слышен голос самого Томаса Манна, раскрывается его позиция по отношению к кризису, переживаемому искусством. Он видит, что кризис еще не есть неизбежность деградации, что из кризиса возможен выход и этот выход не в обращении вспять, не в том, чтобы насильственно привить себе первозданную наивность (к чему втайне стремится Леверкюн). Нужно, напротив, дать простор критическому и скептическому разуму, пройти через чистилище смеха, пародии, беспощадного анализа и, не творя себе кумиров, искать и искать истинные ценности, которые не блекнут при свете холодной испытующей мысли и не боятся иронического разоблачения своей «сделанности». «Человечество смеясь расстается со своим прошлым». Но то, что смехом убивается, – то действительно прошлое, отжившее прошлое. То, что выдерживает испытание смехом, навсегда остается настоящим. Плоха та любовь, которую нужно стеречь и прятать от искушений. Плоха теория, боящаяся критики, мораль, которой нужно следовать слепо, искусство, которое теряет силу, если его просветят насквозь и увидят «как оно сделано».
Словом, нужно идти до конца и не бояться ни интеллектуального холода, ни смеха, как скальпеля истины. Это, собственно, и есть последнее слово критического реализма, его историческая миссия. Действительно, может ли быть случайным, что в критическом реализме стихия юмора получила такое многогранное, всепроникающее развитие, как никогда в прошлом? Все великие критические реалисты – великие мастера юмора, даже Достоевский. Новое время возвело юмор на высоту едва ли не главной эстетической категории, создало эстетику комических противоречий и парадоксов, раскрыло тончайшую механику смеха – исследующего и испытующего, несравнимого с элементарным юмором Аристофана и Боккаччо. Пародия – почти исключительное достояние нового искусства. То же, что говорит о своей неодолимой склонности к пародии Леверкюн, говорил о себе самом и Томас Манн. Заметим попутно, что и творчество Кафки Манн оценивал как «религиозно-юмористическую поэзию сновидений и ужаса».
В поисках нового гуманизма искусство проходит не только через «адские бездны и муки познания», но и через самоанализ, самоиронию и даже самоотрицание. Нельзя не видеть, как тяжел и опасен такой путь. Опасен не столько для искусства в целом (которое, как природа, не подвержено смерти и раньше или позже, здесь или там возрождается), сколько для тех, кто является и его деятелями, и его жертвами, – для художников. Художник идет по этому пути, как по лезвию ножа. Хорошо, если ему удается, не потеряв «души», посредством интеллектуального бесстрашия действительно выйти к новому гуманизму. Как в известном сказочном сюжете, рыцарь должен пройти в заколдованный замок дорогой, кишащей чудовищами, не сворачивая в сторону, не останавливаясь и не оглядываясь назад – тогда он достигнет цели. Но горе ему, если он уклонится с прямого пути.
Так и художника подстерегает опасность застыть в «душевной косности», потерять цель, погрузиться в иронию ради иронии, в рассудочную игру формами. Леверкюн это предвидит. Кречмар же ошибается, думая, что одного редкостного музыкального дара Леверкюна достаточно, чтобы не сбиться с верной дороги. Сверх таланта и преданности искусству нужно и другое: нужна путеводная нить преданности людям, заботы о реальном совершенствовании человеческой жизни.
Уже через несколько лет после окончания «Доктора Фаустуса» 77-летний Томас Манн сказал: «Каким бы суровым обвинением ни являлось искусство, как ни горько сетует оно на гибель мироздания, как ни далеко оно заходит в иронизировании над действительностью и над самим собой, – не в его натуре “с язвительным смехом покидать поле боя”. Жизни, для одухотворения которой оно создано, оно не грозит кощунственной рукой. Оно предано добру, и сущность его – доброта, которая сродни мудрости, но еще более близка любви»25.
Нельзя сказать, что Леверкюну чуждо это высшее чувство, – тогда бы он не был гениальным художником. Мы помним, что идеал он видел в отказе культуры от самоцельности, в «скромном и счастливом» служении людской жизни, и этому идеалу оставался верен. Но драма Леверкюна – в туманной отдаленности и бесплотности его гуманистических идеалов: ему «не хватает сегодняшней, живой любви к сегодняшним людям». Вот этой – надежнейшей – путеводной нити у него нет. Он, как и Ницше, слишком предпочитает «ближнему» «дальнего». Всякая его «попытка общительности», как замечает Цейтблом, – оборотная сторона его «крайнего высокомерия».
Вот почему опасность бесплодия для него особенно реальна. И предугадывая ее, не доверяя своему предательскому «бескровному интеллекту», он устремляется к противоположной (по видимости противоположной) крайности – к неоварварству, к «магии», которую он, однако, хочет сочетать с «математикой».
Коллизия эта типична. Реальная история художественной культуры конца XIX и первых десятилетий XX века дает нам много ее вариантов. Более ранний этап связан с символизмом, более поздний – с абстрактными течениями, внутри которых, как бы они ни назывались, обычно сосуществовали и сменяли друг друга рассудочно-абстрактные и экспрессивно-абстрактные.
О символизме судили и судят по-разному; он и сам, в лице своих практиков и теоретиков, говорил о себе по-разному: единодушия и какой-либо концепционной ясности здесь никогда не было. Символизм французских поэтов 1880-1890-х годов, берущий начало от Верлена и Малларме, – это одно (впрочем, и это течение внутри себя разнородно); другое – понт-авенская школа в живописи, связанная с именами Гогена, Бернара, Редона; мюнхенский «югендштиль», русский символизм Брюсова, Белого, Вячеслава Иванова – все это различные художники и различные теории. Однако неоромантическое стремление к «магическому», к прорыву из рассудочного в «таинственное и невыразимое», было их до некоторой степени общей чертой.
При этом тенденция «сочетать магию с математикой» также была не чужда символистам. К символистам примыкал адепт наукообразной поэзии Рене Гиль. Гоген, отстаивая возврат к примитивам, говорил: «Правда может быть найдена в искусстве, идущем исключительно от мозга, в примитивном и в то же время самом мудром искусстве – египетском. Там заключен основной принцип. В нашем теперешнем положении единственно возможное спасение заключается в сознательном и откровенном возвращении к этому принципу. И это возвращение является необходимым актом, который должен быть совершен символизмом в литературе и искусстве!»26
Самый рационалистический и трезвый, самый «математически» мыслящий из русских поэтов Валерий Брюсов был одним из главных деятелей и теоретиков русского символизма; известно, что он досконально и методически изучал приемы «черной магии» и написал повесть «Огненный ангел», до жути достоверно воссоздающую атмосферу средневекового колдовства и чернокнижия.
Александр Блок в статье «Ирония» говорил: «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа “иронией”. Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством. <…> Эпидемия свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно. И по нынешним временам это – не менее страшно, не менее болезненно; разве мало теперь явлений в жизни, к которым нельзя отнестись иначе, как с улыбкой?»27
Это уже почти в точности ситуация Леверкюна, «терзаемого смехом», и рядом с ним – «неулыбающегося» Цейтблома.
Примерно со второго десятилетия XX века альянс «магии» и «математики» меняет стилевые одеяния и явно мельчает. Теперь появляются художники, махнувшие рукой на «область таинственного и невыразимого» и деловито «разнимающие музыку как труп», – футуристы, супрематисты, кубисты. Можно далее проследить переход, например, «аналитического кубизма» в «синтетический кубизм», то есть новый прыжок от крайностей «бескровного интеллекта» в темное царство иррационального, опять в модернизированную магию и в преисподнюю варварства. От одной крайности до другой расстояние становится все короче. И дальше эти процессы продолжаются с нарастающей быстротой мельканий. Вплоть до «магии» сюрреализма и «холодной интеллектуальности» многочисленных техницистских концепций.
На поверхность всплывали то одни, то другие имена и быстро погружались в небытие. Самая незавидная творческая судьба была уготована тем из этих «грешников», мечущихся «между крайним холодом и крайним жаром», кто более всех настаивал на суверенности искусства и искал в нем стерильно чистых ценностей, будь то «чистая красота», «чистая чувственность», «чистые формы». Так, основатель супрематизма Казимир Малевич целиком ушел в поиски абстрактного феномена «чистой чувственности», очищенной от предметности; в результате он обрел пустоту, обрел мертвый черный квадрат на белом поле, но с маниакальной одержимостью продолжал и через многие годы утверждать, что «эта пустота наполнена духом беспредметной чувственности, которая проникает все». Художник, не обделенный талантом, он так и остался в памяти следующих поколений трагикомическим автором пустоты.
И вместе с тем мы знаем многих художников, которых путеводная нить гуманизма, глубокого социального чувства, чувства человеческой солидарности провела через опасные искусы негативности, иронии, анализа, ломки, переоценки ценностей, – и провела так, что действительно все эти «мнимо нежизнеспособные» свойства, как говорит в романе Кречмар, обратились на пользу движению искусства. Не говоря уже о символистах: Блоке, Ван Гоге, Гогене, о футуристе Маяковском, о сюрреалистах Арагоне, Элюаре, назовем и имя Пикассо, едва ли не самого радикального и «разрушительного» из современных новаторов, но зато и истинно созидательного, истинно человечного. Участь Леверкюна, однако, не похожа ни на судьбу Малевича, ни на судьбу Пикассо. Малевич говорил: «Искусство не хочет больше быть на службе у государства и религии, оно не хочет больше иллюстрировать историю нравов и обычаев, оно не хочет больше изучать предметы, оно верит, что может существовать в себе и для себя»28. Леверкюн, мечтавший о подчинении искусства «высшему», так бы не сказал – для этого он слишком гуманист. Но он не мог бы и сказать о себе, как Пикассо: «Не глуп ли художник, если он имеет только глаза, или музыкант, если он имеет только уши? <…> Художник – это одновременно и политическое существо, постоянно живущее потрясениями, страшными или радостными, на которые он всякий раз должен давать ответ»29. Для этого Леверкюн недостаточно гуманист. И того, чего не хватало для самоосуществления его художественного гения, того, что могло бы быть разбужено и вызвано к жизни простым и верным чувством преданности людям, он хочет достичь актом «магического», искусственно вызванного вдохновения.
Во имя этого он идет, полусознательно-полуневольно, навстречу болезни, способной дать ему минуты прозрения, бурного подъема, экстаза.
Вступает новая тема: гений – болезнь. В творчестве Манна она имеет свою предысторию; отношение к ней писателя не простое, не однозначное. Он считал, что «священная болезнь» Достоевского сыграла не последнюю роль в его «психологическом ясновидении».
«…Ведь дело прежде всего в том, кто болен, кто безумен, кто поражен эпилепсией или разбит параличом – средний дурак, у которого болезнь лишена духовного и культурного аспекта, или человек масштаба Ницше, Достоевского <…>. Известно, что без болезни жизнь вовеки не обходилась, и, я полагаю, нет более глупого изречения, чем: “Больное может породить лишь больное”. Жизнь не жеманная барышня, и, пожалуй, можно сказать, что творческая, стимулирующая гениальность, болезнь, которая преодолевает препятствия, как отважный всадник, бесстрашно скачущий с утеса на утес, – такая болезнь бесконечно дороже для жизни, чем здоровье, которое лениво тащится по прямой дороге, как усталый пешеход. Жизнь не разборчивая невеста, и ей глубоко чуждо какое-либо нравственное различие между здоровьем и болезнью. Она овладевает плодом болезни, поглощает его, переваривает и, едва она усвоит этот плод, как раз он-то и становится здоровьем»30.
Вместе с тем Томас Манн хорошо видел, что «болезнь» сплошь и рядом играет с художником коварные шутки: вслед за пророческими озарениями ввергает его в творческий анабиоз, в горькое похмелье, или вместо действительных взлетов подсовывает жалкую манию величия.
В 16-й главе – когда уже треть романа позади – впервые завязывается собственно «романный» сюжет история роковой встречи Леверкюна с девицей из публичного дома, заразившей его болезнью, впоследствии перешедшей на мозг. Леверкюн уступает своему влечению к этой девушке, первому и единственному в его жизни, несмотря на то, что девушка «предостерегала его от себя». Этот эпизод, как уже сказано, заимствован из биографии Ницше.
«Хмельная инъекция» получена, и сделка с чертом фактически уже совершилась. Но первые шаги Леверкюна в творчестве – только прелюдия. Пока он только осваивает опыт прошлого искусства и все более убеждается в исчерпанности его средств.
Овладение традиционными средствами искусства протекает у Леверкюна быстро и с чудесной легкостью. Это тоже черта, характерная для «гениев рубежа», – они в кратчайшие сроки проходят вековую школу своих предшественников и уже в юности «умеют» все, что умели до них, но в этом умении есть оттенок игры формами, легкого пародирования, ироничности, которая, впрочем, не очень заметна, а от поверхностного наблюдателя и вовсе ускользает. По видимости – прекрасное продолжение «классики» и даже в чем-то лучше, потому что утонченнее, изящнее, формально совершеннее. По существу же – не вполне настоящее, ибо то, что для «классиков» было глубоко жизненным и самобытным, для их талантливых, но чуждых им учеников становится формой, идущей не столько от жизни, сколько от школы.
Так Врубель еще на первых курсах Академии великолепно владел нелегкими тайнами академического рисования, безукоризненно изящной и точной линией, обрисовывающей фигуры в самых замысловатых ракурсах. Так и Пикассо чуть ли еще не ребенком усвоил традиционную технику и мог написать превосходную «жанровую» композицию.
Первые самостоятельные творения Леверкюна созданы в духе «звуковой живописи»: симфония «Светочи моря» представляет шедевр колористической оркестровки, которую молодой композитор досконально изучил под руководством Кречмара, но в которую внутренне уже не верит. Внутренне он скептически настроен по отношению к «гигантскому послеромантическому оркестру с гипертрофированным звуковым аппаратом», у него созревает потребность «уменьшить последний и вернуть ему ту служебную роль, которую он играл во времена догармонической, полифонической вокальной музыки; склонность к народному многоголосью, а стало быть, к оратории…»31. Оркестровая живопись «Светочей моря» для Леверкюна – только упражнение, таящее в себе «нечто от пародии», однако публика этого не замечает и видит в молодом композиторе продолжателя Дебюсси и Равеля, каким он в действительности не был.
В действительности его влечет к сближению музыки со словом, к «первозданной простоте» – сюда и направляются его дальнейшие поиски. С этой точки зрения изощренная оркестровка представляется ему всего лишь хитроумной «терапией корней» (шутливая аналогия с зубоврачеванием: вместо того чтобы радикально излечивать, удаляя больной корень, медицина изобретает всевозможные тонкости для его сохранения, а это ведет к суставному ревматизму).
Вообще вся современная система музыкального (и шире – художественного) произведения, как замкнутого в себе, внутри себя протяженного, внутри себя развивающегося «опуса», не удовлетворяет Леверкюна – он видит в ней претензию искусства утвердиться в своей независимости и самоценности, образовать собственный замкнутый мир, вместо того чтобы быть непосредственным голосом настоящего мира.
«В произведении искусства много иллюзорного, – размышляет Леверкюн, – можно даже пойти еще дальше и сказать, что оно само по себе как “произведение” иллюзорно. Оно из честолюбия притворяется, что его не сделали, что оно возникло и выскочило, как Афина Паллада, во всеоружии своего блестящего убранства, из головы Юпитера. Но это обман. Никакие произведения так не появлялись. Нужна работа, искусная работа во имя иллюзии; и тут встает вопрос, дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, способен ли еще на нее человеческий ум, принимает ли он ее еще всерьез, существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая, – ложью?»
И далее: «Правдиво и серьезно только нечто краткое, только до предела сгущенное музыкальное мгновение <…>. Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии. Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией, оно хочет стать познанием»32.
Нельзя отрицать глубокой серьезности этих размышлений, как и того, что они не были в описываемую эпоху достоянием и симптомом «декаданса». Они были симптомом кризиса искусства, но кризиса, себя сознающего и требующего разрешения. Весь вопрос в путях и способах разрешения. Разве не возникали подобные же сомнения у Льва Толстого, когда он говорил, что в старости ему стало «стыдно выдумывать»?
Цейтблому кажется, что «игра и иллюзия» входят в родовое определение искусства и что критическое к ним отношение означает покушение на ликвидацию искусства. Такие опасения высказывались и высказываются не одним Цейтбломом. Их оправдывало многое из того, что реально происходило: ведь опасность кризиса в том, что исход из него может привести не только к выздоровлению, но и к гибели. Однако прямой диагноз сам по себе не предрешает гибели, он только фиксирует назревшую необходимость каких-то перемен. Каких же?
Можно, во всяком случае, сказать, что тенденции к разомкнутости замкнутой сферы искусства, к известному размыванию его строгих границ, а следовательно, и к нарушению самодовлеющей законченности «опуса» проявляются повсеместно, в разнообразных формах. Не всегда плодотворно и для искусства, и для жизни. Но это уже зависит от многих, прежде всего социальных обстоятельств.
Проблема эта настолько существенна и для содержания «Доктора Фаустуса» и вообще для современной художественной культуры, что к ней стоит присмотреться внимательно.
Когда говорят, что даже последовательно реалистическое искусство XX столетия более условно по сравнению с XIX веком, это не вполне точно. Дело не в большем количестве условностей, а, скорее, в их само-обнаружении, в их «рассекречивании». Искусство откровенно признается в своей «сделанности» (условности), вместо того чтобы скрывать ее под покровом иллюзорного жизнеподобия. Если применить сравнение Леверкюна – искусство больше не хочет делать вид, что оно волшебным образом возникло из головы Юпитера. Оно не только представляет на всеобщее обозрение результаты своего труда, но и делает их настолько прозрачными, что в них просвечивает и сам труд, сам процесс. И, таким образом, открытое демонстрирование условности означает тяготение к безусловности, то есть к непритворности действий художника.
Такова реакция против «игры и иллюзии». Собственно, и игра и иллюзия остаются (всякий образ есть некая иллюзия), но они не скрывают, что они игра и иллюзия; они предстают как момент и этап познания, как сознательное «допущение» художника.
С этим связано многое в практике искусства. Та же пародия. Ведь пародия – это не обязательно «смешное», «высмеивание». Пародия есть прежде всего откровенное раскрытие того, «как это сделано».
В изобразительном искусстве с этим связана тенденция к преодолению станковизма, к новому развитию монументальных и прикладных форм. Типичная для XVII–XIX столетий станковая картина – это «опус» в том смысле, в каком употребляет понятие «опуса» Леверкюн: «самодовлеющее и гармоническое целое», маленькое художественное государство, живущее в своем времени, в своем пространстве, независимом от окружающего времени и пространства, но созданном строго по его подобию. В противоположность ему произведение монументальной живописи или скульптуры всячески считается с тем, что вне его: его пространство – подчиненная часть окружающего пространства, оно само – только один из предметов внешнего мира. В этом смысле оно более «разомкнуто» вовне, чем станковое, а также и более «скромно», ибо оно подчиняет себя реальности, а не встает рядом с ней, как ее художественный двойник. Что же касается его изобразительной структуры, она есть нескрываемое высказывание художника о предмете изображения, а не иллюзия самого предмета.
Трудно заключать в общей форме – хорошо это или плохо. Могло быть и хорошо и плохо. Хорошо потому, что это шаг к интеграции искусства и жизни. Плохо потому, что это провоцирует художника на субъективный произвол, если, конечно, художник к нему предрасположен.
Следует, вероятно, отличать объективные тенденции развития от их реализации. Объективные тенденции приходится принимать и считаться с ними, как с данностью, по душе они нам или нет. Реализация же зависит от социального лица и гуманистической воли создателя – она может принять и прогрессивную, и регрессивную форму.
То, что в искусстве усиливалась тяга к «разомкнутости» и отсюда к самоочевидности условности, – это была объективная и необратимая тенденция. Самые мудрые представители эстетики «опусов» понимали это, видели, и не спешили осуждать33. Как обратная сторона того же самого процесса – отвержения иллюзии – рождалось стремление вводить в сферу искусства прямые жизненные реалии. Под этим знаком интенсивно развиваются художественная фотография, фотомонтаж, типажный, видовой, документальный кинематограф, очерк-эссе, мемуарная литература и пр. В этом русле возник и «метод монтажа» Томаса Манна, сложилось его кредо: «Поэта рождает не дар изобразительства, а иное – дар одухотворения. Наполняет ли он своим дыханием заимствованный рассказ или кусок живой действительности – именно это одухотворение, одушевление, наполнение материала тем, что составляет сущность поэта, делает этот материал собственностью художника…»34
Многим современникам позднего периода Льва Толстого казалось, что Толстой отрекается от искусства, уходит от него. Между тем Толстой до последнего мгновения жизни писал «художественное»; он являет собой удивительный пример не только сохранения, но непрерывного развития таланта в глубокой старости. «Хаджи Мурат», «Записки старца Федора Кузьмича» художественны в наивысшей мере, хотя обаяние «Войны и мира», «Анны Карениной» иногда заслоняет для нас новые качества его поздних творений. Старый Толстой бунтовал не против художественной литературы, а против «литературности», к которой он в конце жизни стал питать особую неприязнь («стыдно выдумывать»), – отсюда его преувеличенно критический отзыв о своей ранней автобиографической трилогии: «так нехорошо, неискренно, литературно написано».
«Детство. Отрочество. Юность» – это прекрасный «опус» писателя XIX века. Но Толстой XX века невзлюбил «опусы», и здесь у него – даже у него! – обнаруживается «леверкюновское». Теперь он снова пишет автобиографические исповеди, уже без всякой «литературности» – исповедь так исповедь. Он пишет теперь прямо от себя, Льва Толстого, а не от вымышленного Николеньки Иртеньева, описывая настоящие факты и невыдуманных, «необобщенных» людей, – и это получается не менее художественно. А когда он обращается к вымыслу – он прямо так и говорит (в «Хаджи Мурате»): «…вот эта история, которую я частью наблюдал, частью слышал, а частью вообразил себе».
И еще гораздо раньше Толстому были знакомы поиски безыскусственной, насыщенной краткости, «до предела сгущенного музыкального мгновения». Еще сочинения мальчиков в яснополянской школе навели его на такие опыты. Думается, что «Рассказы для детей» Толстого до сих пор не оценены по справедливости. Крошечные рассказы – в двадцать, десять, в пять строчек, где нет ни следа какой-либо орнаментики, ни одного необязательного слова, никакого притворства. Вот где искусство «сбрасывает с себя видимость искусства».
Кажется поначалу, что между таким стремлением к невыдуманности, доподлинности, безорнаментальности, с одной стороны, и стремлением к усиливанию субъективного, «условного» элемента, с другой, нет общего, что это даже прямо противоположные вещи. Но, по существу, это разные стороны единого процесса, симптомы общей тенденции, сознательные или бессознательные выводы из размышлений и сомнений, подобных тем, которые овладевали Леверкюном. Хотя в своих социально извращенных или просто опошленных бездарностью формах и то и другое могло выродиться в упадок или в бесконтрольный субъективистский произвол, или в грубо эмпирический натурализм, лишенный фантазии и одухотворения.
Если мы сопоставляем и в какой-то мере противопоставляем все эти искания господствующим принципам XIX столетия, то это, конечно, не значит, что в XIX веке все было совсем другое. Все это зарождалось уже тогда. XX век как культурная эпоха (хронологические рамки весьма приблизительны) – плоть от плоти XIX века, он уходит в него корнями. Между ними шел такой же спор на основе близости, существовала такая же «дружба-вражда», как у Цейтблома и Леверкюна.
Но в культуре XX столетия, представляющей собой прежде всего продолжение и трансформацию культуры XIX века, вместе с тем силились возродиться к новой жизни и принципы давно прошедших времен. Тех времен, когда сфера художественного была действительно более «раскрытой» и искусство прямее, непосредственнее связывалось с людской повседневностью, когда оно было и более откровенным в своей условности и более бесхитростным, чем стало впоследствии.
Например, вновь стали привлекать принципы старинного театрального зрелища – полуимпровизационного действия, где сначала «ведущий» объявляет: «…мы покажем вам историю о том, как…» – и затем приглашает зрителей вообразить, что перед ними темный лес, или королевский замок, или поле сражения, а на самом деле перед зрителем пустая площадка с одним стулом или лестницей, но зрителей это ничуть не смущает, они легко воображают и лес, и все что угодно. Также не смущает их, что актеры выходят в масках и декламируют, и кричат громко, нараспев, как никогда не говорят в жизни, и что ведущий или хор вмешивается в действие со своими дидактическими комментариями, и что действие перемежается развлекательными интермедиями, как будто вовсе не идущими к делу, и т. д. Какая разница, какой контраст с методами современного театра, в котором декорации со скрупулезной точностью стремятся изобразить действительный лес, действительную комнату, актеры говорят и держат себя как в жизни, и не только не надевают условных масок, но и грим их должен быть незаметен, и парик должен казаться не париком, а настоящими волосами. Иллюзия – полная; зато достаточно малейшего ее случайного нарушения, неосторожного шага в сторону, достаточно, чтобы седой парик слегка сполз на сторону и под ним стали заметны черные волосы актера, – и очарование пропадает и становится ясно, что все это только лицедейство, игра, в общем – обман. То есть – что условностей тут нисколько не меньше, только они маскируются. Так не правдивее ли, не честнее ли настоящее, не скрытое лицедейство старинного театра, и не более ли оно безусловно в своей условности?
Можно понять, почему у деятелей новейшего искусства вспыхивало желание возродить это прекрасное и наивное прошлое. Но где же взять необходимую наивность, как сделать искусившихся цивилизованных людей снова доверчивыми, куда деть их привычную иронию, как вычеркнуть из сознания огромный опыт протекших столетий? Очевидно, это невозможно. Ведь тот же Толстой с восхищением описывал первобытное представление-игру, изображающее охоту, но с крайним сарказмом отзывался об условностях в современной опере.
Плодотворное возрождение тех или других старинных художественных принципов, видимо, возможно только «по спирали», то есть на совершенно новой почве, включающей в себя, а не отбрасывающей весь последующий опыт. Движение вперед, а не бегство назад, не вымученное возвращение к первоосновам.
Поэтому так много искусственного и инфантильного было в попытках обрести безыскусственность, обращаясь к прошлому, к спасительному «варварству». Тем более искусственно оно было у художников типа Леверкюна – меньше всего наивных и больше всего рефлектирующих.
В романе показаны усилия Леверкюна «вернуться к первоосновам» в жанре лирической песни, возродить наивную пленительную простоту народной мелодии. Однако чем больше он домогается простоты, тем больше она оборачивается у него «квазинаивностью», «пародией на невинность». Чем усерднее его творчество осваивает приемы народной песни, тем оно, как ни странно, становится более эзотерическим, сверх– и переутонченным. Цейтблом прав, замечая: «Это можно назвать эстетически эффектным парадоксом культуры: поворачивая вспять естественную эволюцию, сложное, духовное уже не развивается из элементарного, а берет на себя роль изначального, из которого и силится родиться первозданная простота»35.
Сам Леверкюн сознает слабосилие таких попыток. Его не удовлетворяет эта тонкая игра, ибо он истинный художник и хочет настоящего, серьезного. Так как же все-таки пробиться к настоящему? С одной стороны, Леверкюн по-прежнему и все болезненнее ощущает в себе недостаток самозабвения, вдохновения, которое бы овладело им целиком, позволило отбросить рефлексию и подняться на гребне творческого прилива. Но, с другой стороны, он хочет еще и определенных объективных границ для своего творчества; иначе – он это чувствует – ему грозит опасность растечься по многочисленным каналам субъективных и случайных импульсов.
Неверно, что художник всегда и прежде всего жаждет неограниченной свободы действий. Настоящий художник не меньше, чем свободы, жаждет задачи и цели, жаждет ограничений во имя этой цели; в конце концов подлинно свободным он чувствует себя только в этих поставленных целью границах. Если ему предоставляется тысяча, миллион равноправных возможностей и он волен выбирать, какая ему больше нравится, он не свободен, а разоружен. «Нравиться» – такой же недостаточный импульс в искусстве, как и в жизни.
В докапиталистические эпохи, к которым невольно обращается взор Леверкюна, художник не страдал от неопределенности своих задач: он знал, чего от него хотят и ждут, и мог спокойно сосредоточить свои усилия на том, чтобы выполнить это как можно лучше. Конкретность общественной задачи, естественно, рождала ограничения, даже стилевые и формальные; по этому руслу художник также естественно и направлял свою творческую фантазию.
Чем больше искусство освобождалось от функции служения чему-то вне его лежащему, тем больше деклассированный художник оказывался «свободен» и в выборе средств, но эта «свобода» оборачивалась вовсе не плодотворным для искусства своеволием и характерной для «декаданса» разнузданностью художественной мысли. Сами законы формы утратили какую бы то ни было обязательность, и в конце концов остался только один, чисто негативный закон: не подчиняться законам и не повторяться. Только не повторяться! Все однажды найденное и использованное мгновенно приедается и уже на второй день начинает выглядеть банальным. Призрак банальности преследует художника по пятам, он не успевает вырваться из оков очередной банальности, как попадает в плен к другой. Отсюда вихревое мелькание «художественных мод», сменяющих одна другую по принципу антитезы, отталкивания от предыдущей, наскучившей.
В конечном счете это своеволие художественных форм, утративших объективный критерий, есть не что иное, как результат утраты общественной положительной целеустремленности. Чтобы это преодолеть, существовал один путь: художнику самому найти, почувствовать, осознать задачу своего времени как свою личную задачу. Он находит ее вне себя, в объективных условиях, но – самостоятельно, личными усилиями, и потому положение его более трудное, неустойчивое, зато и требующее большего героизма духа, чем у художника старинных времен, которому эта общественная задача была уже как бы дана извне и предопределена традицией.
Леверкюн тяготится мнимой бесконтрольной «свободой» и искренне ищет выхода из эстетической субъективности. Но его далекость от общественных проблем и здесь мешает ему: он начинает поиски объективности не с того конца и приходит к мысли ограничить себя уставом «строгого стиля». И таким образом, снова обращается к идее «упорядоченности», «математической организации», которая давно его манила.
«Свобода – синоним субъективности, а последняя в один прекрасный день становится невыносима себе самой, – говорит он Цейтблому, – раньше или позже, отчаявшись в собственных творческих ресурсах, она начинает искать убежища в объективном»36. А что объективнее математики? И тут Леверкюн излагает идею двенадцатитоновой музыкальной системы – строжайшей конструкции, при которой достижима «полная интеграция всех музыкальных измерений» и «можно было бы добиться необычайной законченности и согласованности», «неразличимости гармонии и мелодии». Этот принцип родствен принципу математического «магического квадрата», где цифры так расположены в клетках квадрата, что сумма их по всем горизонталям, вертикалям и диагоналям получается одна и та же.
Так Леверкюн хочет вернуть искусству желанные объективные ограничения «в эпоху разрушенных канонов и ликвидации объективных обязательств». Но у него добровольное подчинение математическому уставу покуда выглядит как субъективный акт, так как ничего человечески необходимого, по-видимому, не содержит, что и замечает Цейтблом, которому система эта кажется родственной суевериям – магии чисел, звездочетству.
Впрочем, и Леверкюн по-прежнему не чувствует себя удовлетворенным. После разговора о новой системе (он происходит в усадьбе Леверкюна) друзья молча идут мимо глубокого темного пруда. Леверкюн, указывая на воду, произносит: «Холодна…» Холод цепенит его, парализует его порывы, иссушает его замыслы.
И вот настает кульминация повествования «о мучительной и греховной жизни художника» – диалог с дьяволом, который наконец собственной персоной является к Леверкюну во время его тихой, строго монашеской жизни в Италии, в горах Палестрины, куда Леверкюн отправляется, ища «места, в котором можно было бы, укрывшись от мира и без помех, поговорить один на один со своей жизнью, своей судьбой…»37.
Этот диалог – гениальная вариация «разговора с чертом» Ивана Карамазова. Как и Достоевский, Томас Манн заставляет героя, одержимого душевной тревогой, беседовать с темной и тайной частью собственного «я», принявшей облик «другого», и этот другой высказывает ему с беспощадным цинизмом его собственные, смутно бродящие мысли.
Но злой гений Леверкюна говорит и много правды. Мы бы ошиблись, настроив себя на то, чтобы видеть в его рассуждениях только извращение истины и поклеп на действительность. Современный черт не так-то прост, чтобы лгать. В его словах о положении искусства, о кризисе «опуса» и пр. – многое вполне совпадает не только с мыслями Леверкюна, но и с мыслями самого Томаса Манна. Например, тирада черта о «болезни, одаряющей гениальностью», болезни, которая способна претвориться в высшее здоровье для следующих поколений, – почти дословное повторение соответствующего места из статьи Манна о Достоевском (выше оно приводилось). Все коварство, вся «инфернальность» логики черта в том, чтобы обмануть посредством правды.
Во время разговора собеседник Адриана трижды меняет облик. Сначала он является в образе вульгарного проходимца в стоптанных башмаках, потрепанного босяка (Ивану Карамазову черт является в облике «приживала»). Циничный гость откровенно предлагает циничную сделку, не пускаясь пока в теоретические материи. Он продает время, «песочные часы», продает искусственное вдохновение, самоупоение и экстаз, рожденные болезнью; он запугивает своего клиента тем, что дело фактически уже сделано, и сладострастно язвительно описывает процесс просачивания венерических вирусов в мозговые оболочки. Он уверяет, что больное вдохновение ничем не хуже здорового, вспоминает «цветы» из аптечного семени, – чем они хуже живых цветов, раз и те и другие создала природа? К тому же «мы [силы ада] ничего нового и не создаем – это дело других. Мы только разрешаем от бремени и освобождаем. Мы посылаем к черту робость, скованность и всякие там целомудренные сомнения. Мы снимаем с помощью кое-каких возбуждающих средств налет усталости, малой и великой, личной и всего нашего времени»38. Он особенно упирает на то, что как раз в наше-то время, «усталое» время, таланту не обойтись без помощи черта, то есть без «настоящего, древнего, первобытного вдохновения», «наития», «пренебрегающего критикой, нудной рассудочностью, мертвящим контролем разума». В классические эпохи гений уживался с разумом, теперь же единственно возможный путь для него – уход от разума, «триумфальный, блистательно беззаботный уход». Куда же? В безумие.
Эта страшная молитва художника о безумии, о саморазрушении, давно подспудно звучащая в душе Леверкюна, теперь, однако, будучи высказана так откровенно, вызывает в нем отвращение и ужас. Он сопротивляется. И искуситель, чувствуя сопротивление, начинает говорить о кризисе искусства, – говорить опять-таки то, что Леверкюн давно видел и говорил себе сам. Тут исподволь меняется и внешность собеседника: он уже не похож на босяка, а «что-то такое почище», «музыкальный интеллигентик в очках», теоретик. После этой метаморфозы Леверкюн чувствует себя в его обществе несколько лучше и его внутреннее сопротивление слабеет.
В новом облике теоретика черт высказывает некие истины о положении искусства, но их он выставляет как основание для капитуляции разума – и тут-то кроется подтасовка, обман с помощью правды.
Он даже апеллирует к гуманистическому чувству Леверкюна, к его заветным желаниям воссоединить, сблизить, слить искусство и человеческую жизнь. Музыка, говорит он, как и вообще искусство, «уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующей в виде сцен человеческие страдания и страсти. Допустимо только нефиктивное, неигровое, непросветленное выражение страдания в его реальный момент. Его бессилие и горечь так возросли, что никакая иллюзорная игра тут уже не дозволена»39.
Это на первый взгляд почти то же, о чем размышлял, к какому выводу приходил сам Леверкюн. Но – только на первый взгляд. Есть очень важное различие.
Черт как будто бы хочет сказать, что художнику ныне надо быть с людьми до последнего предела, неразличимо. Разделить их судьбу. Не противостоять им ни в роли поучающего, ни в роли умелого мастера, который из их страданий и страстей делает красивые «опусы». Звучит призыв – отречься от этих сомнительных даров искусства, ставящих художника где-то над и вне общей участи, и принять на себя всю тяжесть этой участи, стать только экспрессивным возгласом страдания и ничем иным – без оценки, без поучения, без живописания. Возгласом нефиктивным, неигровым, непритворным и… непросветленным.
Вот это слово «непросветленный» уже таит в себе и все зловещее, на что толкает художника черт.
Если мы представим себе картину Брейгеля «Слепые», то в этой группе людей художник окажется самым «одержимым» из слепых, первым падающим в яму и увлекающим за собой остальных. А что, если этот слепой поводырь на самом деле зрячий, но закрыл глаза или нарочно ослепил себя, чтобы не отличаться от своих собратьев и быть с ними? Разве не будет такой акт высшей солидарности, в сущности, предательством? Иначе как через непросветленность возможна ли солидарность?
Призыв к непросветленному, слепому выражению страдания и есть ловушка дьявола, подсказанный им лживый исход из правдиво констатированного факта жизненного и культурного кризиса.
Леверкюн поддается на эту ловушку, не замечая, сколь отличается дар дьявола от того, о чем он догадывался и мечтал прежде: «…искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией, оно хочет стать познанием». Дьявол подсказывает совсем другое: искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией, оно хочет стать слепым криком отчаяния.
Тут происходит третье превращение собеседника. Теперь он напоминает традиционного, не преображенного мимикрией черта. В этом виде он отвечает на вопрос Адриана об ожидающей его расплате, о цене даруемого времени и вдохновения.
В «Романе одного романа» Манн писал, что это описание ада было бы для него немыслимым, «если не пережить в душе все ужасы гестаповского застенка…»40.
В аду Адриана ждет бесконечное продолжение его земного «экстравагантного бытия» – вечное метание грешников между холодом и жаром: «С ревом мечутся они между этими двумя состояниями, поелику противоположное всегда кажется райской усладой, хотя тотчас же становится невыносимым, и притом в самом адском смысле»40. Сюда присоединяется самоиздевательство (вот она – «смешливость» Адриана и «ирония» Блока), «архижалкое глумление над безмерным страданием», доходящее до позорного упоения пытками, до сладострастия. И это тоже – продолжение земного, потому что в «непросветленном выражении страдания» нет сопротивления страданию, а значит, в нем таится бесстыдное смакование боли и упоение ее гримасами (здесь читателю может вспомниться герой «Исправительной колонии» Кафки).
Но все еще не названо главное условие состоявшейся сделки; черт, как опытный ростовщик, приберегает его к концу, когда все уже решено и пути к отступлению отрезаны. Это последнее условие он называет, снова приняв обличье мизерабельного босяка, грубо и прямо: «Не возлюби». Леверкюну запрещена привязанность к людям. Так раскрывается символический мотив холода, который с самого начала сопутствует образу Леверкюна, а в сцене диалога напоминает о себе веянием ледяной стужи, исходящим от пришельца.
Как ни готов ко всему Леверкюн, это условие поражает его больше, чем рассказы о муках преисподней. Он пытается опять восстать против загадочной логики гостя, кладущего «в основу делового договора такое зыбкое, такое путаное понятие, как любовь. Неужели черт собирается наложить запрет на похоть? Если же нет, то он вынужден примириться также с симпатией и даже с caritas [нежностью], иначе должники его все равно обманут. То, что я подцепил и из-за чего ты на меня притязаешь, – чем оно вызвано, как не любовью?»42
Леверкюн хочет ухватиться за свою любовь, как за спасительный якорь. Еще раньше, в разговоре с Цейтбломом, он в невольных поисках внутреннего самооправдания пускался в такие же «психологические софизмы». Он говорил: «Тяга к чужой плоти означает преодоление того обычного противодействия, которое вытекает из взаимной отчужденности, царящей между “я” и “ты”, между собственным и посторонним <…>. Тут уж не обойтись без понятия любви, даже если душа здесь как будто и ни при чем»43.
Однако черт недаром издевается над «психологическими придирками» Леверкюна – это и на самом деле только жалкие софизмы. Черту не помеха то мнимое «преодоление отчужденности», которое осуществил Леверкюн; напротив, оно ему на руку, так как оно есть в действительности усугубление разобщения между людьми. «Гетера Эсмеральда» не была для Леверкюна самоценным человеческим существом, таким же самостоятельным духовным организмом, как он сам, а только неким эфемерным носителем «хмельной инъекции», которой ему, Леверкюну, надлежало подвергнуться. Влечение Леверкюна к «ядовитому мотыльку» исключало представление о чужой личности, судьбе и жизни; стало быть, здесь было не приобщение к другому «я», а его заведомое, истребляющее отрицание, с которым Леверкюн только утверждается в пустынном эгоцентризме своего бытия.
Любовь, которую запрещает ему черт, – другого порядка, и черт знает, что делает, когда говорит: «Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает». Кажется, тут есть противоречие: не сам ли черт призывал Леверкюна к выражению страданий человечества? И разве возможно это без любви к человечеству, а значит, и к реальным людям?
Но здесь-то и оказывается, что отказ от руководства разума есть вместе с тем и отказ от мудрости доброты, от ощущения своей причастности к человеческому целому. «Непросветленный» крик отчаяния – это всегда крик отъединенного, одинокого человека, потерявшего живое ощущение связей, и чем более он отъединен, тем отчаяние безвыходнее.
Любовь к людям – реальное расширение тесных границ личности, действительное преодоление отчужденности между «я» и тем, что «вне меня», поэтому она не может быть непросветленной, поэтому ее пути сходятся с путями разума. Она не может вылиться в крик ужаса. Чайковский говорил: если жизнь становится для тебя невыносимой, иди к людям, смотри и слушай, как они веселятся, живи их радостью, и она станет твоей радостью. И если люди страдают, то их общее страдание – совсем не то, что цинизм отчаяния и самоглумление одинокого существа.
Начало статьи Александра Блока о «болезни иронии» выше уже приводилось. А кончается она следующими замечательными словами: «Есть священная формула, так или иначе повторяемая всеми писателями: “Отрекись от себя для себя, но не для России” (Гоголь). “Чтобы быть самим собою, надо отречься от себя” (Ибсен). “Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма” (Вл, Соловьев). Эту формулу повторяет решительно каждый человек, он неизбежно наталкивается на нее, если живет сколько-нибудь сильной духовной жизнью. Эта формула была бы банальной, если бы не была священной. Ее-то понять труднее всего. Я убежден, что в ней лежит спасение и от болезни “иронии”, которая есть болезнь личности, болезнь “индивидуализма”. Только тогда, когда эта формула проникнет в плоть и кровь каждого из нас, наступит настоящий “кризис индивидуализма”. До тех пор мы не застрахованы ни от каких болезней вечно зацветающего, но вечно бесплодного духа»44.
Что можно к этому добавить? Разве только еще одну подобную «формулу», которая принадлежит человеку, жившему «сильной духовной жизнью», – Альберту Эйнштейну: «Подлинная оценка человека состоит в том, в какой степени и в каком смысле он смог добиться освобождения от своего “я”»45.
Запрещая Леверкюну любовь, его злой гений навеки запирает его в темницу собственного «я», и в этом-то заключается самая страшная казнь. Мотив «запрета любви» меньше всего можно считать данью писателя романному жанру и сказочной традиции: он важен для сути проблемы, за ним кроется широчайшая социальная символика.
Заключив сделку, Леверкюн действительно обретает желанную раскованность и тот «натиск восторга», о котором когда-то говорил Врубель как о свойстве истинного художника. Тут черт его не обманул: он выполняет условия договора. Но, странная вещь, отныне, что бы ни сочинял Леверкюн, все имеет один предмет, один центр притяжения – его самого, его обреченность. Та сделка, которая была, казалось ему, лишь средством избавиться от бесплодия, становится и единственной темой-. Леверкюн заперт в нее, как в клетку, уподобляясь аллегорической змее, вечно пожирающей самое себя. Прорваться за эти пределы и жить в других людях Леверкюну не дано.
И все-таки он выражает дух своего времени и, значит, осуществляет связь с людьми, но в негативном смысле. В том смысле, что его участь не только его участь, одиночество не только его удел. Так узник, заключенный в одиночную камеру, никогда не видя и не слыша своего товарища по заключению, все же угадывает его переживания по аналогии со своими – ведь и он сидит в одиночке. Леверкюн – носитель негативного, парадоксального единения, единения на основе разобщенности. И вся музыка его пропитана духом негативности, «переобращения» гуманистических ценностей; в этом «переобращенном» состоянии они сохраняются и напоминают о себе. Отсюда замысел последней кантаты как трагического антипода бетховенской Девятой симфонии, отсюда и рождающаяся «надежда по ту сторону безнадежности».
В своем движении к гуманизму «от противного», «от обратного», Леверкюн не похож на разносчиков ходячих декадентских воззрений. Это явствует из описаний посетителей мюнхенских салонов. Характеризуя эту среду, Томас Манн решительно отделяет от нее Леверкюна, хотя многое из того, что походя высказывается в салонных беседах, представляет как бы карикатуру на выстраданные идеи и поиски композитора.
Здесь мы встречаемся с «консерватором-классиком» Ридезелем и «ультрареволюционным консерватором» Брейзахером. Эта пара, как в сатировской драме, передразнивает драматическую коллизию основного действия – конфликт Цейтблома и Леверкюна, переводя ее в гротесковый и низменный план. Бывший кавалерийский полковник фон Ридезель, обожающий классический балет «за грациозность» и с грехом пополам играющий на рояле, «видел во всем старом и историческом оплот против всего новомодного и разрушительного… и, ратуя за старину только по этому принципу, в сущности ничего в ней не смыслил. Ибо если нельзя понять нового и молодого, не разбираясь в традициях, то и любовь к старому, стоит лишь нам отгородиться от нового, вышедшего из него по исторической необходимости, делается ненастоящей и бесплодной»46. Несложный консерватизм «его превосходительства» для Леверкюна находится «по ту сторону всяких оценок», «даже по ту сторону насмешки», но Цейтблом в глубине души все-таки чувствует некоторую снисходительную симпатию к Ридезелю. Зато активную антипатию вызывает у него культур-философ Брейзахер.
Этот сноб и краснобай представляет фигуру более любопытную, чем допотопная окаменелость – Ридезель. Брейзахер – тоже консерватор, «фрондирующий против буржуазно-либеральных вкусов». В истории культуры Брейзахер видит последовательный процесс упадка и вырождения. Он с крайним презрением отзывается о переходе живописи от плоскостности к перспективе, ибо «иллюзия – это самый низкопробный, самый угодный черни принцип искусства» (как похоже и вместе с тем как непохоже на мысли Леверкюна). Он усматривает регресс и в переходе музыки от монодии к многоголосью и гармонии и еще больший регресс – в переходе к инструментальной музыке двух последних столетий, так что уже Бах для Брейзахера является примером модернистского вырождения. Для Брейзахера нет ничего более ненавистного, чем «жиденькая гуманистическая похлебка», и, переходя к рассуждениям о Ветхом Завете, он находит ее даже у Соломона и Давида. Эпоха Моисея, описанная в Пятикнижии, – вот это, говорит Брейзахер, была «эпоха подлинной народности»: тогда бога еще не отправляли в абстрактные небеса, он жил на земле и питался жертвами из доподлинной крови и жира; тогда не было таких вяло богословских понятий, как «грех» и «кара», а речь шла только «о причинной зависимости между ошибкой и аварией»; не было попрошайнических молитв, а было энергичное, требовательное заклинание, «принуждение бога».
Таким образом, Брейзахер с полной последовательностью выставляет «кровавое варварство» народным идеалом. Салонная публика слушает его со щекочущим любопытством и полушутливо, полуодобрительно аплодирует. Перспектива «кровавого варварства» ее не так уж пугает, маленький салонный Ницше имеет успех.
Эти беседы ведутся накануне Первой мировой войны. Леверкюн не проявляет к ним интереса, как и к самой войне, когда она началась. Он погружен в свое и именно теперь, больше чем когда-либо, стремится вывести музыку из «респектабельного уединения», «говорить языком, который понимали бы и непосвященные». С нарастающей страстностью он преследует свою мечту о будущем искусства, о «вновь обретенной жизненности». «Если бы удался прорыв из интеллектуального холода в рискованный мир нового чувства, искусство, можно сказать, было бы спасено, – говорит он. – <…> Не смешно ли, что некоторое время музыка считала себя средством спасения, освобождения, тогда как она, равно как и все искусства, сама нуждается в освобождении от выспреннего отщепенчества, являющегося результатом эмансипации культуры, культуры, принявшей на себя роль “заменителя религии”, от пребывания с глазу на глаз со “сливками образованного общества”, то есть с публикой, которой скоро не будет, которой, собственно, уже нет, так что искусство в ближайшем будущем окажется в полной изоляции, обреченным на одинокое умирание, если оно не прорвется к “народу”, или, выражаясь менее романтично, к людям»47.
И дальше: «Все жизнеощущение такого искусства, поверьте, станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно, и это счастье. С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составит его существо. Грядущие поколения будут смотреть на музыку, да и она на себя, как на служанку общества, далеко выходящего за рамки “образованности”, не обладающего культурой, но, возможно, ею являющегося. Мы лишь с трудом это себе представляем, и все-таки это будет! И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое, непатетическое, беспечально доверчивое, побратавшееся с человечеством»48.
В другом месте Цейтблом вспоминает слова Леверкюна: «…Противоположностью буржуазной культуры, ее сменой, является не варварство, а коллектив»49.
Такими остаются идеалы Леверкюна, и легко видеть, как мало они имеют общего с декадентством Брейзахера. Но они – за пределами возможностей самого Леверкюна. Ему суждено не положить начало новому веку, но спеть душераздирающую отходную старому.
Тем временем наступает конец войны, 1918 год. «…Завершилась эпоха, не только охватывавшая девятнадцатый век, но восходившая к концу Средневековья, к подрыву схоластических связей, к эмансипации индивидуума, к рождению свободы, эпоха, каковую я, собственно, должен был считать своим вторым духовным отечеством, словом, эпоха буржуазного гуманизма», – говорит Цейтблом. «Мир вступает под новые, еще безыменные созвездия»50. Новые созвездия загораются на востоке Европы: «Русская революция меня потрясла, и историческое превосходство ее принципов над принципами держав, нас поработивших, не вызывало у меня ни малейшего сомнения»51.
Но в побежденной Германии наступившие времена воспринимаются под знаком «обесценения индивидуума». «Живо чувствовались здесь и объективно определились: невероятная обесцененность индивидуума как такового в результате войны, невнимательность, с которой жизнь проходит теперь мимо отдельной личности и которая претворилась в людских душах во всеобщее равнодушие к ее страданиям и гибели. Эта невнимательность, это безразличие к судьбе одиночки могли показаться порождением только что закончившегося четырехлетнего кровавого пиршества, но никто не заблуждался: как во многих других аспектах, война и здесь лишь завершила, прояснила и нагляднейше преподала то, что давно уже намечалось и ложилось в основу нового жизнеощущения»52.
Об этом идут толки во взбудораженных «культурно-исторических кружках», где все тот же Брейзахер задает тон. Брейзахеры чувствуют себя как рыба в воде в новой ситуации, они не воспринимают ее трагически, они даже упиваются ею. С грозным сарказмом показывает Томас Манн, как эта растленная интеллигенция заигрывает с идеей деспотического владычества грядущих диктаторов «над нивелированными, атомизированными, раздробленными и, подобно индивидууму, беспомощными массами»53.
С одобрением, как пророческую, вспоминают книгу Жоржа Сореля «Размышления о насилии», вышедшую за семь лет до войны, ее слова о том, что «в век масс парламентская дискуссия как средство политического волеопределения окажется совершенно несостоятельной; что в будущем массам заменят ее мифические фикции, призванные, подобно примитивному боевому кличу, развязывать и активизировать политическую энергию <…>. Движущей политической силой станут отныне доступные массам демагогические мифы: басни, кошмары, химеры, которые вообще не нуждаются в правде, разуме, науке…». «Насилие как победоносный антагонист истины» – вот пафос книги Сореля. «Она давала понять, что судьба истины родственна, даже тождественна судьбе индивидуума, что эта судьба – обесценивание. Она открывала глумливую пропасть между истиной и… человеческим коллективом. Она молчаливо подразумевала, что последний надо предпочесть первой, что истина должна иметь целью человеческий коллектив и что желающий в таковом участвовать должен быть готов сильно поступиться наукой и истиной…»54
Все это, следовательно, облекалось понятием «народности», употребляемым в самом кощунственном смысле, – в таком же примерно, как понимал его Брейзахер: народ питает жертвами кровожадного бога (или «фюрера»), который за то освобождает народ от необходимости мыслить и докучной погони за истиной. И вот уже некий поэт Цур Хойэ, завзятый эстет, сочиняет поэму о «Христе полководце», ведущем послушных солдат на завоевание и разграбление мира.
В этот момент истории призрак фашизма становится уже вполне явственным, обрастает плотью. «Миф антигуманизма», о котором еще несколько лет назад Брейзахер вел светские разговоры, относя его к эпохе Пятикнижия, что тогда еще могло приниматься за игру гибкого (слишком гибкого!) ума, готов стать действительностью. Почемуже интеллигенция – «люди науки», «люди искусства», «служители истины» – встречает его почти с веселым удовлетворением? По крайней мере та интеллигенция, которую изображает Томас Манн в лице «культурноисторического кружка Кридвиса». Она прежде всего чувствует удовлетворение от самого факта осознанности наступившей ситуации, приемля ее как исторически неизбежную. Она привыкла чувствовать себя свидетелем истории, а не ее деятелем (плоды давней аполитичности), и как свидетель она потирает руки от удовольствия наблюдать нечто новенькое. Но это еще не все. Втайне (а может быть, и въяве) многим импонирует и сама ситуация. Они находят, что внутри «объективной скованности» догмы найдется достаточно простора для проявления субъективности (здесь опять зловеще карикатурное преломление идей Леверкюна, его тоски по «объективному»). Легче направлять свою субъективность на расцвечивание извне заданной догмы, чем на поиски истины. «Мысли дается свобода оправдывать насилие, подобно тому как семьсот лет назад разуму предоставляли свободу разъяснять веру, доказывать догму»55.
Что же ждет эту «субъективную» свободу? В условиях «обесценивания истины», «обесценивания индивидуальностей» она сама тоже оказывается полностью обесцененной. Она годна только на то, чтобы производить «кошмары и химеры». Причем если художник беспрекословно встает на путь оправдания насилия, то он производит демагогические химеры – те, которые должны, «подобно примитивному боевому кличу, развязать и активизировать политическую энергию». Тогда уже какая бы то ни было субъективная свобода художника становится чистой фикцией, ее попросту нет, и художник превращается в механического отливщика демагогических стандартов. Эти стандарты, вполне «химерические» по своему существу, внешне должны быть совершенно, до примитивности доступными, грубо доступными, – иначе как же они смогут действовать на массы (собственно фашистское «искусство», официально поощрявшееся фашистскими государствами, никогда не было ни абстрактным, ни «заумным»)? Если же художник остается в стороне от непосредственного служения догме насилия, но все-таки ощущает ее как неизбежность, как рок, тяготеющий над миром, тогда ему остается творить «кошмары и химеры» в чистом виде, не связанные прямо с политической демагогией, но зато и не связанные с чем бы то ни было позитивным. Ведь индивидуальность, признающая себя обесцененной, может производить только антиценности. Она встает на путь бессильного, само над собой глумящегося фрондирования, однообразных «абстрактных» гримас, художественного упадка. В этом случае некая видимость субъективной свободы сохраняется, но она совершенно бесплодна.
Происходит смыкание и перепутывание идей переоценки ценностей, волновавших все, без исключения все, лучшие умы в предшествующие десятилетия, с отрицанием и разрушением гуманистических ценностей в мире, на который ложится тень фашизма. Кризис искусства переходит в свою тяжелую и затяжную стадию, где уже есть основания считать его не кризисом, а умиранием. Логика процесса такова, что болезнь индивидуализма превращается теперь в болезнь обезличенности. Обезличенность – крайняя стадия индивидуализма, его предел; наглухо замкнутое в себе «я» перестает ощущать себя чем-то реальным, утрачивает самосознание, сознание своей экзистенции. Только преодоление индивидуализма, о котором так страстно мечтал Блок, а иными словами, приобщение личности к социальному целому, ответственность ее за судьбу социального целого (или еще проще: «любовь к людям») ведет к преодолению обезличенности.
Обезличенность, являющаяся необходимой почвой фашистской диктатуры, не есть историческая неизбежность, не есть рок, которому бесполезно сопротивляться. Как раз исторической неизбежностью является сопротивление ему, и недаром Томас Манн писал, что фашистский режим «ничего не понимает в требованиях истории». У людей есть свобода выбора, воля к выходу из любого кризиса. Нет такого положения, при котором они были бы вынуждены «продавать душу черту». Поскольку это так, постольку не неизбежен и упадок искусства. Гангрена поражает лишь некоторые участки мирового художественного организма, но искусство не умирает, в нем продолжаются упорные, трудные, подчас обходные поиски выхода к новому гуманизму.
Что делает в это опасное время Леверкюн? С кем он – с Брейзахером и Цур Хойэ или с другими? Или, может быть, с Цейтбломом? Он, как всегда, один. Он пишет ораторию «Апокалипсис» по мотивам гравюр Дюрера – исступленную поэму конца, гибели мира.
Цейтблом признается, что его тревожила и мучила замечаемая им перекличка, какие-то совпадения между «словопрениями за круглым столом Кридвиса» и новым произведением Леверкюна. Первые могли восприниматься как «холодно-интеллектуальный комментарий» к оратории «Апокалипсис», где тоже провозглашался конец, крах насущных ценностей индивидуалистической эры, и соответственно этому сами музыкальные формы представляли собой «бурную вспышку архаизма», возврат к принципам культовой музыки, и даже примитивно культовой, «варварской», «заклинающей» в сочетании с привкусом «машинизации». Но разница слишком велика, что и показывает Цейтблом, описывая ораторию Леверкюна (описание, принадлежащее к художественно сильнейшим страницам романа). Если кружок Кридвиса встречает наступающее почти с удовлетворением, то музыка Леверкюна трагедийна, для него наступающее отождествлено с безднами ада, с его собственной мукой и карой.
Бездушия нет в музыке Леверкюна. Цейтблому слышится в ней «горячая мольба о душе». И есть в ней особенность, которая Цейтблома особенно поражает, – то, как воплощен принцип «магического квадрата». Первая часть «Апокалипсиса» завершается «ликованием геенны» – «залп презрительного и торжествующего адского хохота, вобравший в себя и крик, и тявканье, и визг, и блеяние, и гуденье, и ржанье, и вой». Вторую же часть открывает детский хор ангелов в сопровождении оркестра: «…космическая музыка сфер, ледяная, ясная, кристально прозрачная, терпко-диссонантная, правда, но исполненная, я бы сказал, недоступнонеземной и странной, вселяющей в сердце безнадежную тоску красоты»56. Это – олицетворение спасения, от которого Адриан считает себя навеки и безнадежно отторгнутым. Но эта часть, контрастная с предыдущей, является вместе с тем ее музыкальной трансформацией. «Правда, предшествующие кошмары полностью перекомпонованы в этом необычайном детском хоре; в нем совершенно другая инструментовка, другие ритмы, но в пронзительно звонкой ангельской музыке сфер нет ни одной ноты, которая, в строгом соответствии, не встретилась бы в хохоте ада. Тут он весь, Адриан Леверкюн. Тут она вся, музыка, им представляемая!»57
Что же это значит, почему «тут он весь»? Может быть, это отголосок дьявольских провокаций или еще шлепфусовских провокаторских идей о тождественности добра и зла? А может быть, и другое – языком музыки выраженное предчувствие того, что добро нового мира родится не из чистоты неведения, не из простого отбрасывания накопившегося зла, а приняв в себя, пережив, переработав и «перекомпоновав» его элементы, – «обращенным к жизни, хотя и знавшим смерть».
Далее повесть о Леверкюне вступает в тот фазис, когда в 1920-е годы, недолгие годы германской республики, «перед нами, немцами, казалось, забрезжила эпоха душевного отдохновения, социального прогресса»57. Призрак тоталитарного государства на некоторое время вновь отступил и потускнел. Некоторая, правда, обманчивая стабилизация наступает и в жизни Леверкюна: его произведения исполняются, имя приобретает более широкую известность, вокруг него образуется узкий кружок почитателей. К этому периоду относится эпизод, который можно было бы назвать появлением второго искусителя Леверкюна. Второй искуситель является в образе Саула Фительберга – «интернационального дельца и импресарио».
Этот хочет соблазнить Леверкюна суетной славой, показав ему и повергнув к его ногам «царства нашей земли и все их великолепие» (скрытая цитата, перефразировка евангельских слов о «царствах мира и всей славы его»). Это чисто мирской, юркий, светский дьявол, играющий на низменных чувствах.
Он говорит: «Я с детства стремился к высокому, духовному и занимательному и прежде всего к новому, которое пока еще скандалезно, но почетно, обнадеживающе скандалезно, а завтра сделается наиболее дорого оплачиваемым гвоздем искусства <…>. Моя страсть и моя гордость… в том, чтобы выдвигать талант, гения, значительного человека, трубить о нем, заставлять общество им воодушевиться или хотя бы взволноваться»59. Фительберг предлагает Леверкюну гастрольную поездку с серией концертов по городам Европы.
Если встреча Леверкюна с первым, серьезным, «духовным» искусителем была диалогам, то вторая встреча представляет сплошной, длинный, на несколько страниц, монолог Фительберга. Леверкюн только присутствует, спокойно слушает и спокойно молчит, не произнося ни одного слова в ответ. И по этому молчанию болтливый искуситель понимает, что дело его проиграно, и бесславно покидает поле боя.
Соблазн дешевой славы, успеха, шума, рекламного эпатажа не существует для такого художника, как Леверкюн. Тут он неуязвим. Писатель еще раз показывает нам духовное величие Леверкюна, отличающее его от столь многих «детей века».
Второй искуситель терпит, таким образом, фиаско, но первый продолжает стоять на страже. Леверкюн не вполне оправдывает и его ожидания. «Горячая мольба о душе», прозвучавшая в «Апокалипсисе», наверно, не входила в расчеты черта. Хотя Леверкюн и завербован – между ними продолжается немая борьба. Каждую минуту Леверкюн может ускользнуть. На каждом повороте жизни ему брезжит запретная, согревающая любовь.
В этой части романа повествование входит в более широкие берега, становится наиболее «сюжетным»: в фабулу Леверкюна вплетается другая фабульная линия – Инесы Родде и Рудольфа Швердтфегера.
Инеса Родде, уставшая от полусветской, полубогемной жизни в доме своей матери, вступает в благоразумный брак с Инститорисом – искусствоведом, который, несмотря на свои теоретические пристрастия к эпохам, «курившимся кровью и красотой», вжизни являет собой образец скромнейшего добропорядочного филистера (Томас Манн с большим юмором фиксирует столь частые и характерные для современности парадоксы – несоответствие действительной сущности индивидуума и его системы фраз). Чинное бюргерское житье Инесы с мужем и детьми оказывается, в свою очередь, только фальшивой оболочкой: ее настоящая жизнь протекает тайно и заключается в исступленной любви к молодому скрипачу Руди Швердтфегеру. Швердтфегер талантлив, легкомыслен и недалек, к тому же светски тщеславен. Инеса живет иллюзией, будто бы она «укрощает его светскость», претворяя ее в любовь. На самом деле Швердтфегер тяготится связью с Инесой, обременительной чрезмерностью ее страсти. Он ищет доверия и дружбы Леверкюна, и это ему почти удается: он первый человек, с кем Леверкюн переходит на «ты». Но тайный хозяин Леверкюна настороже, и по его наущению Леверкюн обрекает своего друга на смерть.
Это происходит так: внимание Леверкюна привлекает художница Мари Годо, он говорит Швердтфегеру о своем намерении жениться на ней и просит Швердтфегера от своего имени сделать ей предложение. Причем он знает, что Швердтфегер сам влюблен в Мари Годо, но все же настаивает на своей просьбе. Швердтфегер неохотно выполняет это странное поручение; Мари Годо оскорблена посредничеством, отклоняет предложение Леверкюна, после чего Швердтфегер делает ей предложение уже от себя, и она его принимает.
Вся эта полуфарсовая ситуация откровенно варьирует мотив «предательского сватовства», встречающийся в шекспировских комедиях. Действующие лица романа даже разговаривают скрытыми цитатами из Шекспира (Адриан говорит: «Таковы нынешние друзья <…>. Я, как школьник, похвалился перед приятелем найденным гнездом, а тот взял, да украл его». Цейтблом отвечает: «Доверчивость – не позор и не грех. Позор и грех остаются на долю вора» и т. д.). Перед нами – все то же тяготение к пародии и к обнажению условности, которое Томасу Манну, как художнику, было не меньше свойственно, чем его герою. Как только Манн начинает «живописать в виде сцен человеческие страдания и страсти» и сочинять фабулу – он укрывается за пародию. Он как бы не хочет скрывать от читателя, что все это сплетение обстоятельств не более чем условный прием, эксперимент, который он проделывает над своими героями, чтобы нагляднее раскрыть нечто серьезное. А так как подобные условные ситуации уже не раз «обыгрывались» искусством, то автор сам пародийно напоминает читателю о Шекспире.
Но у этого фарса трагический финал: Инеса, узнав о помолвке Швердтфегера, убивает его. Леверкюн, очевидно, не мог знать об этом заранее, а вместе с тем получается, что как бы и знал и как бы для этого и затеял историю с предполагаемой своей женитьбой.
Читателю предоставляется выбрать из двух возможных истолкований. Одно – естественное: Леверкюн ни о чем заранее не подозревал, он действительно хотел жениться на девушке, показавшейся ему во всех отношениях подходящей, он поручил объяснение Швердтфегеру, так как из-за привычной замкнутости ему было тяжело отважиться на это самому. Когда же все закончилось столь трагически, в больном мозгу Леверкюна задним числом сложилась версия о зловещей преднамеренности его действий (в чем он и признается в своей последней исповеди).
Другое же объяснение прямо вытекает из запрета любви, наложенного на Леверкюна дьяволом. Дьявол следит, чтобы условие выполнялось, и устраняет каждого, кто представляет угрозу. В данном случае угрозу представляет не столько женщина (ибо расчетливое чувство, которое к ней питает Леверкюн, не более опасно для черта, чем эгоистическое влечение Леверкюна к «Гетере Эсмеральде»), сколько мужчина – Швердтфегер: к нему Леверкюн начинает испытывать что-то вроде бескорыстной доверчивой нежности. Поэтому черт заставляет Леверкюна собственными руками послать Швердтфегера на смерть, и тот делает это с тайным умыслом.
Так же двойственно воспринимается следующий трагический эпизод – о Непомуке, маленьком племяннике Леверкюна, который в мучениях погибает от менингита как раз тогда, когда Леверкюн всей душой привязался к этому ребенку.
Здесь уже не только событие допускает двойное объяснение, но и сам маленький Непомук предстает перед читателем как бы в двойном плане – реальном и метафизическом. В первом – просто милый пятилетний ребенок, красивый и ласковый, забавно подражающий швейцарскому диалекту своих родителей. Томас Манн, верный методу монтажа, нарисовал в нем портрет своего любимого внука, видимо столь похожий, что писатель старался как можно дольше скрывать от матери жестокий конец Непомука в романе.
В другом, метафизическом плане Томас Манн «тайно внушает» читателю веру в «неземную», «эльфическую» природу Непомука. Он обречен быть «вечным ребенком», его так же трудно представить повзрослевшим, как вообразить состарившегося ангела. Рассказывая, как создавался образ Непомука, Манн говорил, что в нем ему чудилось что-то от «гостя из горней и дальней обители».
Томас Манн дорожил образом Непомука и был убежден, что раздел о нем – «самый поэтичный» в романе. Нет сомнения – он заблуждался. Страницы, посвященные Непомуку, художественно слабее всего остального и неприятно поражают какой-то сгущенной сладостью в описаниях ангелоподобного младенца.
Не странно ли, что как раз тот раздел, над которым великий писатель трудился с максимальной искренностью, увлеченностью (и «с болью», как он писал), прозвучал едва ли не фальшиво? Откуда возникают подобные парадоксы художественного труда (они не редки)? Не следует ли отсюда, что художнику даже в искренности своей нужно соблюдать известную меру, известную дистанцию между собой и предметом и что Томас Манн в данном случае преступил некий неписаный закон творчества, который Чехов выразил в афоризме: «Чем чувствительнее положение, тем холоднее следует писать и тем чувствительнее выйдет».
Насколько этот закон универсален – вопрос, который отвлек бы нас слишком далеко. Во всяком случае, он в особом смысле верен для современного искусства и для писателя-мыслителя по преимуществу, каким был Томас Манн, писателя, чье главное оружие – интеллект. Неудача с Непомуком проистекает не оттого, что писатель слишком его «засим-волизировал», – ведь подобная символика и двуплановость присутствуют у него всюду, на этом держится вся композиция романа. Ошибка, скорее, в том, что Томас Манн, рисуя Непомука, оказался слишком во власти своего предмета, во власти «умилительных чувств», которые сам испытывал, и дал им вылиться на бумагу без малейшего на этот раз критически-иронического корректива.
Не только в этих двух эпизодах, но на всем протяжении романа две мотивировки происходящего – «реалистическая» и «романтическая» – выступают как равноправные, равно допустимые. Разговор с чертом очень легко мотивируется как галлюцинация Леверкюна. Но многие намеки побуждают допускать его «подлинность»; тогда все, что происходит раньше и после, – и болезнь Леверкюна, и смерть Швердтфегера, и смерть Непомука – выглядит уже не как стечение обстоятельств, а как цепь причин и следствий. Ведь логической последовательности всегда больше в «романтических» и фантастических ситуациях, чем в реальных, где царящий случай затуманивает и спутывает карты строгой необходимости.
У Достоевского нет подобной двойственности мотивировок. У него черт – очевидная галлюцинация Карамазова. Карамазов говорит сам с собой, и никаких сомнений в этом у читателя возникнуть не может. Почему же Манн, писатель гораздо более рационалистического склада, допускает двойную мотивировку? Именно потому, что он все время рассуждает и исследует. Очевидно, для него обе мотивировки – и «правдоподобная» и «неправдоподобная» – в равной мере условны, в равной мере орудие исследования, и поэтому равно допустимы. В действительности черт, конечно, не более чем развернутая метафора, но ведь и «предательское сватовство» – не более чем цитата. Все фабульные нити, вся «интрига» романа есть только условия опыта; они важны не сами по себе – важно то, что за ними. Это один из характерных признаков «романа-исследования».
При всем том художественная иллюзия отнюдь не уничтожается, условность всего происходящего не мешает читателю испытывать холод ужаса, когда появляется черт, или сожаление, когда гибнет маленький Непомук. Иллюзия остается, но она сама становится одним из условий опыта. Поэтому, будет ли она естественной, правдоподобной, житейской или романтической, фантастической, символической, – суть не меняется. Она может быть в принципе любой, и эти разные планы в интеллектуальном романе могут всячески совмещаться, переплетаться, чередоваться… Возникает возможность очень причудливой и многослойной художественной структуры.
Реализм же такого произведения определяется исключительно истинностью заключенного в нем познания. Можно сказать, что Томас Манн осуществил программу, которая у Леверкюна только мелькала, но от которой он уклонился: «Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией, оно хочет стать познанием». Это, разумеется, не относимо ко всей широчайшей области современного искусства, но – к очень многим его разветвлениям.
И знаменитый «магический квадрат» Леверкюна находит себе здесь место. Посмотрим, каким образом.
Бегло прочитывая «Доктора Фаустуса», воспринимая его как обычный традиционный роман, мы могли бы подумать, что истории его второстепенных героев связаны с самим Леверкюном и с главной проблемой довольно косвенно. Может показаться, что внутренняя логика любви и преступления Инесы Родде есть нечто самостоятельное по отношению к истории Леверкюна, отдельная ветвь романа, лишь присоединенная к главному его стволу фабульными скреплениями. Однако это не так. Это не роман внутри романа и даже не социально-житейский фон. Это нечто более значительное – инобытие все той же самой проблемы. Тема «Фаустуса», разыгранная на ином материале, в иной тональности.
Как Леверкюн болезненно ощущает обесценение былых ценностей и исчерпанность средств искусства, так Инеса испытывает на себе исчерпанность идеалов бюргерской домовитости и респектабельности, идеалов, которые прежде вовсе не лишены были положительного содержания. Брак по склонности, добрый муж, дети, заботы о них, безупречный дом «с книгами и картинами» и заботы о доме, корректные рауты и приемы, интеллигентный круг знакомых… Все это еще недавно обладало ценностью, к чему, как не к этому, сводились счастливые концовки в романах Диккенса; в спасительную, оздоровляющую силу семейного очага верил в зрелые годы Лев Толстой, даже философ Кьеркегор высоко ставил идеал «семьянина». И вот этот последний бастион буржуазной добропорядочности превращается на грани веков в свою пародию. Тогда Лев Толстой пишет «Крейцерову сонату», Ибсен – «Кукольный дом», Чехов – «У знакомых», Глеб Успенский – «Ноль целых».
Но такая злая пародия на «семейное счастье», как у Томаса Манна, встречается все же не часто. Гнездо, которое в годы Первой мировой войны собственными руками свила себе Инеса, – насквозь лживая, гнилая постройка. Даже в детях, «зачатых на желтом полированном ложе под балдахином, близ серебряных безделушек, симметрично расставленных на стекле туалета», есть что-то пугающе марионеточное – «беленькие, шепеляво и нежно лопотавшие, озабоченные своими бантиками и платьицами, явно подавленные материнской манией безупречности, печально занятые собой комнатные растеньица».
Инеса по-своему повторяет ложный прорыв Леверкюна из тупика. Как и он, она жаждет «хмельной инъекции», и если к ней не является черт, то только потому, что самообман для нее легче, натуральнее – она обходится и без помощи черта. Близость с Руди Швердтфегером не имеет для Инесы какого-либо душевного содержания (как и для Леверкюна – близость с девушкой из дома терпимости). Но она обманывает себя: ей кажется, что в чувственной страсти она наконец-то находит доподлинные, раскрепощающие «ценности», противоположные явно фальшивым ценностям ее домашнего очага. То есть и здесь – обманчивая переоценка хмельного дурмана, раскованности, наития как выхода из оцепенения, рассудочности, бесплодия. Чем сильнее эти иллюзии мнимого выхода, тем более постыдным и гибельным оказывается их конец.
Инеса, живущая только чувством, погибает бесславно. Леверкюн, живущий в сферах духа, погибает возвышенно, хотя нечто жалкое есть и в его конце. И все же судьба Инесы – скрытый двойник судьбы Леверкюна.
Здесь можно сделать некоторые наблюдения над своеобразной структурой романа «Доктор Фаустус» и убедиться, что она действительно родственна тому принципу «интеграции всех музыкальных измерений», принципу «магического квадрата», о котором Леверкюн рассказывает Цейтблому в 22-й главе. Это, между прочим, подтверждается и самим писателем в его авторском исследовании: «Я чувствовал, что моя книга и сама станет тем, о чем она трактует, а именно – конструктивной музыкой». Музыкальный конструктивизм, говорится здесь же, он всегда вынашивал в себе «как идеал формы»60.
«Доктор Фаустус» – многомерное произведение; действительность, современность взята в нем в различных разрезах. Проблема кризиса искусства развита как параллель политическому кризису германского государства. Строго говоря, это очень разные области, но писатель, замечая в них действие неких общих закономерностей времени, заставляет их звучать по методу контрапункта. А кроме того, прослеживает вариации этих же закономерностей в сфере «частной жизни», и «итоги» совпадают. Разумеется, воинственная свистопляска фашизма, больное вдохновение Леверкюна, болезненная страстность Инесы – явления несоизмеримые, однако сопоставимые. Во внутренней логике их развития есть глубоко лежащая общность, и Томас Манн ее вскрывает, возводя музыкальную конструкцию, интегрирующую эти различные «срезы» современной жизни. Он рассматривает их также по пересекающимся «диагоналям», то есть в плане общих вопросов нравственности и философии природы. Такие же сближения и сопоставления он проводит во времени, в параллельном анализе нескольких эпох.
Итог, «общая сумма», которая при этом возникает, – одна. Когда «мир вступает под новые, еще безыменные созвездия», человек, рожденный под старыми, угасающими созвездиями, мучительно чувствующий изношенность старых устоев, поддается соблазну угарного, хмельного развязывания внеморальных, внеразумных начал. Круг замыкается, и от крайностей «бескровного интеллекта» остается один шаг до крайностей «кровавого варварства» – в политике, в искусстве, в философии и в «частной жизни».
Надо сказать, что принцип «интеграции измерений», ставший и принципом художественной формы, проведен у Манна очень строго, вплоть до частностей, хотя он нигде не ощущается как самоцельный и навязчивый. Напротив, кажется даже, что повествование развивается очень вольно, непринужденно, со многими отступлениями, как и подобает мемуарам. Но на самом деле в нем нет ни одной черточки, ни одного мотива, который был бы сам по себе и не имел сквозного значения для всей художественной конструкции. Если, скажем, мальчик Непомук носит детское прозвище Эхо, то и это не случайно: Леверкюн в своем последнем произведении обращается к музыкальному приему эха.
Одним словом, к структуре романа полностью относится то, что говорится о музыкальной технике Леверкюна, «создающей предельное разнообразие звуковых комбинаций из одного и того же неизменного материала, так что не остается ничего нетематического, ничего, что не было бы вариацией все того же самого. Этот стиль, эта техника… не допускает ни единого звука, который не выполнял бы функции мотива в конструктивном целом, – так что ни одной свободной ноты более не существует»61.
Значит, как много самого себя вложил Томас Манн в Леверкюна, сколько здесь от авторской исповеди, от творческого кредо! И его «музыкальный конструктивизм» не произвольно выбранная форма. Это форма осознания единства мировых процессов, строгой и таинственной законосообразности, связей всего со всем. Форма «искусства-по-знания». Правда, у Леверкюна она послужила другому, и разница между писателем и его героем велика.
После смерти Непомука, описанной со всей клинической беспощадностью, с ледяной точностью медицинских терминов (медицина, как и музыка, была страстью Томаса Манна), Леверкюном овладевает вдохновение отчаяния. «Я понял, этого быть не должно, – говорит он Цейтблому. – Доброго и благородного… того, что зовется человеческим, хотя оно добро и благородно. Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии, и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого не должно быть. Оно будет отнято. Я его отниму». На вопрос, что он хочет отнять, он отвечает: «Девятую симфонию»62.
Очень близоруко было бы именно из этих слов заключать об антигуманизме искусства Леверкюна и видеть в них, так сказать, недвусмысленно сформулированную программу античеловечности. Ведь подлинно античеловеческое никогда так о себе не заявляет, оно изо всех сил тщится выдать себя за подлинно человеческое и, конечно, не признает за антагонистом качества «доброго», «благородного» и «лучшего». Фашизм, истребляя народы, утверждал, что истребляет «низшие», «неблагородные», «худшие» расы.
Яростная декларация Леверкюна может означать лишь то, что чаша страдания переполнена и Леверкюн не верит в реальность добра на земле, не верит в осуществимость призыва, звучащего в Девятой симфонии Бетховена. Его позиция близка знаменитому карамазовскому «не бога я не признаю, а только билет ему почтительнейше возвращаю».
Но в крайности этой позиции уже заключено ее потенциальное самоотрицание. Надо уж очень сильно дорожить идеей добра и единения людей, чтобы, отчаявшись в ней, «возвращать билет» и не утешать себя суррогатами. А если так – то, значит, ничего не потеряно, потому что кому же, как не людям, дано осуществлять идеи, ими же самими высказанные и так для них важные, что без них не хотят жить. Много хуже, когда, утратив веру в них, не приходят в отчаяние и на место их воздвигают фальшивые кумиры.
Так получается, что Леверкюн, желая «отнять» Девятую симфонию, делает шаг к тому, чтобы ее «возвратить». «Нет», сказанное спокойно и равнодушно, – это настоящее «нет». Но «нет», выкрикнутое с отчаянием, – это уже почти «да»; от «да» его отделяет последняя оставшаяся ступень. Симфоническая кантата Леверкюна «Плач доктора Фаустуса» – его «закатное творение», «титаническая жалоба», где наконец-то «холодный расчет обернулся экспрессивнейшим криком души», – задумана, как антипод Девятой симфонии, негативно родственный ей. В финале кантаты слышится «надежда по ту сторону безнадежности, трансценденция отчаяния». Заключительный звук, «высокое “соль” виолончели», «звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет еще только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи»63.
В «Романе одного романа» Томас Манн говорит, что в первом варианте описания кантаты он «оказался слишком оптимистичен, слишком благодушен и прямолинеен. Я зажег слишком яркий свет и огрубил утешение»64. На это ему указал как на недостаток Адорно, с которым Манн много советовался. И Манн переделал эти страницы, ограничившись заключительной поэтической каденцией о «светоче в ночи».
Леверкюн создает «Плач доктора Фаустуса» в 1929 и 1930 годах, которые «уже совпали с возвышением и самоутверждением зла, овладевшего нашей страной», – говорит Цейтблом. Сам Леверкюн в это время стоит на грани сумасшествия, и его творческий подъем – последняя яркая вспышка, «эйфорический» взлет перед наступлением коллапса. А Цейтблом описывает эти события в апреле 1945 года, когда советские войска подходят к лежащему в развалинах Берлину, лежит в развалинах и фашистское государство, его обанкротившиеся вожди кончают самоубийством («наш позор предстал теперь глазам всего мира»), и немецкий народ чувствует себя соответчиком за все совершенные злодеяния. «Проклятие, проклятие погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей!»65
История Леверкюна заканчивается его исповедью. Всегда замкнутый, холодный и ироничный, он совершает необычное для него: созывает людей, чтобы поведать им всю правду о себе.
Страдальческий юмор этой сцены в том, что единственные люди, каких Леверкюн знал, кто знал его и кому он теперь рассылает приглашения, – это все те же брейзахеры и инститорисы, шлагингауфены и цурхойэ, все та же пустая накипь образованного общества, салонная чернь, с одинаково равнодушным любопытством внимающая и добру и злу, которую Леверкюн с полным основанием презирал. Но другие люди, к которым он жаждал «прорваться», ему неведомы, также как им осталось неведомо его искусство. И теперь он обращается к Брейзахеру и Инститорису, называя их «братьями», «друзьями», – больше ему не к кому обращаться. Впрочем, он уже ничего этого не замечает. Он видит перед собой только людей, не разбирая, кто они; в конце концов, ведь и они все-таки люди. Он говорит в тоне старинных покаяний, с выспренними архаическими оборотами речи, говорит с великой серьезностью, а собравшиеся гости, привыкшие к несерьезному эстетизму, сначала принимают все то ли за шутку, то ли за поэтическую аллегорию, потом начинают недоумевать и чувствовать себя шокированными, пока наконец им не становится очевидной грустная и жалкая истина: «этот человек безумен».
В исповеди Леверкюна есть место особо замечательное; в нем, собственно, ключ ко всему роману:
«Поистине, в том, что искусство завязло, отяжелело и само глумится над собой, что все стало так непосильно и горемычный человек не знает, куда ж ему податься, – в том, други и братья, виною время. Но ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу, дабы вырваться из тяжкого злополучья, тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятию. Ибо сказано: бди и бодрствуй! Но не всякий склонен трезво бодрствовать; и заместо того, чтобы разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле и средь них установился порядок, что дал бы прекрасным людским творениям вновь почувствовать под собой твердую почву и честно вжиться в людской обиход, иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам»66 (курсив мой. – Н.Д.). Тут сказано главное.
И все же, «может быть, из милосердия будет хорошим сотворенное во зле, не знаю. Может быть, господь зачтет мне то, что я искал трудного, не жалел себя, может быть, – может быть, за меня станет говорить то, что я трудился в поте лица своего, упорствовал и все завершил, – не знаю и надеяться не смею»67.
Леверкюн садится за рояль, собираясь сыграть свое произведение, но, ударив по клавишам, извлекает только «сильно диссонирующий аккорд» и падает, пораженный параличом.
Что же венчает его конец? Разверзаются ли небеса по канонам легенд о раскаявшемся грешнике и из сонма ангельских ликов раздается возглас: «Спасен!»? Нет, апофеоз современного Фауста другой. Небеса не разверзаются, но над упавшим с жалостью наклоняется его квартирная хозяйка – матушка Швейгештиль, стоявшая в отдалении; она-то не была призвана слушать Леверкюна и не знала, «не понимала» его музыки. «Уходите же, все зараз уходите! – обращается она к оторопевшим гостям. – Ничего-то вы, городской народ, не понимаете, а тут надобно понятие! Много он, бедный человек говорил о милости господней, уж не знаю, достанет ее или нет. А вот человеческого понятия, уж это я знаю, всегда на все достанет!»68
Итак – достанет ли человеческого понятия? Достанет ли его на то, чтобы сбылась надежда Леверкюна, надежда Блока:
– Быть может, юноша веселый В грядущем скажет обо мне: Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель его?.69Читая «Доктора Фаустуса», мы видели в нем не только повествование о жизни некоего злосчастного немецкого композитора, мы прочли историю кризиса буржуазной культуры, эпопею модернизма (произнесем наконец это слово, ни разу не встречающееся в романе). И это так и должно быть, так мыслил и сам писатель. Но, думается, все же хорошо, что он мало пользовался определениями, кончающимися на «изм», а показывал людей – Леверкюна, Цейтблома, Брейзахера. Это помогает нам, слишком привыкшим оперировать «измами», почувствовать всю жизненную, живую, историческую сложность, которая за ними кроется, и внести в них необходимую дифференциацию: в этом насущная ценность жанра «художественного исследования».
Давно и всеми признано, что образы искусства не должны быть ходячими тезисами. Но разве отсюда следует, что теоретические обобщения обречены быть тезисами и только тезисами? Гипноз тезиса, термина и схемы порой так велик, что заслоняет действительность. Создав систему терминов, теоретик озабочен тем, чтобы все явления, какие есть, были и будут, распределить по этой системе, и если уж он «прикрепил» то или иное явление к термину, то отсюда как бы автоматически вытекает и его оценка. Но часто она расходится с оценкой истории, не говоря уже об оценке со стороны эстетического чувства и «человеческого понятия»!
Ведь какой соблазн, с точки зрения схемы, поместить в одну «клеточку» Леверкюна и Брейзахера. Казалось бы, для этого есть основания. Но вот Томас Манн показывает, что они отличаются друг от друга, как небо от земли, несмотря на все совпадения, потому что ничего не имеют общего их «сокрытые двигатели». А Леверкюн и Цейтблом, при полном отсутствии «концепционных» совпадений, очень близки между собой, настолько близки, что писатель даже говорит об их тождестве. Критерий «сокрытого двигателя» – это не тот критерий, которым можно пренебречь. Суд истории им никогда не пренебрегает.
Фетишизируя понятие «модернизма» и подразумевая под этим явления весьма разные (порой по совершенно внешним признакам совпадений и сходств), мы часто торопимся с альтернативой: обвинить или оправдать, предать проклятию или спеть осанну? Это, собственно, подход богословский. Мудрее и справедливее постараться понять явление, как оно есть, во всей его конкретной сложности (это не значит рассечь его на «положительную» и «отрицательную» половины, как можно проделать такую операцию хотя бы с музыкой Леверкюна). Только тогда можно приблизиться к оценке, ничего искусственно не подгоняя и ни о чем стыдливо не умалчивая.
Следя за историей Леверкюна, мы понимаем, что его вина есть вместе с тем и подвиг, но подвиг не снимает с него вины. Он мог не продавать душу дьяволу, он не был фатально принужден к тому, чтобы, замкнувшись в келью индивидуализма, сделать свое искусство «непросветленным» возгласом отчаяния, одиночества. Был и другой путь, другие выходы, которые ему виделись и самому, которые он сам связывал с будущим искусства. Неверно сказать: он только таким и мог быть в условиях жестокого социального кризиса, он – его простая функция. Человек, художник не функция: у него есть свобода выбора пути.
Но пусть он все-таки «заключил сделку с чертом» – это еще не предрешает безапелляционного обвинительного приговора истории. «Может быть хорошим сотворенное во зле» – нужно только видеть, во имя чего и как взял на себя художник бремя зла своего времени. «Человеческого понятия» на это достанет.
В трагическом образе Леверкюна видятся черты другого образа, созданного художником, которого Томас Манн, вероятно, не знал, но чья творческая личность и судьба до странности сходны с личностью и судьбой вымышленного композитора. Видится облик «Демона поверженного» Врубеля.
Центральная, внутренняя, сквозная проблема «Доктора Фаустуса», поставленная в различных «временных сечениях» – в плане искусства, философии, нравственности, – это проблема выхода к новому гуманизму. В конечном счете это основная проблема культуры на переломе эпох, на переходе от старой к новой формации. У таких художников, как Врубель, как Блок, как Пикассо – очень разных, – она почувствована с остротой необычайной, предельной. Блок размышлял над ней вполне сознательно; его большая статья 1919 года «Крушение гуманизма» перекликается вплоть до деталей с идеями Манна.
Томас Манн показывает трагичность процесса становления нового гуманизма – в особенности для тех, кто всеми своими корнями связан со старым миром. История в муках рождает новые духовные ценности. Художника, отважно вступающего на этот путь, подстерегают опасности срыва в бездну, и недаром возрождается старая тема «демона», «искушения». Главный источник трагедии в том, что новый гуманизм вынуждает расстаться с чем-то из старых, веками утверждавшихся гуманистических принципов (то есть собственно принципов буржуазного гуманизма), они должны умереть, чтобы заново возродиться. Это процесс особенно болезненный, и тут-то «нашептывания дьявола» могут сыграть роковую роль. А все-таки возврата к прошлому нет. Успокоительно было думать, что Земля – центр Вселенной, но ведь на самом деле это не так. Хорошо было считать, что жизнь постепенно устраивается по законам разума, что в природе царит гармония, что просвещение облагораживает нравы и искусство, мало-помалу пронизывает своим благодетельным влиянием все слои общества, что люди учатся и уже почти научились уважать священные права личности и что личность этого уважения заслуживает. Но действительность оказывается сложнее и жестче. У Цейтблома много прекраснодушных и уже пережиточных верований. В упомянутой статье Блок называет подобных ему «бывшими гуманистами, превратившимися в одиноких оптимистов», и говорит, что ныне трагическое миросозерцание «одно способно дать ключ к пониманию сложности мира»70. Однако трагическое миросозерцание не тождественно пессимизму и безысходности.
В статье «Крушение гуманизма» Блок рассуждает с трезвой проницательностью, которая может показаться удивительной у душевно хрупкого, утонченного поэта «Прекрасной дамы». Но поэтам дано понимать многое. Он начинает с того, что основной и изначальный признак гуманизма, берущего начало на исходе Средних веков, – индивидуализм. Это движение «могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры. <…> Естественно, однако, что, когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила – не личность, а масса, – наступил кризис гуманизма. Начало этого кризиса следует искать, по-видимому, в движении Реформации. Разразился же он накануне XIX века»71.
Блок говорит затем, что в XIX веке раздробленная и выдохшаяся, «обескрылевшая и отзвучавшая» гуманистическая цивилизация (читай – буржуазная цивилизация) перестает быть носителем культуры («духа музыки») и воздвигает на нее гонения. Хранителем же «духа музыки» оказываются те самые «массы», которые были отлучены от гуманистического движения, и художники, чувствовавшие «стихийный и грозовой характер столетия».
«Я утверждаю, наконец, – говорит Блок, – что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода…»72
Вот это все, понятое и почувствованное русским поэтом, мужественно принявшим Великую революцию, смутно понималось и чувствовалось немецким композитором – героем Томаса Манна. Но гораздо более смутно и смятенно. Потому что – не забудем этого – Леверкюн был все же братом по духу Цейтблома и отречение от буржуазного гуманизма было ему страшнее, чем русскому поэту, который вправе был сказать: «Мы слушали пока не Петрарку и не Гуттена, а ветер, носившийся по нашей равнине».
Расставание с индивидуализмом буржуазной цивилизации, принимаемое Блоком радостно, как долгожданная очистительная гроза, Леверкюну могло чудиться апокалиптической гибелью мира: ведь «дьявол» немецкой истории, посмеиваясь и потирая руки, услужливо подсовывал ему вместо «гибели индивидуализма» ту «гибель индивидуальности», которую нес фашизм и которую с холопской угодливостью приветствовала интеллигенция типа Брейзахера (самый ненавистный Блоку тип «интеллигента»). И у Леверкюна его разрыв со старым гуманизмом оборачивается отчаянием. Оно тем глубже, яростнее, исступленнее, чем больше сам Леверкюн – плоть от плоти «старого гуманизма».
Ссылки
1 Манн Т. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1959–1961. Т. 9. С. 223–224.
2 Там же. С. 364.
3 Там же. Т. 10. С. 288.
4 Там же. С. 306.
5 Там же. С. 308
6 Там же. Т. 9. С. 236
7 Там же. С. 226–227.
8 Там же. С. 223.
9 Там же. С. 260.
10 Там же.
11 Там же. С. 50–51.
12 Там же. С. 55.
13 Там же. Т. 10. С. 345.
14 Там же. Т. 5. С. 31
15 Там же. С. 73.
16 Там же. С. 79.
17 Русские писатели о литературном труде. М., 1955. Т. 3. С. 467.
18 Dictionnaire de la peinture abstraite. Paris, 1957. P. 100–101.
19 Манн Т. Собр. соч. Т. 9. С. 28–29.
20 Там же. Т. 5. С. 133.
21 Там же. С. 173–174.
22 Там же. С. 175–176.
23 Там же. С. 101.
24 Там же. С. 177.
25 Там же. Т. 10. С. 487.
26 Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.; М.: Искусство, 1962. С. 287–288.
27 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. Т. 5. 1962. С. 345–346.
28 Dictionnaire de la peinture abstraite. С. 99.
29 Elgar F., Maillard R. Picasso. Paris, 1955, P. 244.
30 Манн Т. Собр. соч. Т. 10. С. 338.
31 Там же. Т. 5. С. 197.
32 Там же. С. 236–237
33 Вот характерный эпизод. Суриков, увидев кубистические картины Пикассо, сказал: «Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так должен всякую композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была. Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно» (цит. по .-.Евдокимов И В.И. Суриков. М., 1933. С. 148).
34 Манн Т. Собр. соч. Т. 9. С. 11.
35 Там же. Т. 5. С. 239–40.
36 Там же. С. 248.
37 Там же. С. 308.
38 Там же.
39 Там же. С. 314.
40 Там же. Т. 9. С. 274.
41 Там же. Т. 5. С. 321.
42 Там же. С. 324.
43 Там же. С. 245.
44 Блок А. Собр. соч. Т. 5. С. 349.
45 Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. М., 1963. С. 33.
46 Манн Т. Собр. соч. Т. 5. С. 359–360.
47 Там же. С. 418.
48 Там же. С. 418–419.
49 Там же. С. 481.
50 Там же. С. 456.
51 Там же. С. 440.
52 Там же. С. 471.
53 Там же. С. 472.
54 Там же. С. 473.
55 Там же. С. 476.
56 Там же. С. 488.
57 Там же. С. 489.
58 Там же. С. 500.
59 Там же. С. 516–517.
60 Там же. Т. 9. С. 243.
61 Там же. Т. 5. С. 628.
62 Там же. С. 617.
63 Там же. С. 634.
64 Там же. Т. 9. С. 356.
65 Там же. Т. 5. С. 622.
66 Там же. С. 644–645.
67 Там же. С. 648.
68 Там же. С. 649.
69 Блок А. Собр. соч. Т. 3. С. 85.
70 Там же. Т. 6. С. 105.
71 Там же. С. 94.
72 Там же. С. 115.
Гротеск у Пикассо[28]
«Этот каталонец с лицом монаха и глазами инквизитора никогда не говорит об искусстве без внутренней усмешки, сопровождающей его отрывистые колкие фразы, усмешки, которая, однако, не трогает его губ» (Морис Вламинк).
«Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить; он умеет балагурить чрезвычайно серьезно, а серьезные вещи говорит так, что их при желании легко принять за шутку» (Илья Эренбург).
И друзья, и недруги Пикассо замечали сарказм и иронию, свойственные его личности; еще больше они свойственны его искусству.
История искусства знала гениев саркастического склада, но сарказм Пикассо имеет особую природу. Пикассо не сатирик у сатиры есть определенный прицел и точный адрес, а в странных образах Пикассо его не всегда обнаружишь. Можно ли допустить, что мишенью сатиры является его собственный ребенок, изображенный в виде монструозного существа? Пикассо еще менее того создатель шаржей: в его деформациях есть нечто надличное, и они редко смешат. В них нельзя видеть также и одну лишь игру прихотливой фантазии – для этого им недостает произвольности, они словно бы неотвратимы для художника, как будто не он их придумал, а они сами придумали себя.
У Пикассо есть вещи, которые можно считать сатирическими в обычном понимании (например, «Мечты и ложь генерала Франко»), есть и откровенно шутливые и карикатурные. Но и тех и других сравнительно немного. В большинстве работ Пикассо юмор присутствует в каком-то ином качестве. Они построены на неожиданных ассоциациях и парадоксальных сочетаниях. Несопоставимое оказывается сопоставленным, несоединимое соединенным, непохожее уподобленным, а сходное расподобленным. Это производит шоковый психологический эффект, это юмор гротеска. Но что такое гротеск? Довольно легко назвать его внешние признаки и трудно определить внутренние, сущностные. То, что называют гротеском, бывает свойственно разнообразным и различным по своей внутренней природе явлениям.
Хотя гротеск занимает, по-видимому, большое место в современном искусстве, ему посвящено мало теоретических исследований. Одно из немногих – книга В. Кайзера «Гротеск в живописи и поэзии». В поисках общей характеристики гротеска как эстетической и мировоззренческой категории Кайзер называет следующие признаки: 1) гротеск – художественная структура отчужденного мира, нарушающая наши привычные способы ориентации (здесь автор опирается на высказывания Дюрренматта); 2) гротеск – форма действия безличного «оно» («es»), отчуждающие разрушительные силы остаются неназванными и неузнанными; 3) образы гротеска есть игра с абсурдным; 4) образы гротеска иногда могут быть попыткой «заклятия» демонических разрушительных сил.
В. Кайзер выделяет три художественные эпохи, питавшие, по его мнению, особое пристрастие к гротеску, – эпохи реакции против позитивизма и рационализма: XVI век (Босх и Брейгель); романтизм начала XIX века; наша современность, как она выражается в модернистском искусстве. Причем «современное искусство обнаруживает такую родственность гротеску, как, может быть, ни в какую другую эпоху»1.
Кажется странным, что, несмотря на это последнее утверждение, Кайзер не только не обращается к анализу искусства Пикассо, но даже ни разу не упоминает его имени в своей книге, хотя привлекает достаточно большой и разнообразный материал современности.
Казалось бы, кто, как не Пикассо, «с ужасом, смешанным со смехом» созерцает мир, «отчуждаемый под вторжением подземных сил», «срывающийся со своих пазов», «мир, в котором мы чувствуем невозможность жить» (все это – выражения Кайзера); кто, как не он, «нарушает привычные способы ориентации» и отрицает «постоянство и упорядоченность картины мира»?.. Но, очевидно, что-то в искусстве Пикассо решительно противится концепции, согласно которой «гротеск не может оторваться от абсурдного», не допускает «предчувствия и поисков разумного», а смех в гротеске носит характер издевательского, сатанинского осмеяния.
Как бы мало ни походили гротески Пикассо на рационалистическую сатиру, в них ощущается то волевое интеллектуальное напряжение, направленное на поиски истины, без которого не бывает великого искусства. И уже одно это настолько противоречит концепции гротеска – пассивного зеркала абсурда, – что автор предпочитает вовсе умолчать о Пикассо.
Воля к истине реализуется у Пикассо через акты иронии – но не ограничительной, сатирической, нацеленной лишь на «отрицательное», а иронии всеохватывающей. Эта тотальная ирония выливается в форму шокирующего гротеска. Она является испытанием ценностей, их индикатором, фильтром. Что выдерживает испытание иронией, то как бы заново рождается из картины «отчужденного мира», странно и трогательно преображенным, проникнутым «предчувствием разумного мира».
Но испытания не избегает ничто – разум, любовь, человечность, само искусство, сама человеческая природа, – и в этом смысле для Пикассо действительно нет ничего святого.
Пикассо всегда останется чужд и непонятен тем, кто видит в иронии примету холодного равнодушного ума, для кого ирония есть только издевательство, изничтожение и ничего больше.
Так подошел к Пикассо Ганс Зедльмайр2. Заранее осведомив читателя, что ирония несовместима с любовью, что она изолирует, исключает связи и симпатию, что ироническое искусство видит лишь человеческую глупость, Зедльмайр просто переносит эти априорные формулы на творчество Пикассо, почти не ссылаясь на его произведения. Только вскользь он о них упоминает, замечая, что в ранних вещах «голубого периода» еще было выражение действительной печали и сострадания, но в «плачущих женщинах» 1937 года его больше нет – оно уничтожено иронией.
Действительно ли уничтожено?
Самый иронический художник века, Пикассо вместе с тем и самый патетический художник.
Патетическим он был с самого начала, ирония же не сразу вошла в его искусство на равных правах с эмоциями. Говорят, что Пикассо в зрелые годы пуще всего остерегался сентиментальности. Ему не было бы нужды ее остерегаться, если бы он не был к ней склонен. В отрочестве он работал в духе сентиментального жанра, «голубой период» тоже был сентиментальным – если употреблять это слово в его прямом значении (исполненный открытого чувства), а не в осуждающем, которое оно приобрело со временем, став синонимом слащавого. Когда-то в сентиментальности не усматривали ничего, кроме достоинства. Дидро не замечал слащавости картин Греза – ее увидели, когда исторический и интеллектуальный опыт научил подмешивать к нежным чувствам толику иронии, скепсиса и жестокости. Без этих примесей чувство стало ощущаться чем-то плоским, инфантильным, далеким от жизненной диалектики. Чистая беспримесная чувствительность уже в XIX веке была изгнана из искусства и доживала свои дни в дамских журналах и бульварных романах, которыми зачитывалась бедная Настя в горьковском «На дне». Чем ближе к XX веку, тем больше «примеси» возрастали в своем удельном весе.
Наступающий век требовал переоценки ценностей – требовал иронии. Пикассо этот зов уловил, тем более что страсть к насмешливым опасным экспериментам была в его натуре. Сначала он ее сдерживал, отводя душу только в набросках, не предназначенных для широкой публики. Еще в Барселоне он делал причудливые рисунки – изображал своих друзей в виде бородатых женщин, карикатурных матадоров, пародировал «Олимпию» Мане, меняя местами одалиску и черную служанку. Эта струя пробивалась отдельно от серьезных и страстных «голубых» полотен. Конечно, их сентиментальность была относительной – она умерялась чисто испанским пристрастием к созерцанию жестоких зрелищ, суровым лаконизмом и сдержанностью в выражении чувства. Но «две души» художника должны были рано или поздно слиться. Уже «Авиньонские девицы» были ироническим отталкиванием от медитаций и ламентаций раннего периода. Пикассо захотел быть «мастером», стоящим выше жалкого мира жалких страстей.
В эпоху кубизма он, вместе с Браком и другими, был увлечен идеей создания нового «порядка» в живописи – упорядоченного большого стиля, почти аскетического, почти анонимного, зиждущегося на определенных законах, связывающего художника уставом строгой художественной дисциплины. Пикассо и в эту пору еще не давал воли собственной личности с ее испанско-барочными и саркастическими началами – или, по крайней мере, ограничивал ее теми сторонами, которые и выразились в кубистской системе. Ведь сама эта система все-таки была плодом личных стремлений и носила явный отпечаток причудливой, играющей индивидуальности Пикассо. Те, кто шел за Пикассо, принимали причудливость за строгость, за новую священную нормативность. В действительности же от Пикассо меньше всего можно было ждать нормативности и священнодействия. Он также готов был посмеяться над своим кубизмом, как раньше – над своей чувствительностью.
В кубизме, как он сложился в первом десятилетии века, таились два выхода в будущее – один к абстракции, другой к гротеску. Кубизм Пикассо перерастал в гротеск – это определило его расхождение с прежними единомышленниками.
Франсуаза Жило в книге «Жизнь с Пикассо» приводит рассказ Пикассо об одном, по-видимому, незначительном, забавном эпизоде из давних лет его совместной работы с Браком, когда эпопея кубизма была в разгаре.
«В те времена я почти каждый вечер приходил в ателье к Браку или он ко мне. Мы чувствовали неодолимую потребность обсуждать сделанное за день. Полотно не считалось законченным, пока мы его вместе не обсудили. Вспоминаю один вечер, когда Брак работал над большим натюрмортом в овале: пачка табаку, трубка и другие священные сосуды кубизма. Я посмотрел на холст, отступил и сказал:
– Мой бедный друг, это ужасно, я вижу на твоей картине белку.
– Не может быть, – сказал Брак.
– Да, быть может, это бред, но как хочешь, а я вижу белку. А ведь картина не должна создавать оптическую иллюзию. Поскольку люди нуждаются в опознании объекта, ты хочешь, чтобы они могли различить пачку с табаком, трубку и другие неизбежные элементы. Но, бога ради, избавься от белки.
Брак отошел на несколько шагов, всмотрелся, и тоже заметил белку, потому что этого рода иллюзии заразительны. Он боролся с белкой несколько дней. Менял формы, освещение, композицию, но белка все время возвращалась. Наконец через восемь или десять дней ему удалось изгнать иллюзию, и холст стал представлять пачку табаку, трубку, колоду карт, а главное – кубистскую картину».
Любопытно, почему анекдот с белкой так запал в сознание Пикассо, что он вспоминал о нем более чем тридцать лет спустя, и именно тогда, когда речь заходила о кризисе кубизма?
Белка, нежданный и непрошеный гость из предметного мира, ворвалась в картину Брака как бы затем, чтобы подвергнуть посрамлению аристократический мир чистой пластики. Она над ним посмеялась, демонстрируя злостную неистребимость, с какой предметный мир заявляет о себе – даже в сознании творцов беспредметного мира. Едва успели они открыть для себя ту истину, что «картина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной… является, по существу, плоской поверхностью, покрытой красками, расположенными в определенном порядке» (Морис Дени), – как возникал антитезис: поверхность, покрытая красками, является изображением лошади, женщины или белки. Гони изображение в дверь – оно возвращается через окно. «Все вещи являются нам в виде фигур», – говорил Пикассо в интервью с Зервосом. Может быть, уже в пору аналитического кубизма у него зарождалась мысль: вместо того чтобы «изгонять белку», не лучше ли «ловить белку»? То есть пользоваться многообразными предметными ассоциациями, возникающими на каждом шагу.
Неожиданное превращение кубистских «первичных форм» в белку было невольным гротеском. Но не было невольным удивительное портретное сходство кубистских портретов Воллара, Уде, Канвейлера. Насколько известно, другие кубисты не писали столь индивидуализированных портретов: теория кубизма этого вовсе не предусматривала. Пикассо же сознательно добивался «оптической иллюзии» портретного сходства, которое в данном случае не просто служило условному опознанию объекта (наподобие пачки табаку), а составляло сущность картины. Лица Воллара и Уде парадоксальным образом возникали из несвойственной им, небывалой материи – из «чисто живописной» материи кубизма.
Также – впоследствии – образы Пикассо возникали из трещин лака, мотков проволоки, из анатомии насекомых, из обломков старых вещей. Его никогда не покидала страсть к такого рода метаморфозам.
Сама феноменальная способность Пикассо удерживать в памяти и передавать по памяти все зримые «фигуры», очевидно, способствовала обостренному чутью на сходства, развитию изощренной ассоциативности. Друг Пикассо, Сабартес, долгие годы бывший его личным секретарем, свидетельствовал: «Он может воссоздавать реальное во всем его разнообразии, во всей его достоверности, не прибегая к модели <…>. Мужчины, женщины, животные, растения – он знает их наизусть с их очертаниями, с их особенностями, под любым углом зрения <…>. Он ими переполнен <…>. В каждый момент все формы реальности находятся в его распоряжении. Однажды увиденное он запоминает навсегда. Но он сам не знает, когда и как оно у него снова возникнет. Прикасаясь кончиком карандаша или пера к бумаге, он не знает, что там появится»3.
Переполненность памяти зрительными образами стимулирует возникновение ассоциаций. Увиденный предмет действует как сигнал, вызывающий образ другого предмета, хотя заурядный взгляд может и не заметить в них ничего общего. Все предметы говорят воображению Пикассо не только о самих себе, но и о другом, и активнее всего говорят те предметы, чья форма фрагментарна, случайна или необычна: у таких самый широкий ассоциативный спектр. Пикассо делал «скульптуры» не только из старых бросовых вещей, но и из скомканной бумаги. Один комок бумаги выглядит скалистым хребтом, другой – монументальными руинами крепостных стен, рваная бумажная салфетка – головой собачки-болонки.
В книге известного фотографа и художника Брассаи «Беседы с Пикассо» приводится, между прочим, разговор о свойствах скульптурных материалов. Пикассо отрицательно отзывался о мраморе. «Мне кажется странным, что статуи делают из мрамора <…>. Я понимаю, что можно увидеть нечто в корневище дерева, в трещинах стены, в источенном камне, в гальке. Но мрамор? Он откалывается целым блоком, не обещает никакого образа <…>. Он ничего не внушает <…>. Как Микеланджело мог увидеть своего Давида в мраморной глыбе? Если человек стал фиксировать образы, то это потому, что он находил их вокруг себя уже почти оформленными, держал их в руках. Он их видел в кости, в расщелине пещеры, в куске дерева. Одна форма внушала ему образ женщины, другая – бизона или головы чудовища»4.
Современный человек живет среди бесчисленных отходов цивилизации: обломки машин, труб, кранов, ящиков, коробок, вывески, манекены, газетные листы – не так же ли они способны внушать образы? Пикассо отыскивал свои материалы на парижском блошином рынке и в мусорных ящиках. Жан Кокто прозвал его «королем тряпичников». Он не оставлял без внимания также географические карты, карты звездного неба, фотографии с их неожиданными «накладками».
В сущности, экстравагантные методы Пикассо восходят к той знаменитой старой стене, в разводах и пятнах которой Леонардо да Винчи находил источник «удивительнейших изобретений», видел пейзажи, битвы, странные лица. (Леонардо, кстати сказать, тоже обладал феноменальной зрительной памятью.) Но есть и очень важная разница. Леонардо да Винчи усматривал в случайных формообразованиях только будящий толчок, только импульс для фантазии и отнюдь не предлагал сохранять это первоначальное видение в картине. Наоборот, он предупреждал: «Если эти пятна и дадут тебе выдумку, то все же они не научат тебя закончить ни одной детали. И этот живописец (то есть тот, кто удовольствовался образом, увиденным в пятне) делал чрезвычайно жалкие пейзажи». Разводы на стене, облака, пепел, сыграв свою роль возбудителя, должны бесследно исчезнуть, умереть в произведении художника.
Пикассо поступает вопреки этому принципу. Он не только сохраняет след возбудителя в готовом произведении, но, если возбудителем является какой-то предмет, он сохраняет и сам предмет, оставляет его присутствующим, узнаваемым. Произведение становится неким кентавром, имеющим двойную природу. Оно становится гротеском. Соорудив голову быка из старого велосипедного седла и велосипедного руля, Пикассо отлил ее в бронзе. «Бронза хороша тем, – сказал он Брассаи, – что она может придать единство самым разнородным предметам – иногда даже трудно опознать компоненты, входящие в него. Но здесь есть и опасность: если видна только бычья голова, а не седло и руль велосипеда, которые ее образуют, эта скульптура теряет свой интерес»5.
Интерес, значит, в том, чтобы зритель видел голову быка, но одновременно видел бы велосипедное седло и руль. Эта же установка сохраняется, когда Пикассо работает в обычных материалах, традиционных для живописи и графики. Когда, например, он изображает на листе бумаги необычайно живые сцены корриды пятнами черной туши – он хочет, чтобы они не переставали смотреться именно как пятна и кляксы туши. Раз коррида увидена в пятне, так пусть же за пятном и сохранится его первородство.
Непреходящее увлечение Пикассо – «составление» скульптур из разнородных предметов, при котором вмешательство руки скульптора сведено к минимуму, только к тому, что она соединяет и скрепляет эти предметы. Так, он берет ящик с продырявленной крышкой, кусок гофрированного картона, муляж настоящих древесных листьев и соединяет их таким образом, что получается женщина с гирляндой листьев в руках – очень внушительная и таинственная женщина, в упор глядящая своими глазами-дырами. Таких «нерукотворных» скульптур у Пикассо много. Замечательно то, что они выглядят именно «пикассовскими» творениями – по стилю, по характеру формы; в них легко узнается его рука, хотя на самом деле рука в них почти не участвовала.
Для Пикассо нет мертвых, немых вещей, нет бессмысленных форм: куда бы он ни кинул взгляд, он видит рой живых образов, возникающих, исчезающих, превращающихся в другие, надевающих и сбрасывающих маски. В своей беспрерывной игре различные «царства» природы – минералов, растений, животных, людей – утрачивают неподвижность границ и друг друга загадочно «портретируют».
Но в этом «портретировании» всегда есть элемент пародии, усмешки, свойственной маскараду. Тут сказывается глубокая ироничность Пикассо. Его аналогии, метафоры, ассоциации – чаще всего непочтительные, бурлескные по своей тенденции. Недаром же свои «выдумки» он черпает не столько в поэтических облаках или тлеющих углях, сколько в прозаических мусорных ящиках. Ирония может быть и ненамеренной и даже неосознаваемой в каждом отдельном случае. Пикассо, работая, «не знает, что у него получится», «не ищет, а находит»6. Но находит то, к чему предрасположен его иронический интеллект.
Вот один из примеров того, как Пикассо снижает «высокое» посредством ассоциативных уподоблений. В годы Второй мировой войны он писал различные вариации натюрмортов типа «мементо мори». В традиционных композициях «мементо мори» фигурируют череп и кости, напоминающие о смерти и бренности. В натюрмортах Пикассо также предстает череп – не всегда человеческий, иногда череп козы или быка. Вместо костей он пишет рядом с черепом пучки лука-порея, несколько напоминающие своей формой кости. Иногда в композицию вводится еще и кусок сыру. Оказывается, его круглые дырочки пластически рифмуются с глазными отверстиями черепа. Не кощунственно ли сочетать таким образом сыр и символику смерти? Лук, сыр и прочие предметы из кухонно-житейского обихода, конечно, профанируют идею «мементо мори». Но ее и нужно профанировать: она залоснилась от многовекового употребления, стала высокопарным штампом. Невозможно повторять ее снова и снова. Однако думы о смерти, вылившиеся в эту «формулу», остаются – и ныне, как прежде, они сохраняют свою мрачную власть и должны быть выражаемы. Пикассо выражает такого рода вечные мотивы, лишая их возвышенной привилегированности, смешивая с предметами и переживаниями «низкими», с которыми они и действительно смешаны в жизни. Пучки лука соседствуют с черепом, потому что они зрительно напоминают о скрещенных костях – и, следовательно, они пародируют этот символ, – но еще и потому, что годы войны – голодные годы: вместе с образами смерти они вызывают навязчивые представления о еде. (Одно из полотен 1941 года изображает натюрморт на кухонном столе – бутылка и большая толстая спираль колбасы. Из полуоткрытого ящика стола к колбасе жадно простираются вилки, уподобленные рукам с тощими пальцами-зубцами.)
Образы смерти и образы чрева когда-то гротескно объединялись в народных пародийных мистериях (см. об этом в книге М. Бахтина «Франсуа Рабле»7), так же как образы смерти и рождающего лона. Теперь Пикассо по-своему возобновляет эти двуединства. Смерть – зачатие; зачатие – смерть – такая «амбивалентность» и у него присутствует. Убийство лошади быком во многих рисунках уподобляется эротическому акту; изображения акта напоминают убийство.
Так или иначе, гротескно преобразив мотив «мементо мори», художник тем самым его обновил, обновив – дал ему новый raison d’etre, сохранил его право на существование. Подобное же происходит у него с другими «вечными темами».
Материнство – одна из священных и древних тем мирового искусства и одна из любимых тем Пикассо. В ранних его вещах она исполнена утонченной и печальной красоты. В кубизме он к ней не прикасался. В 1920-е годы – вернулся к ней по-новому. «Мать и дитя» 1922 года, несомненно, «реалистичнее» бесплотных матерей «голубого периода»: в ней нет никакой неземной хрупкости, формы прочувствованы в их живой объемности, положение и жест естественные, почти бытовые. Эта картина относится к прежним «материнствам» Пикассо примерно так, как мадонны Возрождения относятся к византийским. Но Пикассо не задерживается на гармонической «ренессансной» концепции. В эти же 1920-е годы он ее как бы пародирует в серии «гигантов». Огромные слоноподобные женщины забавляются со своими огромными слоноподобными младенцами. В дальнейшем тема материнства проходит через разнообразные искусы. Она воплощается, например, в статуе обезьяны с детенышем – смешной обезьяны с выпуклым задом, поднятым хвостом. В раскрашенной двухметровой конструкции из палок и перекладин, названной «Мать с ребенком». В образе исступленно воющего над мертвым младенцем квазичеловеческого существа – в «Гернике». Наконец, в многочисленных портретах Франсуазы Жило с детьми, дерзко деформированных в духе экспрессивного детского рисунка.
И что же – обесценивают ли тему все эти рискованные и проникнутые терпким юмором интерпретации, лишают ли ее обаяния? Нет: все отнято – и все заново рождено. Сдернут сентиментальный флер, отброшена привычная красивость мотива, привычная его соотнесенность с миловидной молодой женщиной и миловидным ребенком. Но сокровенное существо материнства – защита и оберегание ростков жизни, где бы они ни пробивались, – раскрыто в его непобедимости и вездесущности. Оно воскресает из пепла иронии.
С другими темами и мотивами, к которым питает пристрастие Пикассо, дело обстоит более сложно и двойственно. Разными гранями отсвечивает «миф о женщине», творимый Пикассо на протяжении долгих лет.
По Пикассо, «каждое человеческое существо представляет собой целую колонию». У него есть большие циклы, вдохновленные обликом какого-нибудь одного человека – чаще всего женщины. Реальный облик модели является импульсом: происходит взрыв новой звезды, рождающий расширяющуюся Вселенную. В серии произведений проходит вереницей «колония существ». Прообраз остается в них большей частью узнаваемым, иногда перевоплощается в навеянную им комбинацию форм, красок, в линейный арабеск. Потом художник снова испытывает потребность вернуться к источнику и создает более или менее портретные варианты. В основе лежит какая-то решающая ассоциация, от нее ответвляются другие. Рассказ об «этой» женщине переходит в миф о Женщине, и далее – в сагу о современном человеке и Человечестве. Одной модели художнику бывает достаточно, чтобы плотно населить свою «вселенную».
Множество живописных, скульптурных и графических работ 30-х годов связано с той, кто была тогда постоянной и любимой моделью Пикассо, – красивой молодой женщиной с античным профилем и фигурой. Она узнается в подруге ваятеля из графической серии «Ателье скульптора», в женщине, держащей свечу в «Гернике», в характерных скульптурных головах с набухшими сферическими объемами щек и глаз (такие же бюсты фигурируют и в «Ателье скульптора») и в живописных полотнах 1932 года – «Сон», «Зеркало», «Спасение», «Лежащая обнаженная», «Обнаженная со скамейкой» и еще целой серии ню, преимущественно лежащих, спящих с запрокинутой головой и расслабленным телом.
Красота и женственность имеют двойственный лик и двойственную судьбу. Древние обоготворяли ее в образе Афродиты – повелительной и властной богини. И они же превращали ее в затворницу, послушную служанку. Кто же прекрасная женщина – госпожа или рабыня, властитель или жертва?
Бородатый ваятель – герой офортов «Ателье скульптора» – снисходительно, почти небрежно ласкает свою юную подругу: она служит ему, она его преданная рабыня. Но служит моделью для образа божества: здесь таится странная антиномия. Бюсты, которые лепит с нее ваятель (и такие же лепил Пикассо), – гротескный лик «вечного кумира». На колонноподобной шее, с огромными невидящими глазами-лунами, эти головы устрашающе монументальны.
Та же самая модель и даже тот же принцип деформации (круглящиеся, сферические формы) – в полотнах с «лежащей обнаженной». Но здесь идол повержен, порабощен, превратился в жертву. В спящей нагой женщине видится образ безвольно-пассивного, слепо подчиняющегося создания, столь же жалкого, сколь трогательного. Нежность к нему смешана с презрением, хотя и в презрении дремлет нежность. Подчеркиваются падающие, никнущие, свисающие линии, стираются сочленения, сходят на нет кисти рук, формы тяготеют к шарообразности, наподобие того, как силы инерции придают жидкости шаровидную форму капли. Всюду акцентированы выгиб запрокинутой шеи, повисшие волосы и линия-скобка, обозначающая закрытый глаз.
В некоторых вариантах беспомощность инертного тела ассоциируется с образом утопленницы, которую кто-то спасает, вытаскивает из воды: возникают композиции «Спасение». В других скрыты зловещие намеки на насилие и убийство слабого покорного существа. В «Обнаженной со скамейкой» мы видим все ту же женщину, распростертую на ложе, но толстая темная вертикаль (в ее предметном значении она может быть понята просто как ножка табуретки) пересекает ее шею. Стоящий тут же на скамейке белый бюст усиливает тайно внушаемое видение отрубленной головы.
Множатся далеко идущие ассоциации, строй форм, рожденный созерцанием «униженной красоты», иррадирует, распространяется на другое, создает своеобразный аспект восприятия мира. В эти годы в искусстве Пикассо возникают разного рода парадоксальные конструкции из шаров, полушарий, эллипсоидов из гнутых податливых криволинейных форм.
Примечательно: каким бы беспощадным трансформациям Пикассо ни подвергал свою модель, в них сохраняется выражение чувства. Особенно картина «Сон» не оставляет сомнений в глубокой нежности художника. Женщина, которую он снова и снова пишет, воплощает для него кроткую женственность, чувственную безмятежность; она – грезящая. Ее антураж – свет луны или ночника, ее окружают цветы, она покоится в тишине. Эти переживания могли бы быть выражены «сентиментально». Но неусыпный дух иронии переводит их в иное русло.
«Спящая обнаженная» 1936 года – может быть, уже не та женщина, собственно, уже и не женщина, а нечто имеющее признаки женщины – обвисшие мешки грудей, расплывшийся живот; вместо головы у нее какой-то изогнутый рудимент. Она или, вернее, оно – существо – лежит на спине, с невинным бесстыдством открывая свои уродливые прелести, в окне виден месяц и большие звезды. Существо сладко спит – руки-култышки подняты, как у спящего младенца. И этот жест неожиданно уподобляет «женское» – детскому. Он возвращает женщине-монстру тепло человеческого чувства, как будто бы начисто изгнанного, саркастически высмеянного. Кажется, что художник скальпелем иронии препарирует «человеческое, слишком человеческое», не оставляет на его счет никаких иллюзий – и видит, что оно, неистребимое, упрямое, снова проступает в истерзанной оболочке.
Еще через год знакомый классический профиль возникает над адом «Герники». Теперь он по-иному осмыслен. Это уже не пучеглазый идол, вознесенный над миром, и не жалкая жертва людской убийственной похоти, а «красота, которая спасает мир».
Одновременно и несколько позже, во второй половине 1930-х годов, у Пикассо была и другая постоянная модель, с которой связан иной аспект образа Женщины. Эта модель никогда не вызывала эмоций покоя, умиротворения. Она создавала вокруг себя поле драматической напряженности. Ею навеяны многие мучительные «женщины в кресле» тех лет.
По свидетельству Франсуазы Жило, Пикассо в разговорах о живописи отстаивал решающее значение «великих тем», обладающих универсальной ценностью и видоизменяющихся в соответствии с человеческим опытом. Когда Жило, убежденная, что из живописи нужно изгонять «анекдот и риторику», возразила Пикассо: «Вы сделали по крайней мере тысячу холстов, не имеющих ни темы, ни предмета, а только живопись, как, например, серия женщин, сидящих в кресле», Пикассо ответил: «Вы не понимаете, что эти женщины не просто сидят там, как скучающие натурщицы. Они заключены в западню кресел, как птицы, запертые в клетке». «Как все художники, – добавил он, – я прежде всего живописец женщины и для меня женщина – прежде всего механизм страдания»8.
«Механизм страдания» – звучит как будто жестоко. Но, в сущности, так и было: Пикассо теперь не просто показывал страдающих людей, как в полотнах «голубого периода», он анализировал самый механизм страдания посредством уподоблений, сдвигов, деформаций. Когда он писал гротескные портреты своей второй модели 1930-х годов, он деформировал ее по-другому. Для первой у него были плавные, упрощающие контуры, сферические формы, мягко изгибающиеся линии. Для второй – колючие, резко асимметричные формы, разорванность облика, иногда запутанные сетки линий, идущих в разных направлениях: ощущение томительного внутреннего беспокойства и надрыва при внешней статичности позы. Всюду огромные глаза, порой выходящие из орбит. Всюду подчеркнута нервная подвижность тонких заостренных пальцев.
Графические и живописные варианты «Плачущей женщины» 1937 года, имеющие отдаленным прообразом эту модель, – поразительные аналитические этюды страдания. Аналитические – не значит рассудочные. Они рождены страстным порывом чувства, которое, однако, сочетается с пронзительным взором аналитика, исследующего «лик отчаяния». Этот лик ужасен. Он исполосован прочерченными следами текущих слез, налитые слезами глаза вываливаются из полуопрокинутых чаш (здесь чаши – пластические метафоры глазных орбит), оскаленные зубы и пальцы вцепились в платок, мертвая синеватая белизна окружена зловещим желто-зеленым и лиловым.
Один из рисунков «вокруг Герники» изображает голову агонизирующей лошади – из разинутой пасти торчит трехугольный язык. Эту деталь художник бестрепетно переносит на этюд женщины с мертвым ребенком – такой же толстый заостренный лошадиный язык торчит у нее из вопящего рта, в то время как на огромной ее ладони тихо лежит головка младенца. Все эти «постскриптумы» к «Гернике» вместе с ней самой образуют такую патетическую мистерию страданий, подобно которой в мировой живописи еще не было. Именно беспощадность гротескного видения доводит патетику до предела.
Самая, быть может, поразительная деталь «Плачущей женщины» – ее красная шляпка с цветочком. Шляпки с цветами, бантами, перьями и даже рыбами часто красуются и на головах у гротескных «женщин в кресле»: знак женской суетности, так же укорененной в существе женщины, как любовь и страдание. Легкомысленная шляпка у «Плачущей», олицетворяющей пароксизм горя, может представиться злой насмешкой, и не это ли дало повод Гансу Зедльмайру считать, что боль за людей здесь нейтрализована иронией? Но вспомним хотя бы Катерину Ивановну у Достоевского, которая в последнем приступе смертельного отчаяния все тщится быть не хуже других и заставляет детей петь на улице по-французски. Тут особая «черта», по выражению Достоевского, и вот эта-то щемящая, безумная, трогающая черта уловлена в гротесках Пикассо.
Итак, женщина – механизм страдания, сосуд страдания: то покорного, пассивного, едва сознающего себя, то напряженного, бунтующего – почти как Соня Мармеладова и Настасья Филипповна у Достоевского. Оба эти образа живут в творчестве Пикассо 1930-х годов, каждый излучает свой строй гротескно-символических преображений, и оба кульминируют в знаменательном 1937 году. В композициях «Мечты и ложь генерала Франко» присутствуют оба: только теперь они уже не заперты в западне кресла, а представлены как жертвы бесчеловечной агрессии. В одной из композиций мы видим убитую, распростертую на траве (как некогда на «ложе любви») красивую кроткую молодую женщину, на другой – исступленную «плачущую женщину», теперь она женщина-мать, у которой убивают детей.
Есть и еще характерный мотив «механизма страдания» – может быть, самый мрачный, рисующийся в образе женщины-манекена. Его предвосхищение можно усмотреть в «Женской голове» 1935 года, которая на первый взгляд кажется лишь остроумной декоративной комбинацией нескольких параболических фигур, окрашенных в нежно-зеленые, сиреневые, синеватые и коричневые цвета на небесно-голубом фоне. Впрочем, они достаточно явно ассоциируются с женской головой: лицо, шея, шляпа с эгреткой, волосы, не без кокетства перекинутые на одну сторону. Голова насажена на шею, как на сужающуюся кверху подставку. На треугольном белом лице нет ни носа, ни рта, только глаза: два больших темных круга. И странно: эти круги «глядят», глядят с немою тоской. Они как окна, прорезанные в белом треугольнике, через которые смотрит безнадежно запертая там душа.
Портновские манекены всегда занимали Пикассо – манекены без рук, без головы или с пустыми лицами. Эти мертвые абстрактные подобия человека ему нравилось оживлять, он приделывал им головы, руки; однажды приделал манекену руку идола с острова Пасхи. Манекены – тоже идолы. В них есть также родственность с крепко и гладко вылепленными пустоглазыми черепами. Как в идолах, как в черепах, в манекенах есть отрешенность, замкнутость, закрытость. В годы войны череп и манекен появляются на картинах Пикассо особенно часто.
О «Женской голове» 1943 года, монохромной, как «Герника», по-своему монументальной, уподобленной немому и мрачному – более мрачному, нежели череп – манекену, один из критиков сказал, что она своеобразный памятник трагедии войны. Может быть, скорее, – трагедии оккупации: тому темному безвременью, когда человек сжимается, уходит в молчание, заживо погружается в склеп.
Ирония Пикассо, не щадя человека и человеческого, погружает его в кромешную бездну разъятых на части, или сплавленных, или переплавленных форм, и, наклоняясь над бездной, он видит там опять человека и человеческое. Но не всегда. Есть случаи, когда его ирония поистине беспощадна, когда ею обличается – опять-таки в женском образе – существо хищное, самодовольное и безнадежно механическое.
Здесь прежде всего вспоминается знаменитая «Женщина на пляже» 1929 года. Уже одно то, что эта человекообразная конструкция благополучно греется у моря в лучах солнца (а Пикассо страстно любит море и солнце) и царит над просторами неба, воды и земли, исключает мысль о ее униженности и способности страдать. В ней нет и намека на чувство. Она агрессивна.
Тут, возможно, также затаена мысль о «вечном кумире», о Венере, рожденной из морской пучины. Но никогда еще рабы Венеры не издевались над своим кумиром так язвительно.
Машинная бездушность «современной Венеры» с ее срезами-плоскостями, рычагами и шарнирами вполне очевидна. Однако это не только машина, а еще и злое насекомое. Спина ее состоит из сегментов и похожа на пластинчатое брюшко членистоногих. Голова похожа одновременно и на деталь машины, и на некое прожорливое насекомое с мощными дробящими челюстями – жвалами. И эта безжалостная голова, подстерегающая жертву, длинным «приводным ремнем» соединяется с главной приманкой – женской грудью. Удивительна способность Пикассо синтезировать небывалые существа из различных ассоциативных рядов.
Еще более чудовищна, хотя и не столь органично сконструирована «Причесывающаяся женщина» 1940 года – тяжкого года в жизни Франции, в жизни Испании и в жизни художника. Здесь – те же плоские срезы, как бы распилы, подчеркнутые резкими тенями (такие распилы часто появляются у Пикассо как атрибут кошмаров), формы раздутые, «чувственные», огромные ступни ног, на вывороченном лице – налитые губы вампира, а в общем построении фигуры «Причесывающейся женщины» проступают очертания свастики.
Не искажение натуры само по себе, а чувство, определяющее характер деформации, делает гротески Пикассо иные – кошмарными, иные – яростно возмущенными, иные – забавными, иные – исполненными нежности и восхищения. И в последних случаях Пикассо тоже деформирует – совершенно ошибочно было бы полагать, что только в близких к натуре изображениях он выражает свои положительные эмоции. У него есть портреты, написанные как гимн – и это далеко не самые натуральные из его портретов. Один из первых портретов Жаклин Рок (1954 года) – настоящий рыцарственный hommage Прекрасной Дамы. Резкий медальерный профиль с глазом в фас, как на египетских рельефах, взнесен на высокой прямой шее-постаменте, волосы, торс и рука стилизованы, расчерчены на плоские сегменты, контрастируя с округлыми нежными розами – данью поклонения.
В искусстве XX века деформации не редкость: все оно охвачено стремлением писать так, как видит «внутренний глаз» и заменять объективные пропорции «пропорциями духа». Не редкость и выражение самых положительных чувств именно через деформацию – характерный тому пример портреты Модильяни. Однако не всякая деформация есть гротеск. Гротеск предполагает шоковую, ошеломительную деформацию, деформацию парадоксальную, какой обычно не бывает ни у Модильяни, ни у Матисса, ни у Брака, ни даже у Шагала. У Шагала, правда, композиции фантастичны и прихотливы, но это прихотливость сказки, мечты или воспоминания. Гротеск же обусловлен тяготением к парадоксу и состоит в исконном родстве со стихией комизма; юмор имманентно присущ гротеску, какова бы ни была окраска юмора – розовая или черная.
Конечно, никто не может все время жить в наэлектризованной атмосфере гротеска: и у Питера Брейгеля есть вещи от гротеска далекие (как «Времена года»). У Пикассо гротеск – преобладающая, но не абсолютизированная тенденция; он непринужденно переходит от одних методов интерпретации к другим, если так диктует чувство. Упомянутый стилизованный портрет Жаклин навряд ли принадлежит к области гротеска. Но можно привести пример, когда столь же сильное лирическое переживание выражается в откровенном гротеске: «Женщина-цветок» – портрет юной Франсуазы Жило. Порыв весеннего растения и холодноватый свет луны – представления, владевшие художником, когда он работал над портретами Франсуазы. Поэтические, даже слишком поэтические ассоциации. Их «слишком поэтичность» он, вероятно, осознавал: возникала опасность сентиментальности. По свидетельству самой Ф. Жило, ему долго не удавалось выразить то, что он хотел. И наконец, он вносит спасительную дозу юмора. Он гротескно буквализирует свою метафору – цветок в лунном сиянии, – которая слишком настоятельно его преследовала, чтобы он мог от нее вообще отказаться. Франсуаза становится узким стеблем, увенчанным маленькой голубой луной, с волосами-листьями. Этим решением Пикассо остался доволен. Оно забавно и восхитительно; в чистых тонких линиях безукоризненно прямого молодого растеньица, в лучащейся голубизне его гордой головки-луны сохранено чувство, которое питал художник к своей модели, есть и внутреннее сходство с моделью, а вместе с тем есть и незлая усмешка и над чувством, и над моделью. Так же насмешливо зашифрован в этом изображении еще дополнительный символический знак круг, означающий земной шар. Женщина держит в руке земной шар, как на старинных аллегорических гравюрах. Впрочем, не зная заранее, об этой символике трудно догадаться.
Вообще пристрастие к символам очень свойственно Пикассо – начиная с его ранних юношеских вещей. Только там оно высказывалось прямо и даже приводило иногда к нарочитости (как в картине «Жизнь» 1903 года), а впоследствии становится глубоко запрятанным, затаенным. Символика знака и символика пластической формы, символика темы и символика жеста. И символика гротескного преображения, далеко не всегда поддающаяся расшифровке.
Конструкция «Причесывающейся женщины» напоминает свастику – это символ читаемый и прозрачный. Но почему она причесывается? Откуда этот столь мирный домашний жест у чудовищного исчадия фашизма? Ответить невозможно, но трудно отделаться от мысли, что и он имеет какое-то скрытое, сложно опосредованное, быть может, подсознательное символическое значение.
Как бы ни было, противоречие мирного жеста и агрессивно-зловещего вида «Причесывающейся женщины» характерно для гротесков Пикассо с их эстетикой парадоксальных контрастов. Наиболее кошмарные фантомы сплошь да рядом помещаются в контрастирующей с ними безобидной среде и ситуации. «Современная Венера» никого не грызет своими угрожающими челюстями, а мирно сидит на солнечном пляже. Другие спокойно сидят в кресле. Чудовищный «Мужчина»
1938 года, наводящий на мысль о стихии преступности и насилия, никого не убивает, а сосет сахар (и напротив: в сценах насилия Пикассо чаще прибегает к более или менее натуральному, негротескному изображению). Мрачнейшие композиции изображают всего-навсего «Ателье модистки», а одна из самых страшных картин называется «Утренняя песня» и представляет двух женщин – одну, лежащую на кровати, другую, сидящую возле с мандолиной.
Если во всем этом есть символика, то она слишком глубоко зашифрована, но общая тенденция, кажется, такая: художник не хочет проводить черту, резко разделяющую все сущее на две половины – в одной мир, ясность, добро, в другой зло, мрак и тревога. Эти полюса существуют идеально, но удобное разделение на жизнь «нормальную» и жизнь потрясенную, связанную с войной и прочими ужасами, способно вселить благодушие, а если что чуждо Пикассо, то это благодушие. Жизнь в его восприятии – всегда потрясенность. Зло не локализовано где-то в определенных сферах, оно просачивается, разливается. Тайная воля к убийству может присутствовать в любви, зрелище мирной повседневности может наполнить душу ужасом. «Я весел… Вдруг: виденье гробовое, / Внезапный мрак иль что-нибудь такое…»
Это не значит, что жизнь – эманация зла или что Пикассо не различает добро и зло: для таких выводов его искусство не дает ни малейших оснований. Но оно проникнуто чувством сложной переплетенности добра и зла в мире, что и составляет сокровенный подспудный смысл его «мифа о Женщине». Явления многолики, их многоликость рождает величайшее напряжение, можно сказать «экзистенциальную напряженность», излучаемую всем творчеством Пикассо. Если бы нужно было охарактеризовать его только одним-единственным словом, то это слово – «напряжение». Оно есть и в самых легких, беспечных его набросках. Всё – на кончике ножа, всё превратимо, всё до предела конфликтно: спорят фас и профиль, два глаза, две руки, меняются местами ухо и глаз, крошечные формы синтезируются с гигантскими, пространство пульсирует, растягиваясь и сжимаясь, отражение в зеркале непохоже на отражаемый предмет. Конфликтные, напряженные отношения между вещами, амальгамы разнородных организмов образуют, однако, гармонию, равновесие, но это равновесие, «которое возникает на лету, как жонглер ловит летящие мячи».
У Пикассо есть произведения – причем они периодически появляются в разные эпохи его творчества – нежные, изящные, на поверхностный взгляд почти идиллические. Но и в них всегда чувствуется, что идиллия заряжена драмой, а изящество готово вот-вот взорваться в гротеске: для гротеска открыта дверь. В прелестной «Семье арлекина», еще розового периода, рядом с семейной группой сидит обезьяна – верный друг дома, и вдруг мы замечаем, что ее длиннопалые лапы в точности похожи на руки самого Арлекина. Вдруг в классических изображениях балерин непомерно разрастаются руки и ноги. Вдруг облик Рембрандта, с его беретом, усами и кудрями, начинает словно бы ходить колесом, закручиваясь в замысловатую спираль… Можно предпочитать «красивые» вещи Пикассо «чудовищным», но любовь к первым с необходимостью вынуждает принимать и вторые – они не живут друг без друга.
Для Пикассо было совершенно логично решить «Войну» и «Мир» в едином, юмористическом ключе, в виде как бы кукольного театра. Здесь ведь идет речь не только о войне и мире, а об извечной иллюзии «ада» и «рая» – жизни беспросветно мрачной и безоблачно счастливой. Иллюзия одновременно и плодотворная, не дающая угаснуть воле к преобразованию действительности, и наивная. Художнику, который, как Пикассо, столько раз заглядывал в воронку ада, художнику, силой своей эвристической иронии так глубоко проникнувшему в диалектику добра и зла, можно было только так – в духе шутливой фантасмагории – увековечить мечту о радикальном торжестве добра, о вечном царстве мира. И может быть, самый прекрасный, самый «истинный» парадокс в творчестве великого парадоксалиста то, что он и сам стал знаменосцем этой мечты, паладином мира, поверил в нее «вопреки своему неверию».
Ссылки
1 Kayser W. Das Groteske in Malerei und Dichtung. Hamburg, 1960. S. 7.
2 Sedlmayr H. Der Tod des Lichtes. Salzburg, 1964.
3 Gilot F., Lake C. Vivre avec Picasso. P., 1965. P. 68–69.
4 Вrassai. Conversations avec Picasso. P., 1964. P. 137.
5 Ibid. P. 88.
6 Ibid. P. 67.
7 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965.
8 Gilot F., Lake C. Op. cit. P. 278.
Некоторые мифы о Пикассо[29]
Произведения Пикассо воспринимаются по-разному и вызывают различные толкования. Это в порядке вещей: они действительно не поддаются однозначной интерпретации. Сам художник однажды сказал: «…Даже когда картина закончена, она продолжает и дальше менять свое лицо в зависимости от настроения того, кто ее сейчас смотрит. Картина живет своей собственной жизнью, подобно живому существу, и подвергается таким же переменам, какие происходят и с нами в повседневной жизни. Это вполне естественно, потому что она получает жизнь от человека, который ее созерцает»1. Тем самым Пикассо признал право каждого зрителя на собственное восприятие картины.
Картина, будучи воспринята, накладывается на структуру личности воспринимающего, и от этого наложения возникает нечто третье – воспринятый образ каждый раз оказывается несколько иным. В какой-то мере это происходит при созерцании любого произведения искусства, не только Пикассо. Но «мера» не всегда одинакова. Есть художники и художественные произведения, которые требуют от восприятия зрителя сколь можно большей адекватности тому образу, который мыслился и задумывался его создателем, как нечто вполне определенное. Если образ, возникший у зрителя, значительно от него отклоняется, значит зритель не понял картину – по своей ли вине или по вине художника. У Пикассо зона возможных и допустимых отклонений шире. Его произведения отличаются достаточно большой открытостью навстречу личности созерцающего, ибо заключают в себе возможности многообразных ассоциаций.
Отсюда и большое число не только мнений о Пикассо, но и концепций его творчества. Однако понятно, что в последних элемент личного отношения, личного переживания должен умеряться объективностью исторической точки зрения. Одно дело – непосредственное переживание той или иной картины, другое – концептуальная трактовка творчества художника, взятого в целом как некий общественный феномен. Односторонность, пристрастность или хуже того – тенденциозность здесь не могут быть оправданы, даже если за основу построения берутся какие-то черты, действительно свойственные сложному искусству Пикассо. Искусственно выделенные из всего «контекста» его творчества, абсолютизированные, преувеличенные, они приводят к извращенным выводам об исторической роли «феномена Пикассо». А так как этот художник, без сомнения, представляет ярчайшее явление искусства нашего времени, то споры о Пикассо означают споры о времени, о главном художественном нерве современности, и очень важно занять в этом споре позицию исторической справедливости.
Можно не останавливаться на тех «упреках» по адресу Пикассо, которые имеют характер откровенно политический и связаны с его принадлежностью к Французской коммунистической партии. Они однообразны, неоригинальны и неинтересны. Это обычные разговоры о «завербованности» художника, о мнимой иллюстративности таких его вещей, как «Резня в Корее», «Война» и «Мир» или даже «Герника». В условиях всеобщего признания гениальности Пикассо, возобладавшего в последние годы, такого рода тенденциозность оценок чаще проявляется не в прямом осуждении, а в форме замалчивания или упоминания вскользь определенных сторон его творчества и творческой биографии. Иногда тенденциозность сказывается даже в принципах отбора иллюстраций к монографиям о Пикассо. Редко в какой книге воспроизводится репродукция «Резни в Корее», лишь мельком упоминается огромная работа в области плаката, многочисленные графические портреты 1950-х и 1960-х годов. Читателю дается понять, что все это – художественные неудачи, работы «по заказу»; исподволь внушается мысль, что вмешательство в политику только вредит искусству Пикассо.
Мало интересны и претензии к Пикассо со стороны абстракционистов, которые никак не могут простить ему «фигуративности» и скептических отзывов о нефигуративной живописи.
Более серьезного внимания заслуживают критические работы, обладающие известной концепционной целостностью и не продиктованные групповыми пристрастиями или грубо элементарной «анти-коммунистичностью», но выдвигающие, прямо или косвенно, тезис о разрушительном, внутренне нигилистичном характере искусства Пикассо.
Более эмоционально, чем доказательно, говорил и писал о разрушительности Пикассо художник Морис Вламинк. Вламинк упрекал Пикассо ни больше ни меньше, как в том, что «за тридцать лет-с 1900 по 1930 год-он довел живопись до вырождения, до бессилия и смерти». Поистине – чтобы один человек мог это сделать, он должен быть по меньшей мере дьяволом в человеческом образе. И Вламинк восклицал: «Он носит в себе сотню, тысячу дьяволов. В игре идей он способен на все». «Пикассо, этот каталонец с лицом монаха и глазами инквизитора, никогда не говорит об искусстве без внутренней усмешки, сопровождающей его отрывистые и колкие фразы, усмешки, которая, однако, не трогает его губ»2.
В качестве примера «сатанизма» Пикассо Вламинк рассказывал следующую историю. «Г-н N открыл, по его словам, молодого художника с многообещающим талантом. Обратившись к Пикассо, спросил его, знает ли он этого художника и видел ли его произведения?.. Пикассо ответил: “Я видел его картину ‘Бег быков’, но там нет быков. Только круги, линии, точки, квадраты… Ничего не поймешь!”» Вламинк говорит: «У ко-го-нибудь другого, не у Пикассо, такое суждение было бы вполне естественно. Но в его устах! Какой парадокс, какая двусмысленная ирония! Вся дьявольщина Пикассо тут сказалась»3.
По мнению Вламинка, Пикассо довел французскую живопись до разрушения и бессилия, потому что он сам – воплощенное бессилие, у него нет своего лица. Силы ада ничего не создают, они лишь глумливо перелицовывают созданное. Вламинк настаивает на творческом бесплодии Пикассо. «При всем своем уме, он начисто лишен темперамента, отсюда все зло. Когда он был молод, он стремился нас удивлять, но мы-то не были так глупы. Он говорил себе: “Ты хочешь Карьера?” – и он делал Карьера; “Ты хочешь Дега?” – он делал Дега; “Хочешь Лотрека?” – делал Лотрека; “Хочешь Ван Гога?» – делал Ван Гога. Пикассо подобен музыканту, который наизусть играет Бетховена и Вагнера, но сам не способен сочинить даже песенку “Au clair de la lune”»4[30].
«Пикассо не провел ни одной линии, не положил ни единого мазка, если у него не было какого-либо образца. Джорджоне, Эль Греко, Стейн-лейн, Лотрек, греческие фигурки и посмертные маски – все пригодно ему; Форен, Дега, Сезанн, скульптура Африки и Океании <…>. Нетрудно разгадать, кто скрывается за каждой из его многочисленных и разнообразных “манер”. Единственное, чего не может достичь Пикассо, – это именно Пикассо, который был бы самим собой»5.
То обстоятельство, что Вламинк опубликовал свои филиппики против Пикассо в 1942 году, в период гитлеровской оккупации Парижа, как раз тогда, когда оккупационные власти объявили искусство Пикассо «дегенеративным», придает высказываниям Вламинка оттенок предательства. Тем не менее трудно сомневаться в искренности Вламинка, в искренности его пылкой ненависти к Пикассо, столь фанатической, что она даже сообщает ненавидимому их художнику ореол какого-то негативного величия. Вламинк производит Пикассо чуть ли не в «отцы зла». Потом было хуже. Люди ничтожного калибра, не сравнимые с Вламинком, сочиняли легенды об эклектизме Пикассо, а также о его мистификаторстве, о том, что он якобы ничего не делает всерьез, а лишь издевается над глупыми снобами. В этом духе были составлены, например, вымышленные интервью с Пикассо, автором которых был Паппини.
Искренность Вламинка еще никак не означает его правоты. Истина – в противоположном: именно в том, что Пикассо всегда был настолько самим собой, до такой степени Пикассо и никем другим, что, кого бы он ни брал себе в «образец», какую бы художественную пищу ни поглощал, эта пища мгновенно превращалась в ткань его собственного художественного организма, совершенно своеобразного и неповторимого. Африканские скульптуры превращались в Пикассо, Энгр превращался в Пикассо, Кранах, Веласкес, Делакруа – превращались в Пикассо. Пикассо никогда не скрывал своей страсти к своеобразному «коллекционированию». Он говорил: «Что такое в сущности художник? – Коллекционер, который собирает для себя коллекцию, сам рисуя картины, понравившиеся ему у других. С этого именно начинаю и я, а потом получается что-то новое»6. Вся суть в том, что получается новое. Пикассо «заимствует» не больше, чем Шекспир, заимствовавший сюжеты своих трагедий, не больше, чем Гёте, заимствовавший старую легенду о докторе Фаусте, и чем Томас Манн, в свою очередь заимствовавший у Гёте, у Достоевского, у Шекспира и у Шёнберга.
Более продуманная версия на тему бессилия и разрушительности искусства Пикассо принадлежит известному искусствоведу Гансу Зедльмайру. Чтобы ее обосновать, Зедльмайру также пришлось «заимствовать»-у философа XIX века. Статья Зедльмайра, написанная в 1950 году, называется «Кьеркегор о Пикассо». Эпиграфом взяты слова Реми де Гурмона: «Все уже сказано, но так как никто не слушает, приходится повторять снова и снова». Автор считает, что все, что можно сказать о Пикассо, уже было сказано в свое время Кьеркегором, описавшим тип «эстетического человека», «интересного человека» или «соблазнителя». Вся статья Зедльмайра построена на цитатах из Кьеркегора – гораздо больше, чем на примерах творчества Пикассо: собственно, произведения Пикассо в ней даже не называются. Отличительные черты кьеркегоровского «эстетического человека» – игра с возможностями, ирония и меланхолия. Первое означает парение, «свободное бытие», ничем не сдерживаемую игру с бесчисленными возможными формами бытия. Для «эстетического человека» внешний мир только повод к выявлению своего собственного – иллюзорного, играющего могущества, арена его демонстрации. Всё – только средство для игры, но в перспективе это означает Великое Ничто. Соответственно и у Пикассо Зедльмайр находит «само себя созерцающее Я, расщепленное, вечно рефлектирующее, диалектически исчезающее, – знаки беспокойной протеической сущности»7. В не меньшей степени свойственна ему ирония, в которой «субъект теряет устойчивость, обретая негативную независимость от вещей» и опять-таки погружается в Ничто. Ирония изолирует. Она исключает связи, симпатию. Это искусство не знает «Ты» – только «Я». Оно видит лишь человеческую глупость. Отсюда – подверженность черной меланхолии. Постоянная жизнь в воображении есть отчаяние, ибо «сущность», «существенное» в ней отсутствуют.
Пикассо, по Зедльмайру, – самое полное воплощение «протеического человека», вечно балансирующего на грани Ничто и лишенного устойчивой субстанциональности. Он начал – в голубом периоде – с действительного выражения тоски и отчаяния, еще без иронии. Но его плачущие женщины 1938 года уже не выражают печали и боли, уничтоженных иронией.
Параллели Зедльмайра, быть может, и небеспочвенны. Свойственны ли Пикассо игра с возможностями, ирония, меланхолия? – да, все это ему так или иначе свойственно. Но ему свойственно и еще многое другое. Загипнотизированный Кьеркегором– а еще более своей предвзятой идеей об «умирании света» в искусстве XX столетия, – Зедльмайр уже не желает видеть в Пикассо ничего сверх этого. Он отвлекается от настоящего Пикассо во имя своего сурового католицизма. В заключительных абзацах он пишет: «Пикассо, в своих циничных деформациях, постоянно кружит в теме “потерянного” человека и не изображает ничего достойного любви, кроме голубей»8. И добавляет, что Пикассо – тип нашего времени, пророчески предсказанный Кьеркегором.
Не увидеть в «Гернике» ничего, кроме «цинических деформаций» и «игры с возможностями»; не увидеть сострадания, гнева, любви и надежды в обширной, художественной вселенной Пикассо – значит не хотеть увидеть, ограничив зрение шорами априорной концепции.
Подлинный Пикассо, которого не хочет или не может увидеть Зедльмайр, сказал о себе: «Я никогда не считал, что живопись доставляет только наслаждение и развлечение. Я хотел при помощи рисунка и краски, ибо это мое оружие, все более глубоко проникать в понимание людей и мира, для того чтобы это познание все больше освобождало нас»9.
Пикассо не льстил людям и миру; если его видение подчас было жестоким, то не потому, что он жил исключительно в царстве своего воображения, а потому, что его воображение было чутким уловителем реальных опасностей; он не просто играл с вымышленными возможностями – его рука переводила на язык рисунка и краски возможности пароксизмов и гибели, подстерегающих людей. Говорить о Пикассо как об «эстетическом человеке» – значит вовсе не понять его, ибо Пикассо как раз жертвует «эстетическим» во имя беспощадной правды высказывания.
Вместе с тем – он не пассивен и не односторонен в изображении зла. Своим творчеством он ставит нравственные альтернативы: война или мир, гибель или жизнь, одичание или человечность. И трудно ошибиться в том, какой выбор он делает сам, – любое из его капитальных, итоговых произведений об этом свидетельствует: «Герника», «Минотавромахия», «Резня в Корее», «Храм мира» в Валлорисе, статуя «Человек с ягненком». Воинствующий гуманизм создателя этих произведений, очевидный даже неискушенному в живописи человеку, тенденциозно не замечается Зедльмайром.
Трудно было бы ожидать, чтобы мимо Пикассо прошла популярная и влиятельная на Западе школа психоанализа, учения о подсознательном, берущая начало от Фрейда. Многие произведения Пикассо соприкасаются с сюрреализмом. Многие странны и странно жестоки. И разве он сам не повторял не раз: «Я иногда сам не понимаю, почему делаю именно так». Этого уже достаточно, чтобы привлечь к нему внимание психоаналитиков.
Начало положил Карл Юнг, выступивший в 1932 году со статьей о Пикассо.
Юнг в отличие от Фрейда не рассматривал феномен художественного творчества как эрзац неудовлетворенных, подавленных желаний. Скорее, он склонен был видеть в нем проявление атавистической памяти, памяти крови, памяти рода– не личной, а общечеловеческой, отливающейся в определенные схемы, «архетипы». Эти схемы отпечатлелись в древних мифах, но и у современных людей они снова и снова возникают в деятельности подсознания. Сознательное, рассудочное начало их заглушает, они становятся уловимы там, где действует элемент бессознательного. То есть в снах и галлюцинациях обычных людей, в бредовых представлениях невротиков и шизофреников, а также в тех произведениях искусства, которые идут из потайных внутренних глубин, обнаруживая «ночную жизнь» души. Ктаким Юнг относил «Фауста» Гёте, произведения Вагнера, Гофмана, Джойса – и Пикассо.
Так как, по Юнгу, изначальные архетипы вездесущи и постоянно повторяются, не обладая большим разнообразием, и так как отчетливее всего они проступают при максимуме бессознательности, то есть у душевнобольных, Юнг не мог не проводить параллелей между душевнобольными и художниками, чьи произведения он исследовал. Это невольно наталкивало на мысль о неком родстве психического заболевания и художественного творчества, по крайней мере творчества художников определенной категории, – родстве и формальном, и содержательном, поскольку «архетипы» в основе все те же. Оценка и анализ искусства как такового превращались в подобие клинического диагноза. Отдавая себе в этом отчет, Юнг сопровождал свои рассуждения о художниках многими оговорками. Эссе о Пикассо он начинает с заявления: «Я не касаюсь здесь вопроса его искусства, но лишь психологии его искусства»10. Юнг подчеркивает, что он подходит к творчеству Пикассо с профессиональной точки зрения, как психиатр, не больше. Далее он говорит, что ему, много лет изучавшему рисунки своих пациентов, очевидна полная аналогия между ними и «душевной проблематикой Пикассо, как она выражается в его искусстве»; причем аналогия обнаруживается с определенным типом пациентов, а именно – с шизофреническим типом, для которого характерны «ломаные линии», разорванность сознания, дисгармоничность, расщепленность.
Здесь тоже Юнг делает обширное примечание, смысл которого сводится к тому, что он отнюдь не считает Пикассо шизофреником, также как и Джойса, а лишь относит их «к той очень многочисленной группе людей, чей габитус способен реагировать на глубокие душевные потрясения симптомами шизоидного комплекса»11.
Сделав эти необходимые оговорки, Юнг приступает к анализу самого «комплекса» Пикассо, каким он ему видится. И тут его обобщения идут значительно дальше профессиональных наблюдений психиатра, перерастают в обобщения философские; в качестве таких они сомнительны и по меньшей мере односторонни.
Юнг рассматривает творческий путь Пикассо как процесс нисхождения и все более глубокого погружения в подземное царство, в преисподнюю. В голубом периоде спускание только начато, происходит расставание с «верхним миром», которое еще может быть символически выражено в предметных формах и фигурах. Но они уже окутаны голубизной ночи, лунного света и воды, голубизной подземного царства древних египтян. Чем дальше спуск во тьму, тем больше дневная жизнь окоченевает, заволакивается холодным туманом Гадеса. «Предметность отныне посвящена смерти, выражена в ужасных образах туберкулез-но-сифилитических проституток-подростков»12. Проститутка – отверженная душа, темная «anima», поджидает его у входа в потустороннее. «Когда я говорю “Он”, я подразумеваю ту личность в Пикассо, которая обречена подземному миру, того человека, который живет не в дневном мире, но во тьме, где он следует не за идеалом красоты и добра, но испытывает демоническое обаяние ужасного и злого, пробуждающего в современных людях нечто антихристианское и люциферовское. Знаки нисхождения в подземный мир – окутывание дневного мира адским туманом и, наконец, его смертельное распадение на фрагменты, изломы, остатки, мусор, лоскутья и растворение в неорганическом»13.
Подобно Фаусту, «Он», Пикассо, в образе трагического Арлекина (Юнг считает именно Арлекина автопортретом ночной личности Пикассо), в своих странствиях обращается к химерам Античности и к доисторическим примитивным мирам. И что же он выносит из странствий, какую квинтэссенцию, какой всеразрешающий символ?
Юнг говорит, что комплекс «нисхождения в ад» не есть просто бесцельное разрушительное падение, а стремление приобщиться к тайному знанию и восстановить Человека как целое: «заблудившийся в односторонности здешнего, настоящего, он спасен в прошлом. Это тот, кто во все времена вызывал содрогание верхнего мира и всегда будет вызывать. Этот человек противостоит сегодняшнему человечеству, потому что он тот, кто всегда был, начиная от древних, кончая современными». Таков, по Юнгу, символический смысл той сцены из второй части «Фауста», где Фауст спускается в обитель Праматерей.
Обращаясь затем снова к наблюдениям над своими пациентами, Юнг замечает, что у них состояние «нисхождения» не имеет ни исхода, ни цели. Приведения противоречивой и разорванной человеческой сущности к живому единству так и не возникает. Дело ограничивается созерцанием конфликтных пар противоположностей: светлого и темного, верха и низа, мужского и женского и т. д. Напряженность этих противоречивых отношений воспринимается мучительно и не разрешается катарсисом: у больных ее созерцание означает или застой дурной бесконечности, или катастрофический срыв.
И у Пикассо Юнг находит подобное, до крайнего напряжения доведенное совмещение противоположных, конфликтных, борющихся элементов. «Резкие, определенные, даже грубые цвета последнего периода соответствуют тенденции подсознания с силой выразить конфликт чувств»14.
Удастся ли Пикассо проникнуть в дебри Гадеса столь глубоко, чтобы снять нестерпимое напряжение и прийти к живому единству? Юнг отказывается ответить на этот вопрос. Но дает понять, что опасается «срыва». «Арлекин» не внушает ему большого доверия. Он сравнивает «Арлекина» Пикассо с тем «пестрым парнем, подобным шуту» в «Заратустре» Ницше, который перепрыгивает через канатоходца. Канатоходец падает и разбивается. Ему, умирающему, Заратустра говорит: «Твоя душа умрет еще скорее, чем тело, не бойся же ничего». А шут восклицает, обращаясь к канатоходцу, своему слабейшему alter ego-. «Лучшему, чем ты, загораживаешь ты дорогу!» Юнг добавляет от себя к этой притче: «Он (шут) и есть тот сильнейший, кто разбивает оболочку, – а оболочкой может оказаться мозг»15.
Один из биографов Пикассо, Роланд Пенроз, упоминая о том, что профессор Юнг считал образ Арлекина внутренним автопортретом Пикассо, и отчасти с этим соглашаясь, добавляет: но он не менее часто играл и другие «роли», перевоплощаясь, например, в образ Минотавра, раненой лошади, совы, влюбленных, бородатого скульптора и даже ребенка со свечой. Все они так или иначе воплощают его самого, все «автопортретны».
Это простое замечание Пенроза – не философа, а лишь добросовестного описателя творческой биографии Пикассо – уже колеблет замысловатое построение Юнга в самых его основах. Юнг постулирует фатальную сосредоточенность и замкнутость «шизоидного типа» на своем внутреннем мире («Innen»), лежащем по ту сторону сознания; сознание имеет дело с внешним миром и упорядочивает его с помощью пяти чувств, «Innen» «не может соответствовать сознательному», оно идет из таинственных глубин «памяти крови». Сделав этот вывод из наблюдений над симптомами душевных болезней, философ-психиатр Юнг бестрепетно переносил его на творчество художника. Перенесение это неоправданно, ибо самая суть творчества, какую бы роль в нем ни играло подсознание, противоположна сути душевной болезни. В последней связи индивидуума с внешним миром, с другими людьми ослабляются до предела, индивидуум остается заключенным сам в себя, в свое «внутреннее», как в железную клетку, – и это состояние мучительно, оно переживается как страдание. В феномене творчества происходит обратное: такое умножение и разветвление «связей», такая повышенная чуткость творческого «я» к тому, что «вне я», которая побуждает его переселяться, перевоплощаться в разнообразные облики. И это тоже может переживаться как страдание, ибо требует слишком большого напряжения, «растяжимости» художественной личности, остающейся при всех перевоплощениях самой собой. Но эти муки творчества – муки приобщения – имеют совсем иную, противоположную природу, чем муки изоляции, испытываемые душевнобольными: изоляция, собственно, и есть болезнь души.
Если это так, то аналогии, проводимые Юнгом, при всех его оговорках относительно различия между шизофреником и «шизоидным типом» рискуют оказаться зданиями, построенными на песке.
Конечно, и в наблюдениях Юнга есть много верного и проницательного. Например, о напряженной, драматической конфликтности чувства и самой структуры многих произведений Пикассо. Но только чтобы пережить и выразить эту конфликтность, это противоречивое двуединство добра и зла, не было нужды спускаться в древний Гадес. Достаточно прикоснуться душой к современному, «верхнему миру». Что и делал постоянно Пикассо.
Внутренний мир Пикассо находился в состоянии непрерывного диалектического «обмена веществ» с огромным реальным миром человеческого общества. Понять и даже почувствовать искусство Пикассо только «изнутри» – невозможно. Сам художник в минуту откровенности сказал о себе достаточно жестко: «Я как река, несущая в своем течении вырванные с корнем деревья, дохлых собак, всякие отбросы и миазмы. Я захватываю все это и продолжаю свой бег… У меня все меньше и меньше времени и все больше и больше того, что я хочу сказать»16.
Да, воды реки не стерильны, но это река жизни, а не Лета, уводящая в царство теней.
Пикассо делит судьбу тех художников, вокруг которых – в силу ли необычности, или дерзостности, или загадочности их искусства – возникает и разрастается мифология. Сколько мифологических наслоений связано с именами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Гойи, Ван Гога, Врубеля! Мифы о Пикассо начали создаваться уже при его жизни, и, вероятно, их поросль с течением времени не иссякнет.
Эти мифы не тождественны романтическим легендам о художнике, в таких легендах еще нет особой беды. Бывают мифы, чуждые всякой сказочности, – сухие, строгие и «научные»: примеры их здесь приводились. Научные или обывательские, мифы о художнике имеют общую особенность: в них заметно стремление вытянуть какую-то одну ниточку из сложнейшей ткани художественного творчества и нанизать на нее все. Как будто бы достаточно сказать: «разрушитель», или «одержимый иронией», или «шизоидный тип», и в эту простую схему все уляжется, все будет через нее понято. В действительности же мифологическая схема становится шорами на глазах воспринимающего. Противоречит природе искусства сама претензия все разом понять через ниточку, через термин, через одну-единственную притчу. Настойчиво и назойливо повторяемая притча о «художнике-разрушителе» не только ничего не объясняет – она заграждает плодотворный путь общения с искусством, таким же непростым и богатым, как богата и непроста действительность, вызвавшая это искусство к жизни.
Ссылки
1 Пикассо. Сборник о творчестве. М., 1957. С. 18.
2 Champris Pierre de. Picasso. Ombre et soleil. P., 1960. P. 212.
3 Ibid. P. 212.213.
4 Ibid. P. 209.
5 Ibid. P. 213.
6 Пикассо. Сборник о творчестве. C. 28.
7 Sedlmayr Hans. Der Tod des Lichtes. Salzburg, 1964. S. 6.
8 Ibid. S. 84.85.
9 Мастера искусства об искусстве. Т. 5. Кн. 1. М., 1969. С. 315.
10 Picasso Pablo. Wort und Bekenntnis. Zurich, 1954. S. 118.
11 Ibid. S. 121.
12 Ibid. S. 122.
13 Ibid. S. 123.
14 Ibid. S. 125.
15 Ibid. S. 126.
16 Gilot Francoise, Lake Carlton. Vivre avec Picasso. P., 1965. P. 116.
Судьба Пикассо в современном мире[31]
Под судьбой художника подразумевается характер реакции современников на его искусство, признание или непризнание, мера известности и популярности; короче говоря – успех. Сопутствующий художнику успех не всегда является показателем истинно высокого достоинства его искусства, отсутствие успеха не всегда означает отсутствие достоинства. Но и обратной зависимости здесь не существует. Судьба художественных произведений определяется многими факторами – как внутренними (то есть имманентными свойствами самих произведений), так и внеположными, от художника не зависящими.
Стало почти трюизмом говорить о трагической судьбе художников-новаторов последнего столетия. Только в давно минувшие эпохи гениальных мастеров венчали лаврами, в новейшие времена их венчали терновым венцом или просто не замечали при жизни. Признание и слава приходили посмертно. Примеров тому действительно много. Если говорить только о французской живописи – уже Курбе и Милле не были оценены по достоинству современниками. А потом импрессионисты Сезанн, Ван Гог, Гоген, Модильяни… Все они подвергались оскорблениям и издевательствам критики и публики, иные были обречены на нищету, иные становились отверженными, отщепенцами.
Напротив, судьба Пикассо складывалась необыкновенно счастливо с самого начала– и это кажется тем более удивительным, что никто меньше его не старался угодить господствующим вкусам. Правда, и Пикассо знал период полуголодной жизни богемы в Бато Лавуар на Монмартре, но то был недолгий и нестрашный период. Успех пришел рано. Воллар устроил выставку Пикассо еще в 1901 году, когда художнику было двадцать лет, и уже эта выставка привлекла сочувственное внимание критики. Другая выставка – в 1902 году в галерее Берты Вейль (на ней было тридцать полотен). В 1905 году вещи Пикассо стали покупать Гертруда и Лео Стайн. Приобретал их и русский коллекционер С. Щукин. Казалось бы, Пикассо должен был культивировать успех, завоеванный «голубыми» и «розовыми» картинами. Но нет: он делает крутой, неожиданный поворот – пишет «Авиньонских девиц», а затем целую серию так называемых «негритянских» полотен, после чего следовало ожидать, что его жестоко осмеют, предадут анафеме и никто уже покупать его произведений не станет. Лео Стайн, покровительствовавший молодому Пикассо, действительно, отверг «Авиньонских девиц» как кощунственный хлам (так же он относился потом и к кубизму). Но Вильгельм Уде, Даниэль-Анри Канвейлер, Щукин отнеслись иначе. Канвейлер в 1907 году, когда ему самому было двадцать три года, а Пикассо двадцать шесть, решил, что отныне будет приобретать все, что бы Пикассо ни сделал. О Канвейлере художник потом говорил, что без него он бы не смог выбиться. Их дружба продолжалась до глубокой старости.
Напрашивается предположение: может быть, Пикассо обязан своими успехами маршанам? Роль маршанов в художественной жизни буржуазного Запада велика, нельзя ее преуменьшать, но и абсолютизировать не следует. Они играют ее постольку, поскольку обладают верным художественным чутьем (как в России обладали им купцы П. Третьяков, С. Мамонтов, С. Щукин), а еще важнее – чутьем к общественному мнению, общественным настроениям. Без этого они не могли бы рисковать и ходить ва-банк, создавая репутацию тем или иным еще малоизвестным художникам. Как говорит в романе Анатоля Франса торговец эстампами: «Когда я испытываю какое-нибудь чувство, редко бывает, чтобы все не испытывали его одновременно со мной»1.
Пикассо от успеха не отказывался, но и никогда ничего специально не делал, чтобы его добиться. Скорее, делал обратное – то есть не только не потакал публике, но шокировал ее и даже прямо оскорблял. И кажется, чем больше оскорблял, тем больше она покорялась. Друг Пикассо, художник и известный фотограф Брассаи, записал сказанное им в 1944 году: «Успех – вещь важная! Говорят часто, что художник должен работать только для себя, только “из любви к искусству”, и презирать успех <…>. Это неверно! Художник нуждается в успехе. И не только чтобы иметь на что жить, но особенно – чтобы реализовать себя. И богатый художник нуждается в успехе. Людей, что-то смыслящих в искусстве, мало, и не всем дано чувствовать живопись. Большинство ценит произведения искусства только по их успеху. Почему же нужно оставлять успехи на долю “коммерческих художников”? Каждое поколение имеет своих <…>. Но где сказано, что успех должен всегда сопутствовать тем, кто льстит вкусам публики?
Я хотел доказать, что можно завоевать успех вопреки всему, без компромиссов <…>. Хотите скажу? Успехи моей молодости обеспечили мне защиту. Голубой период, розовый период – вот что меня защищало»2.
Как видно, Пикассо сам старался понять тайну своего успеха. И предполагал, что голубой и розовый периоды создали для этого основу. Но так ли было на самом деле? Ведь ему было всего двадцать с небольшим и знали его сравнительно немногие, когда он сделал рискованный шаг от розового периода к «Авиньонским девицам» и затем к кубизму.
Этот шаг, этот перелом, который произошел у него около 1907 года, не был вызван соображениями «чистой пластики», а чем-то другим, какой-то страшной внутренней потрясенностью. Не в том причина, что сначала ему захотелось упростить и геометризировать форму (якобы по заветам Сезанна), потом африканские маски натолкнули на мысль о новых возможностях манипуляций с формой, а затем все это вылилось в идею совмещения различных аспектов предмета, транспонировки на плоскость предметов, имеющих глубину и рельефность, и т. д. Так чаще всего описывают творческую эволюцию Пикассо в те годы, но описание это поверхностно: получается, что кубизм, при своем возникновении, имел умозрительную, рациональную картезианскую природу, что в общем чуждо эмоциональной интуитивной натуре великого испанца.
Конечно, на протяжении двух десятков лет разными художниками плодились разные варианты кубизма, и помимо простых внешних следований «моде» были и поиски в области чисто формальных построений. Но кубизм Пикассо был, скорее, взрывом накапливаемых в предыдущие годы горестных наблюдений над участью и природой человеческого существа. Реакция на эти вещи русских литераторов – Булгакова, Бердяева – была достаточно адекватной: они писали о «демонических гримасах», о предостерегающей картине угасания духа в косной материи.
Уже после смерти Пикассо Андре Мальро опубликовал запись беседы с ним. Художник рассказывал о тех импульсах, какие он получил во Дворце Трокадеро, увидев там африканские маски и фетиши. «Я понял, что это очень важно: что-то происходило со мной, понимаете? Эти маски были не просто скульптурой. Совсем нет. Они были магическими атрибутами <…>. Они были оружием <…>. Придав духам форму, мы обретаем независимость. Духи, подсознательное (об этом в то время не очень-то рассуждали), эмоции – все это вещи одного порядка. Я понял, почему я был художником. Совсем один в этом кошмарном музее <…>. Должно быть, “Авиньонские девицы” осенили меня в этот самый день, но совсем не в силу форм, а потому что это было мое первое полотно, изгоняющее дьявола, – вне всякого сомнения!»3 Это высказывание относится к поздним годам жизни Пикассо. Во времена кубизма и предкубизма он так не говорил. Он молчал. Но есть свидетельства современников, что настроен он был мрачно, хотя личных причин тому, по-видимому, не было. Дерен однажды сказал Канвейлеру: «Как-нибудь мы найдем Пабло повесившимся за его большой картиной» (речь шла об «Авиньонских девицах»).
Мотивы бренности, греха, дьявола, пляски смерти и memento mori были распространены в европейском искусстве конца XIX века и без всякого кубизма, и без всякого отношения к африканским фетишам. Эти темы пронизывали символистское искусство (имевшее влияние на молодого Пикассо) – Моро, Энсора, Мунка, Бёклина, Штука. Но там, в привычно эстетизированных формах, они не являлись препятствием для широкой салонной популярности, не были чем-то по-настоящему пугающим и отпугивающим. «Остров мертвых» Бёклина прекрасно приживался в гостиных: черные кипарисы, скалы, таинственная лодка, некто закутанный в покрывало – тут была своя приятность.
Приятность начисто отсутствовала в «картинах-заклятиях» Пикассо – угрюмых, без привычного аллегоризма, тяжелых для восприятия, лишенных декоративного очарования. В них все – неведомо, все – враждебно. Они жестоко искажали человеческий облик, а ведь прежде публика была особенно непримирима ко всему, где усматривала «изуродование» натуры, которая на самом деле (так считалось) прилична, пристойна, благообразна. Разве бывают такие женщины? Разве бывают такие дети? Это надругательство, кощунство. Люди всегда очень ревниво относились к благообразию своего облика, к понятию нормы, нормальности. И никакие собственно живописные красоты не могли примирить с отступлениями от нее. А Пикассо в его новых вещах даже и от живописных красот как бы демонстративно отрекался: в большинстве случаев они были аскетичны по цвету, почти монохромны. Остается загадкой, почему они не только привлекли внимание в художественных кругах, но принесли художнику и успех, вместо того чтобы вызвать лавину негодования и насмешек.
Писатель Жюль Ромен включил в один из своих романов эпизод «Тайна Ортегаля». Ортегалем назван Пикассо. Описано его ателье, большое, запущенное и голое, ужин у него, его гости, включая Аполлинера, названного настоящим именем. Дело происходит в 1910-х годах. В форме письма к другу Жюль Ромен пишет там следующее: «Подумай только, что Ортегалю всего 30 или 32 года, что он представитель самого передового течения в живописи, то есть самого неприемлемого, даже самого идиотского в глазах клиентуры, которая поневоле должна принадлежать к богатой буржуазии; даже если мы предположим у этой клиентуры максимальную широту кругозора, на какую она способна. Мы достаточно знаем безразличие, непонятливость, которую она проявляет в других случаях в отношении новых течений современного искусства, как трудно заставить ее купить книгу, выслушать какую-нибудь смелую партитуру. Подумай только, что художник в возрасте Ортегаля, даже при самой большой ловкости и готовности жертвовать всем во имя успеха, в глазах этих людей – всего лишь начинающий, он не имя, не имеет в глазах любителя никакой рыночной ценности, даже если случайно любителю “нравится такое”. Тем более художник-новатор. Было бы, к сожалению, нормально, если бы он подыхал с голоду. Как с голода начали импрессионисты и их ближайшие последователи. Немного времени прошло с тех пор, как публика, критики и любители научились допускать, что импрессионистская живопись не бессмысленная пачкотня, шутка или бредовая ошибка. Чтобы на другой день после столь большого усилия они были способны возобновить его по другому поводу, признать импрессионизм течением слишком благоразумным и традиционным, поощрять искания в десять раз более ошеломляющие – мне это кажется неправдоподобным. Вместе с тем я знаю из совершенно достоверных источников, что на днях Ортегаль продал одну свою картину за полторы тысячи франков одному очень известному господину, принадлежащему к наиболее уравновешенным и устойчивым кругам господствующего класса; совсем небольшую картину, которую он, должно быть, писал меньше недели, работая каких-нибудь два часа в день с перерывами, чтобы набить трубку или поболтать со случайно зашедшим товарищем – у него проходной двор, – картину к тому же отталкивающую, схематичную, отвлеченную, серенькую, одним словом, во всех отношениях оскорбительную для представлений любителя о рисунке и живописи, не доставляющую ему никакого чувственного удовольствия.
<…> Как это понимать? Это очень загадочно. Не есть ли это признак, пока еще местный, того, что у людей пробуждается смелость ума, любопытство, революционный вкус? Хорошо, если бы это было так – каково бы ни было мое мнение об Ортегале вообще и о любой из его картин в частности. Но я сомневаюсь. Я люблю или чувствовать положение, или понимать его. Однако я не чувствую в публике, особенно в культурной и буржуазной публике, от которой, к сожалению, все это зависит, ничего такого, что предвещало бы некий переворот, появление широты вкуса, раскаяние в своей прошлой глупости <…>. Наоборот, когда дело касается живописи, французская публика реже всего проявляет верность суждения, чаще всего ошибается относительно задач, которые ставит себе художник, и относительно качеств, придающих ценность его произведениям; и как раз в живописи она легче всего мирится с официальной чепухой»4.
Вот любопытное свидетельство мыслящего современника: «тайна Ортегаля» – тайна успеха Пикассо – ставила его в тупик. По-видимому, Жюль Ромен прав в том, что причина была не в повышении эстетического уровня «клиентуры». Вообще приятие или неприятие того или иного художественного явления зависит не столько от степени эстетической культуры, степени понимания специфических художественных качеств, сколько от состояния умов в более широком смысле – от мироощущения, которое назревает подспудно, постепенно пропитывая общественное сознание на его различных уровнях.
Но посмотрим, какова была дальнейшая судьба Пикассо. Его «кубизм» перестал быть угрюмо эзотерическим, особенно с того времени, когда художник начал участвовать в оформлении дягилевских спектаклей, то есть с 1917 года: отныне Пикассо придает кубистским конструкциям оттенок комедийности и игры. Параллельно возникает его так называемый энгровский, или неоклассический, период, с реалистическими портретами прелестных женщин и детей, с пасторалями на пляже и с огромными пышнотелыми «классическими» фигурами. Почему эти вещи нравились публике, понять легче: кончилась война, жизнь упоительна, можно наслаждаться ею. И действительно, в 1920-е годы Пикассо становится уже по-настоящему знаменит, богатые снобы и аристократы ищут его общества, иногда он показывается на великосветских раутах в блестящем одеянии матадора. Но вдруг, в разгаре хмельного упоения жизнью, которому предавалась послевоенная буржуазная публика, он начинает делать «злое искусство» – такие чудовищные гротески (начиная с «Танца» 1925 года), такие издевательские изображения, перед которыми «Авиньонские девицы» могут показаться «головками» Греза. Он открыто демонстрирует свое метафизическое отвращение к той самой публике, которая его ублажала, вызывающе делает «Гитару» из мешковины с торчащими наружу остриями гвоздей, причем собирался еще сделать обрамление из лезвий бритвы.
Но ему все прощают, все от него терпят. Прощают даже вступление в Французкую коммунистическую партию. «Герника», а еще больше – «Голубка» приносят ему такую мировую известность, какой едва ли пользовался какой-либо другой художник при жизни, проникающую и в самые широкие слои. И. Эренбург, участвовавший вместе с Пикассо в конгрессах в защиту мира, был очевидцем того, как приветствовали художника массы простых людей, не принадлежавших ни к социальной верхушке, ни к художественным кругам. Они интуитивно почувствовали и признали в нем друга. Но и богатая «клиентура» с удвоенным рвением гонялась за произведениями Пикассо. В конце концов уже один штрих, росчерк, движение руки Пикассо начинают цениться на вес золота; он становится легендарной фигурой, чем-то вроде того сказочного персонажа, которому стоит открыть рот и каждое сказанное слово превращается в золотую монету.
В поздние годы жизни слава уже мешала ему жить. Она вынуждала его, человека от природы общительного, любившего быть в окружении людей, сделаться затворником. В I960 году он говорил Брассаи, посетившему его на вилле «Калифорния», что ему приходится жить в этой вилле как в крепости, за двойными воротами, и даже опускать все занавеси на окнах, так как из окон ближайших зданий на него наводили подзорную трубу. Потом он перебрался в совершенно изолированную виллу, расположенную в горах. Только некоторым суперзвездам западного кинематографа доставалась на долю подобная докучливая популярность. Но в отличие от эфемерной вспышки кинозвезд звезда Пикассо светит на века.
Такова удивительная судьба этого любимца славы XX столетия, столь непохожего на других любимцев славы, известных истории, – Рафаэля, Рубенса, Бернини, Тьеполо. Те, как бы ни различались между собой, имели то общее, что все представляли человека прекрасным, величавым, почти божественным существом. Пикассо же, кажется, делал обратное, не исключая и ранних периодов, когда писал нищих, слепцов, бродяг. Он и тогда не воспевал человека, а лишь сострадал ему. А потом как бы восстал на саму человеческую природу. «Я понял: я тоже против всего. Я тоже верю, что все – неведомо, что все – враждебно. Все! Не просто детали – женщины, младенцы, табак, игра, – а все вместе!»5
Почему же современный мир принял его и вознес?
Ответ, очевидно, надо искать, во-первых, в умонастроениях этого мира, во-вторых – в неповторимых особенностях самого искусства Пикассо, отвечающих сокровенным потребностям общества на роковом, кризисном этапе истории. И то и другое бесконечно сложно, если углубляться в детали процесса, но в общей форме достаточно очевидно, поскольку процесс касается всех и каждого; то, о чем мы все ежедневно читаем в газетах, – об угрозе человечеству и необходимости отстоять мир – имеет к этому прямое отношение.
Кризисная ситуация началась не сегодня, она зарождалась примерно тогда, когда Пикассо начинал свой путь в искусстве. Ее зарождение бессознательно ощущалось, вызывая смутное разочарование человека в самом себе и в том, чем он особенно гордился, – в своем разуме, то есть во всесилии разума. И как раз в то время, когда разум, казалось бы, достиг реальных триумфов и открыл перед обществом перспективы торжества над силами природы.
На поэтическом языке – хотя бы языке Александра Блока – это выражалось так «…B сердцах наших отклонилась стрелка сейсмографа <…>. Пока мы рассуждали о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе, – оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля»6. Подобное констатировалось и на языке социальной психологии. Приведу слова Эриха Фромма, одного из тех западных философов, которые с тревогой отмечали падение акций разума, стремились разобраться в причинах и вернуть ему престиж. «Гордость человека самим собой, проявившаяся в западной культуре последних столетий, оправдана. Он сумел создать условия для достойного и продуктивного существования своего рода, и теперь, впервые в истории, идея объединения всех людей и господства их над природой является не мечтой, а реальной возможностью. И тем не менее современный человек неудовлетворен и растерян. По мере того как растет его власть над материей, он чувствует себя все более беспомощным в индивидуальной и общественной жизни. Он утратил понимание самого себя: что такое человек, как ему следует жить, как освободить огромную человеческую энергию и пользоваться ею продуктивно, в своих собственных интересах. Кризис, переживаемый современным человеком, побуждает отойти от идей Просвещения, под знаком которых начался наш политический и экономический прогресс, усомниться в самом понятии прогресса, как в ребяческой иллюзии»7.
Можно сказать так (суммируя мысли Фромма): человек, еще сравнительно мало умевший и знавший, гордился собой (особенно в эпоху Возрождения); человек, очень многое узнавший и сделавший, проникается чем-то вроде самопрезрения. Он убеждается, что, поняв многое во внешнем мире, не понимает себя. Завоеванное им не приносит ему блага, ибо в нем самом таится саморазрушительное начало.
Это чувство стало испытываться в начале века уже не только на уровне великих умов Толстого и Достоевского, но в какой-то мере и на уровне «среднего человека». Он утратил самонадеянность. И когда Пикассо выступил со своими странными и угрюмыми картинами – «заклятиями злого духа», их приняли как должное, как воплощение собственных неясных страхов перед собой. Едва ли они кому-либо нравились в эстетическом плане. Но уже не было воли возмущаться «искажением человеческого облика». Для такого возмущения нужно или повышенное чувство достоинства, или слепое самодовольство. И то и другое шло на убыль.
Кризис самосознания продолжался на протяжении следующих десятилетий. Но это был неравномерный процесс. Войны и революции оказывали сильнейшее влияние на состояние умов. Победа пролетарской революции в России вернула веру в могущество разума, в способность человечества учредить разумный общественный строй и продуктивно использовать свою энергию. Такого подъема общественного оптимизма не было в капиталистическом мире, но и там происходили перепады в эмоциональной атмосфере – то сгущались, то разряжались «апокалиптические» настроения, овладевавшие людьми еще до Первой мировой войны. Еще тогда, в сравнительно спокойное время, начали тревожно меняться ритмы искусства, ломаться формы (искусство – чуткий сейсмограф). Потом предгрозовое томление духа разрешилось настоящей грозой. (Глобальные войны в наш век более, чем что-либо другое, дискредитируют разум.) Однако после войны, когда были выпущены, изжиты темные разрушительные инстинкты, люди как бы опомнились и ими вновь овладела жажда жизни, если уж не исполненной достоинства, то по крайней мере «нормальной», с весельем и солнцем, и, как мы видели, это отразилось, как в зеркале, в «неоклассическом» творчестве Пикассо.
Тот же феномен – после Второй мировой войны: еще более страшный взрыв безумия, самоуничтожения и затем еще большее отрезвление и воля к нравственному упорядочению, к тому, чтобы образумиться и начать новую жизнь. А через какое-то время разум обращается на подготовку такой радикальной самоубийственной акции, после которой возрождение станет невозможным.
Герберт Уэллс, все творчество которого было гимном человеческому интеллекту, на последнем году своей жизни, в 1946-м, опубликовал книгу «Разум при последнем издыхании», где отказывался от прежней своей веры в благую силу разума. Упоминая об этой книге, профессор Колумбийского университета Л. Триллинг говорит: «Однако война, приведшая Уэллса к такому печальному выводу на человечество в целом, имела, скорее, обратное воздействие. Поэтому в ближайшее десятилетие после выхода в свет книга Уэллса не была созвучна умственной жизни общества. Теперь же, в 70-х годах, многие, как и Уэллс в свое время, ощущают бессилие разума в современном мире»8.
То, что делал Пикассо на протяжении своего долгого творческого пути, было не просто «созвучно умственной жизни общества», но и предвосхищало ее меняющиеся состояния. В его искусстве записана, зашифрована в пластических иероглифах вся сложная, судорожная внутренняя история современного человека, стоящего то ли перед своим самоуничтожением, то ли перед грядущим обновлением и постоянно мысленно проигрывающего эту альтернативу. Пикассо не занимался предсказаниями и прогнозами, он действовал естественно, спонтанно: «не искал, а находил». Можно верить его признаниям, что он «не знает, почему это нарисовал», «не знает, как это сделал». Его многолетний друг и личный секретарь Сабартес говорил, что Пикассо обладал почти сверхъестественной «пропитанностью» всеми формами реальности: все, что он хоть однажды увидел – мужчин, женщин, детей, животных, растения, – он удерживал в себе навсегда, и ему не нужно было обращаться к модели рисуя. Но, прикасаясь карандашом к бумаге, он не знал заранее, что нарисует, как будто некая сила действовала через него, как через свой орган. Эта спонтанность, как бы стихийность творчества, изливающегося непрерывным потоком в течение многих десятилетий, сама по себе обладала магнетизмом, особого рода убедительностью, парализующей сопротивление. Какие бы химеры ни создавал порой Пикассо – мы их «принимаем», как если бы они были созданы самой природой: что же делать, если природа творит не только лебедей, оленей и розы, но и скорпионов, саранчу и чертополох.
Диапазон образов Пикассо – образов наших внутренних состояний – столь же широк от возвышенных и чистых до отталкивающих химерических. Если бы Пикассо только раздавал пощечины современному человечеству, только эпатировал, только творил монстров, он не был бы великим художником века, сколько бы изощренности и художественной изобретательности сюда ни вкладывалось. В XX столетии было и есть множество охотников пугать и запугивать, множество создателей чудовищных гримас, еще пострашнее пикассовских. Их тоже покорно приемлет современное общество, ибо вообще уже не чувствует себя вправе отвергать безумие в искусстве после того, как оно демонстрирует столько безумия в своих делах. Но успех этих апологетов безумия недолговечен и властителями дум они не становятся.
Пикассо силен не тем, что он «пугает». Его искусство дает импульс к самопознанию. Человечество, балансирующее на краю бездны, чтобы достичь обновления, должно познать себя беспощадно – в своих явных и скрытых потенциях. В творчестве Пикассо есть эта лютая беспощадность, но в нем есть и надежда. То и другое дано уже в «Гернике», предвосхитившей состояние мировой катастрофы (хотя в 1937 году еще далеко было до создания ядерного оружия), – там в адское подземелье врывается гений света. А на исходе войны Пикассо, после кошмарных фантомов, владевших им в предшествующие годы, сделал статую «Человека с ягненком» – символ доверия к жизни!
Искусство Пикассо, взятое в целом, в совокупности всех его «периодов», – это, помимо всего прочего, система значений, семантическая система, и поэтому его всемирная известность – известность такого рода, какая в новейшее время чаще выпадала на долю писателей и мыслителей, чем живописцев. Он «дает имена вещам», он «рассказывает», он создает сагу о современном человечестве. Более, чем кто-либо другой из художников XX века, он претворил пластическое искусство в особого рода речь (обращенную ко всем), где смысл закодирован в визуальных образах, в какой-то мере возродив древнюю традицию идеограммы. Правда, «иероглифы» Пикассо не имеют твердых условленных значений, они основаны на эмоциональных ассоциациях, художник оставляет широкое поле для фантазии зрителя в каждом отдельном случае. Тем не менее он хотел, чтобы зрители его идеограммы читали – пусть на свой лад. В совокупности они образуют новую мифологию, в которой есть опорные узловые мотивы, сквозные образы, целые тематические комплексы, постоянно и все вновь возникающие, хотя и в обновляемой стилевой трактовке. Например: бродячие циркачи; Арлекин; слепец с поводырем; коррида; мать и дитя; бодрствующий, созерцающий спящего; художник перед своей моделью; человек, оберегающий животное; Минотавр – «рогатый бог», одновременно свирепый и слабый, укрощаемый ребенком. В различных вариациях этих «притч» заложены глубокие раздумья над проблемами человеческой природы, человеческого бытия, разума и безумия, добра и зла. Причем добро и зло не поляризованы – их борьба идет внутри человека, и добро возникает из той же материи, что и зло, из той же глины, из которой человек слеплен.
Как сказал однажды об искусстве Пикассо поэт Поль Элюар – оно «то, что всем нужно». И это «нужное» улавливалось, ощущалось людьми, даже вне зависимости от меры их специального, профессионального понимания пластических ценностей, от степени развития эстетического вкуса. Слава искусства Пикассо, казалось бы, столь трудного и дерзкого, ширилась по концентрическим кругам, сделавшись в конечном итоге всемирной и всенародной.
Ссылки
1 Франс А. Боги жаждут. М.; Л., 1937. С. 190.
2 Brassai. Conversations avec Picasso. Paris, 1964.
3 Malraux Andre1. La te4te d'obsidienne. Paris, 1974. P. 17–18.
4 Ромен Ж. Творцы // Интернациональная литература. 1937. № 4.
5 Malraux Andre1. Op. cit. P. 18.
6 Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. C. 351.
7 Fromm E. Man for Himself. An Inquiry into the Psychology of Ethies. N.Y., Toronto. 1947. Р. 14.
8 Триллинг Л. Разум в современном мире // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании. Вып. 3. М., 1980. С. 137.
Карнавал вещей[32]1
Трагикомическая борьба куба и извилистой кривой – любимый мотив американского графика Сола Стейнберга – как нельзя лучше выражает тенденции вещной, бытовой среды современного западного мира. Стейнберг нашел для них емкий символ.
Предметное окружение человека – улицы, по которым он ходит, дома, где он живет, вещи, которыми он пользуется, моды и эталоны, которым он следует почти невольно, – в совокупности дает довольно точный портрет общества как оно есть. В каком-то смысле более точный, хотя менее глубокий, чем отражение этого же общества в произведениях большого искусства. Искусство создает многомерный портрет. Оно хранит историческую память и предвосхищает будущее; в искусстве сверх сегодняшнего состояния находят выражение идеалы, антиидеалы и сокровенные потенции общества; в искусстве высказывается неповторимая личность художника. Другие личности часто не узнают себя в зеркале искусства и не хотят его принимать. Но зеркало предметной среды достоверно в своем сходстве с массовым оригиналом. «Материальное окружение человека, созданное его руками, – наиболее характерная и самая достоверная из всех человеческих летописей. Люди строят, и вы видите, что они собой представляют. То, что они строят, может не говорить всего о них, но то, что оно говорит, оно говорит верно»2.
Казалось бы, супериндустриальному обществу потребления, урбанизированному миру со сверхубыстренными темпами развития подобает экономичный функциональный стиль материального окружения. Ничего лишнего, мешающего, избыточного: «функция – конструкция – форма». Формула эта кажется простой и красивой: в сущности, она не расходится с определениями красоты, так или иначе включающими в себя представление о целесообразности и согласованности. Казалось бы, эпоха новых источников энергии, мыслящих машин, синтетических материалов и космических исследований способна дать новую жизнь формуле красоты, создать новую эстетику жизненного уклада – ясную, организованную, совпадающую с идеалом максимального удобства, рационального использования каяодой драгоценной минуты деятельного бытия.
И действительно: функциональная эстетика создавалась, у нее были свои энтузиасты и свои талантливейшие практики; временами складывалось впечатление, что она уже одержала победу, определила в главных чертах современный стиль и остается только совершенствовать ее дальше.
Ее первый подъем приходился на 1920-е годы. «Баухауз» в Германии стал на Западе очагом конструктивизма. Магистральную его линию намечали, теоретически и практически, лучшие архитекторы века: Корбюзье, Гропиус, Мис ван дер Роэ.
Второй расцвет функционализма, уже на более высокой технической основе, начался после Второй мировой войны, в конце 1940-х – 1950-х годах, и продолжался в 1960-х, сделав широко распространенной профессию дизайнера – художественного конструктора, инженера и художника в одном лице и в полной слиянности этих видов творчества. Дизайн был призван побратать искусство и технику, искусство и быт, а также Красоту и Разум; в этом смысле на него возлагали большие, даже романтические надежды.
Функциональное направление 1950-х годов не было прямым продолжением конструктивизма 1920-х. Во-первых, «обществом изобилия» не принимался более ригоризм раннего конструктивизма, его чрезмерная пуританская педантичность и тенденция вообще свести мир вещей к необходимому минимуму, «освободиться от вещей», очиститься от наслоений быта.
Во-вторых, оказалось, что прежний конструктивизм не учитывал в достаточной мере динамики стремительно меняющейся жизни, а следовательно, и подвижности функций, взятых за основу при конструировании вещей. Функция предмета мыслилась стабильной, модель мира, создаваемая вещами, выглядела статичной, формы не предусматривали возможности их варьирования. Например, тип здания, разработанный в 1920-х годах архитектором Мис ван дер Роэ, – застекленный параллелепипед на стальном каркасе – с трудом поддавался вариационным изменениям. Отчасти причиной была недостаточная техническая база раннего конструктивизма, отчасти же – иной взгляд на вещи. Первые энтузиасты конструктивизма были уверены: будущее будет вот таким! Современные творцы предметного мира, несмотря на появление футурологии (чьи прогнозы разительно разноречивы), ни в чем не уверены, кроме одного: все быстро меняется – техника, материалы, вкусы, образ жизни. Функционализм должен быть динамическим функционализмом.
Но в результате моральный износ вещей далеко опережает материальный. Каждая марка автомобиля, холодильника, радиоприемника, пылесоса, пишущей машинки и даже детской игрушки безостановочно подвергается усовершенствованиям: то, что сегодня является последним словом, через два года оказывается начисто устаревшим. Гигантские кладбища безвременно умерших вещей заполняют землю, современная техническая цивилизация становится «цивилизацией выбрасывания», по крылатому выражению социолога Олвина Тоффлера.
Уже одно это обстоятельство изнутри подрывает идею функционализма, ставя лицом к лицу с парадоксом. Непрерывные обновления конструкции вещей диктуются рациональными поисками наибольшего удобства, а вместе с тем они создают такое грозное неудобство, как захламление земли выброшенными вещами. Принцип динамического функционализма попадает в собственную ловушку. Люди перестают понимать, в чем же состоят их истинные удобства и целесообразность окружающих их вещей. Получается, что одни целесообразности противоречат другим. Автомобиль как средство передвижения целесообразен, но в больших городах и их окрестностях автомобили движутся черепашьим шагом, так как их слишком много. Еще несколько лет тому назад западные промышленные фирмы гордились созданными ими пластмассовыми упаковками товаров – удобными, легкими, изящными, предохраняющими изделия от порчи. Теперь дизайнеры работают над проблемой «саморазрушающейся упаковки», так как выброшенные пластикаты внедряются в почву непроницаемым слоем. Как видно, примитивная бумага в качестве обертки была едва ли не целесообразнее – ее можно было просто сжечь.
Не только упаковки, многие обиходные вещи должны стать «саморазрушающимися» – это одна из насущных современных задач. В понятие функции вещи, таким образом, включается ее быстрое исчезновение. Очевидно, это требует и перестройки каких-то очень укорененных психических стереотипов: ведь забота о долговечности дела своих рук всегда была свойственна человеку, создавал ли он дом, статую, кувшин или стул. И если целесообразные вещи мыслятся как послушные, исполнительные слуги – легко ли убивать верных слуг?
Может быть, такого рода противоречия устранимы в ходе технического прогресса, но функциональная эстетика сталкивается и с другими. Архитектор ФЛ. Райт, один из ее великих творцов, выдвинул идею «органичной архитектуры», «где природа материалов, природа назначения, природа всего осуществляемого становится ясной, выступая как необходимость»3. Прообразом органичной архитектуры для Райта было национальное японское жилище с его синтоистской заповедью «Будь чистым!», «простой идеал чистоты», отвращение к излишеству, загроможденности: «чистые линии – чистые поверхности – чистое назначение». В соответствии со своими принципами Райт строил жилые дома, но это были главным образом дома-виллы, чудесные загородные виллы, низкие, с «параллельными земле плоскостями», расположенные среди природы, в гармонии с ландшафтом, полные света и воздуха, с интерьером, открытым во внешнее пространство. Такой тип построек вытекал из «человеческого назначения» здания, как оно мыслилось
Райту. Между тем такое назначение – привилегия избранных; оно не может быть массовым и отвечать потребностям огромного, все время увеличивающегося населения городов. Города будущего, какими бы их себе ни представляли, – это неизбежно города, растущие в высоту, ибо «земля не резиновая».
Райт – противник урбанизации, создатель проекта «исчезающего города» с рассредоточенным населением, – проекта, очевидно, утопического, если принять его за всеобщий эталон.
Постройки Райта целесообразны для «человека вообще», взятого отвлеченно, и нецелесообразны для конкретного социального человека. Постройки «техницистской школы», идущей от Мис ван дер Роэ, могут вполне соответствовать деловому утилитарному назначению здания, но быть нецелесообразными, если полагать целью человеческую личность, а не одностороннего функционера.
Но какова современная личность «постиндустриального» капиталистического общества XX века и что ей требуется? Где ее действительные потребности, где мнимые? Где преходящие, где устойчивые? Как отделить потребности, рожденные духовным богатством, от снобистской избыточности?
Понятие «целесообразность вещей» оказывается слишком непростым (если не сводить его к элементарнейшей утилитарности), поскольку зыбко представление о «цели». Мало того, что целевое назначение, функция предмета быстро видоизменяется со временем, она не одна и та же и в пределах настоящего момента. Она различна для имущих и неимущих, для представителей разных «субкультур» – городских, сельских, возрастных, национальных, территориальных… У социальных групп и подгрупп разные системы ценностей, а значит, разные взгляды на цели вещей. Если включать в понятие функции вещи ее художественную, эстетическую функцию – она тем более неоднозначна. «Субкультуры» дробятся и множатся. Тоффлер пишет: «Социальная картина технически развитых обществ отнюдь не отличается унылым однообразием – она прямо-таки пестрит колоритными группками: хиппи и теософов, фанатиков “летающих блюдец”, любителей-нырялыциков, вегетарианцев, культуристов, черных мусульман и т. д. <…> Общество буквально раскалывается на мелкие части»4.
Можно предположить, что коренные принципы функционализма и «чистоты» предметной среды все же выживут в этом далеком от чистоты атомизирующемся мире. Вернее сказать, когда-нибудь воскреснут из пепла. Функционализм может возродиться на иной ступени, преодолев свою жесткость, достигнув интегрирующей «гибкой модели», приспособленной к вариациям. По-видимому, современная техника (включая только начинающую развиваться бионику) обещает многое в этом смысле. В архитектуре и градостроительстве уже создаются экспериментальные образцы динамических и гибких структур. Ведь города не могут просто выбрасываться, как устаревшие приборы, для них насущно необходимо «не устаревать» по крайней мере в течение жизни нескольких поколений. Новые пластичные и легкие материалы, новые разборные конструкции, позволяющие менять конфигурацию, варьировать интерьеры соответственно разнообразным и меняющимся потребностям, не утопия. Архитектура всегда задавала тон прочим предметам – может быть, так произойдет и в будущем? Тогда формула «функция – конструкция – форма» восстановит свое значение, но только исходный компонент – функция – будет осмыслен в ее диалектике.
Вероятно, это возможно при условии обновления еще более важного компонента – социальной структуры общества. Только при разумном общественном устройстве возможна интеграция разных субкультур в каком-то многогранном, но едином в своей многогранности понятии цели.
Пока этого нет. Стихия влечет в другую сторону. Понятие общей цели обесценено, от него остается абстрактная сухая схема – горемычный «куб» Стейнберга. Вкрадчивая иррациональная «кривая» атакует куб со всех сторон, обволакивает его своими извивами.
Конечно, элементарная утилитарная целесообразность остается требованием, предъявляемым к работающим вещам, соответственное улучшение их конструкции продолжает быть предметом инженерных поисков. Но вот с формой изделий обстоит иначе.
Выясняется, что целесообразность вещи (на том абстрактном усредненном уровне, на каком она только и может сейчас рассматриваться) совсем не требует эстетически значимой формы и не порождает ее. Для удовлетворения утилитарных целей достаточно элементарных форм. Обыкновенная кастрюля с двумя ручками вполне удовлетворительно выполняет свое назначение. «Дома-коробки» при всей их неприглядности вполне подходят для жилищных нужд среднего горожанина. Эстетическое обогащение формы осуществляется помимо функции и конструкции, а если так, то оно может идти самыми прихотливыми путями. В этом пункте наступает известное разочарование в перспективах дизайна, предполагающего взаимообусловленность конструктивных и эстетических качеств.
Впрочем, от переоценки возможностей дизайна уже давно предостерегали проницательные люди. Предостерегали сами же дизайнеры. Известный американский архитектор и дизайнер Д. Нельсон еще в 1950-х годах писал: «Художественное конструирование… – это профессия, ставшая мифом, не успев достигнуть зрелости <…>. Один из видных представителей дизайна заявил в печати, что заслуга художника-конструктора перед обществом заключается прежде всего в создаваемых им удобствах и комфорте. По поводу этой мысли я могу сказать, во-первых, что она неправильна, а во-вторых, что, если бы она и была правильной, это не имело бы никакого значения». Почему же? Д. Нельсон отвечает на это с достаточной ясностью. Под удобствами и комфортом он понимает «все, что упрощает жизнь и тем самым высвобождает (теоретически) время и энергию для других занятий». Бытовые электроприборы – холодильники, тостеры, радиаторы и пр. – удобны и облегчают жизнь. Но изобретены-то они вовсе не художниками-конструкторами, а просто конструкторами. А в ход пущены бизнесменами. «Можно найти примеры вещей, сконструированных дизайнерами, они куда менее значительны: секретарские стулья, не рвущие нейлоновых чулок; разборчивые цифры на приборных досках или диске телефона; успокаивающая взгляд окраска пишущих машинок; удобные ручки чемоданов и т. п. Я не пытаюсь умалить значение нашей вполне полезной работы, я только говорю, что не нахожу доказательств, подкрепляющих претензии на серьезный вклад в тот род деятельности, который должен облегчать жизнь людей». «Если хороший дизайн что-то облегчает или делает более комфортабельным, то лишь по чистой случайности: ту же роль может сыграть и нередко играет очень плохой дизайн». Или даже вовсе не дизайн.
Предположим далее, что «хороший дизайн» действительно создал отличную, комфортабельную обстановку жизни: разве от этого «жизнь каким-то образом стала бы вдруг полной и прекрасной»? Нельсон в это не верит и предостерегает от такой иллюзии. «Альберт Эйнштейн жил (судя по фотографиям) в унылом, скудно меблированном домишке в одном из переулков Принстона. Можно ли представить себе, что современный дизайн сколько-нибудь обогатил бы или углубил жизнь этого человека? А Пикассо? Пикассо мог бы в любой момент пользоваться услугами лучшего в мире архитектора. У него было три дома, и ни один из них нельзя назвать хорошим или современным. Брак жил в простой нормандской избе. Матисс много лет жил в номерах заурядной гостиницы. А ведь это все необычайно восприимчивые люди, полностью отдающие себе отчет в происходящем. Вряд ли можно обвинить их в том, что они не понимают значения хорошего дизайна. И все же как потребители они его игнорируют»5.
Так в чем же Нельсон, сам выдающийся дизайнер, видит значение этой профессии, которую он так скептически оценивает? В том же, в чем значение работы художника: в «способности человеческого духа выходить за поставленные ему пределы <…>. Он (дизайн. – Н.Д.) обогащает своего создателя творческим опытом и может точно также обогатить зрителя или потребителя, достаточно подготовленного к восприятию воплощенного в проекте замысла». Дизайнер – тот же художник, только работающий не в одиночку, а «вставший в общий строй», и его деятельность теснее связана с техническими приемами, чем у других художников. Она связана и со сбытом, что в значительной мере сковывает творчество дизайнера.
Тут трезво отброшены максималистские претензии дизайна – сделать жизнь прекрасной или хотя бы комфортабельной. Условия комфорта создаются помимо дизайна. Духовные богатства обретаются помимо дизайна. «Цель хорошего дизайна – украсить существование, а не подменить его собой»6.
Украшением существования испокон века занималось декоративное искусство. По логике Нельсона, современный дизайн – его своеобразная разновидность.
Эта логика не так уж ошибочна. Декоративность и полезность, функция и форма, эстетика и инженерия вновь неудержимо расслаиваются: им не удается существовать в синтезе. Современные западные дизайнеры или открещиваются от какой-либо общности с искусством (как Томас Мальдонадо – лидер ульмской школы дизайна), или постепенно возвращаются в лоно декоративного искусства. И последняя тенденция доминирует.
От дизайна отпочковывается стайлинг, мало-помалу подменяющий собой дизайн. Стайлинг означает формообразование во имя стиля, поиски художественного облика вещей независимо от их назначения и конструкции (или зависимость кажущаяся). То или иное удачное и имевшее успех решение предмета принимается как эталон формообразования; его линии, силуэт, характер распространяются на другие изделия, входят (или вводятся) в моду. Так, попеременно господствовали и считались «самыми современными» прямоугольные формы и обтекаемые, формы слитные и расчлененные, симметричные и асимметричные, плоскостные и скульптурные и т. д. В своих исходных образцах они обычно были практически оправданы, но потом приобретали чисто визуальное значение. Обтекаемые формы ракеты имели конструктивный и функциональный смысл. Но зачем нужны обтекаемые формы детской коляске? Однако и детские коляски выглядели обтекаемыми маленькими ракетами.
Сам по себе этот процесс стилизации естествен: так было и в прежние эпохи. Всегда какой-то лидирующий предмет (обычно архитектура) определял облик окружающей среды – бытовых предметов, одежды. В Древней Греции свободно падающие складки пеплоса гармонировали с каннелюрами дорийских колонн. Во времена поздней готики мотивы шпилей, вимпергов, стрельчатых арок переносились и на утварь; головные уборы принимали форму шпиля. Головные уборы персов – тюрбаны – напоминали о куполах мечетей. Все это являлось стихийным стайлингом. Было бы нелепым педантизмом ограничивать каждую вещь ее утилитарным назначением и требовать от ее внешнего вида исключительно соответствия назначению и ничего больше. Такие аскетические требования со стороны «крайних» конструктивистов оказывались нежизненными.
В принципе против стайлинга ничего возразить нельзя, даже с позиций разумной функциональной эстетики. Вопрос в том, какая стилевая равнодействующая складывается в результате, о чем говорит художественный облик вещей. Если он, пусть визуально и символически, говорит об идеалах ясности, конструктивности, правдивости выражения, экономичности, удобстве и пр., тогда мы вправе заключить, что таков, в своих главных потенциях, стиль современной жизни, современной эпохи.
Но язык нынешних вещей говорит о другом.
Правда, еще не так давно могло показаться, что именно об этом. Тем более если иметь в виду тип выдающихся архитектурных сооружений (обширные пространства, застекленные стены, свободный план, открытость), а также автомашин, новейших станков, электроприборов (впечатление легкости, компактности, гладкие хромированные поверхности, элегантная простота); сразу приходит на ум тип жилого интерьера, сформировавшийся примерно в 1940-1950-х годах. Он выглядел как полемическая противоположность интерьеру конца XIX века, перегруженному лишними и громоздкими вещами, с пуфиками, шишечками, подушечками, подзорами, узорами. Интерьер середины XX века – легкая, удобная, малогабаритная мебель, никаких шишечек, секционные полки, встроенные шкафы, окна во всю стену: кажется, вот он, принцип чистоты в действии. И если тут появлялся камин, сложенный из больших камней шероховатой фактуры, а на низенький сервант ставилась какая-нибудь причудливая загогулина или экзотическая фигурка, то и это выглядело вполне уместно, оживляя, приятно контрастируя со строгими линиями, внося разнообразие, предохраняя интерьер от чрезмерной стерильности. Шероховатые камни и гротескные фигурки не нарушали лаконичного стиля жилища, а подчеркивали его.
Но незаметно они перешли в наступление, мало что оставив от элегантного лаконизма. И сами «лаконичные вещи» стали претерпевать странные метаморфозы, строя гримасы и как бы издеваясь над своей пресловутой целесообразностью. Максимально удобный стул превратился в пародийно удобный – с сиденьем по форме ягодиц. Появился двойной стул «для влюбленных» и т. д.
Функциональный стиль, если бы он и удержался дольше, очевидно, не мог бы стать «большим стилем», потому что, в сущности, характера времени не выражал, хотя, по-видимому, отвечал его техническому уровню, деловому образу жизни. Но не отвечал социально-психологическому состоянию капиталистического общества. С самого начала в нем было что-то «не то». Недаром же Нельсон заметил, что Пикассо, Брак, Матисс остались полностью равнодушны к прелестям и удобствам «нейлонового рая», вроде как бы и не заметили их, отлично без них обходились. Средний же потребитель оценил их постольку, поскольку они были в моде, а не потому, что они облегчали жизнь. В конечном счете они не так уж и облегчали: перманентная погоня за самой последней – самой удобной – моделью автомашины, мебели, холодильника, светильника отнимает больше времени и сил, чем беззаботное сожительство со старыми неудобными вещами.
Выражение «нейлоновый рай» взято из романа Эльзы Триоле «Розы в кредит». Действие в нем происходит в начале 1950-х годов. Безукоризненно красивая Мартина Донель питает страсть к безукоризненным современным вещам. Ее, выросшую в грязной хижине на опушке леса, неодолимо влечет все новое, чистое, отполированное, пластмассовое. «Табуреты из металлических трубок, серванты невероятной вместительности, резиновые коврики в ванной, чашечки для утреннего завтрака, эластичный пружинный матрас» – фетиши Мартины: она заворожена ими, как сорока блестящими шариками, упивается ими, как наркотиками. Эти гладкие, глянцевые вещи для нее – неосознанное убежище от «метафизических страхов», тайно владеющих ее темной лесной душой. Но вещи предали Мартину – отняли у нее молодость, любимого мужа, опротивели, обернулись миражом и привели обратно в хижину с крысами.
В этом интересном произведении многое символизировано и предвосхищено очень верно. Прошло немного лет – и «общество потребителей» стало охладевать к иллюзорному «нейлоновому раю». Не к вещам вообще, но к вещам, обманывающим своей якобы простотой, якобы удобством, якобы целесообразностью.
Еще в 1964 году выставки английского дизайна проходили под лозунгом: «Художественное конструирование – это рациональность, воплощенная в зримую форму». В 1970 году английский журнал «Дизайн» публикует статью, где говорится, что направление дизайна должно несомненно соответствовать центральной теме современности – растущему вниманию к личности и выражению индивидуальности в контексте общества. Если это означает больше декора, больше цвета, больше бойкости, более тесную связь между забавой и повседневной жизнью, у дизайна нет никакого основания навязывать собственную, более ограниченную модель.
«Растущее внимание к личности» – звучит как будто бы хорошо, но опять возникает все тот же вопрос: какова эта личность, почему ее пленяют «забавы» и «бойкость»? И какого рода «забавы»?
Как бы ни было, функциональный стиль очевидным образом увял и все чаще произносится слово «необарокко». То, что условно выражается этим термином, возникло в результате «обратной связи», в большой мере пришло от потребителя. Функциональный стиль был, скорее, плодом конструкторской, дизайнерской мысли: он создавался и затем предлагался, отчасти даже навязывался – и его принимали, пока он прельщал новизной. «Необарокко» возникало более стихийно.
Начиналось с ностальгии по традициям. Царство стекла, пластмассы, нейлона, ясных форм утомляло именно тем, чем сначала импонировало, – стерильностью новизны, отрывом от старого. В новом с иголочки, построенном по единому продуманному плану городе Бразилиа жители не спешили поселяться, хотя отдавали должное его ослепительной современности.
Старинные вещи или стилизованные под старину, скомбинированную с теми же пластмассами, все более внедрялись в современный интерьер. В повести Жоржа Перека «Вещи», имеющей подзаголовок «Повесть шестидесятых годов», молодые супруги рисуют в своем воображении, до мельчайших деталей, обстановку, в которой хотели бы жить, если бы были богаты. Они такие же фетишисты вещей, как Мартина Донель, но образ («имидж») идеального жилья в их представлении другой – ведь уже прошло 10–15 лет. Мартина не потерпела бы «широкого потрепанного дивана, обитого черной кожей», и «старинной не слишком удобной лампы под зеленым абажуром с козырьком», пренебрегла бы старыми гравюрами и морскими картами на стенах, восстала бы против бумаг, разбросанных и наваленных в живописном беспорядке. В «имидже» героев Перека все это предусмотрено: он построен на изощренном смешении старины и новизны, современного комфорта с видимостью небрежения комфортом, старинной ленивой роскоши («в полутьме поблескивает полированное дерево, дорогой тяжелый шелк, граненый хрусталь, начищенная медь») с артибутами жизни современного занятого интеллектуала («стены с полу до потолка уставлены книгами и журналами; нарушая однообразие книжных переплетов и брошюр, то тут, то там разбросано несколько гравюр, рисунков или фотографий: “Святой Иероним” Антонелло да Мессины…» и т. д.).
Этот «имидж», скорее, ориентирован на мужа Мартины, Даниеля, увлеченного наукой и презиравшего «пластмассовые мечты» Мартины, но разница в том, что Даниелю было действительно неважно, какие вещи его окружают, а здесь это только имитируется. Запрограммированный «потрепанный диван» не потому потрепан, что о новом не позаботились, а потому, что в некоторой доле потрепанности, небрежности, привязанности к старому есть своя «стильность» – согласно поветриям 1970-х годов. Также как в пристрастии к старым гравюрам, морским картам и глобусам.
Из образа вещей молодые супруги дедуцируют образ жизни, который бы они вели, если бы обладали этими вещами. «Дома у них редко было бы прибрано, но именно беспорядок и стал бы главной прелестью их квартиры. Они не намерены наводить у себя лоск они будут просто жить <„>. Они смогли бы забыть о своем богатстве, не кичиться им <…>. Они просто пользовались бы им и сумели бы им насладиться. Они любили бы гулять, бродить, приглядываться, выбирать. Они любили бы жизнь. Их жизнь превратилась бы в искусство жить».
(«Искусство жить» – так именно называется один из альбомов карикатур Стейнберга.)
Молодые супруги, конечно, лгут себе: они бы в любом случае остались слугами своих вещей, ибо они плоть от плоти общества потребления; и заботы о переоборудовании своего жилья согласно последней модели поглощали бы их полностью. В этом и состояло бы их искусство жить.
Но в данном случае нас интересует другое. «Последняя модель», принятая героями Перека, отрицает «лоск», считает дурным тоном чрезмерный порядок, чуждается холодноватой простоты, поощряет вольность и прихотливость вкуса, личного выбора. Она предполагает в качестве прообраза человека, который тяготится стандартом и хочет жить, как ему хочется. (Другое дело, что стремление быть вне стандарта превращается в очередной стандарт, стандарт нестандартности.)
На протяжении нескольких лет подразумеваемая «современная личность» в поисках того, что ей, собственно, хочется, перерыла все архивы мировой культуры. Африканские божки, тамтамы, лубочные картинки, мусульманские молитвенные коврики, японские сады, бюро красного дерева в стиле Второй империи, пуфы в духе рококо, вьющиеся линии либерти… Взбунтовавшийся против «целесообразности» вкус обнаружил большую широту диапазона – от неолита до сецессии. Конечно, ни неолит, ни примитивы, ни сецессия не воспроизводятся в их прежнем виде, они переиначиваются очень вольно: это уже неонеолит, неолубок, неосецессия; их пародийная стилизация, а то и причудливый букет из них. Букет, который при всей своей пестроте, наверно, больше выражает характер нынешнего культурного этапа, чем строгий функционализм.
Обилие всевозможных «нео» наводит на мысль об эклектике, а стилизация привычно связывается с представлением об упадке культуры, которая, не в силах выработать свое, прибегает к заимствованиям. Однако все обстоит не так просто. Калейдоскопичность современных форм имеет иную природу, чем эклектика, царившая в архитектуре и прикладном искусстве второй половины XIX века.
И тогда были неоготика, неоренессанс, неорококо, стиль рюсс и пр. Но усвоение наследия происходило с тяжеловесной серьезностью: так же, как и в неоклассицизме, исходили из предположения, что тот или иной стиль прошлого – наилучший, наикрасивейший, в нем уже все дано, остается только черпать и применять. Или черпать красивое из разных стилей и соединять вместе ради уюта, роскоши, престижности. Примерно так, как чеховская «попрыгунья» обставляла свою квартиру. Столовую она оформила «в русском вкусе», повесив лапти и серпы, оклеив стены лубочными картинками, а в гостиной «устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий». Здесь есть простодушное стремление к «красивому», взятому отовсюду и компенсирующему нехватку современных принципов формообразования. Это еще не стилизация.
В стилизации же есть определенная отстраненность от стилизуемого и остраненность его. Смотрят как бы со стороны, издали – не «присваивают» и не имитируют чуждый стиль, а интерпретируют его театрализованно, маскарадно, разыгрывают на современной сцене (постановка «Принцессы Турандот» – образец стилизации). Подразумевается наличие «современной сцены», то есть современной среды, уклада жизни иного, чем тот, которым был порожден «разыгрываемый» стиль. Нескрываемое противоречие между ними производит эффект, родственный комическому: в стилизации всегда присутствует элемент шутливости и иронии; стилизация по существу близка пародии.
Стилизация не призвана заполнить вакуум современных форм – она означает или то, что эти современные формы уже существуют, или поиски их. Первым стилизаторским направлением был модерн начала века; он и не скрывал причудливой мешанины форм, входящих в его состав, но вместе с тем, играя ими, он обнаруживал волю быть в конечном счете самим собой, ни на кого не похожим. Архитектурный функциональный стиль зарождался в лоне модерна.
Сегодняшний вакхический разгул стилизаций имеет явно карнавальную, даже аттракционную природу. Это Диснейленд или луна-парк, расширивший свои границы, распространенный на быт. При всей его экстравагантности он не перерождается в простую эклектику и даже обладает своеобразной гармонией, поскольку некий принцип «современных форм» все же выработан XX веком. Он выработан той же функциональной эстетикой, выработан современной техникой, оправдан потребностями технического и научного прогресса, экономикой. Совсем похоронить его невозможно. Где-то внутри он держится наподобие каркаса, какие бы разноцветные покрывала на него ни навешивались. Кривая оплетает куб, проделывает в нем дыры, но и сама в нем нуждается.
Самые разнообразные ретроспективы – «национальный романтизм», «лавка древностей», «бабушкин сундук», «стиль кочевников», «архаика», «дикий запад», «цыганщина», «барокко» – проникают поочередно и вместе в одежду, украшения, прически, посуду, мебель, в оформление кабачков, кафе, увеселительных заведений, жилых интерьеров, но всюду монтируются с приметами современного уклада, с новыми материалами, техническими достижениями, всюду прочитываются в контексте современности, начинают звучать в ее тональности, ритмах – и тем отчетливее выступает их «несерьезный», карнавальный характер: «хромированный чиппендейл и синтетическое рококо».
Однако ведь и карнавал имеет свой смысл, и весьма глубокий. М. Бахтин считает, что «большим переворотам даже в области науки всегда предшествует, подготовляя их, известная карнавализация сознания»7. Вероятно, это правда.
Есть, наверно, более глубокие причины увлечения стилизациями, чем капризная пресыщенность снобистского вкуса и усталость от рационализма. Быть может, играет роль то, что называют «глобальным мироощущением». Человеку середины XX века более, чем когда-либо, доступна история, открыто прошлое – раскопки, исторические исследования, зрелища прошлого искусства. Он вступает с историей в почти ежедневные контакты. Еще теснее его контакты благодаря средствам сообщения и связи с иными культурами, существующими сейчас, в том же XX веке, но друг на друга непохожими, основанными на разных традициях, разном миропонимании, разных философских и нравственных предпосылках и разном укладе жизни. Впервые европейские народы так непосредственно соприкасаются с мирами Азии и Африки, приобщаются к их культуре. Народы становятся сопричастны друг другу – хотя бы уже в силу мировых, единых для всей планеты проблем. Но это общение и сопричастность носят еще внешний характер. Разделяющие пространства земли и океанов преодолеваются теперь без труда, но нелегко преодолимы социальные и духовные пространства.
Приближенное и вместе с тем далекое, увиденное и непонятое, услышанное без должного вслушивания воспринимается остраненно, стилизованно, как некая причуда, как гротеск. И гротескно интерпретируется.
Также с историческим прошлым. Его образы обступают современного человека, он должен справиться с ними, разрешить накопившиеся противоречия и загадки, ибо все это – он сам: он генетически связан со всей предшествующей историей, носит ее в себе, обременен ею, она живет в его крови, в его подсознании. Но ему не под силу синтезировать и достойно «увенчать» историю: оказывается, он мало что решил и основательно запутался. Призраки прошлого его пока что только дразнят, провоцируя на бесшабашный «карнавал времен», где они выступают как пародийные олицетворения его собственных «комплексов», его собственных нерешенных проблем. Как на маскараде, к вам подходят Пьеро, средневековый астролог, Мефистофель, они вам что-то говорят и даже приглашают на танец – может быть, это ваши хорошие знакомые? Но вы не знаете, кто скрывается под маской.
Как на маскараде, возникают удивительные сочетания. Некоторым группам западной «бунтующей молодежи» ничего не стоило запросто объединить, написав на своем знамени, такие несоединимые имена, как Маркс, Христос и Мао Цзэдун.
Когда такие вещи делаются всерьез, они непродуктивны. Они могут быть лишь предметом для насмешки со стороны: смех над ними в данном случае есть показатель их непродуктивности, несостоятельности.
Аналогично непродуктивна эклектика, осуществляемая всерьез, без тени иронии и самоиронии серьезная для себя, она смешна со стороны, как смешон человек, делающий несуразные поступки и сам этого не сознающий. Другого порядка смех, другая эмоциональная атмосфера возникает, когда смех запрограммирован в самом замысле, когда сочетания открыто гротескны и своей шоковой гротескностью или карнавальным лукавством говорят о каких-то еще не познанных возможностях.
В бурлящем, довольно-таки мутном растворе современной западной культуры и «антикультуры» мы встречаем всякое.
Характерно стремление примерить на себя прошлое и незнакомое, вообразив его настоящим и близким, смешав приметы того и другого. Так, с одной стороны, ставят «Гамлета» «в джинсах», а с другой – обставляют собственное жилье мебелью в стиле «чиппендейл».
Примеры блистательных иронических стилизаций, загадочной переклички культур можно найти в фильмах Федерико Феллини. В «Сладкой жизни» он сопоставил и сблизил современность и римское барокко, в «Джульетте и духах» – современность и стиль «либерти» (английская разновидность модерна). Он воспользовался им более чем свободно – вещи, мотивы декора, детали интерьеров и костюмов в духе «либерти» преображены фантазией и слиты с современной обстановкой в магическое зрелище. Через него Феллини дал почувствовать и сокровенный смысл нынешней тяги к стилизации.
Стилизация модерна – дело тем более тонкое, что модерн, как уже говорилось, и сам был стилизаторским течением. Обри Бердслей, в свое время необычайно популярный художник, оказавший решающее влияние на формирование «либерти», претворил в своем изысканном трафизме и наследие Блейка, и прерафаэлитов, и японской гравюры, сообщив им особую пряность. В международном модерне стилизовались, «обыгрывались» мотивы греческой орнаментики, рококо, готика, элементы национального народного декора. И когда этот стилизаторский стиль, в свою очередь, подвергается стилизации в «нейлоновом веке», то сквозь его призму совершаются наплывы разнообразных исторических ассоциаций.
В фильме «Джульетта и духи» модерн, собственно, и играет роль призмы – стеклянной, нейлоновой, тюлевой, зеркальной, цветистой, лживой, через которую Джульетта созерцает мир: и то, что ее непосредственно и реально окружает, и мир ее души, и отдаленные исторические образы. Настойчиво проходит в фильме мотив зеркал и вуалей – отражений и просвечиваний, символов неподлинности. В доме Сьюзи стеклянные полы, прозрачные занавесы, витражи с изображением павлина – тщеславной птицы. Громадное, устрашающее «ложе любви» отражается в зеркале на потолке. Сама Сьюзи появляется в облаках длинных вуалей. Мать Джульетты прикрывает свое чудовищно красивое лицо вуалью с мушками. Все эти переливающиеся покрывала Майи манят и прельщают – но манят к чудовищному, прельщают чудовищным, которое глядит сквозь них откровенно и бесстыдно. Приметы стиля модерн сильно гипертрофированы: невероятные шляпы, разрезы платьев, изгибы страшнее и смешнее, чем в настоящем модерне, главное – откровеннее. Модерн предпочитал нежные, блеклые краски; здесь краски яркие, пронзительные, как в теперешних журналах с цветными фотографиями. В модерне эротическая символика была стыдливо зашифрована: томные кувшинки, водоросли, извивы, длинные русалочьи волосы, шлейфы принцесс выглядели меланхолически-сентиментально. Здесь никаких сентиментов: каждая деталь прямо рассчитала на определенный грубый эффект и не таит этого. Еще один символ, часто встречающийся в декоре модерна, – изображение бабочек и стрекоз. Бабочки порхают над лилиями, узор стекловидных крыльев стрекозы стилизуется в витражах. Это можно воспринимать как символику легкости и прихотливости, но также и как намек на злое сладострастие насекомых. Именно в этом последнем смысле мотив насекомого обыгран в фильме Феллини: на голой спине Сьюзи нарисована черная бабочка. Нечто стрекозиное есть в структуре прозрачных поверхностей, нечто паучье – в пульсирующих ритмах; подруга Джульетты в ее странном наряде напоминает ночную бабочку, трепещущую и слепо бьющую мучнистыми белыми крыльями.
Реминисценции модерна понадобились режиссеру как визуальный язык кошмаров и подсознательных «комплексов» современного «благополучного» обывателя. Но эти реминисценции в сочетании с нынешними комиксами и с невинными образами детских фантазий и снов образуют карнавальное зрелище – вопреки и назло давящей мрачности. Тут много юмора – и юмор спасает, снимает страх. Как говорит Альберто Моравиа, Джульетта подобна «Алисе в стране чудес», и отношения ее с чудовищами из подсознания и повседневной жизни «юмористичны, с оттенками удивления, любопытства и ханжества»8.
Простую душу Джульетты окружают веселящиеся призраки, пришедшие не только из эпохи модерна. То ли наяву, то ли во сне она встречается с персонажами из различных эпох и, так сказать, «культурных слоев»: ей является античный юноша необыкновенной красоты, словно ожившая статуя Антиноя; меланхолический испанец – поклонник боя быков и утонченной поэзии смерти; индийский йог; какой-то припадочный русский Алеша; отцы-иезуиты из католического колледжа и еще многие. Все эти образы пародийны и даже карикатурны: чего стоит один Алеша, явно карикатурная маска «русской души», как она представляется малообразованному западному обывателю, что-то такое смутно слышавшему о Достоевском. Все они так или иначе ложатся на стилистику иллюстрированных журналов с комиксами, соблазнительными фотографиями и рекламами и на уровне этих журналов себя проявляют. Античный юноша годится как первоклассная сексуальная замена немолодого и неверного мужа Джульетты. Индийский двуполый мудрец лепечет невесть какие пошлости опять же насчет сексуальной жизни, давая бедной Джульетте примерно те же рекомендации, что и здоровый глупый доктор, и частный сыскной агент. Но чего же другого могла ждать от них Джульетта? Она получает ответы на те вопросы, которые сама задает: характер и уровень ответов предрешен характером и уровнем вопросов. Прошлое и неведомое в состоянии обогатить современного человека лишь в меру его собственного содержания; они ничего не могут дать ему сверх того, что в нем самом заложено.
«Ты ничто», – говорит Джульетте «дух» на спиритическом сеансе. Если так, то вся мудрость мира и даже других миров ей не поможет, явится ей в облике раскрашенного ничто. Но Джульетта при всей своей ограниченности сознает в себе «нечто» – об этом нашептывают ей воспоминания детства. Это глубоко спрятанное «нечто» она должна в себе вырастить, вслушаться в него, освободиться во имя него от своего кукольного дома и кукольных чувств, обратной стороной которых предстают «компенсаторные» эротические видения в доме Сьюзи.
Начальные кадры фильма – такая же символическая заставка, дающая экстракт всего содержания, как заставки «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной». Джульетта спиной к зрителю (зритель не видит ее лица) лихорадочно примеряет и отбрасывает парики рыжий, серебристо-седой, зеленый. Все они ей не идут, все ее разочаровывают, и когда она наконец обращается лицом к зрителю – она уже без парика: мы видим ее простое лицо, скромную естественную прическу.
Так в конце концов эта сегодняшняя Нора уходит из-под власти призраков-масок, чувств-париков. Карнавал окончен. Джульетта постарается найти себя, стать собой – в царстве раскрашенных призраков она была смешна, как ее крошечные двухлетние девочки, пытающиеся танцевать твист. «Тут выражена мысль о способности человека одолеть не только свою судьбу, но и выйти из запутанного психологического лабиринта собственной души, в самом себе отыскать новую точку опоры, освободиться»9.
Но примечательно то, что Джульетта покидает карнавал без ожесточения: он был для нее какой-то необходимой ступенью. Сам автор фильма говорит, что и к мужу, и «по отношению ко всем и ко всему женщина испытывает чувство признательности, ибо все – даже и те, кто казались ее яростными врагами, – содействовали ее освобождению»10.
Если понимать смысл фильма шире, чем историю праздной дамы, боящейся остаться без мужа (а он, конечно, шире), то среди его многозначных смыслов можно уловить и идею «карнавального чистилища» – через него проходит в своих блужданиях человек современного западного мира.
Быть самим собой ему необыкновенно трудно, он сам себе незнакомец, он не знает ни своей истинной природы, ни достойной цели. Господствуют – и отражаются в зеркале предметного мира – две модели поведения: «быть как все» и «быть не как все». Первая до недавнего времени была абсолютно преобладающей, исключая небольшие элитарные группы; в 1970-е годы заметно возрастает удельный вес второй, распространяясь уже не только на элиту: с легкой руки сначала «битников», а затем хиппи стремление «быть не как все» становилось на Западе почти массовым, по крайней мере среди молодого поколения. Оно далеко не равнозначно понятию «быть самим собой», его содержание негативно, основано на отталкивании от стандарта, на принципе «наоборот», так же как бунтарские и протестующие движения молодежи несли в себе, как правило, чисто негативный заряд и были лишены позитивного.
В сфере вещей наступает то, что западная пресса именует «взрывом разнообразия». Вещи сами по себе плохо приспособлены к отрицанию: коль скоро вещь сделана, она утверждает себя, свое назначение, свою форму. Но она может противостоять традиционным вещам, пародировать, удивлять, действовать вызывающе (вспомним знаменитую «желтую кофту», которой в свое время футуристы «эпатировали буржуазию»). Становится модным нарушать моду, отчего и сама мода всячески дифференцируется, распадается на множество ручьев, предлагает множество вариантов и уже ни на чем не настаивает, не диктует своих железных законов. Можете носить длинное, или короткое, или среднее, широкое или узкое – как кому нравится. В обществе с широчайше развитой сферой обслуживания приобретает популярность рекомендация «сделай сам» – самим шить, кроить, вязать, придумывать и даже самим изготовлять для себя ювелирные украшения. Так больше шансов выглядеть «не как все».
Как и следовало ожидать, «взрыв разнообразия» произошел раньше и заметнее всего в собственно декоративном искусстве, в предметах, наименее связанных с техникой и массовым производством, аксессуарных, украшающих. Энергично возродились к самостоятельной жизни декоративно-станковые вещи (с акцентом на станковость), хотя раньше казалось, что они растворятся в дизайне, сольются с вещами, практически употребляемыми. Теперь же наблюдается обратная тенденция: по возможности отнять у вещей их утилитарную функцию или на худой конец замаскировать ее. И если еще недавно станковая живопись стремилась «выйти из рамы», преодолевая свою станковость, то теперь вещи отнюдь не станковые хотят обрести рамку. Не только в переносном, но и в прямом смысле: оконные рамы иногда оформляются со стороны интерьера в виде позолоченных картинных рам, чтобы вид из окна уподоблялся написанному на полотне пейзажу. В рецидиве станковизма, очевидно, сыграли роль авангардистские течения типа поп-арта, манипулировавшие бытовыми, заурядными предметами, изъятыми из их нормального контекста, во имя «превращения банальности в галлюцинацию». Превращение происходило на выставках. Теперь – и в быту. Банальность, ставшая галлюцинацией, тем самым как бы перестает быть банальностью, а «современная личность» хочет слыть небанальной,
В 1967 году начал выходить американский журнал «Craft Horizons» («Горизонты ремесла»), где «взрыв разнообразия» нашел программную поддержку. В советском журнале «Декоративное искусство» был помещен обзор одного из номеров «Craft Horizons» за 1970 год, посвященного общенациональной выставке декоративного искусства в США («Предметы: США»). Вот общие выводы, сделанные автором обзора относительно главных тенденций, заметных по этой выставке:
«1. Декоративность разных типов и степеней нарочитой хаотизации и “динамизации” форм или умышленных, кричащих контрастов в линиях и цвете (“эстетика” беспорядка и несогласованности).
2. Декоративность абсурда или откровенного уродства.
3. Декоративность на основе абсолютно необычного или абсолютно невозможного (в частности – экстравагантные сочетания фигур и элементов).
4. Декоративность тривиальных или слащавых символов (“аллегорий”).
5. Декоративность гипертрофии и гротеска (нарушение пропорций, окарикатуривание, “вызов” норме).
6. Декоративность загадочных и произвольных конструкций (аксессуары-“ребусы”).
Все эти тенденции так или иначе отражают общий принцип “пародирования” и “искажения” действительности, на котором в конечном счете покоится американская эстетика декоративного искусства»11.
Гротеск, абсурд, импровизационность, пародийность, деформация и другое, что здесь перечислено, имеют свою уже довольно давнюю историю в искусстве послевоенного авангардизма. Ново переключение этих категорий в область массового – декоративно-прикладного. Абсурдизм в театре – звучит уже привычно; устоявшееся течение, имеющее своих корифеев. Декоративность абсурда – менее привычно. Так же как и «декоративность загадочных и произвольных конструкций». Декоративность в данном случае представляет собой связующий мост между элитарными изысками авангардистов и массовым обиходом, представителем которого является вещь.
Причем едва ли можно считать, что стиль «необарокко» (примем условно этот термин) искусственно пересажен в прикладную сферу из ультраавангардистских (обычно пустующих) художественных выставок. Здесь есть, конечно, определенное влияние. Но вещи – стихийный материализованный быт – обладают способностью сопротивляться влияниям, которые им внутренне не сродни. Вещи гнут свою линию, их эволюция обладает собственной логикой.
Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов за ней, этой эволюцией, видится уже нечто иное, чем образ современного западного человека, желающего отстоять свою индивидуальность, свободу выбора и право пользоваться разнообразными традициями. В пародийной деформации предметов сказался особый взгляд на мир. Взгляд поколения, которое по аналогии с «потерянным поколением», «рассерженным» и пр. можно было бы назвать «насмешливым поколением». Не столько ироническим, сколько презрительно-насмешливым, у которого «презренье созревает гневом» – переходит в бунт. Но иногда и не переходит, оставаясь на стадии глумливой эксцентричности, отчасти родственной былому дадаизму. С той разницей, что сегодняшний неодадаизм принял характер массовый.
Делать наоборот, противопоставлять каждому сложившемуся «имиджу» «антиимидж» (в свою очередь, неустойчивый, уже поджидающий следующего «анти»), разрывать привычные связи и составлять новые неожиданные соединения, насмешливо развенчивать ценности, стандарты, нарушать «хороший вкус», удивлять, озадачивать, ошеломлять, бросать вызов…
Сегодняшняя Мартина Донель издевается над обманувшим ее «нейлоновым раем» и напускает в него крыс; у сегодняшних героев «Вещей», которым так и не удалось сделаться богатыми, мечты о кожано-медно-деревянном рае, возможно под действием марихуаны, оборачиваются смятенной галлюцинацией, где все вышло из своих пазов и продуманный беспорядок превращается в хаос; юный герой фильма Антониони «Забриски-Пойнт» разрисовывает спортивный самолет смешными непристойными рисунками в духе луна-парка (какое надругательство над техникой!), а его подруга мысленно взрывает прекрасную стеклянную виллу со всем, что в ней имеется, – гардеробом, холодильником, телевизором и книжным шкафом.
Правда, она делает это только мысленно. И вообще разрушительные тенденции отнюдь не охватили все общество, статистически они, наверно, не так уж значительны, однако влияние их на «стиль» достаточно заметно. Бунтующую молодежь усмиряли с полицией, а тем временем ее вкусы (или антивкусы) как-то адаптировались, перемалывались в мясорубке «свободного мира» и становились предметом бизнеса, рекламы, моды. Эта адаптация – самый удивительный и самый смешной феномен: «антибуржуазное» легко приемлется буржуазией и вводится в обиход как признак изысканности или превращается в аттракцион. Теперь не так просто прогневать буржуазию нарушением норм – за исключением норм ее материального благосостояния.
Некоторые дизайнеры, охваченные «левыми» настроениями, включившиеся в движение «контестации» (протеста), изготовляют антивещи – вещи, противоречащие их прямому назначению. Например, меховые чашки или переплеты книг, утыканные иголками. И что же? Эти предметы охотно приобретаются богатыми людьми как причудливое украшение интерьера12.
В сценарии упомянутого фильма Антониони есть характерное сравнение взорванного холодильника с рекламой: «…Вся снедь медленно плывет по небу: баклажаны, морковь, сельдерей, лангусты, рыба, куры, банки консервов, апельсины, подобные планетам. Своего рода шутовская рекламная карусель в космосе». Что же, это действительно эффектно для рекламы товаров, действительно напоминает рекламные электрические феерии, проецируемые на ночное небо. Действуя в духе времени, реклама тоже задается целью прежде всего удивлять.
Это как будто не ново для рекламы: она всегда стремилась удивлять, то есть быть броской, кричащей, выделяющейся. Но теперь она хочет удивлять более изощренно, становясь и неожиданной, и парадоксальной, и самопародийной. Люди настолько привыкли к шумным самовосхвалениям фирм, что приобрели иммунитет к рекламам, типа: «Наши холодильники – лучшие в мире» или «Истинные мужчины курят только наши сигареты». Подобные наивные «имиджи» мало кого обманывают и никого не поражают. Ныне более способна удивить – и, значит, привлечь внимание – реклама менее крикливая, более окольная, содержащая насмешливую изюминку, – также как оратор, говорящий тихо, скорее заставляет себя слушать, чем тот, кто кричит.
Вот совершенно черный прямоугольник: это не произведение Малевича, а реклама офтальмологического института. Человек, увидевший эту сплошную черноту, обязательно захочет узнать, что же она означает. И прочтет надпись, набранную мелким шрифтом: «Такими кажутся многим американцам желтые цветы на зеленом лугу под голубым небом. У вас только одна пара глаз. Проверяйте их каждый год».
Представитель солидной и знаменитой фирмы «Оливетти», снабжающей весь мир первоклассными пишущими машинками, сказал в интервью: «До сих пор многие компании ведут рекламу по принципу: “Покупайте нашу продукцию!” – этим уже никого не удивишь. Коммерческий момент нашей рекламы – реакция удивления»13. На выставке «Интероргтехника-66» раздел «Оливетти» сочетал сугубо деловую обстановку с атмосферой ярмарочного балагана, хотя, разумеется, ничего ярмарочного в самих пишущих машинках не было (пока не было!). На этой же выставке фирма «Оливетти» демонстрировала посетителям фильм о Фра Анжелико. Фильм очень хорошо снятый, но озадачивший зрителей: почему Фра Анжелико? Может быть, фирма хотела показать, что она так же хорошо делает машинки, как Фра Анжелико делал картины? Нет, никакого намека на это не было. Оказывается – и тут присутствовал расчет на реакцию удивления: «…Почему фирма конторского оборудования издает книги по искусству, демонстрирует фильмы по искусству? Это не может не заинтересовать»14.
Та же «Оливетти» обращалась для создания рекламных плакатов к известному французскому карикатуристу Фолону. Фол он нарисовал гигантскую пишущую машинку, на ее клавишах сидят маленькие люди – служащие, машинистки. У них далеко не счастливый вид: они отупели, окаменели от сидения в конторе, от дребезжания машинок, от боязни не угодить шефу. Художественный директор фирмы одобрил этот рисунок и сказал Фолону: «Через 60 лет, когда увидят эту афишу, смогут узнать кое-что о нашей эпохе»15.
Затем Фолон сделал для «Оливетти» небольшую книжечку типа карне, которая раздавалась покупателям машинок в виде бесплатного подарка. В книжечке не было даже упоминания о марке фирмы: она представляла собой рассказ в рисунках, озаглавленный «Le message» («Послание»). Человек идет по улице, подходит к голубой двери, открывает ее, входит в зал с гигантской пишущей машинкой, приближается к ней, опирается на одну из букв, залезает на клавиши, ухватывается за другие буквы, повисает на них. В результате этих акробатических упражнений на листе бумаги отпечатывается некий бессмысленный текст. Человек складывает лист, делает из него бумажную птицу, и птица, испещренная печатными знаками, вылетает в дверь, взлетает над городом и исчезает в небе. Человек стоит на улице и смотрит ей вслед.
Все это очень мало похоже на рекламу в традиционном смысле, скорее – на антирекламу. Но удивляет, запоминается, привлекает внимание, а значит, коммерческая сторона дела только выигрывает. Качество же продукции «Оливетти» говорит само за себя. Эта солидная фирма не нуждается в зазывах и может позволить себе отдать дань ироническому духу времени, пойти ему навстречу.
Кстати сказать, существует древняя традиция ироничной рекламы. У Бахтина читаем: «…Народная реклама всегда иронична, всегда в той или иной степени сама над собой смеется (такова была и реклама наших коробейников, офеней и др.); на народной площади даже корысть и обман приобретали иронический и полуоткровенный характер»16.
Таким образом, и здесь своеобразное воскрешение традиций карнавала.
На Международной выставке ЭКСПО-70 в Токио японским фирмам вообще не разрешалось рекламировать свою продукцию, хотя у них были на выставке свои павильоны. Тематика павильонов была далека от профиля фирм: одна фирма посвящала павильон будущему Японии, другая – детским сказкам, третья – миру сегодня и т. д. Но предметное оформление, кинозрелища, световые эффекты осуществлялись на основе продукции фирмы, так что реклама производилась косвенно, не прямо.
Рекламный плакат, плакат-афиша, агитационный плакат меняют язык. Плакат отходит от своих родовых свойств, казавшихся неотъемлемыми: ясности, лаконизма, доходчивости визуальной информации. Он ударяется в нечто противоположное. По выставкам плаката, происходящим каждые два года в Польше, видно, что в основном только польский и отчасти французский плакат сохраняет ясно читаемую символику и остроумие, понятное без объяснений. Большинство же плакатов других стран превращается в своеобразный род станкового искусства типа замысловатых ребусов, которые разгадать трудно, а то и вовсе невозможно: это «декоративность загадочных и произвольных конструкций», прихотливый монтаж знаков, букв, аббревиатур, фрагментов фотографий, карикатур, асимметричных узоров.
Плакат больше не стремится о чем-то информировать или прямо к чему-то призывать: информацией и так сыты по горло, а прямые призывы имеют низкий коэффициент действия. Плакат заинтриговывает и создает эмоциональную атмосферу – сложный эмоциональный коктейль из неожиданности, усмешки, испуга и яркой визуальной эффектности.
Первую премию на III бьеннале получил финский агитационный плакат, направленный против употребления наркотиков. Это фотомонтаж, а может быть, даже и не монтаж, а просто натурная съемка. Но сфотографировано то, чего в натуре не бывает. Запрокинутая голова девушки, у которой на лице растут желтые цветы – из щек, лба, подбородка. Цветы настоящие и девушка настоящая, их прорастание на живом лице жутко и гротескно.
Так удивляет плакат, удивляет реклама. А как удивляют сами вещи – предметы обихода?
Поиски необычных, поражающих форм, форм как бы колеблющихся, пульсирующих, а также «исчезающих», готовых к самоуничтожению или переходу в другое состояние, происходят даже в архитектуре. Пока что это опыты, эксперименты или проекты. Но уже создаются пластмассовые дома – круглые, овальные, способные плавать по воде, могущие быть собраны и разобраны за один час. Легкие шатры номадов возбуждают фантазию архитекторов – и на базе современной техники делаются надувные пневматические жилища, наподобие надувных матрасов, или даже целые городки: их можно легко переносить, переходя с места на место. Есть опыты изготовления складывающихся интерьеров-контейнеров; будучи сложен, такой контейнер занимает минимальное пространство, а в развернутом виде образует квартиру из нескольких комнат, со шкафом, кроватью, кухней. Такого рода легкие, переносные, аскетически оголенные жилища как будто бы предвещают эру легких, беззаботных людей, не прикрепленных к одному месту, не обремененных вещами. Но, с другой стороны, страсть к вещам не угасает, даже разгорается: как никогда, множится количество вещей-украшений, вещей-игрушек, вещей-безделушек, которые с точки зрения функциональной эстетики считались проявлением дурного вкуса.
Бродячие хиппи одевались вроде бы кое-как – старые свитеры, рваные джинсы. Однако, как подобает экзотическим дикарям, они увешивали себя массой украшений: цепочки, подковы, портреты кинозвезд, ленточки – в самых неожиданных местах. Это показное дикарство было по-своему принято и соответственным образом стилизовано в модах «истэблишмента» как причудливость, вычурность, маскарадность.
Неудивительно, когда украшения из дешевых материалов имитируют золото и драгоценные камни, – это извечные ухищрения «средних слоев», старающихся выглядеть богатыми. Но странно и юмористично, когда золото притворяется «бросовым» материалом – а теперь это распространенный прием. Золотая брошь с жемчужинами имитирует древесину с обнаженным рисунком волокон. Или золотой броши сообщается фактура необработанного самородка со следами песка и пыли. Это делается с большим техническим мастерством, изощренной выдумкой.
Много мастерства и искусства вкладывается в задачу «убить материал», сделать его неузнаваемым, надеть на него маску, заставить играть неожиданную роль. Керамическое изделие «притворяется» кожаным, кожаное «притворяется» мешковиной. Законы хорошего вкуса, еще недавно казавшиеся непреложными, предписывали материалу правдивость: пусть камень будет камнем, кожа кожей, пластмасса пластмассой и пусть форма изделия отвечает характеру материала, выявляя свойственные ему возможности и не навязывая чуждых. Теперь – по законам юмора – поступают как раз наоборот. Царит всеобщая превращаемость и материалов, и форм; чем неожиданнее превращение, тем интереснее. Мы наблюдаем превращение архитектурных форм в скульптурные (уже капелла Корбюзье в Роншане – в какой-то мере скульптура), а скульптуры, например парковые, становятся подобием сооружений, куда можно забираться, прятаться, залезать, как на дерево, садиться, как на скамейку. И в конце концов уже не знаешь, как называть те или иные предметы – архитектура, скульптура, «мобиль», игрушка, прикладная вещь? Может быть, «неопознанные объекты»?
Есть и «магические» полуигровые вещи, которые полувсерьез претендуют на то, чтобы давать людям иллюзию счастья, снимать тяжелые стрессовые переживания. Так называемые «психоделические объекты», создающие для человека замкнутую мини-среду, где он с помощью накачиваемого кислорода, магнитофона, цветных стекол и других приспособлений получает нервную разрядку. Это подобия скафандров, шлемов или же большие надувные сооружения, куда могут свободно залезть два человека «для полета в сверхъестественное пространство» (конструкция «Желтое сердце» венской дизайнерской группы «Хаус Рюккер»). Вероятно, те, кто в них залезает, вместе с надеждой действительно испытать приятные ощущения одновременно проявляют и все ту же «готовность участвовать в насмешке над собой, согласие на насмешку».
Несправедливо было бы полагать, что в этом странном брожении форм, неизвестно во что превращающихся «объектов», в этом тяготении предметного мира к супербалагану сказывается только растерянность сознания и разнузданность вкуса, изверившегося в законах разума и целесообразности. Все гораздо сложнее. Само устройство материи сложнее и парадоксальнее, чем считали прежде. Растерянность сознания, конечно, налицо, но в стремлении сделать «почуднее», сделать «наоборот» стихийно проявляется и подспудная воля к созданию «второй природы», столь же неэлементарной и полной загадок, как настоящая природа. Это делается путем проб и ошибок – часто тупиковых проб и многочисленных ошибок. Социальный кризис западного мира сообщает этим поискам характер балансирования на краю пропасти. С одной стороны, мнимо антибуржуазный нигилизм, а с другой – вполне буржуазный снобизм, которые вносят разрушительное и регрессивное начало в формирование новой предметной среды.
И все же там и сям возникают ее оазисы, где неуемная фантазия и изобретательность человеческого ума творит нечто действительно увлекающее и, может быть, предвосхищающее будущее, которое «уже началось».
Возникают, например, музеи совершенно нового типа, непохожие на респектабельные кладбища-музеи, где люди вступают в диалог с прошлым с помощью кино, звука, света; где кроме однообразных залов есть полуфантастические интерьеры, внутренние дворы, волнующие воображение своей необычностью; где скульптура экспонируется в парках, на траве, возле озера, и по траве можно ходить, и к скульптуре можно прикасаться.
Возникают и поселения нового типа. Например, в Индии субсидируемый ЮНЕСКО город Ауровиль, в память индийского философа Шри Ауробиндо, – с гигантским золотым шаром в центре, окруженным садами. Он призван быть международным центром культуры.
Поражают богатством причудливой фантазии международные зрелища – такие, как Олимпийские игры или выставки ЭКСПО. Относительно последних можно сказать, что они с каждым разом все меньше становятся конкретной деловой демонстрацией достижений того или иного государства и все больше превращаются в зрелище, в ослепительный аттракцион, колоссальное ревю. Зрелищность – в традициях мировых выставок, но какими кустарными и наивными кажутся сооружения из кукурузы и статуи из шоколада, удивлявшие посетителей в XIX веке, по сравнению с чудесами и чарами ЭКСПО-70 в Токио. Вот как описывает их свидетель: «Блеск металла, яркий цвет, ажурные конструкции поддерживают стеклянные и металлические полусферы; качающиеся цветные надувные башни и цилиндры, извивающиеся среди металлических конструкций цветные резиновые трубы. Силуэт старинной японской пагоды соседствовал с вращающимся в воздухе зеркальным цилиндром-павильоном… Море света, цвета. Меняющаяся окраска павильонов. Каскады воды самых причудливых форм, цветные облака водяной пыли…»17 Зрителям показывали кинозрелища сразу на многих экранах, на потолке, на полу, проецируемые на воду, на дым, на вращающиеся шары. На крышах павильонов помещались большие скульптурные головы и фигуры, которые, может быть, покажутся потомкам такими же странными и непонятными, как нам гигантские головы на острове Пасхи, будут сочтены за предметы какого-то неведомого ритуала.
На ЭКСПО зарывали «капсулу времени», предназначенную для 6970 года, содержащую сведения о полете на Луну и другие данные о состоянии современного мира. Но, если и найдут эту капсулу через пять тысяч лет, едва ли представят по ней лицо мира XX века, так как это – «неопознанное лицо», для самих современников неопознанное. Они не знают, какому богу служат, кому воздвигают своих причудливых идолов; не знают, не погибнут ли они уже через несколько десятков лет от атомного взрыва, или от голода, или от отравления биосферы – или они, напротив, овладеют тайнами космоса, жизни и смерти. Феерии ЭКСПО могут быть и пиром во время чумы, и карнавалом накануне великих торжественных перемен. Они двойственны, двусмысленны. Печать усмешливой двусмысленности ложится на всю предметную среду людей, многое умеющих делать, но меньше, чем когда-либо, знающих, «кто мы, откуда мы пришли, куда мы идем».
Ссылки
1 Предлагаемая статья была написана в начале 1970-х годов и основана на материале этого и более раннего времени, когда тенденции ретроспективизма зарождались и формировались в западноевропейском прикладном искусстве.
2 Райт Франк Ллойд. Будущее архитектуры. М., 1960. С. 63.
3 Там же. С. 33.
4 Иностранная литература. 1972. № 3. С. 240.
5 Декоративное искусство СССР. 1966. № 11. С. 14–16.
6 Там же. С. 16.
7 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965. С. 57.
8 Цит. по: Федерико Феллини. М., 1968. С. 265.
9 Бачелис Т. Феллини. М., 1972. С. 348.
10 Федерико Феллини. С. 263.
11 Покидов А. Журнал «Craft Horizons» // Декоративное искусство СССР. 1970. № 12. С. 37.
12 См.: Жадова Л. Встречи с итальянскими дизайнерами // Декоративное искусство СССР. 1972. № 9.
13 Декоративное искусство СССР. 1967. № 5. С. 37.
14 Там же.
15 Les lettres française. 1967. № 1177. P. 7.
16 Бахтин М. Указ. соч. С. 174.
17 Декоративное искусство СССР. 1971. № 4. С. 39.
Китч[33]
Немецкое по происхождению слово «китч» сравнительно недавно стало широко употребительным термином, хотя существует давно: оно имело хождение в мюнхенских художественных кругах в 1870-х годах. Его прямой смысл – дешевка (verkitschen – продавать задешево, удешевлять).
В расширительном смысле под китчем понимаются произведения дурного вкуса, банальные или пошлые, рассчитанные на успех у широкой публики. В этом духе составлены объяснения в словарях. Например, в словаре Мейера: «Китч – порицательное наименование произведений, которые дешевыми средствами, рассчитанными на вкусы широких кругов, претендуют на то, чтобы производить эстетическое впечатление и считаться произведениями искусства»1.
В еще более расширительном значении «китч» стали употреблять как синоним продукции массовой культуры, подразумевая под ним нечто противоположное элитарной или авангардистской культуре, или даже все стоящее вне ее. В последние десятилетия, когда происходят отмеченные многими социологами процессы диффузии авангардистской и массовой культуры, проблема китча привлекает к себе внимание особенно пристальное.
Попытки научного ее исследования предпринимались еще в 1930-х годах: в 1933 году о китче писал Герман Брох (Австрия), в 1939 году появилась статья американца Клемента Гринберга «Авангард и китч». В 1950-е годы количество статей и книг на эту тему возросло и продолжает увеличиваться; в настоящее время имеются даже антологии китча – обстоятельная книга итальянского искусствоведа Джилло Дорфлеса «Китч. Мир дурного вкуса» (впервые опубликована в 1968 году, в 1969 году издана на английском языке) и «Китч» Жака Стернберга, исследователя французской юмористической графики (1974). Ряд социологических исследований посвящен психологии китч-менша – современного потребителя китча (термин, впервые введенный Брохом). В общем, книги, статьи, лекции по этому вопросу исчисляются уже сотнями; как замечает Стернберг, «обыкновенный плохой вкус не мог бы вызвать такого интереса». Видимо, в феномене китча кроются болезненные и острые проблемы современной западной культуры.
По поводу его исторического происхождения и исторических форм единого мнения нет. Жак Стернберг полагает, что китч существовал всегда; большинство исследователей считают его детищем индустриального урбанизированного общества, а также результатом демократизации (Клемент Гринберг, Дуайт Макдональд); Герман Брох возлагает ответственность за китч на романтизм XIX столетия; Кристиан Келлерер склонен думать, что китч зарождается на тех стадиях культурного цикла, когда искусство обособляется от культовых и производственных функций и когда, соответственно, имеются зафиксированные понятия о собственно эстетических ценностях. Китч, по мнению Келлерера, всегда базируется на отстоявшихся, мумифицированных, то есть уже принадлежащих прошлому эстетических понятиях, навязывая их современности; иными словами, китч – явление эпигонское, а «учение о прекрасном» – законная мать китча. В искусстве «наивном», «примитивном» китча нет, так как оно не ведает эстетических рецептов, – или это «испорченная наивность», наспех усвоившая чуждые ей эстетические догматы, как, например, современная африканская скульптура. Зато в античном искусстве, считает Келлерер, китч уже был: он приводит в пример эллинистические танагрские статуэтки, которые производились массовым способом, путем отливки в заготовленные формы, ярко раскрашивались и представляли собой перепевы мотивов большой скульптуры предыдущего классического периода. Перепевы, по мысли Келлерера, всегда больше отвечали вкусу консервативного большинства, чем авангардные поиски нового.
Не углубляясь в вопрос исторического китча (наша тема – современный китч), можно заметить по этому поводу лишь одно. Если и действительно на всем протяжении истории искусства возникали, вслед за периодами художественных открытий, явления вторичные, с ослабленной творческой потенцией, светящие отраженным светом своих предшественников, то, во всяком случае, зияющего качественного и принципиального разрыва между ними и «высоким» искусством не было, вплоть до эпохи развитого капитализма. Только эта эпоха принесла с собой поток поддельных художественных ценностей, только она наводнила мир эрзацами, только в новейшие времена проблема «плохого вкуса» неожиданно обернулась серьезной социальной проблемой.
В XIX веке китч, несомненно, существовал, в некоторых сферах даже царил, обеспечиваемый денежной поддержкой нуворишей, буржуазных кругов, не обладавших хорошим вкусом старой аристократии, но имевших свое представление о «прекрасном». Импозантным царством китча были, в большинстве своей продукции, художественные салоны середины века. Это вовсе не была «дешевка» – ни в прямом, ни в переносном смысле: от художников – звезд салона и любимцев публики – требовалась солидная школа, труд, виртуозное техническое мастерство, особый шарм.
Уподобляло салонную живопись и скульптуру «китчу» то, что она, как правило, не только повторяла зады прошлого искусства, но и вульгаризовала его, приспособляя к уровню той «стоглавой гидры мещанства», «самодержавной толпы сплоченной посредственности», которая, по словам Герцена, «все покупает и потому всем владеет, толпа без невежества, но и без образования; для нее искусство кричит, машет руками, лжет, экзажерирует[34]…»2. Герцен писал это в 1862 году: уже тогда процесс «окитчивания» шел полным ходом. В угоду «стоглавой гидре» множились облегченные «псевдо» – псевдоромантизм, псевдоклассицизм, псевдобытовой жанр. Затем, по мере того как налаживались и совершенствовались способы тиражирования, салонные произведения, в виде репродукций и открыток получали широчайшую известность, проникали в обиход и менее состоятельных средних слоев и, в свою очередь, вызывали встречный поток подражаний – рыночных поделок уже не имевших технических и прочих достоинств салонных первоисточников, зато приобретавших оттенок умилительно-чудовищной наивности, которая, кстати сказать, особенно ценится современными коллекционерами образчиков китча. Таких, как открытка под названием «Любовь и смерть», где мы видим целующихся красавца и красавицу на фоне огромного черепа, причем пышные черные шевелюры влюбленных образуют глазные впадины черепа.
«Вечные темы» – любовь и смерть, любовное упоение, молодость и старость, бренность всего земного, грезы, воспоминания о невозвратном прошлом, скорбь о дорогих усопших и, уж конечно, соблазнительность женской наготы, олицетворяющей, смотря по надобности, то Музыку, то Весну, то Гения, то Невинность, то ядовитый Цветок Зла, – составляли основной фонд китча с самого начала. Широко использовались также экзотические мотивы; в бульварной литературе – романтические похождения отважного героя, истории с раскрытием преступлений.
Все эти темы и мотивы, конечно, сами по себе ни в чем не повинны. Они служили и служат также предметом истинных и великих произведений искусства. И даже наиболее скомпрометированные жанры имеют почтенную, подчас очень древнюю художественную родословную. «В известном смысле “Илиада” – детектив с убийствами, а “Одиссея” – предтеча Карла Мая»3, – говорит Карел Чапек Античные и ренессансные венеры, амуры, вакханки, надгробия, средневековые пляски смерти, барочные аллегории, гаремы и одалиски романтиков и очень многое другое – тоже в известном смысле предтечи новейшего китча. Китч изготовляет суррогаты всего, но особенно привержен к тому, что укоренено в человеческой природе и трудно поддается эрозии времени, ибо тут он бьет наверняка: какие-то струны непременно отзовутся, сколь бы топорная ни была работа.
Что же касается способов выражения этих устойчивых переживаний – китч, как правило, учитывает современные веяния и соответственно эволюционирует. Есть известная закономерность в его эволюциях: пока китч известного направления, например романтический, спускается в самые низшие этажи, на уровень читательского вкуса Насти – героини «На дне», на верхних этажах тем временем формируется новый модный китч, например символический. Когда дамы из общества увлекаются Габриелем Д’Аннунцио, Настин китч уже не берется всерьез и считается жалким чтивом.
Персонаж одного из романов Олдоса Хаксли, вспоминая, что в «приюте порока», который он посещал, на стенах висели репродукции в рамочках с картин Альма Тадемы, размышляет: «Восхитительная ирония – эти картины, которые в викторианскую эпоху рассматривались как искусство, у современного поколения стали украшением спален публичных женщин!»
Триумфальным шествием китча был ознаменован период, который во Франции именуется «бель эпок» – 1890-19Ю-е годы. Ар нуво или стиль модерн во всех его разновидностях (либерти, сецессия, югендстиль) оказался благоприятен для широкого изготовления художественных суррогатов. Изысканность (черта псевдоаристократическая) и тяга к декоративной избыточности сделали его ходким товаром – ибо есть ли у среднего буржуазного обывателя более заветная мечта, чем выглядеть изысканным и шикарным? Расхожий «имидж», основанный на стиле модерн, – это лик буржуа, каким он хотел бы казаться, выглядеть, слыть, то есть лик поддельный. Если бедная Настя или Фанни, прозябающие на дне жизни, любили воображать себя ангелом чистоты, дамой сердца благородного Рауля, то добропорядочная буржуазная мать семейства видела себя в образе демонической женщины с печатью тайного греха и порока. Ее излюбленный китч – пряный и пикантный, в отличие от простоватой сентиментальности и наивной романтичности китча, вышедшего из моды и спустившегося вниз по социальной лестнице.
Впрочем, в обиходе сосуществовали различные типы китча, как сегодняшнего, таки вчерашнего. Китч, основанный на модерне, соседствовал в популярных изданиях с китчем псевдоклассическим и сентиментальным. Кому случалось просматривать хотя бы журнал «Пробуждение», выходивший в России в 1906–1916 годы, тот представляет себе, что это такое. Здесь мы встречаем: в тексте – виньетки с изгибающимися водяными лилиями и орхидеями, столь типичные для декора модерн, на обложках – аллегорические «Флоры», «Долорозы», «Весталки» в духе эпигонов Альма Тадемы, на вклейках – фототипии трогательных картин вроде «Воспоминания»: господин с бородкой, сидя в кресле и полуприкрыв глаза рукой, слушает игру на рояле молодой девушки и перед мысленным его взором витает призрачный образ другой женщины. Журнал обещает своим подписчикам приложения – «знаменитую аллегорическую картину в красках “Под шепот грез”», «роскошную стенную картину в красках “Солнце взошло”», а также «изящные украшения кабинета: “Девушка с голубями”, гелиогравюра с картины Шаплена и “Стильный японский альбом” с картинами японских художников и рельефным тиснением золотых украшений».
Не лишено интереса, что все эти знаменитые, роскошные, изящные и стильные картины в красках и без красок журнал «Пробуждение» черпал из иностранных источников, репродукции с картин русских художников помещались очень редко, хотя литературная часть журнала составлялась в основном из произведений отечественных авторов.
Но и китч «бель эпок» не идет ни в какое сравнение по своему размаху с китчем современного западного мира. Примерно после Первой мировой войны производство китча ставится на широкую ногу, становится конвейерным, поточным: расчетливая эксплуатация вкусов «среднего большинства» оказалась источником огромных доходов, предметом большого бизнеса. Как нельзя успешнее этому способствовало развитие mass media – средств массовой коммуникации; внесли свой вклад кинематография, реклама, международный туризм со специальной отраслью сувенирной промышленности, популярная периодика с ее колоссально возросшими тиражами. Келлерер не без основания назвал свою книгу «Мировая власть китча».
Он говорит в этой книге о двух основных типах китча: «мягкий» или «сладкий» и «жесткий», «героический». Первый отвечает потребности погрузиться в заманчивый, полный очарования мир, отвлекаясь от прозы повседневности, второй – мужественному тяготению к приключениям, борьбе и романтике. И то и другое, будучи «окитченным», означает бегство от истинного решения жизненных противоречий посредством дешевой сублимации чувства в неподлинном – формула удачная. Проще говоря – люди хотят получить соответственные переживания (и тем скрасить жизнь) наиболее легким способом, походя, не поступаясь ничем в практической жизнедеятельности (она идет своим чередом) и не платя усилиями собственного интеллекта и эстетического чувства, которых всегда требует от воспринимающего подлинное искусство.
Келлерер, впрочем, полагает, что такого рода китч-потребность может удовлетворяться не только китч-предметами как таковыми – она может питаться и произведениями подлинного искусства, но воспринятого в роли китча. Пример: интеллектуал, обставляющий кабинет предметами старинной крестьянской мебели и утвари. Хозяин кабинета – исконно городской житель, у него нет никакой органической связи с крестьянской средой: он искусственно создает себе иллюзию «почвенности» – иллюзию, которая его ровно ни к чему не обязывает. Другой пример: сноб, восхищающийся «шоковыми» произведениями Пикассо за то, что они щекочут нервы и компенсируют недостающие в жизни острые ощущения, но отнюдь не вникающий в их истинный разрушительно-созидающий смысл.
В этих наблюдениях немало истины; однако на львиную долю китч-потребности удовлетворяются именно китч-предметами, специально на то рассчитанными; их производится великое множество, и они, в отличие от старинной утвари и полотен Пикассо, очень легко доступны – и для восприятия, и для приобретения, и для обихода. Произведения классики также во всех отношениях доступнее и завлекательнее не сами по себе, а в «окитчеииой» форме – в виде дайджестов (сокращенных изложений), уменьшенных гипсовых копий, сувениров.
Чтобы было яснее, о чем пойдет речь, назовем некоторые типичные разновидности и образцы современного китча. Надо сказать, он многообразен по жанрам, да и по функциям не исчерпывается теми двумя типами, о которых говорит Келлерер. Много неутоленных потребностей, нереализуемых чувств, недостижимых мечтаний и неразрешимых противоречий подспудно накапливается у «омассовлеииого» человека – нередко они прорываются в мятежах и эксцессах, но в обычном течении жизни китч призван быть фиктивной отдушиной. Существует китч «красивой жизни», китч триллеров, китч мистический и фетишистский, китч ритуалов, традиционный китч, комический китч, похабный китч (порнокитч), немало распространен и китч, основанный на вчерашнем или даже сегодняшнем авангардизме, – кубистский, абстракционистский и особенно сюрреалистический, чьим неизменным вдохновителем является Сальвадор Дали.
Витрины магазинов подарков представляют собой красочный китч-универсум – тут имеются самые разнообразные вещи: головки небесных красавиц, портреты кинозвезд, Битлов, чемпионов спорта, псевдо-африканские маски и статуэтки, портреты Джона Кеннеди и Жаклин на тарелках с золотым ободком, псевдовосточные талисманы, миниатюрный «Давид» Микеланджело, музыкальная шкатулка в виде готического собора, кофейная мельница в виде Эйфелевой башни, диснееподобные фигурки, распятия, полотенце с изображением Моны Лизы, абстрактные композиции для украшения ванной комнаты и т. д.
Показательны страницы популярных журналов. Здесь дело не только в бесчисленных фотографиях голых красавиц, рекламах и комиксах: этот совершенно неизбежный ассортимент перемежается статьями на научные, политические и прочие серьезные темы, но они подаются в тоне сенсации или сплетни, подравниваясь к общему вульгарному уровню. Происходит то, что американский социолог Дуайт Макдональд называет «гомогенизацией» – смешением, приводящим к однородности. Макдональд берет для иллюстрации первый попавшийся номер «Лайфа», где соседствует обзор атомной теории с очерком о любовной жизни Риты Хейворт, сведения о бейсболе с фотографиями умирающих детей в Корее, материалы к 80-летию Бертрана Рассела, цветные репродукции картин Ренуара – с цветными фотографиями и пр. Статья
Макдональда была написана давно, но и теперь «журналы для публики» являют такую же «гомогенную» картину.
Реклама, буквально на каждом шагу преследующая потребителя, вездесущая и всепроникающая (были случаи, когда в США передача телефильма шестнадцать раз прерывалась рекламной передачей) представляет собой безбрежное море китча. Она уже по своей природе сопряжена с фальсификацией: ведь ее назначение – навязать потребителю ненужные ему избыточные товары; для этого реклама должна играть на престижных, стадных, сексуальных, сентиментальных, собственнических склонностях и громко кричать, что уже само по себе не оставляет места для хорошего вкуса. Вот рекламируются бюстгальтеры и пояса «Europerla»: фотография манекенщицы вмонтирована в рисунок, стилизованный под ренессансную гравюру, и надпись гласит: «Джульетта в “Europerla” всегда будет иметь Ромео у своих ног». Но это еще ничего – тут все же есть оттенок легкой иронии. Вот нечто худшее: рекламируется «кукла, способная любить», – муляж женщины в натуральную величину с «натуральной» кожей и волосами. На фотографии – мужчина игриво ласкает эту фальшивую красотку. Или: реклама предлагает родителям умершего ребенка отлить в бронзе его первые башмачки, чтобы увековечить память. Прилагается фотография бронзовых башмачков бэби, с сохранением всех их складочек и помятостей.
Китч-реклама культивирует потребность в фетишах и идолах – эрзацах ценностей. Взрывы иррациональных поклонений, быстро сменяясь, следуют один за другим, завтра сегодняшний кумир будет начисто забыт, но сегодня он сенсация – и индустрия китча спешит использовать нужный момент, изготовляя в миллионах экземпляров портреты героев сезона, сообщая публике подробности их интимной жизни, бешено рекламируя их манеру одеваться, белье, которое они носят, сигареты, которые они курят, парфюмерию, которую они предпочитают. Даже инструкция по распознаванию ранних симптомов заболевания раком сопровождалась портретом Софи Лорен, и даже Кристиан Барнард – хирург, делающий операции по пересадке сердца, – фигурировал на страницах женских журналов в виде то ли колдовского властителя сердец, то ли символа мужской неотразимости. Барнард – один из немногих людей науки, удостоившихся китч-церемониалов: вставлять новое сердце – в этом что-то есть. Вообще же имена серьезных ученых остаются известными только узкому кругу и не имеют хождения на ярмарке китча. Но стоит тому или иному почтенному деятелю затеять бракоразводный процесс с оттенком скандала, или подвергнуться шантажу, или заинтересоваться буддизмом, или как Сартр, вступить на старости лет в альянс с экстремистскими кругами – стоит ему совершить что-либо подобное, не имеющее никакого отношения к его действительным общественно полезным функциям, тут-то он и становится массовым, вернее, искусственно омассовленным героем. Множество людей – не-шахматистов, не отличающих ладью от слона, жадно интересуются эксчемпионом мира по шахматам Робертом Фишером из-за широко освещаемых в прессе экстравагантностей его образа жизни. Таким образом неподлинное, неистинное фетишизируется.
Китч нередко служит проводником политической демагогии. Яркий пример тому – риторический, фальшиво-монументальный, театраль-но-напыщенный стиль, насаждавшийся фашистскими режимами Гитлера и Муссолини. «Сублимация чувства на неподлинном» – на мифе «крови и почвы» – сознательно ставилась во главу угла, чтобы ослепить массы, мешая им увидеть подлинную сущность фашизма, осознать моральное падение, с ним связанное. Для этого их пичкали помпезными зрелищами, торжественными ритуалами, безвкусно имитирующими «эпохи величия» нации. При Муссолини устраивались уличные процессии, участники которых одевались в древнеримские тоги и украшали себя лавровыми венками.
Иные политические мифы у буржуазно-демократических режимов, но и они нуждаются в содействии отвлекающего, обманывающего китч-искусства. Хотя бы миф о равных возможностях членов общества, о чистильщике обуви, становящемся президентом. «Фабрика снов» Голливуд, особенно Голливуд былых времен, не знавший конкуренции телевидения и «выстреливавший» восемьсот фильмов в год, щедро поставлял золотые сны из фальшивого золота. Вестерны, мюзиклы, гангстерские фильмы, исторические фильмы имели свои нехитрые стандарты с немногочисленными вариациями. Преобладал стандарт хэппи-энда: в бедную девушку влюблялся молодой миллионер, или молодая миллионерша влюблялась в бедного молодого человека, или бедный и неизвестный певец достигал успеха и славы, и т. д. Лишь единичные фильмы были произведениями искусства, подавляющее большинство составлял китч.
Примеры разнообразных форм китча можно было бы приводить до бесконечности, включая так называемую паралитературу. Но вернемся к его общему определению. Две главные особенности вырисовываются достаточно ясно: во-первых, китч – сфера «поддельности», «неподлинности», во-вторых – это «мир плохого вкуса». То есть для «сублимации чувства на неподлинном» именно произведения плохого вкуса оказываются наиболее подходящими, отвечающими этой потребности. Почему? Есть ли между этими двумя элементами неизбежная связь?
По-видимому, она есть. При всей условности, относительности и изменчивости понятий о хорошем и плохом вкусе (нетрудно найти много исторических примеров того, как они менялись местами), здесь все же есть некоторые инварианты – с учетом, конечно, особенностей исторического времени. Плохой вкус связан с тривиальностью мышления и чувствования. Он не в состоянии оторваться от общих мест, от штампов. Но как раз заштампованное содержание, дабы не пройти незамеченным, должно быть подано особенно броско, с нажимом, крикливо, ничуть не считаясь с «чувством соразмерности и сообразности» (которое Пушкин считал условием хорошего вкуса). Снова вспомним Герцена: «…искусство кричит, машет руками… экзажерирует». Экзажерирующая тривиальность – примета дурного вкуса. И она отвечает потребности в «сублимации на неподлинном»: ведь тривиальное содержание не требует усилий для своего восприятия и вообще ничего не требует от зрителя, а преувеличенность выражения меж тем создает тонизирующую иллюзию какой-то необычности, выхода за пределы будничного. Все эпигонские течения, все «псевдо» отличались от своего первоисточника муссированием его свойств с утратой чувства меры. Псевдоготическая архитектура более причудлива, чем настоящая готика; псевдоклассические Венеры сложены более безукоризненно, чем мужиковатая Венера Милосская; подражания и подделки под Ван Гога ярче по цвету, чем полотна самого Ван Гога.
Китч доводит эту эпигонскую тенденцию до максимума. Он дает потребителю требуемое с полным набором испытанных атрибутов, не только не опасаясь переборщить, но намеренно перебарщивая, нагнетая, нажимая, крича в уши, как кричат глухому. Требуется традиционная поэтичность – вот голая женщина, обвитая прозрачной вуалью, играет на скрипке на берегу моря. Нагота, вуали, море и скрипка – проверенные атрибуты: отчего бы не соединить их всех вместе. Требуется страшное – вот Дракулы и вампиры, настолько чудовищные, что чудовищнее и быть не может. Требуется поэтичность нетрадиционная, смешанная с ощущением жути и загадочности, – вот «живая картина» Дали он сам, со своими испанскими усами и застывшим взором, возле ложа с обнаженной женщиной, сфотографированной в необычном ракурсе, которая в данном случае не играет на скрипке, зато по груди ее ползают скорпионы. Самый современный, но от этого не менее тривиальный китч. Его многозначность – поддельная, сфабрикованная, за ней ничего нет, кроме трюизмов. Китч однозначен: он не ставит вопросов, а содержит только ответы, заранее заготовленные клише, – при активном содействии дурного вкуса они произносятся эффектно. Карел Чапек остроумно заметил по поводу «литературы для горничных»: «Думайте о романах что хотите, но хороший уголовный роман должен быть написан плохо»4.
И все же проблема китча не так проста в социологическом и даже эстетическом аспекте, как может показаться на первый взгляд.
Следует поставить перед собой по крайней мере три вопроса. Каково отношение китча и «массовой культуры» современного Запада, действительно ли они являются синонимами? Каково отношение китча и современного авангардизма, в том числе и в особенности так называемого «поп-искусства»? И наконец: все ли причисляемое различными авторами к области китча, заслуживает безоговорочного презрения, все ли сводимо к поддельности и дурному вкусу?
Соединенные Штаты Америки – страна, где китч-продукция является самой махровой по безвкусице, самой массовой и самой доходной для бизнесменов. И именно в Соединенных Штатах нашлись особенно непримиримые враги китча в интеллектуальной среде, занявшие по отношению к нему гораздо более радикальную позицию, чем немцы или французы. Наиболее решительные инвективы высказаны Клементом Гринбергом и Дуайтом Макдональдом. Большая статья последнего под названием «Теория массовой культуры» была написана в 1953 году и с дополнениями перепечатана в сборнике «Массовая культура», вышедшем в 1965 году в Нью-Йорке. В этом же сборнике напечатан обновленный вариант статьи К. Гринберга «Авангард и китч».
И тот и другой автор основываются на решительном противопоставлении авангарда и массовой культуры, отождествляя последнюю с китчем; оба со скорбью констатируют, что «огромные успехи китча – источник соблазнов для самого авангарда, и авангардисты не всегда могут этому соблазну противостоять»5, оба пессимистически смотрят на будущее, полагая, что массовая культура безнадежна: «Как фабричный продукт, она постоянно тяготеет к удешевлению и стандартизации»6.
Макдональд рассуждает так масса – это не народ, не сообщество, а подобие толпы, в которой люди относятся друг к другу не как индивидуумы и члены сообщества, преследующие какие-то общие цели, – их связывают чисто внешние абстрактные узы. Поэтому от массовой культуры не приходится ждать ничего хорошего. Она «имеет тенденцию подравниваться по самому низкому уровню своих составляющих – самых низменных и примитивных своих членов, чей вкус наименее чувствителен и наиболее невежествен»7. И насаждается эта примитивная культура сверху – дельцами, ради выгоды. Высокая же культура во все времена была достоянием элиты. Было бы неплохо, если бы и в Америке существовала высокая культура для элиты, а для масс – китч: все были бы довольны. Но в современных условиях настоящая культура пытается состязаться и конкурировать с коммерческой, в результате чего между ними размываются границы. «Массовая культура усвоила окраску обеих вариаций прежней высокой культуры – академизма и авангарда, – в то время как эти последние все больше тонули в элементах массовости. Постепенно возникла вялая культура “среднелобых” (Middlebrow culture), которая угрожает поглотить все остальное в своем лоне»8. В этой «гомогенизации», усредненности, Макдональд видит главную беду. Он отмечает, что происходит даже возрастная гомогенизация: взрослые люди запоем читают комиксы и впадают в инфантилизм, дети смотрят все передачи для взрослых по телевидению и неестественно взрослеют. Несколько десятилетий назад кино было откровенным поставщиком массовой культуры, а театр принадлежал высокой культуре преимущественно академического уклона; с появлением звукового кино опять-таки все смешалось, Голливуд и Бродвей сомкнулись, фильмы стали более утонченными, лучшего вкуса – они теперь не совсем плохие, но и не хорошие: на взгляд Макдональда, это хуже, чем если бы они были неприкрыто плохие. Так же эволюционировал детективный жанр и многое другое. Фактически, по мнению Макдональда, в современном мире искусством является только авангардизм – и только тот авангардизм, который отказывается состязаться с массовой культурой. Макдональд называет «поэтов, как Рембо, романистов, как Джойс, композиторов, как Стравинский, художников, как Пикассо». Но таких мало. Выходов из положения может быть два – впрочем, оба нереальны. Один связан, по существу, с отрицанием демократии: консерваторы типа Ортеги-и-Гас-сета и Т.С. Эллиота возлагают надежды лишь на то, чтобы восстановить прежние классовые барьеры и поставить массы под контроль аристократии, что едва ли возможно. Мало надежды даже на то, что удастся сплотить культурную элиту, созданную авангардом – «наша интеллигенция мала, слаба, разобщена. В Америке очень много людей умственного труда и очень мало интеллектуалов, все мыслят лишь в границах своей лимитированной области»9. Другой выход, предлагаемый «марксистскими радикалами и либералами», которые считают массы здоровым элементом общества, но оглупленным китчем, – поднять уровень массовой культуры, предлагая массам вместо китча хорошие произведения. В этот выход Макдональд верит еще меньше, поскольку не верит в массы: они, по его мнению, пассивны, втянуты в машину, не способны действовать и мыслить самостоятельно. Таким образом, и будущее высокой культуры, и будущее массовой культуры представляются автору совершенно беспросветными.
Гринберг, автор статьи «Авангард и китч» (уже тридцатипятилетней давности), стоя, в общем, на сходных позициях, пытается разобраться в том, что же составляет существо авангардной культуры, противостоящей китчу, – кроме того, что она не массовая. Он считает, что авангард начиная с XIX века искал такую платформу, на которой еще возможно движение культуры, ее развитие «среди всех идеологических столкновений и смятений». Художник больше не может вступать в контакт с широкой аудиторией, так как не может брать на себя ответственность за что-либо происходящее в мире. Значит, он должен найти что-то возвышающееся над этой бестолковой и запутанной реальностью и стоящее вне ее – и находит в сфере чисто эстетической, в «искусстве для искусства», а со временем и в искусстве беспредметном. То есть авангардизм в конечном счете начинает интересоваться исключительно процессом и средствами художественного творчества – так называемыми формальными проблемами, ибо только в этой сфере отныне возможно развитие. Гринберг говорит, что Сезанн, Матисс, Пикассо, Брак, Мондриан, Клее черпали вдохновение из средств, которыми они пользуются, что их волновали почти исключительно проблемы пространства, фактуры, цвета. Поэты же – такие, как Рембо, Малларме, Валери, Паунд, Рильке и Йейтс, – концентрировали свои усилия больше на самом процессе поэтического творчества, чем на том жизненном материале, который в поэзии претворяется. Все они занялись, по выражению Гринберга, «имитацией имитирующего» – сделали целью то, что в прежнем искусстве было средством. «Верно, – говорит Гринберг, – что такого рода культура имеет в себе нечто от александринизма, но… авангард движется, тогда как александринизм стоит». И заключает: «…Никакими иными способами невозможно сегодня создавать искусство и литературу высокого порядка. Ссориться с необходимостью, употребляя такие термины, как “формализм”, “пуризм”, “башня из слоновой кости” и прочие, – или глупо, или нечестно»10.
Далее следуют филиппики по адресу китча, этого «продукта индустриальной революции и всеобщей грамотности», причем указывается, что китч чисто маскируется, то есть создает произведения, не лишенные ценности, обладающие художественными достоинствами, «чем привлекает и одурманивает людей». Но если он обладает художественной ценностью и достоинствами, то почему он китч?! Оказывается потому, что китч, в отличие от авангарда, имитирует не средства, а «конечный эффект» – дает результат в готовом виде, «делая легким то, что трудно в истинном искусстве». Нетрудно понять, что любое современное реалистическое искусство тем самым можно отождествить с китчем. И действительно, Гринберг относит к области китча или полукитча даже произведения Джона Стейнбека, не говоря уже о Жорже Сименоне.
Он категорически именует «музеем китча» и всю Третьяковскую галерею в Москве, хотя имеет о ней более чем смутное представление, приписывая Репину какие-то «батальные сцены», где будто бы показаны «заход солнца, взрывы снарядов, бегущие и падающие люди». У Репина нет батальных сцен; автор, очевидно, спутал Репина с Верещагиным, зная о них понаслышке, но это не мешает ему сделать вывод: «Где Пикассо пишет идею (cause), Репин пишет готовый эффект». В данном случае Клемент Гринберг как раз сам пользуется «готовым эффектом» – априорным теоретическим клише, прилагая его к вещам, которых не знает.
Впрочем, в отношении перечисленных им «авангардистов», которых он знает, Гринберг делает, по существу, то же самое. В угоду собственной схеме (насколько она не подтверждена жизнью, теперь уже слишком ясно) он приписывает им эстетский эскапизм – отсутствие интереса к жизненному материалу и исключительную погруженность в «средства», что явная неправда по отношению к Пикассо, Элюару, Рильке, Йейтсу, и в лучшем случае полуправда по отношению к другим, названным им художникам. «Китч механичен и оперирует формулами», – справедливо говорит Гринберг, не замечая, до какой степени жесткими и однозначными формулами оперирует он сам, подменяя ими дифференцированный анализ, которого требует тонкая материя искусства.
Из формул Гринберга вытекает, что китч включает в себя реализм; из формул Макдональда – что китч включает все то, что «массово», доступно большинству или хотя бы стремится быть доступным. Таким образом, китч невероятно разрастается в объеме, и на долю не китча остается действительно очень мало. Желая привести примеры истинного бескомпромиссного авангарда, противостоящего китчу, авторы называют лишь очень немногие имена. Упоминают Рембо, умершего еще в XIX веке, упоминают Пикассо, который, как известно, завоевал массовое признание и вообще не чурался «массовой культуры» и кое-что из нее черпал, называют Т.С. Эллиота, – хотя Макдональд указывает с грустью, что даже Эллиот пошел на уступку массовым вкусам в своих последних пьесах. Не называют ни Хемингуэя, ни Фолкнера, ни Томаса Манна; называя Сезанна, не упоминают о его современниках – Ван Гоге, Родене: все они не умещаются в формулы и, так сказать, подозрительны по китчу. Не называют Феллини и вообще никого из деятелей кинематографа, так как кино – искусство массовое и, значит, обреченное на китч, также как вся сфера телевидения, радио, научной фантастики, карикатуры и пр. Не зная, как быть с Чаплином, Макдональд выходит из затруднения, объявив его представителем «народного искусства», хотя остается неясно, что такое народное искусство в современном урбанизированном обществе, среди нивелированных масс, которые, по разъяснению самого же Макдональда, не являются народом.
Так выглядят – вернее, выглядели – позиции наиболее непримиримых противников «массовой культуры». Можно понять их ожесточение, вызванное вакханалией массовой культуры в США. И критика ее звучит достаточно убедительно. Но в качестве ее идеального антипода выдвигается нечто настолько стерильно-эзотерическое, попросту далекое от жизни («имитация имитирующего»!), что, читая, начинаешь испытывать невольные, хотя, конечно, неправильные симпатии даже к китчу: уж не кроется ли в нем что-то все-таки более живое, чем «имитация имитирующего»? А если понимать его столь расширительно, как Гринберг и Макдональд, то и подавно так.
Хотя статьи этих авторов помещены на почетном месте в сборнике 1965 года, они явно устарели. За последние годы, особенно после 1968-го, в трудах, посвященных массовой культуре, начинают звучать новые ноты. «Высоколобое» отвращение к ней как бы перестает быть самой «авангардной» позицией интеллектуалов и сменяется поисками какого-то иного подхода и угла зрения.
В 1971 году вышел второй сборник под названием «Еще о массовой культуре» («Mass Culture revisited»); его составители – те же: Бернард Розенберг и Дэвид Мэннинг Уайт. Из статей составителей видно, что их точки зрения на предмет не совпадают. Как сообщается в издательской аннотации, Розенберг держит «палец книзу», тогда как Уайт – «палец кверху». Розенберг по-прежнему возмущен пошлостями массовой культуры, в частности – mass media. Уайт говорит, что он лично также небольшой охотник до mass media, но тем не менее он возражает современным «арбитрам элегантности» по многим пунктам.
Он, во-первых, высказывает сомнение в том, что когда-либо в прошлом имел место золотой век всеобщей высокой культуры. Пусть низкопробной «массовой культуры» не существовало – значит ли это, что основная часть человечества была разумной, мирной и просвещенной? В Римской империи бросали людей на растерзание львам; у римлян не было телевизора, чтобы транслировать это зрелище, но огромный Колизей ломился от публики. Нерон не читал комиксов и романов Мики Спиллейна, его наставником был великий философ стоик Сенека, тем не менее Нерон «делал все это» задолго до mass media. Уайт сомневается, что и сто лет тому назад средний человек проводил часы досуга, читая Спинозу или слушая симфонический концерт. Розенберг считает, что, не будь этих отвратительных mass media, средний человек сегодняшнего дня, который работает всего 40 часов в неделю, отдавал бы свой досуг приобщению к высокой культуре. Почему же он этого не делает сейчас? Почему он предпочитает пассивно сидеть у телевизора? Не потому ли, предполагает Уайт, что ему хочется получить ответы на извечные вопросы, всегда тревожащие всех людей: кто я, что значит моя жизнь в жизни универсума? Высокая же культура не так легко достижима, чтобы добывать ответы из нее: она требует от аудитории слишком многого, прежде всего долгих лет посвящения.
Уайт продолжает: конечно, духовная диета нынешних mass media не очень питательна и в ней много эскапизма. Но как-никак рядовой зритель узнает из этого источника и об угрозе атомной катастрофы, бедности, истощения природных ресурсов и о многом другом важном. Уайт ссылается на слова директора Института психологии поведения Конрада Лоренца: «Возмущение против войны во Вьетнаме среди американцев – очень сильное возмущение – было в большой мере вызвано тем, что люди своими глазами (по телевидению) видели ее жестокость»11. Аргумент действительно сильный.
Уайт затем говорит, что телевизор также помогает и усваивать серьезное искусство тем, кто этого хочет (он, видимо, имеет в виду «четвертую сеть» телевидения – просветительную); что экранизации литературных произведений, как показала практика, не отбивают интерес к чтению, а повышают его; что количество издаваемых «книг в бумажной обложке» (paperback books) увеличилось в 1970 году в двенадцать раз по сравнению с 1960 годом. И наконец, он замечает, что «гомогенизированной» аудитории у телевидения, в сущности, нет. «50 миллионов зрителей» – только статистическая амальгама. Эта 50-миллионная аудитория состоит из индивидуумов, они воспринимают показываемое каждый на свой лад, в соответствии со своими запросами и интересами.
Последнее наблюдение особенно симптоматично. Мы находим здесь совершенно иной взгляд на «массы», чем у Дуайта Макдональда. И это не случайно. События последних лет показали, что «потребительская масса» и не однородна, и, главное, совсем не так пассивна и безучастна, как думали «высоколобые». Она способна протестовать против войны во Вьетнаме, активно воздействуя на политику, отвергать мифы буржуазного процветания и демонстративно отказываться от буржуазного образа жизни. Пусть это брожение молодежи – но молодежи, вышедшей из недр общества потребления, составляющей немалую его часть и являющейся его будущим. Так не фикция ли то «Великое молчаливое большинство», которое так усердно закармливают сладкими и пряными эрзацами поставщики китча, полагая, что ему ничего больше и не надо? Может быть, это большинство не столь уж молчаливо?
И составляет ли большинство тот пресловутый китч-менш в чистом виде, который всецело удовлетворяется пошлыми заменителями искусства, жаждет их и предъявляет на них усиленный спрос? Это теперь тоже не кажется несомненным. Конечно, не будь спроса, не могло бы быть и предложения. Но спрос в ряде случаев порождается искусственно, почти насильственно внушается, навязывается теми, кто заинтересован в сбыте. Это напоминает опыты с «невидимой рекламой»: реклама того или иного продукта демонстрируется на экране во время киносеанса, но так быстро, что глаз зрителя не успевает ее фиксировать, однако она воспринимается подсознательно и вызывает желание приобрести этот продукт. Зритель, выходя из кинозала, и не подозревает, что желание внушено рекламой, а не возникло само собой.
Сходный эффект достигается и обычной рекламой в силу ее гипнотической навязчивости. Не то чтобы потребитель искренно очаровывался фотографиями красоток, демонстрирующих новые образцы белья, или искренно верил, что станет «настоящим мужчиной», куря такой-то сорт сигарет. Все это ему достаточно надоело и примелькалось, но примелькавшееся тем не менее способно суггестивно воздействовать на психику: многократное настойчивое повторение есть, как известно, условие гипноза.
В осознанном же восприятии рекламных китч-художеств у широкого потребителя, скорее, преобладает равнодушие или раздражение. Были случаи, когда пошлая реклама понижала спрос. Так, потерпела неудачу крупная нефтяная фирма, рекламируя свой продукт изображениями девиц в мини-юбочках, развеваемых ветром, – вместо того чтобы увеличиться, продажа бензина уменьшилась. Опрос показал, что публика находила эту рекламу глупой и приторной. Зато имела неожиданный успех пародийная реклама в духе поп-арта.
Сознанием людей, пусть самых «средних», нельзя безнаказанно манипулировать до бесконечности: наступает предел насыщения, перенасыщенность. Отрицательные реакции массового потребителя на китч – и не только рекламный – находят выражение в процессах, происходящих внутри массовой культуры: сами ее поставщики вынуждены реагировать на изменения вкусов потребителей. Процессы разные и неравнозначные, но, как бы ни было, симптоматичные.
Из них, пожалуй, наиболее внешним и поверхностным является тяготение к элитарному искусству. Тенденция эта не новая. Кристиан Келлерер едва ли прав, утверждая, что стилистика китча связана лишь с «мумифицированными» эстетическими догматами прошлого. Китч сам имеет внутри себя определенную иерархию, всегда существовал и «китч для избранных», вводивший в моду то, что в данный момент котируется в кругах интеллектуальной элиты. Причем, как замечает тот же Келлерер, успешнее всего происходит «окитчивание» тех художественных течений, чьи стилевые методы в наибольшей степени поддаются формализации. То есть – добавим от себя – тех, где формы легче отслаиваются от содержания, не вытекая из него с полнейшей внутренней необходимостью. Тогда из них не так трудно скроить одежду для тривиального содержания. Произведения Обри Бердслея сами по себе были явлением оригинальным, и называть их китчем – несправедливо; однако они тут же – почти без временного интервала – породили лавину безвкусных вариаций, что бросает определенный обратный отсвет и на творчество Бердслея. Не так-то легко поддавался «окитчиванию», например, Врубель: тут имели место прямые подражания, подделки, но не удешевленные массовые вариации, ибо формы Врубеля органически вырастали из внутренней глубины и не могли быть от нее оторваны.
«Авангардные» течения последних лет – нонфигуративные и сюрреалистические – вполне пригодны для размена на мелкую монету: первые – в области декора (что, кстати сказать, бывает и вовсе не плохо), вторые – преимущественно в области дешевых изысков и триллеров. О Сальвадоре Дали в этой связи уже говорилось.
Джилло Дорфлес пишет: «…Один из странных аспектов настоящего исторического момента скрывается именно здесь. Некоторые графические формулы и цветовые сочетания, которые еще вчера были исключительным достоянием культурной элиты, ныне “просачиваются” – в большей мере, чем можно предполагать, – в визуальный обиход масс. Человек с улицы очень часто вступает в контакт с модернистскими произведениями искусства – или по крайней мере со схемами, почерпнутыми из него, – через посредство рекламных афиш, киноафиш и телевидения»12.
Если такого рода контакты с элитарным модернизмом в чем-то и «облагораживают» продукцию массовой культуры, то они не меняют ее суррогатного, облегченного, нивелирующего характера. Гораздо серьезнее и важнее (и новее) другая тенденция: год от году нарастающая потребность в документальных жанрах, в широкой информации о том, что происходит в мире, в достоверном репортаже. Прежде всего это, конечно, касается телевидения, но в сильной степени затрагивает и кино, и театр, и литературу, а в какой-то мере даже изобразительные искусства (где вновь укрепляются позиции художников – «свидетелей времени»). Документализм не насаждается сверху, а идет от требований «человека с улицы», которому опостылели псевдособытия, господствующие на экранах, – он хочет знать, как обстоят дела в действительности. Ежи Теплиц в книге «Кино и телевидение в США» рассказывает об опросе случайных прохожих, произведенном корреспондентами телевидения. «Оказалось, что почти все опрошенные единогласно требовали увеличить число программ на злободневные темы. Так, некая интеллигентная дама среднего возраста заявила: “Побольше комментариев о том, что происходит на свете”. Джентльмен из Гринвича сказал: “И побольше дискуссий. Даже сообщения из мировой жизни грешат конформизмом”, а четырнадцатилетний паренек попросил: “Я хотел бы увидеть по телевидению, как будет выглядеть мир в будущем”. Негритянка из Бронкса сетовала на то, что по телевидению показывают слишком много старых фильмов, а ей хотелось бы увидеть что-нибудь действительно современное»13.
За последние годы в списках бестселлеров, то есть наиболее читаемых и раскупаемых книг, получают перевес книги «non-fiction» – мемуарные, биографические, документальные и даже социологические. «Художественное» пользуется меньшим спросом. Не потому ли, что в массовом сознании, перекормленном китчем, «художественное» привычно идентифицируется с выдуманным, поддельным, лживым?.. Кто ищет правды, предпочитает ныне иметь дело с сырым материалом действительности, как она есть. Через документализм, через «новый журнализм» происходит окольное возвращение к реализму14, но не потому, что реализм, как полагал Клемент Гринберг, «легок» и «дает готовые формулы», а как раз по обратной причине.
Есть еще и своеобразная форма реакции на китч – ирония и пародия: знак того, что китч-мифы, китч-фетиши и китч-очарования не очень-то принимаются всерьез широкой публикой, по крайней мере значительной ее частью. Она пользуется ими, поскольку погружена в них по горло и к другому не приучена, но пользуется с оттенком самоиронии, самоглумления – а отсюда появление элементов пародии и гротеска и в самих предметах, которыми она пользуется. Как уже упоминалось, пародийная реклама нередко имеет большой успех. Появляются пародийные комиксы, пародийные детективы, которые, в общем, преследуют ту же цель, что и обычные комиксы и детективы, – развлекать, но присоединяют щепотку перца, подсмеиваясь и над собой, и над своими читателями.
Карикатура, юмористическая графика, которая сама, конечно, принадлежит к массовой культуре и пользуется у массового зрителя успехом (Гринберг в упоминавшейся статье называл даже «Нью-Йоркер» рассадником китча), перелицовывает китч подчас очень ядовито. Если, например, в газетах рекламируется «кукла, способная любить», похожая на живую женщину, то на рисунке карикатуриста можно увидеть человека, целующегося с девицей на шарнирах. Если китч-триллеры в кино и в литературе призваны давать потребителю эрзацы острых ощущений сценами насилий и ужасов, то у карикатуристов это выглядит примерно так женщина ест кусок арбуза, вырезанный из живота мужчины; мужчина срывает с женщины платье, потом белье, а потом и кожу, пока от нее не остается один скелет; жеребец насилует игрушечную деревянную лошадку. Если китч красивой жизни манит картинами прекрасных уютных вилл и усовершенствованных бытовых вещей, то карикатуристы рисуют рояль с оскаленными зубами, стул, заложивший ногу за ногу, часы с шестью стрелками и человека, сросшегося со стулом.
Но карикатура – это все-таки карикатура: карикатуристы испокон веков высмеивали моды и модниц, однако сами модницы относились к модам совершенно серьезно. Теперь самоиздевка – осознанная или неосознанная – присутствует и в модах как таковых: мода и создает некий «имидж», и одновременно пародирует его неподлинность, характерную для дурного вкуса утрировку доводит до самоотрицающего гротеска. Как иначе можно понять моду на «трупный» цвет лица, на рваные штаны, на очки с транзисторами, на разноцветную татуировку, на меховые чашки? Конечно, все это крайности, эксцессы, но они показательны.
И вот в этом пункте современный китч – сфера банальности – парадоксально смыкается с поп-культурой – сферой экстравагантности. Китч, сам на себя восстающий, но не способный выйти за свои пределы; банальность, выворачиваемая наизнанку, – это, собственно, и есть «поп».
Поп-арт сначала возник не как массовое течение. Он принадлежал культуре «авангардистской», широкая публика мало интересовалась его выставками, зато самые изысканные критики их оживленно обсуждали и ломали головы над его загадкой. Вот краткая и достаточно объективная описательная характеристика поп-арта: он «увлекается формами и темами, находящимися вне сферы высокой культуры: комиксами, рекламой, промышленностью, дешевыми постановками кино и телевидения. Произведения художников этой школы отличаются фотографичностью, объемностью, вульгарностью, искаженностью и хаотичностью; в них фигурируют такие несовместимые объекты, как пустые бутылки, консервные банки, бумажные деньги, флаги, унитазы, телевизоры, фотографии Мерилин Монро и т. п. Типичны для поп-арта также коллажи, составленные из “находок” – утиля и отбросов современной промышленной цивилизации… Трудно решить, что преследует поп-арт насмехается ли он над своими вульгарными сюжетами или прославляет их. Быть может, за обесчеловеченной беззаботностью поп-арта скрывается отвращение к миру, который создаст человек, отвращение, частично направленное даже на само человеческое сознание. Этим, возможно, и объясняется скрытое стремление поп-арта: избегая глубин человеческого сознания, оставаться на поверхности и оперировать лишь шаблонами массовой цивилизации»15.
Последнее наблюдение помогает понять, почему поп-арт смог врасти в массовую культуру, положить начало одному из ее ответвлений. У поп-арта много общего с китчем по существу, а не только по «формам и темам», которые он причудливо перетасовывает и комбинирует. Ведь и китч «остается на поверхности, избегая глубин человеческого сознания», предлагая стереотипные ответы на все случаи. Правда, поп-искусство не дает вообще никаких ответов, но и не ставит никаких вопросов; заведомо исключает вопросы и размышления, что, конечно, самое удобное для «бегства от истинного решения жизненных противоречий» и гарантирует максимальную облегченность – почти на уровне биологическом. Тривиальное содержание редуцируется до бессодержательности, а ощущения остаются «в чистом виде». И уж чего-чего, а хорошего вкуса не приходится искать в поп-мистериях. По всем статьям поп-культура являет собой отрасль китч-культуры, получившей прививку «авангардного» нигилизма поп-арта.
Как видно, ироническая реакция широких кругов на китч – процесс двойственный по своему внутреннему значению и по воздействию на массовую культуру. С одной стороны, он несет в себе отрезвляющее и оздоровляющее начало юмора – врага стереотипов. Юмор и связанная с ним игра фантазии входят в массовую культуру шире, чем это было раньше, – через сатирическую графику, пародийные зрелища, пародийную рекламу, через впечатляющую гротескность оформительских приемов – хотя бы на выставках ЭКСПО. Но с другой стороны, насмешливое отношение к стереотипам – если сознание не в состоянии над ними возвыситься, да и не ищет этого – приводит к стереотипам навыворот, к пародийности тупой и тупиковой.
Будет ли натяжкой предположить, что и вся так называемая «контркультура» бунтующей, экстремистски настроенной молодежи вышла из лона китч-культуры (через посредство «поп»), унаследовала ее психическую одномерность, впитала ее инфантилизм? Далекость от культуры подлинной сделала возможным взрыв гнева против культуры вообще, которая сливалась в представлении молодежи с китчем. Но тот же самый китч, в его наиболее разухабистых, «экзажерирующих» формах, давал импульсы и поставлял материал для «контркультуры», поскольку сознание вращалось все в этом же кругу, все в этих же категориях. Молодежь интуитивно чувствовала фальшь духовного ширпотреба, но в простоте души полагала, что для преодоления фальши нужно лишь покончить с лицемерной маскировкой под нечто «высокое». Разве пресловутая сексуальная революция не связана преемственно с порнокитчем, давным-давно имевшим широкое хождение? Разница только в том, что с порнокитча сбрасывается покров некоторой застенчивости. Автор статьи о порнокитче в антологии, составленной Дорфлесом, указывает, что в порнокитче обычно присутствует эвфемический аспект: китч-менш не хочет, чтобы его считали эротоманом и предлагали грубую порнографию, он должен верить, что перед ним – нечто имеющее художественное или воспитательное значение, или (какв случае с «куклой, умеющей любить») показатель высокой техники. Эта завуалированность отрицается в сексуальной революции: пусть вещи будут названы своими именами и показаны без ложного стыда. Но вещи-то остаются теми же, на том же примитивном уровне осознания. Лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» – прямое детище мышления китч-менша: чего стоит само представление о любви как о занятии.
Вероятно, прав американский критик, утверждающий, что нет гомогенной массовой аудитории: всякий по-своему воспринимает то, что ему показывают и рассказывают, черпает оттуда то, что ему нужно, что способно дать форму его собственным смутно бродящим стремлениям. Что же, однако, получается, если источник, откуда он черпает, на девять десятых замкнут в границах низменного и пошлого? Тогда приобретают низменную окраску даже хорошие – но неясные и незрелые – побуждения. Возникает низменная высокопарность, культивируется низменная любовь, революционные потенции направляются по низменному руслу, и в итоге мятежные порывы, подобно бумерангу, возвращаются в низменное лоно свое. Какие образы – если говорить конкретно – эмоционально вдохновляли мятежных «блудных детей», жаждущих действия, свободы, раскованности? Образы Джеймса Бонда, героинь Брижит Бардо16. Хиппи усиленно обвешивались портретами кинозвезд. Типично китчевое обожание суперменов было обращено на Мао Цзэдуна. Типичная опять-таки для китча «экзажерация» и культ сильных, но неподлинных ощущений, обернулись тягой к коллективному экстазу и наркотикам. Смешение всего и вся без «чувства соразмерности и сообразности» (которое, на ином уровне, так очевидно выступает в китч-композициях – какой-нибудь рекламный букет из унитаза, роз и полотенец с Моной Лизой) сказалось в чудовищном эклектизме несовместимых друг с другом политических лозунгов, поверхностно воспринятых идей и течений.
Словом, если уровень культуры имеет реальное отношение к социальным движениям и влияет на их характер, то перед нами пример того, как низкопробная полукультура, на которой в основном воспитывалось молодое поколение, способствовала внутреннему опустошению, обессиливанию молодежного движения протеста. Дело, конечно, не только в дурном вкусе, ею привитом (хотя все это связано), но в отсутствии позитивных идеалов, что и явилось истинной трагедией этого движения и свело его на нет. Позитивные идеалы не могли быть взращены китч-культурой, которая подменяет ценности суррогатами, идолами.
Теперь, когда «буйствующие шестидесятые годы» остались позади, новое молодое поколение, как кажется, начинает понимать ошибки своих предшественников; исподволь назревает стремление к культуре подлинной, некрикливой, способной научить мыслить.
Приобщение к настоящей культуре – дело трудное, медленное и постепенное, но не школярское или не только школярское: одних ретроспекций классики недостаточно, и культура академическая не может заменить современную и живую. А современная культура должна иметь дело с реалиями современности, с наличествующим материалом, должна переработать его и возвысить. Она, к примеру, не может просто отречься от телевидения по причине его вульгарности, но может извлечь из него новые, позитивные возможности. Как в условиях современного Запада могут бороться прогрессивные силы общества за подлинную культуру? Так называемый авангард явно не выдержал исторического экзамена, ибо ему нечего сказать людям, а быть замкнутой, автономной системой искусство по природе своей не может, не угасая. Так произошло угасание и самоистощение нефигуративной живописи – абстракционизма. Некоторые выходы в массовую культуру он совершил, оплодотворив ее новыми декоративными идеями, но и только – к этому в конечном счете свелась его историческая роль.
Реальные надежды на оздоровление культурного климата связываются не с элитарными заповедниками, а все с тем же популярным искусством, то есть искусством, доступным большинству людей, – включая сюда такие популярные роды, как телевидение, кино, дизайн, графику и т. д. К этому убеждению все более приходят прогрессивно и трезво мыслящие умы на Западе. Кто не склонен высокомерно отождествлять «массы» с тупым стадом, кто верит в творческие потенции большей части рода человеческого, а не только «избранных» единиц, тот не может считать массовую культуру заведомо обреченной на низкий уровень, на пошлую тривиальность. Даже в предельно неблагоприятных социальных условиях, когда коммерция диктует культуре свои требования, в противовес ей из недр массовой культуры поднимаются иные течения, а в среде «потребителей» возникают иные запросы.
Другими словами, не все в массовой художественной продукции Запада представляет собой китч, и не только китч пользуется массовым успехом. Ежи Теплиц в упоминавшейся книге об американском кино и телевидении (писавшейся еще в 1962 году) говорит: «В Америке все более явно образуются два круга зрителей. Одни зрители ищут в телевидении, в кино, как и вообще в искусстве, материал для раздумий, интеллектуальные стимулы. Вторая категория зрителей, более многочисленная, избегает всего, что может заставить размышлять, ищет развлечения и только развлечения. Происходит резкое разделение этих двух категорий зрителей, определение сферы интересов каждой из них, причем, что следует подчеркнуть особо, обе категории равным образом пользуются репертуаром популярных видов искусства, массовыми средствами связи»17.
В литературе, живописи, графике, прикладном искусстве, оформительском и даже в производстве сувениров также есть круги более взыскательной публики, и во всех этих отраслях существуют (хотя не преобладают количественно) произведения популярные и вместе с тем художественные, причем не обязательно дорогостоящие.
Выходит, дилемма, поставленная Гринбергом и Макдональдом, – либо подлинное искусство, оно же авангардизм, либо массовая культура, она же китч – ложная дилемма. Совсем не так глупы «массы», как они полагали, и совсем не так безнадежно массовое искусство. И сама отмеченная этими авторами «диффузия» авангардистских и массовых форм культуры объясняется, видимо, не только тем, что авангардисты не могут устоять перед коммерческим соблазном и начинают суетно угождать массовым вкусам. Скорее всего, имеет значение и то обстоятельство, что художнику – если он художник – попросту душно становится в «башне из слоновой кости»; в нынешнем бурлящем и сотрясаемом подземными толчками мире он не может спокойно заниматься «имитацией имитирующего» и ищет контактов с широкой аудиторией.
Культуртрегерская тенденция, выраженная в цитированной выше статье Дэвида Мэннинга Уайта, для переживаемого момента характерна: ее представители мирятся с тем, что массовая культура была и остается, на большую долю, вульгарным ширпотребом (что поделаешь!), но считают – не без основания, – что в принципе она может являться носителем и пропагандистом подлинной культуры.
В этой связи возникает и потребность приглядеться более пристально и менее высокомерно также и к вульгарному ширпотребу – то есть китчу. Что он, собственно, такое? Почему обладает «мировой властью»? И нет ли неких посредствующих звеньев, связывающих его с настоящим искусством? И не может ли он быть в современном искусстве тем или иным образом переплавлен? На манер поп-арта или еще как-нибудь?
Этот «академический» интерес к китчу с неожиданной быстротой перерос в моду, в увлечение – причем в среде художественной, искушенной, понимающей, что китч есть китч, а не что-либо иное. Любители и коллекционеры китча из этой среды отдают себе отчет в отличии его от «высокого искусства», умеют разобраться, что к чему, и более всего интересуются образчиками суперкитча, заведомо далекого от искусства и по-своему выразительного в своем великолепном пренебрежении всеми нормами хорошего вкуса.
Нелегко разобраться – откуда эта странная мода. Видимо, она возникла на скрещении многих разнородных побуждений. Есть тут, несомненно, элемент обыкновенного снобизма и погоня за причудами. Есть то, что Дорфлес называет потребностью вновь мифологизировать демифологизированные объекты, рассматривая их как выражение высшего уровня фальсификации. Или то, что он же называет завистью к средним классам, способным столь дешево и сердито удовлетворять свои эстетические потребности. Но есть и своего рода пытливость: есть же что-то в произведениях такого рода, если стольким людям они нравились. Есть желание понять, почему они нравились; отрешиться от презрения к «среднему обывателю»; поискать каких-то новых форм выражения и т. д. Наконец, не последнюю роль играет ностальгический элемент. Неслучайно ценится не столько китч современный, сколько китч «ар нуво», вещички из бабушкиного сундука, старые поздравительные открытки… Собственно, такого рода предметы со временем утрачивают свою «китчевую» природу и становятся уже чем-то иным: воспринимаются как документы времени или как «наивное искусство». На них ложится, как говорит один исследователь, «смягчающая патина времени» (то же, кстати, относится к старым фильмам ранней эпохи развития кино – с Верой Холодной или Глупыш – киным). Современный человек смотрит на них с таким же чувством, как взрослый – на куклы, которыми играл в детстве: неважно, хороши они или плохи, – они вызывают рой приятно-печальных воспоминаний.
Дорфлес считает необъяснимым тот факт, что за последние годы возник такой неудержимый интерес к периоду «ар нуво»– к его интерьерам, декору, архитектуре и графике: «…большинство этих произведений, – говорит он, – всего несколько десятилетий спустя было совершенно отброшено и презираемо, и только в самое последнее десятилетие они опять вызывают неожиданную экзальтацию»18. Причиной может быть власть ностальгии по прошлому, которая сама, в свою очередь, рождена своеобразным комплексом вины – исторической вины. Как потерпевший жизненное фиаско человек мысленно обращается к прошлому и старается понять, где же, в какой момент была совершена непоправимая ошибка, ложный шаг, которого тогда еще можно было избежать (и то время кажется ему потерянным раем), – так делает и общество. Оно обращает свои взоры к историческому кануну нынешней эпохи – когда еще не было мировых войн, не было фашистских режимов, не было угрожающего развития техники, а все это только стояло у порога, через который – кто знает? – может быть, могли бы и не переступить. И сколь мало приглядной ни была сама по себе реальная «бель эпок» – она ностальгически притягивает людей 1970-х годов, и ее китч наполняется в их глазах новым очарованием.
Остановимся в заключение на двух книгах зарубежных исследователей, где имеется характерная для современного момента постановка вопроса о китче и его взаимоотношениях с подлинной культурой. Первая книга – уже не раз упоминавшаяся антология Джилло Дорфлеса – пример академического подхода к вопросу. Вторая – француза Жака Стерн-берга19 – мотивирует вспышку интереса к китчу и его «реабилитацию» в художественных кругах.
Труд Дорфлеса – просветительский по своей установке. Он хочет добросовестно и объективно разобраться в феномене китча, демонстрируя на многих примерах, что такое дурной вкус. Во введении Дорфлес пишет: «Если кто-то окажется недовольным нашим обзором и найдет, что некоторые из произведений, здесь представленных как псевдохудожественные, на самом деле являются художественными, плохо дело! Для нас по крайней мере это будет значить, что наш читатель – китч-мен чистой воды; этот психологический тест очень хорошо себя оправдывает»20. Дорфлес, таким образом, ни в коей мере не «реабилитирует» китч. Но он и не отождествляет его с массовой культурой, особо оговаривая и подчеркивая, что не следует смешивать китч с «низкими» жанрами. Он говорит, что низких жанров нет: кино, дизайн, афиши, промграфика – такое же искусство, как поэзия, живопись, театр. Затем он замечает, что количество китч-менов велико, но не так велико, как иногда думают; что часто непонимание искусства зависит просто от недостаточной подготовленности, которую любой средний человек может при желании приобрести. Другое дело те, у кого сами исходные установки по отношению к искусству ориентированы на китч: искусство должно быть приятным и услаждать, или быть «приправой», «фоном», оно ни в коем случае не должно быть серьезным и требующим мыслительной активности. Подобным образом они подходят и к произведениям настоящего искусства и судят о Рафаэле так, будто он изготовитель почтовых открыток.
По поводу современной китч-продукции Дорфлес высказывает следующую мысль: даже антихудожественные предметы могут войти, как элемент, в художественное целое, в художественный ансамбль. Важно изменить контекст, совершить некую транспонировку. Когда транспонировка производится в китч-направлении, то и выдающиеся произведения искусства становятся антихудожественными; примеры многочисленны – готический собор, превращенный в настольную шкатулку, скульптурная группа Родена «Поцелуй», имитированная живыми людьми и затем сфотографированная (так называемый «живой Роден»), музыкальная классика, аранжированная в духе поп-музыки, экранизации, опошляющие оригинал, дайджесты и пр. Но возможно и обратное – когда произведения низменные меняют свою природу, будучи включены в художественно значимое целое. Автор приводит пример: общий силуэт Нью-Йорка величествен и эстетически впечатляющ, хотя, проанализировав его архитектуру в деталях, можно убедиться, какой китч представляют собой нью-йоркские небоскребы в вавилонском стиле, статуи и декоративные мотивы. Дорфлес ссылается также на композиции Раушенберга и Джаспера Джонса, составленные из предметов пошлых и заурядных, но в целом производящих совершенно иное впечатление. Заметим, что Дорфлес мог бы привести примеры и более убедительные. В этой связи можно вспомнить о коллажах Пикассо и Брака, о «скульптурах» Пикассо, включающих в себя портновские манекены «бель эпок». Русский читатель может вспомнить об интересных опытах «бубнововалетцев» – Кончаловского и других, использовавших эстетику малярных вывесок, обоев с цветочками, семейных портретов и прочих китчей, излюбленных в мещанской среде русской провинции.
Если говорить о кино, то каких блистательных эстетических результатов достигает Феллини, построив изобразительную сторону фильма «Джульетта и духи» на переосмысленном и перекомпонованном китче стиля «либерти», а отчасти и на современном китче цветных фотографий в журналах. Поистине – все зависит от характеров целого, от высоты или низменности общей эстетической доминанты. Беда поп-арта не в том, что он использует «шаблоны массовой цивилизации», а в отсутствии у него этой высокой доминанты.
Жак Стернберг идет значительно дальше Дорфлеса, которого он с иронической почтительностью называет «одним из возродителей китча». Свою богато иллюстрированную книгу, куда включены также и литературные произведения в отрывках, он предваряет замечанием: «Мы можем вас уверить, что эта книга совершенно не содержит образцов хорошего вкуса. Только самое худшее в художественном китче, порнокитче, рекламном китче и обстановочном китче было отобрано здесь истинными ценителями китча»21. После этого лукаво-провокационного предуведомления читатель открывает книгу, которая действительно по общему впечатлению кажется апофеозом дурного вкуса – и обнаруживает затем, что туда включено много, в данном контексте, неожиданного. Не только множество произведений сюрреализма и поп-арта, но и рассказы Оскара Уайльда, Габриеля Д’Аннунцио, отрывок из «Лавки древностей» Диккенса, стихи известных и почитаемых поэтов, выдержка из книги Уолтера Патера, где он характеризует Мону Лизу Леонардо да Винчи («Она старше скал, среди которых сидит; как вампир, она много раз умирала и познала тайны гроба…» и т. д.), наконец, кадры из фильмов Феллини и Антониони.
Этими своеобразными вкраплениями Стернберг хочет проиллюстрировать свою мысль о том, что разница между хорошим и плохим вкусом более чем относительна, что «китч – всюду», и во всех искусствах имеется не «капля китча» (по выражению Броха), а «несколько пинт», и что даже «хороший вкус – враг искусства». Последнее изречение принадлежит Марселю Дюшану. Но Стернберг ссылается также на Бодлера, Уайльда, Ростана, которые, по его мнению, тоже недолюбливали хороший вкус. Самого Стернберга хороший вкус не устраивает тем, что он, как ему кажется, обрекает на скучную стерильность, тогда как китч «тяготеет к союзу с причудами, фантазией и анормальностью». Он приводит любопытный инвентарный список предметов, находившихся в гостиной 1890 года, и рядом – список предметов в гостиной I960 года. Первый очень длинный, второй короткий. В первом встречаются такие вещи, как хрустальные шары, расписанные раковины, осколок амфоры, игрушки, 12 картин маслом и т. д. А во втором – только «функциональные» предметы, телевизор, часы, телефон. В 1890 году, говорит Стернберг, «гостиная была коллекцией бесполезных предметов, может быть мнимо художественных, но почти всегда в каком-то смысле характерных, экстравагантных, громоздких, иногда смешных, но, во всяком случае, необычных». Современный же интерьер «эпохи реализма и антикитча» – унылое место. «Гармония посредственности. Ничего неожиданного, необычного, барочного или экстравагантного. Нет комнаты для грез и фантазий»22.
Стернберг считает, что возросший интерес к китчу (или «кемпу» – китчу прошлого) со стороны художников и интеллектуалов указывает на бунт против функциональной утилитарной культуры, означает «насмешливую пощечину 1950-60 годам». «Не нелогично, что сюрреалисты или их кровные братья – основатели Bizarre, High Society, Plexus и т. д., которые клянутся в верности барокко, грезам, странностям, становятся первыми, кто полностью поддастся соблазну определенного сорта дурного вкуса – китча»23.
Едва ли есть необходимость спорить со Стернбергом по существу: уязвимое место его рассуждений слишком очевидно. Китч как таковой (а не как переосмысленный элемент иного художественного целого) чужд продуктивной фантазии уже по одному тому, что он тривиален и не выходит за пределы общих мест. Он не дает зрителю (или читателю) ничего сверх того, что «средний человек» ожидает, – только отработанное, клишированное, отштамповавшееся. Другого китч-мен и не признает. Он сердится, если ему предлагают что-то непонятное, то есть непривычное и неожиданное для него. А преувеличенность и утрировка – совсем не то же самое, что фантазия. Много ли фантазии в рисунке, где юная обнаженная мчится на спине у страшного мохнатого кентавра (один из образцов, приведенных в альбоме Стернберга)? Если это и фантазия, то весьма плоская, хотя кентавр предельно яростен, а наездница предельно соблазнительна. Между тем фантазии Пикассо, или Марка Шагала, или Сола Стейнберга в альбом этот не могли войти – слишком явно они далеки от тривиальности, от китча, от плохого вкуса. Отождествление «хорошего вкуса» с функциональностью, утилитаризмом и отсутствием фантазии, конечно, совершенно неосновательно.
При всем том книга Стернберга представляет определенный интерес как попытка теоретического обоснования «моды на китч» в интеллектуальной и художественной среде – с позиций преимущественно снобистских.
Процесс сближения массовой и авангардной культуры Запада переживает парадоксальную фазу. Если внутри массовой культуры назревает протестующая реакция на китч, тяга к подлинности, к документализму, к проблемности (показателен в этом плане неожиданный массовый успех повести-притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха), то авангардизм последней формации, делая следующий после поп-арта шаг, проявляет повышенный интерес к китчу и через него надеется получить приток живой крови. Какого рода гибрид или какая равнодействующая культурного развития при этом возникнет – покажет время.
Если современная массовая культура западного мира и китч являются синонимами, то нет смысла употреблять и то и другое слово – достаточно одного. Но они не являются синонимами, хотя с точки зрения теоретиков типа Гринберга и Макдональда это так и есть. Понятие массовой культуры, по прямому смыслу слова, обнимает собой все, что так или иначе выходит за пределы элитарных заповедников, что приемлется большинством и составляет духовную пищу большинства, а не малочисленных замкнутых кружков. В основном эта пища недоброкачественная – китч. Но, конечно, не только он. Кинематограф, телевидение, журнальная графика, карикатура, дизайн, «наивное искусство» самоучек уже по природе своей принадлежат массовой культуре, и у нас нет оснований полагать, что во всех этих областях китч властвует безраздельно. И внутри них, и в литературе, и в театре есть явления, не относимые ни к авангардизму, ни к китчу, доступные многим, но не пошлые: может быть, они-то как раз и представляют наиболее здоровый элемент современной западной культуры.
Что же касается собственно китча, то бесспорно, что стихия поддельного, тривиального и низменного сыграла и играет глубоко отрицательную роль отупляющего наркотика для масс. Однако познавательный, исследующий аспект в отношении к нему оправдан. Причем метод огульных и суммарных обобщений в этом случае, как, впрочем, и в других, недостаточен. Нужен дифференцированный подход, учитывающий множество аспектов. Нельзя просто растасовать все наличествующее по рубрикам. Существует много промежуточных, переходных, двойственных явлений. Даже из беглого знакомства с литературой, посвященной проблеме китча, видно, сколь разные вещи понимаются под китчем разными авторами. Мы, разумеется, не можем быть солидарны с теми, кто относит к китчу современный критический реализм.
Поэтому тут нужна известная осторожность. И не только поэтому. Границы между подлинным и неподлинным искусством существуют, но это не узкая и четкая линия, а достаточно широкая расплывчатая зона, которая может, при известных условиях, быть и промежуточной инстанцией движения от эстетического вакуума к эстетической культуре.
Ссылки
1 Цит. по: Kellerer C. Weltmacht Kitsch. Stuttgart, 1957. S. 8.
2 Герцен об искусстве. М., 1954. С. 253–254.
3 Чапек К. Об искусстве. Л., 1969. С. 195.
4 Чапек К. Последний эпос, или Роман для прислуги // Карел Чапек об искусстве. Л., 1969. С. 197.
5 Greenberg C. A Vanguard and Kitsch // Mass Culture. N.Y., 1965. P. 103.
6 Macdonald D. A Theory of Mass Culture // Mass Culture. N.Y., 1965. P. 73.
7 Ibid. P. 70.
8 Ibid. P. 63–64.
9 Ibid. P. 73.
10 Greenberg C. A Vanguard and Kitsch. P. 101.
11 Mannig White D. Mass Culture revisited // Mass Culture revisited. N.Y., 1971. P. 17.
12 Dorfles G. Kitsch. The World of Bad Taste. N.Y., 1969. P. 147.
13 Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., 1966. С. 268.
14 См. об этом: Туровская М. Куда делся реализм // Иностранная литература. 1973. № 8.
15 Хассан И. Авангард // Америка. 1966. № 115. С. 56.
16 О реальном влиянии их на «левое» движение см.: Бачелис Т. Счастливчик Бонд // Современное западное искусство. М., 1972; Дмитриева В., Михалкович В. Рождение мифа // Мифы и реальность. М., 1972.
17 Теплиц Е. Кино и телевидение в США. С. 268.
18 Dorfles G. Оp. cit. P. 16.
19 Sternberg J. Kitsch. London, 1974.
20 Dorfles G. Оp. cit. P. 11.
21 Sternberg J. Kitsch (страницы не нумерованы).
22 Sternberg J. Оp. cit.
23 Ibid.
Слово критика
Впечатления от выставки «Москва – Париж»[35]
Эдгар Дега. Балерина. 1885
Выставка грандиозна не столько по размерам, сколько по значению. Ею Музей изобразительных искусств имени Пушкина более чем достойно ознаменовал свое семидесятилетие. На протяжении последних примерно двух десятков лет в его стенах постоянно устраивались выставки, одна другой интереснее, знакомившие нас с сокровищами мирового искусства, в том числе французского. Музей давно перерос свою собственно музейную функцию, став настоящим центром культурной жизни. Но выставки такого типа, как «Москва – Париж», еще не бывало: это комплексная история художественной культуры двух стран за первую треть XX столетия. Она показана в параллелях, сопоставлениях и противопоставлениях, сделанных устроителями выставки столь мастерски и обдуманно, что наполняется вполне конкретным смыслом понятие об исторических закономерностях художественного развития. Здесь, в залах музея, эта отвлеченная формула становится зримой и ощутимой – вот, наверное, главный результат выставки, не говоря уже о полноте эстетического удовлетворения, которое она дает. Другой важный итог – наглядно предстала взаимосвязь русской, советской и французской культур, имеющая глубокие исторические корни, основанная и на прямых контактах художников, и на какой-то особенной духовной симпатии, издавна существующей между русскими и французами.
Еще один общий вывод позволяет сделать выставка «Москва – Париж»: она подтверждает, что в смятенный и грозовой XX век, по крайней мере в его первое тридцатилетие (поскольку этими хронологическими рамками ограничена экспозиция), создавалось большое, настоящее искусство, выдерживающее сопоставление с художественными достижениями любой другой культурной эпохи. Среди сотен полотен, показанных на выставке (будем говорить о живописи), почти нет посредственных, причем, естественно, не все шедевры начала века могли быть здесь представлены; общая панорама художественной жизни выглядит достаточно объективной и свидетельствует о высоком уровне искусства.
Вместе с тем, эта панорама ошеломляюще разнообразна: на небольшом сравнительно отрезке времени – меньше половины одной человеческой жизни – сколько перемен, какие неожиданные переходы и перепады! Попробуем вообразить себе аналогичную выставку произведений одного тридцатилетия XVII, XVIII или даже XIX века – она была бы гораздо более однородна и по стилю, и по направлению поисков. В сущности, это и не удивительно: жизнь в XX веке резко увеличила темп своих перемен. Искусство откликалось на них не только и не столько предметами изображения, темами, сколько ритмами, формами, красками, ощущением материи и пространства. Проходя по залам выставки, воочию видишь то, что Александр Блок называл «духом музыки» времени, «ревом и звоном мирового оркестра». Что и говорить, эти ревы, звоны и диссонансы подчас оглушают, вызывая ностальгическую тягу к стабильности. Сам Пикассо ее испытывал, хотя именно его творчество вобрало в себя всю динамику века, отразило все его перипетии. Он говорил, как трудно и рискованно для искусства не иметь строго очерченных границ и общеобязательного языка и каждый раз изобретать заново весь художественный алфавит от «А» до «Я». Действительно, художественное многоязычие XX столетия заставляет вспомнить миф о постройке Вавилонской башни, принимая во внимание, сколько было – даже в рамках основных течений – групп, подгрупп (часто эфемерных и быстро распадавшихся), манифестов, деклараций, кружков, программ… Нелегко во всем этом разобраться историку. Но с полувековой дистанции общие очертания вырисовываются яснее, стирается мелкое и однодневное, на фильтре времени остается значительное. И это значительное выставка «Москва – Париж» демонстрирует. Она дает богатейший материал для уяснения многих, до сих пор еще неясных проблем истории современного искусства, включая сюда проблему национальных традиций, диалектики развития, взаимодействия различных видов художественной культуры, великую тему искусства и революции и еще многое другое. В данной же статье содержатся всего лишь первые, далеко не упорядоченные впечатления зрителя, проходящего по залам выставки. В них неизбежно будет и случайное, и субъективное.
Художников рубежа XIX и XX веков, чьи произведения показаны в первом зале, когда-то тоже считали возмутителями спокойствия; теперь в это верится с трудом. Портрет женщины, сидящей в плетеном кресле в саду, кисти Ренуара – сама безмятежность. Если и есть в нем знамение нового века, то разве в том, что безмятежность как бы нарочно, полемически подчеркнута. Шестидесятилетний Ренуар на рубеже двух столетий оставался верен себе, он словно бы говорил новым художественным поколениям: вот – вечно прекрасное, лучшего вы не найдете. С этим в унисон звучит совершенная в своем роде скульптура Майоля «Средиземное море». А напротив висят «Сирень» и «Царевна-Лебедь» Врубеля. Врубель не меньше Ренуара был паладином красоты, как, впрочем, и многие другие художники; «новый стиль» (он же «модерн» и «ар нуво») исповедовал служение красоте (вот только где ее искать и что она такое – тут всегда было так же много расхождений, как и в том, что значит правдиво изображать натуру). Врубель мало интересовался импрессионизмом, форму понимал иначе, однако здесь, когда видишь его полотна рядом с поздними вещами французских импрессионистов, кажется, что между ними есть общее, особенно в этом культе прекрасного. Но безмятежности у русского художника нет. Его сказочные девичьи лики, «тающие и ускользающие» (как говорил Римский-Корсаков о героинях своих опер), полны вещей тревоги. Они молча о чем-то пророчествуют. Царевна-Лебедь уплывает во тьму и прощально оглядывается, делая свой предостерегающий жест. Если позволительно пофантазировать, можно представить себе эти картины Врубеля как символическую заставку ко всему последующему развитию искусства.
Начало века населено красивыми миражами, светлыми и сумрачными – поздний импрессионизм, неоимпрессионизм и ранний модерн отдают им дань. Розово-золотисто мерцающий, готовый раствориться в воздухе «Папский дворец в Авиньоне» Синьяка. «Призраки» Борисова-Мусатова. Таинственная «Дама в голубом» Сомова – одна из самых глубоких работ этого мастера. «Средиземное море» Боннара – удивительного живописного обаяния большое панно, где как будто бы все реально: просто море, солнце, деревья, просто дети резвятся и дамы отдыхают в тени, но и тут что-то призрачное, некое видение золотого века, по настроению напоминающее не то ландшафты Клода Лоррена, не то «Озерную мадонну» Джованни Беллини.
Если сравнивать эстетизм начала века во французской и русской живописи, можно заметить, что у французов он более «земной». Они склонны видеть очарование и грацию в настоящем, в том, что вокруг. Не призраки бродят по паркам, а современные люди. Как когда-то говорил еще Буден молодому Клоду Моне: «Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа…» Любые исторические ретроспекции и «анекдоты» давно были скомпрометированы академизмом, и переворот, произведенный импрессионистами, был в этом отношении необратим. Не кто-либо из французских художников, а русский Александр Бенуа создавал фантазии на темы Версаля Людовика XIV. Русские поклонники красоты не отказывались ни от «анекдотов» (то есть сюжетов), ни от вариаций на исторические темы. Это коренилось в традициях русской школы. А главное – у них были другие, более напряженные, чем у французов Третьей республики, отношения с современностью. Пережив глухие годы победоносцевского безвременья, а затем революционные события 1905 года и их подавление, русские писатели и художники не называли свою эпоху «belle epoque» («прекрасной эпохой») даже иронически: была эпоха предгрозовая, томительная, апокалиптическая, только не прекрасная, а искателям прекрасного надлежало, по словам Блока, «исколоть руки обо все шипы на стеблях красоты». Это выливалось в гофманиаду, фантасмагорию, исторический гротеск, ностальгическое мифотворчество – все то, что и принес с собой «Мир искусства» и чем поразили Париж дягилевские антрепризы. Но те же «эстеты» «Мира искусства» откликались на события 1905 года прямыми революционными памфлетами в журналах «Жупел» и «Адская почта», чей девиз был: «Против насилия и насильников, рабства и поработителей». Для современности у мирискусников была сатира, а в поисках красоты они уплывали, как аргонавты за золотым руном, в преображенное фантазией прошлое или в страну волшебных оперно-балетных грез. «Сколь пленительны», употребляя любимый оборот речи Александра Бенуа, были все эти армиды и сильфиды, полу-элегические, полунасмешливые лицедейства, сказки Шахерезады, призраки прошлого. В конце концов современность опосредованно жила и в них, от злобы дня никому никогда не удавалось уйти; если перед ней закрывают дверь, она врывается в окно; влечения к прошлому сами порождаются не чем иным, как характером настоящего, и в них по-своему осуществляется связь времен.
Но, конечно, русское искусство начала века ими далеко не исчерпывалось, и его общая картина оказалась бы на выставке обедненной без произведений Серова, Кустодиева, С. Иванова и других, отражавших современность непосредственно и по горячим следам: много весит на весах истории, хотя бы замечательное полотно С. Иванова «Расстрел» 1905 года. Традиции русского передвижничества видоизменялись, обновлялись, но не иссякали. Передвижники, как и французские импрессионисты, были убежденными глашатаями современности, стилизованные ретроспекции были им чужды, хотя совсем не был чужд интерес к истории; но исторические события они мыслили не «сквозь дымку», а так, как если бы все совершалось вот сейчас, на глазах. Суриков воссоздавал историю с пронзительностью эйдетического видения, как прямой ее свидетель. Репин, Суриков, Васнецов – «три богатыря» предшествующей эпохи – продолжали активно работать и в XX веке. Экспонированные на выставке произведения Репина и Сурикова в высокой степени интересны. Репин представлен блестящими по характеристике и артистическими по живописи портретными этюдами к «Заседанию Государственного совета», Суриков также портретами, мужским и женским. Для нас могущество Сурикова как исторического живописца подчас заслоняет его портретное мастерство; мы забываем, что оно лежит и в основе его исторических картин, где все лица найдены «на натуре». Поэтому особенно интересно увидеть Сурикова только как портретиста, убеждаясь, что и в этом качестве он был мастером первоклассным. Можно сказать – европейского масштаба, если бы вообще Россия не стояла на первом месте в Европе в сфере психологического портрета. Лицо человеческое, глядящие глаза – зеркало души, «мысль человека и мысль о человеке» (по выражению Б. Асафьева) – в этом самобытная сила русского искусства, да и нужно ли удивляться, что так оно было в стране Толстого и Достоевского.
Высокую роль портретного жанра сохранил и «Мир искусства». На выставке это видно. Не говоря уже о великом портретисте Серове (показаны его портреты Ермоловой, Горького, И. Морозова), о графическом автопортрете Врубеля, портрет оставался сильнейшей стороной творчества Сомова, Бакста, Нестерова, Малютина, в скульптуре – Голубкиной и Мухиной. (Среди художников парижской школы выдающихся портретистов меньше: пожалуй, только Модильяни. И еще – поразительной силы и глубины автопортрет Жоржа Руо «Подмастерье», известный по репродукциям, но впервые увиденный советскими зрителями в оригинале.)
Переходя из первого зала выставки в следующие, минуя изящные интерьеры модерна – французского и русского, мы замечаем, почти физически чувствуем, как переламывается время, меняется его ритм и окраска: наступает «не календарный, настоящий двадцатый век». Это происходило, разумеется, неравномерно, не повсеместно и не одним ударом, но приблизительно где-то у начала второго десятилетия – немного раньше или немного позже 1910 года, во всяком случае еще до «первого апокалипсиса», то есть до Первой мировой войны. Было бы понятнее, если бы эти переломы духовного климата совпадали с войной и были ее следствием, но нет: они начались раньше, загодя, как будто оправдывая афоризм «Великие события, идя на землю, отбрасывают вперед свои тени».
Настает конец элегиям. Вместо сиреневых и голубых мерцаний, дымчатых волнистостей, ирисов и стрекоз откуда ни возьмись, как мятежные духи огня, вырываются – взрываются – красные плясуны, красные бабы, красные кони… Раньше всего все-таки они возникают в революционной России 1905 года: знаменитый малявинский «Вихрь» (на выставке его эскиз), о котором Репин говорил: «Вот символ русской жизни 905 и 906 гг.!! Вот она: бесформенная, оглушительная, звонкая, как колокола и трубы оргия красок». Он называл ее «самой яркой картиной революционного движения в России», хотя не было на ней ни крови, ни знамен, ни пожаров, только пляска и полыхание крестьянского кумача. Вспомним также «Красный смех» Леонида Андреева, горящее сердце Данко в романтической сказке Горького и мечущееся по улицам Петербурга красное домино в романе Андрея Белого. Во Франции тех лет революционной ситуации не было, однако и там появилась своя звонкая оргия красок на выставке фовистов – «диких». Это прозвище, которым их тогда наградили, теперь кажется довольно неуместным: можно ли всерьез находить что-то дикарское у культурнейшего Матисса, ясного и благородного Марке, утонченного Дерена? И все же чем-то оно было оправдано – красочный взрыв фовистов был сигналом вторжения в европейское искусство своевольных стихий, парадоксальным образом сопутствовавших урбанизму и царству машин. А может быть, здесь и нет парадокса: чем больше обуздан и детерминирован человеческий дух на одном полюсе, тем неистовее рвется он из приоткрытого клапана на другом, тем нужнее ему отдушина. Матисс обещал отдых и облегчение «усталому, изнуренному, надорванному человеку». Но дал ему нечто большее, чем отдых, – радостную энергию.
Панно Матисса «Танец» предназначалось для лестницы щукинского особняка, где размещалось собрание новой западной живописи; старые москвичи еще помнят, как оно там смотрелось. Как пропилеи, оно приглашало на праздник искусства, ибо искусство прежде всего праздник, – так считал Матисс. Бывают художественные произведения, остающиеся в веках и запечатлевающиеся в сознании, как непреложная пластическая формула, к которой нечего добавить и тем более – нельзя ничего отнять. «Танец» к ним принадлежит. Никогда не перестанет изумлять и восхищать его исчерпывающая простота: зеленая земля, синее небо, огненно-красные люди, которые, кажется, танцуют и на земле и в небе одновременно. Если бы от всей живописи XX столетия осталась только одна эта картина, далекие потомки считали бы его веком счастливцев.
Но они бы сильно поколебались в этом убеждении, увидев другую картину, изображавшую тоже квазиженские фигуры и тоже в красных тонах на зеленом фоне, написанную другим великим художником века приблизительно в те же самые годы, – кубистское полотно Пикассо «Три женщины».
Репродукцию эрмитажных «Трех женщин» почему-то редко можно встретить в альбомах и монографиях о Пикассо, а между тем это одна из лучших вещей периода аналитического кубизма, думается, более сильная и цельная, чем разрекламированные «Авиньонские девицы». По ней видно, что кубизм Пикассо не столько эксперимент, сколько трагедия, язык трагического переживания, хотя мы привыкли считать его экспериментом и бесчисленные препарированные гитары и скрипки того же Пикассо, а также произведения Метценже и Глеза как будто дают для того все основания. Но эксперимент – скучное слово, когда речь идет об искусстве. Может быть, Пикассо хотел отвести от себя ярлык экспериментатора, упрямо настаивая, что он «не ищет, а находит». «Трех женщин» он нашел. Никнущие в полусне-полусмерти, они являют образ оцепенения, угасания духа в косном веществе, если угодно – гибели гуманизма. Этот образ не был бы столь сильным, если бы тела оставались гибкими органическими телами, а не складывались из обрубленных и вывернутых плоскостей, наподобие первобытных идолов.
Это не значит, что самый принцип кубистского расчленения, «геометризации», сдвигов формы всегда и у всех художников несет аналогичное внутреннее содержание. Выставка «Москва – Париж» наводит на мысль, что содержание всевозможных «измов» XX века внутри себя разнородно. На сходном формальном языке можно говорить о разном: с другой стороны – можно мыслить и чувствовать сходно, говоря при этом на разных языках. Мы видим на выставке много примеров разнообразных художественных функций кубизма (или его вариантов). Монументализированное, лишенное сентиментальности чувство природы у раннего Фалька («Пейзаж с парусом»); веселое цветистое «лоскутное» зрелище у Лентулова («Москва»); таинственно-экзотическое у А. Волкова («Гранатовая чайхана»). Кубистский «Натюрморт со скрипкой» Брака удивительно передает ощущение музыки, хотя скрипки как таковой там нет, нет и опознавательных примет, то есть нотных знаков. Обычно зрительным эквивалентом музыкальных впечатлений считают цвет; цветомузыка, начатая опытами Скрябина, кажется, уже признана как особый тип синтеза искусств. Между тем полотно Брака почти монохромно. Но в этих сочетаниях, расхождениях, взаимопроницаниях полупрозрачных сегментов столько гармонии. Наивно, впрочем, было бы думать, что всякий кубист, овладев «методом», мог бы создать подобное. Секрет в таланте Брака, редкостно музыкальном, гармоническом, – таким он остается и тогда, когда от кубизма отходит.
Основатели кубизма, Пикассо и Брак, очень мало интересовались той областью, для которой язык кубизма как бы предназначен – эстетикой индустриальных форм. Их натюрморты в духе «синтетического» кубизма – затейливые комбинации плоскостей и фрагментов – не имеют отношения к идее или пластическому ощущению технического прогресса, хотя в них есть ощущение города с его витринами, вывесками, столиками кафе, где бутылки, стаканы, газеты, гитары, наравне с гитаристами, читателями газет и потребителями абсента, образуют диковинные подвижные молекулы бытия. Пройдя через эту стадию, кубизм Пикассо впоследствии изживал себя в «игровом», театрализованном варианте, в гротескном оформлении балета «Парад». Но трубадурами технического века, царства машин, язык кубизма был подхвачен, переработан в язык «научно-технической революции», начинавшейся уже тогда, принося неоднозначные и до сих пор еще не определившиеся, а может быть, и непредсказуемые последствия. Тут воплощаются триумф человеческого разума и ущерб гуманистических ценностей, упоение властью над природой и угроза роковой ссоры с ней. Искусство, так или иначе берущее отправной точкой открытия кубизма, сказало здесь свое слово – опять-таки неоднозначное, в котором было и авангардное (без кавычек), и варварское (тоже без кавычек) начало. Это находит выражение в футуризме, кубофутуризме, супрематизме, в живописных конструкциях Фернана Леже, уже близко подводящих к братанию искусства с индустриальным производством, с «деланием вещей».
На выставке есть любопытная картина 1911 года «Кузница». Ее автор – основательно теперь забытый В. Баранов-Россинэ, ученик Петербургской Академии художеств, живший частью в России, частью во Франции. «Кузница» – в сущности, жанровая картина, интерьер с фигурами работающих людей, в котором даже перспектива сохранена. Вместе с тем она написана кубистскими «приемами». Это, конечно, эклектика, но интересная эклектика: убеждаешься, что такого рода приемы органичны для «индустриального» жанра (отсветы металла, просвечивание, цилиндрические формы, сдвиги), тогда как реалистически описательной трактовке поэзия подобных мотивов не поддается.
Позднейший путь кубизма ведет через «пуристскую» стадию, через «Эспринуво» Озанфана и Корбюзье в современную архитектуру, где и реализуются заложенные в нем элементы конструктивности.
Характерная для «левых» художественных течений эволюция (включая и более поздние – абстракционизм, поп-арт) – они никогда не начинались с прикладных задач, но всегда ими кончали. Зарождались они в лоне умозрительной метафизики или «чистой пластики», потом декоративные и производственно-прикладные функции выходили на первый план, формируя стиль бытовых предметов, влияя косвенно и на стиль человеческого поведения в быту. Так «элитарные» формы искусства становились чем-то довольно широко распространенным и привычным, но и постепенно изживали себя как искусство; в искусстве тем временем возникало уже нечто другое. На выставке «Москва – Париж» внимательный зритель заметит, как «ар нуво» начала века (который тоже был в свое время «левым» течением, хотя его так не называли) в 1920-е годы все еще жил во Франции в афишах кино, в рекламном плакате. Русский супрематизм нашел свой исход в агитационном плакате, в декоре фарфоровых изделий. «Производственники» 1920-х годов склонны были этот процесс абсолютизировать, утверждая, что «делание вещей», то есть слияние с повседневной жизнью, есть судьба и цель искусства. Теперь очевидно, насколько они ошибались: судьбы и цели искусства другие. Но не следует и недооценивать влияния его на быт, на предметную среду и даже на техническую мысль.
Кубизм и его ответвления несомненно такое влияние оказали, предвосхитив формы архитектуры индустриального века и выразив его динамизм, метафорически воплотив его волю к перманентным преобразованиям. Все это так, но теперь, через несколько десятилетий, в течение которых все эти геометризованные формы, сдвиги, совмещения аспектов многократно проигрывались и варьировались, кубистские полотна в большом количестве утомляют, разочаровывают (исключая, конечно, самые выдающиеся: как всегда, все решает сила таланта). Отчасти, может быть, потому, что технический прогресс и сама идея неподчинения природе успели продемонстрировать и свои негативные стороны. Для зрителя последней трети XX века эмоционально ближе то, что зовет к единению с природой. Нам теперь больше нравится, когда явления натуры не схематизируются в отвлеченной ритмике и динамике, но рассматриваются пристально и вплотную, а вместе с тем с участием фантазии (фотографизмом нас не удивишь!), напоминая о чудесности и неразгаданности сущего. Поэтому вновь и вновь волнует Врубель и захватывает Марк Шагал, поэтому сильное впечатление производят показанные на выставке полотна Филонова.
Если картины Врубеля мы знаем с детства, если нередко видим на выставках произведения Шагала (лет десять тому назад была и персональная выставка его акварелей), то Филонов чтится в узком кругу профессионалов, но очень мало известен публике. Это несправедливо: Филонов художник странный, но замечательный, из ряда вон выходящий. Он учился в Петербургской академии художеств, кажется, все у того же П. Чистякова – учителя Сурикова и Врубеля, за границей бывал редко; в отличие от большинства русских художников его поколения, он не связан с течениями французского искусства и вполне самобытен. Если уж необходимо его куда-то причислить, то, скорее всего, к экспрессионизму, благо это понятие широкое, но экспрессионизм Филонова не заемный. У него была собственная теория «аналитической» живописи, он интересовался древнейшими пластами культуры, первобытной мифологией.
Вероятно, следует поосновательнее узнать творческую биографию Филонова и его идеи, чтобы найти ключ к его зашифрованным картинам. Но и без всякого предварительного знания эти картины действуют магнетически, около них зрители, как искушенные, так и неискушенные, стоят подолгу. Две картины 1914 года – «Пир королей» и «Коровницы» – написаны анатомически жестко, чеканно (академическая выучка!), живопись, скорее, темная, но с интенсивными как бы металлическими красочными вспышками и отливами, напоминающими отсветы красочной майолики после обжига, которые так любил Врубель (может быть, поэтому Врубель сразу вспоминается, хотя в остальном общего мало). В «Пире королей» за пиршественным столом собрались какие-то вампиры, древние исчадия тьмы, происходит некий зловещий ритуал с ритмическими заклинающими жестами. Поэт Хлебников говорил об этой картине: «Пир трупов, пир мести» (случайно ли она написана в год начала мировой бойни?). «Коровницы» – не такая «страшная» картина, но более глубокая в своей экспрессии: в ней рассказано языком пластики об изначальном родстве всего живого, людей и животных. Они сбились в тесноте хлева, как в жерле печи, выпекающей жизни, освещенные отблесками ее пламени, – суровые работницы, они же праматери; коровы, они же мифические праобразы коров, лошадей, ослов; красный петух – вестник пожаров.
«Филоновское» ощущение мира знакомо и поэзии. В книге В. Альфонсова «Слова и краски» говорится, как влияла живопись Филонова на поэзию Н. Заболоцкого с его своеобразной натурфилософией. И в самом деле – вот Заболоцкий обращается к поэтам:
Тревожный сон коров и беглый разум птиц Пусть смотрят из твоих диковинных страниц, Деревья пусть поют и страшным разговором Пугает бык людей, тот самый бык, в котором Заключено безмолвие миров, Соединенных с нами крепкой связью.Любимыми художниками Заболоцкого, призывавшего: «Любите живопись, поэты!», были также Босх и особенно Питер Брейгель. По-видимому, есть какая-то преемственность с Брейгелем и у Филонова.
На выставке показаны и некоторые вещи Филонова конца 1920-х годов, в них нет анатомической обнаженности и жесткости – полотна, как бы сплошь затканные нежной перламутровой вязью «атомов», частиц, крохотных кристалликов, из которых там и сям возникают фигуры, головы, глаза, очертания построек, нечто вроде панорамы города, а также растения, звери… Бесконечно рождающее лоно, царство метаморфоз.
…Мир. Во всей его живой архитектуре — Орган поющий, море труб, клавир, Не умирающий ни в радости, ни в буре.Стихи Заболоцкого ныне изданы полностью, они известны, их изучают. Нужно смотреть и изучать Филонова – большого и совсем особенного художника XX века. Нужна выставка его работ.
Экспрессионистские или, лучше сказать, экспрессивные тенденции в искусстве до Первой мировой войны, французском и русском, проявлялись разнообразно, высказывались на разных художественных языках, не образовывая единого течения, единой школы наподобие «Моста» и «Синего всадника» в Германии. Казалось бы – французский фовизм представлял им аналогию, но это аналогия чисто внешняя: среди фо-вистов лишь немногие – Вламинк, Ван Донген – являются экспрессионистами по духу, причем голландец Ван Донген, художник очень плодовитый и популярный, был, если можно так сказать, салонным экспрессионистом. (Его эффектное полотно «Я и моя жена» – уже где-то на границе китча.) Экспрессионизм как прямое и личное выражение экстатического переживания, формирующего по своему подобию пластический образ, не сроден французскому художественному гению, и «чистых» экспрессионистов во Франции почти нет. Исключение – и замечательное исключение – Жорж Руо. На выставке показаны экспрессионистские гротески Руо, исполненные в 1905 году, когда движение экспрессионизма только зарождалось в Германии.
В 19Ю-е годы оно развивалось художниками парижской школы, то есть иностранцами, обосновавшимися в Париже надолго или навсегда.
Среди них были и русские – скульптор Цадкин, живописцы Сутин и Шагал. Цадкин, представленный на выставке «готической» фигурой «Пророк», впоследствии прославился патетическим монументом «Разрушенный Роттердам», воздвигнутом на площади Роттердама в память жертв Второй мировой войны. Полотна Сутина производят и сильное, и тяжкое впечатление: трагедия, не разрешающаяся катарсисом, ирония без улыбки. Поражает его «Бык» – висящая мясная туша, какое-то подобие окровавленного с распоротым животом человекоподобного существа, повешенного головой вниз и отчаянно сжимающего кулаки: метафора бессильного протеста замученных. Эмоции, внушаемые произведениями Шагала, иные – почти не поддающиеся словам, полифоничные, каждый раз новые, несмотря на внешнюю повторяемость мотивов: все те же сквозь призму фантазии и воспоминания увиденные пейзажи захолустного Витебска, летающие влюбленные, козочки, телята, то же ощущение «невесомости». Эйнштейн говорил, что самое прекрасное чувство связано с переживанием таинственности мира. У Шагала есть чувство таинственной поэзии простых вещей. Кто Шагал – экспрессионист, кубист, сюрреалист? Ни то, ни другое, ни третье: он создатель собственной мифологии, собственного художественного космоса. Также нельзя однозначно ответить на вопрос, к какому направлению принадлежат Пикассо и Матисс. Они вобрали в себя слишком многое из своего времени и слишком многим его одарили.
В русском искусстве 1910-х годов экспрессионизма как оформленного и осознанного художественного течения тоже не было, но повышенная экспрессивность, страстность вносилась русскими художниками во все, что они предпринимали, независимо от того, ориентировались ли они на свои «почвенные» традиции, на новейшие западные направления или на то и другое вместе (как было у художников «Бубнового валета»). Склонность «идти до конца», может быть и в ущерб чувству меры, переводить в эмоциональный план даже умозрительные построения словно заложена в генах русского искусства: она ведь была и у передвижников. Передвижники в XIX веке относились к французскому искусству сдержанно, с опаской, неизменно подчеркивая, что для них важнее всего содержание, тогда как для французов – форма. В XX веке культ пластической формы в ее самоценности, очищенной от «литературности», стал на какое-то время лозунгом, боевым кличем. Но и те русские художники, которые его безоговорочно принимали, вносили сюда свой эмоциональный «безудерж». Достоевский говорил устами Ивана Карамазова: «Что там (на Западе. – Н. Д) гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров». Так и происходило: французы выдвигали пластические гипотезы, русские доводили их до крайности и до взрыва. Не французу, а русскому Малевичу пришел в голову пресловутый черный квадрат – логический (или алогический?) вывод из идеи «чистого пластицизма», «нуль-форм», после которого… что же после него? После нуля остается снова начинать отсчет. И тот же Малевич пишет потом «Красную конницу», где на горизонте абстрактного пространства из стелющихся цветных полос (ср. с висящим неподалеку полотном Матюшина «Движение в пространстве») мчатся конкретные фигурки лихих всадников. А затем члены АХРР уже прямо возвращаются к доброму старому передвижническому реализму. Но об этом позже.
Дематериализация мира у Кандинского соседствует со сгущенной, гиперболической материальностью ведущих художников «Бубнового валета» – Кончаловского, Машкова, Лентулова. И они очень по-своему, очень по-русски ассимилировали идеи французской школы, с которой находились в тесном общении. Они вдохновлялись Сезанном, чье влияние особенно плодотворно сказалось у Кончаловского, оригинально претворяли кубизм (ср. «Красную Эйфелеву башню» Делоне и «Москву» Лентулова). Вместе с тем их влекло народное, русское – стихия ярмарок, балаганов, вывесок. В статьях Г.Г. Поспелова хорошо освещено творчество мастеров «Бубнового валета»; вещи, экспонированные на выставке, достаточно широко известны и говорят сами за себя. Натюрморты Машкова с громадными овощами и медными сосудами и сейчас ошеломляют своим живописным темпераментом и размахом.
Живой интерес вызывает творчество «еретиков» «Бубнового валета», считавших его все же недостаточно самобытным, слишком западническим и потому отколовшихся от этого объединения, – Ларионова и Гончаровой. Даровитому и разностороннему Ларионову, возможно, мешала именно его разносторонность, точнее сказать – перманентная обновляемость, подверженность той лихорадочной погоне за новым, во что бы то ни стало новым, которой в ту пору было охвачено искусство и которая выражалась в избыточности манифестов, деклараций, группировок. Кубофутуризм, орфизм, лучизм, неопримитивизм… На выставке несколько работ Ларионова, все интересные, но все разные: импрессионистские «Рыбы», лучистский «Петух», лубочная «Венера». Лучшая – «Отдыхающий солдат»: это не просто демонстрация «неопримитивистской» манеры, а нечто глубоко настоящее, как и выразительнейшие гончаровские «Прачки». Д.В. Сарабьяновым высказана очень верная мысль: в такого рода вещах происходит «возврат русских художников к жанровой картине, своеобразное возрождение жанра»1, передвижнической фабульной картины из народной жизни. Автор называет это «невольным передвижничеством», так как здесь не было сознательного возобновления традиции XIX века, но традиция эта самопроизвольно воскресла «как результат постоянства самих жизненных проблем». В самом деле: передвижники в свое время менее всего помышляли о «примитивизме», однако их полотна или репродукции доходили до самого низового зрителя, приобретали у него популярность и в массе кустарных копий подвергались примитивизации. Их копировала и распространяла, например, федоскинская артель, они внедрялись в изобразительный фольклор. Тем временем профессиональное «авангардное» искусство проходило все стадии приобщения к европейскому новаторству, трансплантации живописных новшеств на русскую почву, а когда, искусившись и пресытившись, обращалось к собственному национальному примитиву», оно находило там, помимо парикмахерских вывесок, тяготение к жанру, к картинам народного быта по типу передвижнических картин. Совершалось своеобразное возвращение к ним на новом витке спирали.
Во Франции, кажется, не было аналогичного процесса, там «примитивистские» тенденции питались от более древних и экзотических корней, чему положил начало еще Гоген. А бытовой жанр, как таковой, судя по выставке «Москва – Париж», продолжал свое существование не в примитивистском искусстве профессионалов, а в так называемом «наивном», то есть искусстве самоучек. Несколько таких работ на выставке представлено, например, любопытная картина Бомбуа «Атлет». Впрочем, пристрастие к экзотике – черта, характерная и для «наивных» художников, – была свойственна и самому прославленному из них, таможеннику Руссо, которому Пикассо в 1908 году устроил торжественное чествование в «Бато Лавуар». Пикассо умел ценить истинную оригинальность. Жаль, что на выставке показано только одно, хорошо известное москвичам полотно Руссо «Муза, вдохновляющая поэта» – лукаво-иронический портрет Аполлинера и художницы Мари Лорансен. Взрыв общественного интереса к наивному творчеству произошел значительно позднее 1930 года. В начале века примитивисты уже были, но примитивов настоящих, то есть самоучек, художниками никто не считал. Насколько это несправедливо – свидетельствуют произведения грузина Нико Пиросманашвили. На выставке две его прекрасные работы – «Дворник» и «Натюрморт с рыбой». Картины этого самоучки, делавшего вывески для духанов, обладают свойством выдерживать любое соседство, не теряться, не проигрывать рядом с полотнами самых больших мастеров. Его картина, изображающая застолье, была несколько лет тому назад на выставке европейского портрета с XV по XX век, устроенной тем же московским Музеем изобразительных искусств, – и там она могла потягаться с кем угодно. И на выставке «Москва – Париж» произведения Пиросмани блистают. Вечная загадка таланта – дух веет, где хочет. Не будем слишком переоценивать значения школ и кружков. Если понимать под примитивом кустарность, грубоватую работу, то натюрморт-вывеска с рыбой, шашлыком и другой снедью, написанный Пиросмани на клеенке, вовсе не примитив: так гармонична композиция этих предметов на черном фоне (который здесь ощущается как фон вечности) и так артистично, тонко сделан каждый из них в отдельности.
Пиросманашвили – явление исключительное. Но и при меньших масштабах дарования в произведениях «наивных» художников есть что-то подкупающее, то, что М. Пришвин называл «родственным вниманием» – к природе, людям, вещам. Они видят в живописи не сочетание красок на плоскости, но пишут вещи ради них самих. Может быть, это и есть наивность, но современный мир в ней нуждается. Многих русских художников интуитивно влекло то искусство, которое придавало высокое значение самому предмету изображения; так было в древнерусской иконописи, где важность изображаемого подразумевалась, была определяющим компонентом стиля, поэтому стиль кристаллизовался в формах гармонических, исполненных внутренней значительности. Его открытие было событием и для Матисса, посещавшего в те годы Россию; из русских мастеров иконопись оказала наиболее прямое влияние на Петрова-Водкина, чье знаменитое «Купание красного коня» 1912 года, казалось, обещало становление нового, просветленного большого стиха.
Оно не состоялось. Началась Первая мировая война. Поиски певучей гармонии, умиротворенности, которые лучше, чем кем-либо, осуществились Павлом Кузнецовым в поэтической «Киргизской сюите», оказались не ко времени.
Прямых, то есть сюжетных, откликов на события войны в искусстве тех лет совсем немного; если они и есть, то в графике: серия Гончаровой «Мистические образы войны», беглые фронтовые рисунки Леже, Цадкина… что же еще? Ничего похожего на «батальный жанр». И в листах Гончаровой изображается не столько война, сколько ее апокалиптические символы. Кубисты и супрематисты продолжают свои замысловатые опыты; у русских представителей и особенно представительниц этих течений наступает, с легкой руки Пикассо, полоса увлечения контррельефами, причем их конструкции, их «скульптоживопись» порой превосходит по остроумию и самого Пикассо.
Кажется, что искусство бойкотирует войну, не желая иметь с ней ничего общего. Она требует наших жизней? – пускай, но творчества нашего не получит. Только драматизм и скорбь военных лет в нем живет. Что общего в стилевом отношении между Шагалом, Дереном и Маяковским? Кажется, очень мало. Но вот трагический «Продавец газет» Шагала, разносчик скорбных вестей, и вот тогда же написанный «Мужчина, читающий газету» Дерена, подавленный, онемевший. «Ах, закройте, закройте глаза газет» написано в том же 1914 году. Они все говорят об одном. «Пир королей» Филонова о том же. О том же замечательный цикл офортов Руо «Мизерере и война», гойевской силы поэма о человеческих страданиях.
Кончалась война, Франция залечивала раны, переводила дух после кровавых дней Соммы и Вердена, Париж оживал, отдаваясь лихорадочной жажде веселья и развлечений. А в России Октябрьская революция, поистине потрясшая мир, поставила совсем новые задачи перед искусством – задачи переустройства жизни на новых началах. Дальнейшие судьбы художественного «авангардизма» во Франции и в СССР определяются различием социальной перспективы. Расхождения очевидны. В первые послереволюционные годы искусство молодой Советской Республики отказывается быть духовной роскошью и хочет стать хлебом насущным. Вчерашние кубисты, супрематисты, бубновые валеты, мирискусники объединяются пафосом общего дела и выходят – в буквальном смысле – на улицы, чтобы их празднично украшать («Улицы – наши кисти, площади – наши палитры»), чтобы говорить с массами языком призывного плаката, защищать и пропагандировать завоевания революции. Даже хрупкий фарфор – и тот становится носителем революционных лозунгов. Агитпропу посвящен особый раздел выставки «Москва – Париж»; рассматривая его экспонаты, нельзя не почувствовать, какой неподдельный романтический подъем кроется за этим суховатым и деловитым термином. Агитпроп был серьезным делом и одновременно массовым карнавальным действом. И сколько было этих действ! Еще больше проектов и эскизов – не хватало ни времени, ни возможности осуществить все, реализовать величественный план монументальной пропаганды. Шла гражданская война, грозили блокада и голод, в стране была разруха. А между тем по фронтовым дорогам двигались агитпоезда, расписанные весело, как свадебные сундуки (на выставке есть модель такого вагона), и с лихостью народного карнавала праздновались первая годовщина Октября и Первое мая. Тут были шествия и пляски ряженых, тут, прямо на площадях, разводили костры и сжигали чучела врагов революции и эмблемы царизма; тут не только декорировали Охотный Ряд, превращая его унылые лавчонки в нарядные расписные терема, но даже расцвечивали дорожки и деревья скверов. Проекты праздничного оформления городов делались видными художниками.
Они тогда не помышляли о работе «на вечность» – было не до того, захватывали жгучие потребности настоящего момента. Но среди этих пылких сиюминутных откликов на зов революции есть и такие, которые стали долговечными – высокие произведения искусства. Хотя бы потрясающий плакат Моора «Помоги!» 1921 года, взывающий о помощи голодающим Поволжья. Или изумительный агитфарфор Чехонина.
О художественном объединении АХРР, возникшем в начале 1920-х годов на базе прежнего передвижничества, сейчас вспоминают без особого энтузиазма. Однако нужно честно сказать: многие произведения ахрровцев, при всей их бесхитростности, – драгоценные свидетели времени. Без них мы бы имели куда более смутное представление о быте и колоритных реалиях тех лет, о новых человеческих типах и характерах, рожденных революцией (например, «Делегатка» и «Председательница» Ряжского, «Рабфак идет» Иогансона), вообще о том, как все тогда выглядело. Торопливая и случайная фотография передать этого по-настоящему не может. А как чувствуется атмосфера времени в картине Терпсихорова «Первый лозунг»! Вот так и работали художники: в полутемной холодной мастерской, обогреваясь «буржуйкой», у ног Венеры Милосской они писали боевые лозунги на кумачовых полотнищах. «Вся власть Советам!» А как добывалась и завоевывалась эта власть, мы видим на картинах Грекова. Какая фотография и какой плакат могли бы заменить живое ощущение достоверности, непосредственной увиденности, исходящее от полотна Грекова «Бегство белых из Новочеркасска в 1920 году», которое и по живописи превосходно.
В «минуты роковые» истории документальная проза также нужна, как поэзия, они дополняют друг друга. Искренний поэтический энтузиазм тех лет прорывался во всем, от малого до большого. Было много утопического, была и риторика, но неизменно присутствовало чувство будущего, почти космическое «чувство неизведанной дали», по выражению Блока. Недаром Юон написал неожиданную для его реалистического почерка картину «Новая планета», а талантливый юноша Чекрыгин создал удивительную графическую серию, посвященную ни больше ни меньше, как расселению воскрешенного человечества в космосе.
Когда кончилась Гражданская война, был введен нэп, и страна приступила к восстановлению и мирному строительству, советские художники с неостывающим энтузиазмом отдавались «производственным» задачам – тому, что позже стало называться дизайном. Разрабатывали новые формы мебели, посуды, одежды, планировали новый быт рабоче-крестьянского государства, свободный от язв и эстетических гримас старого буржуазного мира, быт, где все должно быть просто, строго, целесообразно и коллективно. Прежние непонятные и неизвестно для чего нужные контррельефы на глазах превращаются в необходимые народу конструкции чайников, стульев и прозодежды. Конечно, на сегодняшний взгляд, обстановка рабочего клуба, сконструированная Родченко, выглядит уж очень аскетичной и неуютной, но нельзя забывать, что в 1920-е годы «уют» неизбежно ассоциировался с «мещанством»: тюлевые занавески и мягкие подушки, вкупе с геранью и канарейкой, были одиозными символами мещанского счастья. (Вспомним «Зависть» и «Заговор чувств» Юрия Олеши, где Иван Бабичев, носитель обреченных старых чувств, не желает расставаться со своей засаленной подушкой.) С ним надлежало навсегда покончить. Презиралось мелкое личное – идеалом представало великое коллективное, может быть, чуть больше, чем нужно, унифицированное: детская болезнь левизны (но лучше ли ее болезнь зрелого возраста – порабощенность вещами?). Мнились прекрасные воздушные города (воздушные замки?) будущего, те величавые пространственные конструкции общественных сооружений, которые мы можем видеть на выставке на проектах Леонидова. Только на проектах.
Жизнь вносила свои отрезвляющие коррективы, многое осталось неосуществленным из того, что задумывалось зодчими. Однако, видимо, правы авторы статьи о советской архитектуре в каталоге выставки: «Ценность того или иного периода всемирной истории архитектуры может определяться и непривычными сегодня, но очень убедительными единицами измерения – числом провидцев: мечтателей, фантастов, утопистов, живших в те годы. Числом смелых идей, дерзких замыслов, не утративших своей силы многие десятилетия спустя»2.
Романтическая устремленность к «неизведанной дали» соединялась с идеей функционализма – поэзия технического века, тогда еще не ставшая обыденной прозой. Во Франции романтически окрашенный функционализм пропагандировался журналом «Эспри нуво» и осуществлялся в деятельности великого архитектора современности Ле Корбюзье, чьи грандиозные идеи градостроительства также превышали реальные возможности, хотя ему и удалось многое построить. Он даже проектировал полную перепланировку и перестройку Москвы (впрочем, пожалуй хорошо, что он этого не сделал). Независимо от того, кто на кого больше влиял, между творческой мыслью советских архитекторов и Ле Корбюзье был определенный параллелизм (так же как между деятельностью Баухауза и Вхутемаса) – во Франции новаторские идеи Корбюзье называли «большевистскими». Они шли вразрез с укоренившимися в послевоенной буржуазной Франции помпезным и нарядным декоративным стилем – ар деко, продолжавшим декоративные тенденции модерна начала века.
Искусство, как и жизнь, полно противоречий и парадоксов. Общая художественная панорама 1920-х годов показывает, что не всегда рационализм является чем-то приземленным и чуждым фантазии. Бывает и так, что он возносится на крыльях мечты. Может быть, самый поразительный тому пример – творчество Татлина, и в частности его уникальное сооружение, здание-монумент, названное им «Памятник III Интернационала». По замыслу его высота должна была достичь 400 метров – и сейчас лишь редкие небоскребы имеют такую высоту. Он лишен каких бы то ни было декоративных или изобразительных элементов, весь представляет собой обнаженную кинетическую конструкцию – апофеоз технической мысли. А вместе с тем – поэтическая метафора глобальных масштабов: символ развития по спирали, вращения космических тел, интернационального единства всего мира, воссоединения наций, стройного взаимодействия их законодательных и исполнительных органов… Вспоминается, по невольной ассоциации, выражение другого великого фантазера, Велимира Хлебникова: «председатель земного шара».
Личность Татлина – творческая и человеческая – вообще на редкость интересна: замечательный русский самородок-мастеровой, все делавший своими руками, матрос, музыкант-бандурист, разносторонний художник, мечтатель-практик с задатками инженерного, конструкторского гения – подлинно «Летатлин». Такого типа люди выходят из безвестности и поднимаются на гребне больших исторических переломов, когда никакие утопические идеи не кажутся чересчур смелыми, пусть даже они в данный момент неосуществимы.
Поэзия технического века, вера в то, что эра машин, воздухоплавания, больших скоростей может в условиях разумного общественного устройства принести людям счастье, – эта вера чувствуется и в советской станковой живописи 1920-х годов. Вот стенд с полотнами художников ОСТа – Дейнеки, Пименова, Тышлера, Лабаса и других. И сюжетно, и пластически их работы соотнесены с чувством движения и пространства, высоты и полета, светлых просторов – не в пейзажном, а в «урбанистическом» ключе. Картина Лабаса, названная «Дирижабль и детдом», проникнута эмоциями полета в небо; белый дирижабль, почти нематериальный, невесомый, взмывает в сиреневые небеса как посланец детей, смотрящих ему вслед. На картине Тышлера «Женщина и аэроплан» сама женщина выглядит дочерью неба, крошечный самолет похож на стрекозу, он живой. Кто теперь, когда авиация стала привычным транспортным средством, способен так поэтически интерпретировать идею воздухоплавания? Или даже автомобильного пробега, изображенного Вильямсом. Если и нет на картинах ни самолетов, ни автомобилей, то все-таки есть особенное чувство раздвинутого ввысь и вдаль пространства, сияющей воздушной среды, «легкого дыхания», как, например, в прелестном розовом натюрморте Петрова-Водкина, где все предметы полупрозрачны и кажутся изнутри светящимися. По-своему, очень лирично и с оттенком юмора выражено ощущение полета в высоту в картине Лучишкина «Воздушный шарик»: эта счастливо найденная композиция всем запомнилась надолго, у современного зрителя она ассоциируется с известной песней Булата Окуджавы.
Кажется, что чувство неба, чувство свободы и легкости парения в пространстве живет и в полотне Жоана Миро, неизвестно почему называющемся «Сиеста», которое экспонировано в том же зале. И в скульптуре Бранкузи «Птица». Вообще же точек схождения, взаимопонимания между Москвой и Парижем в области станкового искусства, естественно, становится меньше. Маяковский, посетив послевоенный Париж, был неприятно удивлен, констатируя, что там – «все то же». Все те же художники делают примерно все те же картины, вместо того чтобы революционизировать искусством мир. И даже Пикассо вернулся к Энгру. Пикассо, впрочем, вернулся не столько к Энгру, сколько к фигуративной живописи; как все, что делал этот художник, поворот был симптоматичен для времени – царство абстракции наступило позже, а в послевоенные годы искусство стало ценить живую плоть мира. Еще в 1917 году, работая тогда над оформлением спектаклей дягилевской труппы, Пикассо написал портрет своей молодой русской жены, балерины Ольги Хохловой – мы видим его на выставке. Очень неожиданная вещь для тех, кто привык отождествлять Пикассо с кубизмом. Портрет этот не похож и на ранние его произведения, нисколько не похож на портрет печального мужчины за столиком кафе (голубой период), который висит в первом зале. Элегантный портрет Хохловой с его плавными линиями и суховатой декорировкой принято причислять к «энгровским», но, может быть, он в большей мере бакстовский. Как известно, Пикассо никогда не боялся «подражать»: он брал то, что ему нравилось, и превращал в свое. Еще предстоит исследовать интересную, мало раскрытую тему о взаимоотношениях Пикассо с русским искусством – не только с русскими кубофутуристами и мастерами контррельефа, но с Врубелем, которого он внимательно смотрел на парижской выставке 1906 года, и с «Миром искусства», с которым он соприкасался в период сотрудничества с русским балетным театром. Эта тенденция продолжается и в портрете маленького сына в белом костюме Пьеро, где художник совершенствует свой «неореалистический» язык, освобождаясь от привкуса изящной стилизации, свойственного портрету жены, более раннему. Портреты Поля принадлежат к той группе, довольно многочисленной, реалистических произведений Пикассо начала 1920-х годов, что и прекрасная «Женщина в белом», которую мы видели несколько лет тому назад на одной из организованных музеем выставок. От них отличается так называемый монументальный классицизм Пикассо, относящийся примерно к тому же времени; на выставке «Москва – Париж» есть полотно и в этом стиле: гиперболически массивная тяжелая женская фигура, словно удрученная своей избыточной плотью. Иногда Пикассо изображал этих женщин-колоссов в стремительном движении, в бешеном беге менад (такое изображение было на занавесе к одному из дягилевских спектаклей). Умышленно или неумышленно, они символизировали чувственный угар, захвативший определенные круги французского общества в послевоенные годы, жажду вознаградить себя за пережитые лишения и утопить память о них в ресторанных вакханалиях. Прежняя полунищая богема Парижа стала модой, прихотью богачей и нахлынувших во Францию американских туристов. Атмосфера оргий на фоне действительной нищеты трудового населения Франции, разоренного войной, имела в себе нечто зловещее – и чуткий гений Пикассо это безошибочно улавливал: вскоре его монументальные полнотелые «классические» женщины вытесняются самыми язвительными и беспощадными гротесками, уродливыми жестокими фантасмагориями вроде «Танца» 1925 года или представленной на выставке «Обнаженной на белом фоне». Но такого рода вещи, по понятным причинам, уже не имели ни отклика, ни аналогий в Советской России 1920-х годов: там шла совсем иная жизнь, вставали совсем иные проблемы. Никакого влияния не оказал и не мог оказать на советское искусство и зародившийся тогда во Франции сюрреализм. Если и возникал интерес к нему, то это произошло позже.
А пока, на исходе 1920-х годов, неутомимый изобретатель Татлин проектировал и собственными руками сооружал летательный аппарат, с помощью которого человек нового мира должен был подняться в небо – не в прозаической кабине самолета, а, как птица, на собственных крыльях.
«Летатлин» не полетел… Но причудливый крылатый каркас, вознесенный на выставке над итальянским двориком Музея, над микеланджеловским Давидом – победителем Голиафа, обладает какой-то неотразимой художественной убедительностью: памятник великой человеческой мечты.
Ссылки
1 Сарабьянов Д.В. Новейшие течения в русской живописи предреволюционного десятилетия (Россия и Запад) // Советское искусствознание’80. М., 1981. С. 138.
2 Xазанова В., Швидковский О. Русская и советская архитектура. 1900–1930 // «Москва – Париж». 1900–1930. Каталог выставки. Т. 1. М., 1981. Вып. 1. С. 89.
Живое слово критика[36]
Притча о сороконожке, которая разучилась ходить, начав размышлять, где находится ее тридцать пятая нога в тот момент, когда двенадцатая делает шаг вперед, – эта притча вспоминается часто и по разным поводам. Невольно она снова приходит на память при обсуждении проблем методологии критики. У критики так много «ног», то есть задач, возможностей, жанров, приемов, что она вполне может оказаться в положении перемудрившей сороконожки.
Даже такой, казалось бы, вполне законный вопрос: для кого я пишу? для зрителей или художников? – и он, по-моему, может скорее затруднить, чем облегчить процесс «ходьбы». Как всякий пишущий человек, критик пишет для читателей. Кто будут эти читатели, он в точности не знает. В отличие от частного письма и служебной инструкции, печатное слово не имеет строго определенного адресата. Статью может прочесть и другой критик, и художник, и любитель искусства, знающий в искусстве толк, и любитель, не знающий в нем толка, и, наконец, кто угодно. Каждый прочтет по-своему, так как у разных групп читателей (и каждого индивидуума внутри этих групп) имеется свой предварительный запас опыта, знаний и предпочтений в данной области. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».
Но как-то и где-то оно все же отзовется, если у автора есть, что сказать, и если он умеет выражать свои мысли. Просто или сложно, со специальной терминологией или без нее, наукообразно или «фельетонно» – важно лишь, чтобы мысли излагались адекватно, то есть так, как они возникли у автора и как автору свойственно. Если же автор будет нарочито приспосабливать содержание и способ изложения к одной определенной категории читателей, он, во-первых, заведомо ограничит возможности отклика со стороны других читателей, а во-вторых, пострадает естественность высказывания: появится оттенок притворства.
Короче говоря, все определяется тем, что автор имеет, хочет и может сказать о своем предмете.
Конечно, это относится не только к критику. Но чем отличается его деятельность от деятельности искусствоведа, историка искусства? Действительно ли текущая художественная жизнь, в отличие от протекшей, требует какой-то иной, особой методологии? Обычно говорят: историк искусства имеет дело с уже отстоявшимися, приобретшими устойчивую репутацию явлениями, ему поэтому легче, а критику труднее, так как он должен оценить только что появившееся и как бы ввести его в историю. Однако это положение можно с успехом и перевернуть: историку труднее, поскольку он должен сказать что-то новое о том, о чем уже много сказано (а если не говорить ничего нового, то незачем и писать); критик же, не обремененный обязательностью читать многотомные фолианты своих предшественников, имеет дело с «нетронутым», а потому и более свежо воспринимаемым материалом – с этой точки зрения ему легче. А в общем, и то и другое одинаково трудно, если относиться к делу серьезно; принципиальной же разницы методов я не вижу – различия скорее внешние, житейские, чем методологические. Практически почти каждый искусствовед – критик, а каждый критик – искусствовед.
Говорят: критик может активнее воздействовать на современное состояние искусства, чем историк. Думаю, что воздействие это очень косвенное, очень опосредованное. Прямое же – не только маловероятно, но и нежелательно. Плохо, если художник «слушается» критика и работает по его подсказке (другое дело, если он к нему только «прислушивается»). Чего художник не добыл из собственного творческого и жизненного опыта, того ему никогда не дадут даже самые квалифицированные рекомендации со стороны.
Не так же ли обстоит дело и с другим рядом отношений: критик – зритель? Наивно думать, что неискушенный зритель приобщится к искусству, начитавшись критических статей. Статьи никак не заменят ему единственно необходимого – самостоятельного, длительного (лучше всего с детских лет) вникания, вживания в произведения искусства. Слишком же большое доверие к указующему персту критика способно выработать тип зрителя-верхогляда, который бегло проходит по музейным и выставочным залам, читая подписи под экспонатами, потом прочитывает статью в каталоге и статью в газете, чтобы узнать, что ему следует думать об увиденном. Не значит ли все это, что я смотрю на профессию художественного критика пессимистически? Нет. Я только думаю, что ее не нужно мыслить как специальную сферу обслуживания – обслуживания художника или зрителя, или обоих поочередно. Разумеется, в широком смысле слова мы все обслуживаем, так или иначе, друг друга; художники тоже обслуживают народ. Только в таком широком смысле занимается этим и критик. У него есть свое, самостоятельное дело, так же как у художника – свое.
И такая же мера независимости по отношению к своему материалу, и такое же право на его интерпретацию, какие есть у художника.
В качестве искусствоведа и критика я не хотела бы чувствовать себя ни толмачом, ни присяжным советчиком, ни приводным ремнем какого-то механизма, ни даже генератором. Я предпочла бы быть не генератором, а литератором, просто автором «деловой прозы», если угодно – очеркистом. Большинство очеркистов специализируются на определенном материале. Одни пишут о проблеме колхозной деревни, другие – об охране природы и так далее. Возможных аспектов рассмотрения материала не шесть и не восемь, а неисчислимое множество; в каждом отдельном случае выбор аспекта определяется авторской «сверхзадачей», которую он сам перед собой ставит. Причем она может вытекать из характера материала, а может и быть по отношению к нему первичной. Я не вполне согласна с утверждением Б.М. Бернштейна, что для критики «произведение искусства остается альфой и омегой, началом и в некотором смысле целью всех ее операций». По-моему, не возбраняются ситуации, когда произведение искусства является для критики альфой, а омегой что-то другое. Ведь критик, кроме того, что он критик, еще и человек, гражданин, член общества, к тому же работник, чьим орудием является слово. У него накапливается запас наблюдений и размышлений о мире, в котором он живет, – мире, не исчерпываемом выставочными залами. Разве он не вправе высказать эти наблюдения и размышления, пользуясь искусством, как материалом, наиболее ему близким? Поясню, что я имею в виду: предположим, автора занимает проблема личности в историко-философском плане. Он может поставить ее на материале, скажем, портретной живописи; в этом случае подход будет иной, чем если бы автор хотел описать творческую личность и эволюцию самих портретистов. Здесь он волен от нее отвлечься и трактовать о композиции, цвете и прочем лишь постольку, поскольку это нужно для его главной цели.
В конце концов, искусство может существовать и без посредничества критиков-профессионалов (и долгое время так и было); созерцать искусство и получать от него удовлетворение тоже можно без помощи критиков. Но книга, содержащая некие идеи, способные к плодоношению, всегда будет что-то значить сама по себе. Белинский интересен не только и, может быть, не столько тем, как он характеризовал Пушкина, Гоголя, Достоевского, – он ценен как Белинский. Сам по себе он был крупным историческим явлением, ферментом общественной мысли. То, что говорил о Пушкине Писарев, уже не имеет для нас никакого значения, но кто решится утверждать, что не имеет значения сам Писарев? Стасов, столько путавший и упрощавший в своих критических оценках, – неужели его значение сводится к тому, что он «поддерживал» передвижников? Передвижники, пожалуй, обошлись бы и без его поддержки. Тем не менее писания Стасова глубоко искренние и самобытные, необычайно колоритные по языку, – драгоценные свидетельства времени: многое можно понять и почувствовать в русской действительности XIX века, читая Стасова.
Пусть мы не Белинские и даже не Стасовы, все равно у каждого есть (должно быть, раз мы беремся за перо!) свое слово, достойное быть высказанным. По Твардовскому: «Сказать то слово никому другому я никогда бы ни за что не мог передоверить – даже Льву Толстому». Наше личное слово, хотя бы и не громкое, – наше достоинство. Если же все мы примем какую-то единообразную, для всех общую методологию, или «гамму методов», если мы твердо усвоим, на какой именно «ступени оси» нам надлежит находиться и какой «последовательности операций» придерживаться, тогда все взаимозаменяемо, и любой культурный Икс может передоверить свое слово столь же культурному Игреку.
Возможно, поиски идеальной «концептуальной модели» критики тоже небезынтересны, как симптом определенных умонастроений. Или как тренировка ума, склонного к систематизации и классификации. Или как предварительная разработка программ для критической кибернетической машины, которая – как знать! – может быть, и будет когда-нибудь создана. Но покуда она не создана и критикой занимаются люди, для них эти поиски едва ли необходимы в качестве практического ориентира. Когда садишься писать – о сегодняшней ли выставке или о новгородских иконах, – не стоит отвлекаться на раздумья о ролевой структуре искусствоведа. Целесообразнее сосредоточиться на том, что именно ты хочешь высказать, и постараться сделать это, в меру своих сил, как можно лучше. Не лишено вероятности, что такой метод себя оправдает.
Выставка произведений Н.К Рериха[37]
Выставка картин Н.К. Рериха, привлекавшая такое большое и заслуженное внимание зрителей, дала лишь частичное представление об огромном труде этого выдающегося художника. Он принадлежал к тем людям, которые в обычный срок человеческой жизни успевают сделать поразительно много. Общее количество его картин исчисляется тысячами. Кроме того, Рерих был ученым, археологом, писателем. Его жизнь прошла в далеких путешествиях, пытливых исследованиях. Изучая древние истоки человеческой культуры, он стремился к художественному осознанию мирового культурного процесса как величественного творческого пути, по которому идут начиная с каменного века все народы мира.
Россия, Финляндия, Скандинавия, Индия, Китай, Монголия, Тибет – вот широчайший круг художественных интересов Рериха. Но всегда, даже проводя многие годы вдали от родины, Рерих был и оставался русским художником. Его дарование созрело на почве национальной культуры и неотделимо от нее. Само влечение к странам Востока выросло из любви Рериха к русской старине.
В 1890-х годах Рерих учился у Архипа Куинджи. Куинджи был чрезвычайно самобытным пейзажистом, одним из тех замечательных самородков, которыми изобиловало русское искусство. Быть может, его система преподавания заслуживает особого изучения: ведь из его мастерской вышли кроме Рериха Рылов, Богаевский, Пурвит – очень разные художники, но у них есть общее: монументальное восприятие природы, чуждое камерности, и смелость живописно-декоративных обобщений.
Эти качества объединились у Рериха с очень рано появившейся у него страстной увлеченностью историческим прошлым России, поэзией древности. Рерих органически входит в круг русских художников, на рубеже XIX и XX столетий ожививших в чудесных полотнах страницы русской истории и сказочного эпоса, причем историческая интуиция дополнялась основательным научным познанием, но не отвлеченным, а связанным с «расспросами» живых свидетелей старины – архитектурных памятников, материалов раскопок, сохранившихся старых обычаев. Среди этих художников Аполлинарий Васнецов по всему своему складу художника-ученого более всего близок к Рериху, хотя поэтическая мысль Рериха была и смелее, и глубже, и фантастичнее.
Историческую живопись оплодотворяло «открытие» сокровищ древнерусского искусства, только начавшееся в то время. Рерих был одним из пионеров изучения и освоения традиций иконописи. Напевноэпический строй иконы, ее ритм, неповторимая красота ее «колеров» не могли не захватывать воображение художников, настраивая его на былинно-легендарный лад. Появлялись и холодные стилизаторы типа Стеллецкого. Какие-то элементы стилизаторства возникали и у Рериха, но «декадентом» он никогда не был – широкие и сильные крылья таланта художника-мыслителя поднимали его высоко над упадочными течениями.
Масштабность, размах интеллектуальных исканий Рериха – это черта, особенно глубоко роднящая его с лучшими традициями русской культуры XIX века. Когда-то еще Александр Иванов высказывал мысль, что русский художник призван объединить искусство с наукой – с «литературной ученостью», как он выражался. Для самого Иванова это был путь, в истинности которого он был глубоко убежден. В самом деле: разве его работа над библейскими эскизами не была работой художника-ученого и мыслителя? А разве не был мыслителем Суриков с его почти фанатической страстью познания, поисков, изучения? Вне «литературной учености» нельзя понять и творчества Врубеля. Есть нечто глубоко закономерное в этой тенденции к взаимодействию научно-философского и художественного мышления, к их объединению в высшем синтезе.
Рерих остается русским и в своем стремлении проникнуть в дух и смысл культуры иных народов. Это та способность «всемирной отзывчивости», которой обладали крупнейшие деятели русского искусства и которая драгоценна также для многонациональной, интернациональной по духу советской художественной культуры.
Начавшись с углубления в русскую историю, интересы Рериха идут как бы по расширяющимся орбитам, захватывая сначала северные страны, а затем устремляясь на Восток.
На выставке был неполно, но все же с достаточной выразительностью представлен первый период творчества Рериха – преимущественно «русский». Правда, не было его первой, прославившей его картины «Гонец», но она хорошо известна всем по экспозиции Третьяковской галереи. В этой картине уже заключен, как в зерне, пафос его искусства, и еще более он раскрывается в другой, тоже очень известной картине «Город строят». Суровый и деятельный мир наших предков оживает, как подлинная быль. В этом мире не было покоя; что-то тревожное, подстерегающее окружает «гонца», пробирающегося на грубо выдолбленной лодке среди сумрачных берегов при таинственном свете месяца, который как будто крадется по небу. Труды и опасности, страх неведомого – на каждом шагу. Предвещают беды зловещие вороны. Но среди диких лесов вырастают срубы, деревянные уступы башен, люди копают землю, таскают бревна, волокут по суше свои птицеподобные ладьи, с настойчивой хлопотливостью муравьев неустанно работают, забираются все выше – идет вечное, упорное созидание. Так видится художнику история.
Шаг за шагом маленькие люди возводят большие постройки, которые своей устойчивой силой, монолитной красотой своих форм подобны вековечным творениям природы. Пожалуй, нигде, ни у какого живописца не выражена так полновесная мощь древних русских церквей, как на этюдах Рериха, созданных им в поездках по старым городам России (на выставке были показаны немногие из них – «Ростов Великий», «Псковско-Печерский монастырь»). Массивные округлые белые храмы как будто действительно растут из-под земли, уходят в нее корнями, вбирая ее живую силу.
Походы и битвы русского воинства Рерих изображает в прямых традициях иконы – графично, узорно. Здесь яркое полыхание киновари, определяющей эмоциональный ключ. Беспокойный пожар войны стелется по земле, и в этом пламени виднеются ряды кольчуг, шлемов, хоругви, надутые паруса. В тревоге земля, в тревоге и облака.
И вечный бой! Покой нам только снится…Одна из самых впечатляющих картин раннего периода называется «Небесный бой». Битву ведут стаи облаков – бурные, клубящиеся, отсвечивающие фосфорически грозовыми тонами. Сохранились сведения, что художник сначала поместил среди облаков фигуры дев-воительниц – валькирий, но потом отказался от них, решив: «Пусть присутствуют незримо». И действительно – присутствие символических фигур далеко не всегда на пользу картинам Рериха, подчас они мешают. Облака, деревья и камни сами по себе выражают у него больше, глубже. Что сравнится по выразительности с одиноким, мятежным силуэтом «Дерева» из серии гималайских этюдов?
Как и многих русских художников, современников Рериха – Архипова, Серова, Коровина, – его захватывала природа и жизнь севера: седая Финляндия, край лесов и озер, край мужественных трудолюбивых людей, рыбаков и лесорубов, певцов и воителей, потомков героев «Калевалы». Отсюда путь вел в скандинавские страны. В эскизах декораций к «Пер Гюнту» с удивительной проникновенностью и реализмом передана возвышенная, окутанная туманом легенд и вместе с тем очень земная, немного сумрачная поэзия скандинавского севера.
Вообще работы Рериха для театра представлены на выставке хорошо и составили особый увлекательный ее раздел. Не берусь судить, насколько эти эскизы «театральны» и отвечают реальным возможностям сцены, – они воспринимаются не столько как эскизы декорации, сколько как самостоятельные картины, драгоценные по живописи, полные чувства воображения и лишний раз говорящие о широте кругозора художника.
После нескольких лет путешествий по северным землям Рерих переселяется в Индию и посвящает с тех пор свое творчество великим странам Востока. По-видимому, это менее всего было случайностью для художника. К «зову Востока» он прислушивался уже давно. Еще в 1900-х годах Рерих писал, что для понимания истоков русской культуры нужно обращаться «к Индии, Монголии, Китаю или к Скандинавии, или к чудовищной фантазии финской». Он задавался вопросом: почему пренебрегают исследованием тех художественных элементов, которые проникли на Русь через монголов? «О татарщине остались воспоминания только как о каких-то мрачных погромах. Забывается, что таинственная колыбель Азии вскормила этих диковинных людей и повила их богатыми дарами Китая, Тибета, всего Индостана»1.
Азия влечет Рериха как колыбель народов. В представлении худож-ника-исследователя многочисленные реки национальных культур у своих истоков сложно и причудливо переплетаются и несут в себе нечто общее. Эта идея сквозит и в художественных концепциях картин Рериха. Он иногда дерзко и неожиданно соединяет в них разноречивые образы, навеянные буддийской, скандинавской мифологией, европейским романским стилем и готикой, русской иконой. Вдруг на вершинах Гималайских гор показывается «готическая» женская фигура или вырисовывается в тумане голова спящего богатыря в шлеме, напоминающая знаменитую «голову» из «Руслана и Людмилы». Во всем этом, конечно, у Рериха много фантастического, произвольного, а иной раз и модернистски-вычурного. Иногда ощутим неприятный привкус надуманной символики. И все же, как общая тенденция, мысль о том, что где-то в глубинных недрах истории корни мировой культуры переплетены, – мысль, ставшая зримой в живописных образах большой силы, имеет в себе нечто убеждающее. Не об этом ли говорит общеизвестный, но до сих пор удовлетворительно не объясненный факт огромного количества общих сюжетов – так называемых «странствующих сюжетов» – в сказках самых различных народов, живущих в разных концах земного шара? А разве не напоминают первобытные рисунки на гималайских скалах («Знаки Гэсара») те, которые находят и в Сибири, и в Европе?
Когда Рерих вступил на «заманчивый индийский путь» – это был для него путь в буквальном смысле: путешествия, странствия, постоянные экспедиции по далеким, малодоступным областям гор и степей. Его произведения этого времени поражают необъятностью открывшихся перед художником горизонтов. Он словно заново открывает эти земли, географически уже давно открытые, но художественно еще не освоенные – по крайней мере европейским искусством.
Наиболее полно был представлен на выставке внушительный цикл «Гималаи», включающий и картины, и этюды; примечательно, что между ними нет резкого различия – этюды Рериха тоже «картины»: каждый этюд не «штудия», а завершенный художественный образ.
Необходимо сказать о новом качестве живописного языка Рериха в этом и в других его циклах 30-40-х годов. Оно вызывает большие споры. Многие отдают предпочтение живописной манере прежних работ художника. В картинах позднего периода кажется несколько пугающей дерзкая яркость и упрощенность декоративных цветовых отношений.
Старые вещи Рериха действительно более живописны, в традиционном понимании этого слова. Но мне представляется, что живопись его поздних вещей имеет свои достоинства, достоинства подлинного, ненадуманного новаторства. В чем оно заключается? Известно, что в древней и средневековой живописи – в той же русской иконе или в восточной миниатюре – преобладал принцип «открытого цвета» – чистых, несмешанных красок, которые накладываются сплошным пятном, без внутренней их детальной нюансировки, без светотеневых переходов. Колористический эффект возникает в результате тонкого, гармоничного соотношения этих цветовых масс. В изменение этого принципа живопись Нового времени строится преимущественно на нюансированном цвете, с бесконечным множеством взаимопроникающих оттенков, сближенных касаний, цветовых модуляций. Не приходится говорить, какие неоценимые преимущества имеет эта собственно «живописная» манера для реальной передачи зримой действительности – для вещественной характеристики предметов, для выражения пространственных отношений, света и тени, воздуха и т. д.
Но возможен и синтез этих различных живописных подходов, то есть, сохраняя материальность и пространственность живописи и не превращая ее в плоский цветной ковер, можно, очевидно, вместе с тем пользоваться особыми эстетическими качествами «открытого цвета», которые ведь тоже несомненны. Яркими, чистыми, большими цветовыми массами можно строить форму, передавать и эффекты освещения, и пространство; можно передавать природу во всей ее реальности, но в более обобщенных, лаконичных и монументальных формах.
Такого рода искания и были и есть. Недавно мы видели их на выставке Рокуэлла Кента. Они характерны для современных тенденций развития стиля, хотя, конечно, ни в какой мере не отменяют и развития живописи, основанной на нюансированном цвете. У Рериха эти искания начинались уже в первом его периоде, и они для него особенно органичны, так как связаны с пристрастием к древнему искусству и с тяготением к сказочности. Но в ранних работах был известный привкус искусственности, изысканности и нарочитости живописного языка – не во всех, но во многих. С течением времени его стиль окончательно кристаллизуется в более простых, цельных и мощных художественных приемах.
Вспоминаются слова Ван Гога, раздумывавшего над сходными живописными проблемами: «Если горы голубые, то выдвигайте голубой цвет и не говорите о его оттенках. Они – голубые, не правда ли? Так делайте их голубыми, и баста!»2
Есть большая художественная мудрость в том, как смело и уверенно сопоставляет Рерих эти большие массы голубого, лилового, оранжевого, чисто-белого, – и его горные цепи начинают сверкать, фосфоресцировать, уходят в безграничную даль, темнеют на фоне огненных закатов. Глаз Рериха безошибочен в отыскании таких контрастных соотношений цветов, которые обеспечивают максимально простой и сильный, поразительно красивый эффект. На одном из полотен гималайской серии мы видим удивительное по какой-то неповторимой свежести и настоящей «горной» чистоте сочетание бархатно-синих глубоких теней с ослепительной снежной белизной освещенных мест – все это на фоне бледно-зеленого простора неба. На другом – сиреневая цепь гор на желтом небе. На третьем – огненно освещенный пик поднимается из-за передних, более низких хребтов, уже погруженных в синий вечерний сумрак. Приемы художника, казалось бы, просты, а вместе с тем как разнообразны, богаты и как точно найдены в каждом отдельном случае! За простотой чувствуется мастерство, отточенное десятилетиями неустанного труда и «вслушивания» в язык природы.
Конечно, далеко не все произведения Рериха этого периода равноценны. В некоторых из них, иногда утрачивая чувство меры, он увлекается символикой; наряду с этим в его живописных приемах встречаются злоупотребления декоративными эффектами, связанные с их слишком рассудочным применением, с утратой вкуса. Но это исключения.
Хочется особо сказать о скромном маленьком этюде из цикла «Монголия». На нем изображена вершина плоскогорья, вечер, темные силуэты больших камней и высокого шеста – может быть, это опознавательный знак или какой-нибудь священный символ. Этот этюд – настоящая жемчужина живописи. Как грозны его сумеречные, темно-розовые тона и как они удивительно сочетаются с наплывами сиреневого, серого, коричневого и темно-желтого, как все дышит величавой жизнью природы! Вот по таким этюдам можно судить, какое живописное богатство было для Рериха источником его декоративных «упрощений».
Лапидарность цветовых решений созвучна жестковатой четкости линий, контуров, силуэтов. Графически выявленная ступенчатая структура гор полна у Рериха невыразимого словом, но очевидного глазу внутреннего смысла. Горы подобны живым иероглифам земной коры, их воспринимаешь как застывшие бури геологической жизни нашей планеты.
В том, как Рерих художественно осмысливает пейзаж, есть общее с принципами восточной, в частности китайской, эстетики. В китайских трактатах говорится, что горы – это кости земли, реки – ее текущая кровь. И это не просто метафорические выражения, а действительный принцип «видения» природы.
Всюду в этом космическом пейзаже взгляд находит печать человеческого творчества, человеческой борьбы, активной и ищущей мысли. На неприступных скалах высечены гигантские изображения фигур, лиц. В горных пещерах таятся тысячи статуй. Там и сям вырисовываются силуэты скачущих всадников. Как тяжелая каменная змея ползет по кручам Великая Китайская стена – сооружение многих столетий. Высятся башни пагод, споря своим величием с величием горных вершин. Всем своим искусством художник как бы хочет сказать, что творчество человека, его созидательные силы так же неодолимы, неутомимы, как созидательные силы природы, – это органический процесс, развертывающийся бесконечно. Как апофеоз гималайского цикла смотрится большая картина, которую художник назвал «Помни!». Рядом с грандиозной стеной гор не теряется, а утверждает себя в мире фигура всадника. Уходящие в небо снеговые выси сияют аметистовыми отблесками – ослепительно, торжественно. Да, это запомнится.
Монументальный строй живописи Рериха последнего периода требует больших расстояний для своего полноценного восприятия. На выставке картины были размещены в небольших залах, и от этого многое теряли. Только издали можно по-настоящему увидеть и «Помни!», и великолепную картину «Лхаса», во всем богатстве ее насыщенных красок и во всей цельности, величавости композиции, изображающей одно из чудес восточной архитектуры – монументальный дворец тибетского далай-ламы. «Лхаса» – едва ли не лучшая из всех показанных на выставке картин, а ведь это произведение последних лет жизни художника, написанное им почти в семидесятилетием возрасте.
Искусство Рериха развертывает перед нами увлекательную живописную эпопею природы и культуры древних стран, которые теперь, покончив с игом колониализма, уверенно занимают подобающее им место на исторической арене. Их искусство, философия, религия, их своеобразная наука имеют тысячелетние корни; нам еще предстоит их изучать и изучать, преодолевая дурную инерцию европоцентризма, долго и старательно насаждавшуюся буржуазными учеными.
Кажутся решительно несправедливыми мнения, что Рерих «убегал от жизни», «прятался» от нее в Индии и Тибете. Не странно ли это звучит по отношению к великим государствам, где живут сотни миллионов людей, и живут напряженнейшей, деятельной жизнью? Исторический путь этих народов своеобразен, характерным для него является особая стойкость и жизненность древних традиций. Как свидетельствует Джавахарлал Неру, «Рамаяна» и «Махабхарата», «созданные в глубокой древности… все еще являются живой силой в жизни индийского народа»3; неграмотные крестьяне знают наизусть сотни стихов из этого древнего эпоса. Стойкость традиций имеет для Индии особое значение, так как она помогла сохранить жизненные силы и духовное богатство народа, пронести их сквозь века унизительного порабощения. Недаром одним из ведущих лозунгов культурного строительства социалистического Китая стало: «В старом найдем новое».
Индия, как удачно сказал Илья Эренбург в статье «Индийские впечатления», «живет одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем». Понимание этого имеет значение и для справедливой, объективной оценки своеобразия искусства Рериха. Мы можем гордиться тем, что именно русский художник, плоть от плоти русской культуры, сделал так много для художественного познания величественной и необычайной культуры Востока. И можно ли говорить об «уходе от жизни» художника, по чьей инициативе был создан международный пакт о защите культурных ценностей, ратифицированный многими государствами, в том числе и Советским Союзом?
Было бы, разумеется, бессмысленно делать из Рериха марксиста или отождествлять его искусство с искусством социалистического реализма. У искусства социалистического реализма другие пути. Но искусство и вся деятельность Рериха принадлежат к тем крупнейшим культурным явлениям современности, которые служат сближению и взаимопониманию народов и тем самым питают собой новое искусство социалистической эры4.
Ссылки
1 Рерих Н.К. Об искусстве. М., 1994. С. 18.
2 «Мастера искусства об искусстве». Т. III. С. 287.
3 Д. Неру, «Открытие Индии», М., 1955. С. 101.
4 Статья могла появиться в те годы лишь с сопровождающим ее необходимым комментарием: «Публикуя статью Н. Дмитриевой, содержащую ряд тонких наблюдений и верных соображений о творчестве Н. К. Рериха и его отдельных произведениях, редакция, однако, не может не отметить того факта, что эта статья недостаточно объективно оценивает вклад художника в историю русского и мирового искусства, обходит существенные слабые стороны его творческого метода, рассматривая их как случайные моменты. Вряд ли можно согласиться с такими утверждениями автора, что «всем своим искусством художник как бы хочет сказать, что творчество человека, его созидательные силы так же неодолимы, неутомимы как созидательные силы природы…», «искусство Рериха развертывает перед нами увлекательную живописную эпопею природы и культуры древних стран…». Здесь, как и в некоторых других местах, автор явно забывает об определенной односторонности искусства этого крупного мастера, об ошибочности некоторых его эстетических идей, уводивших его порой от жизненной правды, от красоты реального мира, в область малоплодотворных стилизаторских исканий». – Прим. сост.
Между сходством и несходством[38] К столетию со дня рождения Ци Байши
Принято думать, что судить о китайском искусстве вправе только специалист, изучавший его долгие годы. Говорят, чтобы его по-настоящему понимать, нужно знать его историю – а она охватывает тысячелетия, его традиции – а они изощренны и сложны. В китайском искусстве веками складывались детально разработанные правила не только отдельных жанров, но и приемов изображения внутри этих жанров: как писать сосну, иву, мотылька, его левое крыло и правый усик. Были художники, писавшие только бамбук и ничего другого: рисунок бамбука был художественной проблемой, для которой целая жизнь – не слишком долгий срок
Чтобы судить о китайском искусстве, нужно еще разбираться в тонкостях китайской символики, знать поэзию Китая, так как живопись и поэзия там нераздельны и редкий из живописцев не был поэтом, наконец, нужно быть искушенным в тайнах начертания иероглифов различными способами, так как искусство каллиграфии ценилось ни сколько не ниже, чем искусство живописи.
Но разве уж так обязательно погружаться в бездны вековых премудростей, чтобы оценить живую прелесть китайского гохуа? Позволим себе не «судить» – просто смотреть, просто радоваться увиденному. Останемся бесхитростными зрителями, любящими искусство. Оказывается, это вполне возможно и перед классической живописью сунской и минской эпох. А тем более – перед свитками художника наших дней, «старого столяра Ци Байши» (так он иногда подписывался: в молодости он был столяром и резчиком по дереву).
«Мудрец и ребенок» – это не новое выражение, иногда применяемое к художникам, особенно подходит к Ци Байши. Его искусство впитало художественную мудрость многих поколений, прошло через горнило традиционной «учености» – и сохранило детскую свежесть и искренность взора, вернее, пришло к ней, как к синтезу, как к гениальной простоте, сделавшей национально-китайское общечеловеческим.
Долгая, почти столетняя жизнь Ци Байши распадается, как у Саади, на годы ученичества, годы путешествий (когда он, по его словам, «прошел половину поднебесной») и, наконец, годы зрелого творчества, наступившие после 60-летнего возраста. Лучшие свои произведения, где кристаллизовался его новаторский индивидуальный стиль, он создал уже в старости, в период от 60 до 97 лет. Последние восемь лет приходятся на эпоху народного Китая, и они были исключительно плодотворными для творчества Ци Байши. Он всем сердцем приветствовал Освобождение. В 1956 году ему присуждается Международная премия мира.
Китайцы любят выражать итоги размышлений и опыта в сжатых афоризмах. У Ци Байши в его зрелом периоде сложился излюбленный афоризм, который он часто повторял и надписывал на картинах: «В живописи секрет мастерства находится между сходством и несходством». К этому он добавлял: «Излишнее сходство – заигрывание с обывателем, несходство – обман». Или: «Чересчур похоже – передразнивание природы, мало похоже – отсутствие уважения к ней».
Это действительно мудрая формула изобразительного реализма. Она универсальна, то есть может быть отнесена к самым разнообразным формам реалистического искусства. В живописи самого Ци Байши художественное равновесие между сходством и несходством основано на специфических методах национальной живописи, на так называемом способе «се и». «Се и» – буквально означает «писать идею», «писать смысл»; «се и» противопоставляется способу «гун би» (прилежная кисть). Обычно к «се и» относят произведения, исполненные обоб-щенно-живописно, широко, тонально, а к «гун би» – те, где господствует тщательная линейная характеристика предмета. «Прилежная кисть» рисует каждую жилку на листе дерева, а свободная кисть «се и» передает листву пятнами и размывами туши, без всяких деталей. В современном гохуа между этими двумя принципами не существует уже непроходимых границ: они часто взаимодействуют, и у самого Ци Байши можно найти примеры, когда свободная живописность смело и остро сочетается с элементами графической манеры «гун би». Но если понимать «се и» исходя из прямого значения этого термина, как «писание смысла», то тут заключено самое существо искусства Ци Байши. Он именно пишет смысл явлений, он передает их тайную музыку, их сокровенный лиризм: не «передразнивая» природу, он ее поэтически интерпретирует.
Наблюдательность Ци Байши неисчерпаема, но это особая наблюдательность поэта, неразлучная с воображением. Он подобен тому человеку из сказки Андерсена, который, надев волшебные очки и волшебный слуховой рожок, увидел массу романтического в обыкновенном терновнике и услышал, о чем поет картофелина. Ци Байши видит, как два цыпленка – два пушистых глазастых шарика – упрямо тянут каждый в свою сторону червяка, изо всех сил упираясь лапками; видит, как юркие головастики гоняются за тенью лотоса в воде; как степенно «беседуют», сидя друг против друга, две лягушки; как маленькая ночная бабочка, сложив крылья, падает к подножию светильника, привлеченная его огнем и им же убитая. Достоин сожаления тот, кому все это покажется ничтожными пустяками. Он живет в скучном, монотонном мире, а Ци Байши жил в мире поразительно интересном, полном неустанного движения и неиссякаемой жизни, полном естественных чудес, которые можно подсмотреть где угодно – в стоячем болотце или под лопухом.
Сын крестьянина, много лет проживший в деревне, Ци Байши умел по-крестьянски ценить и уважать земные плоды, и это только обогатило его поэтическое ощущение природы. Он рисует тыкву и делает надпись: «Южане называют эту тыкву южной. Она сладкая и ароматная. В урожайный год она может служить лакомством, а в голодный она может заменить рис. Весной не забудь ее посадить. И хорошенько ухаживай!» Он изображает хвойное дерево без игл, с одними шишками, и сопровождает надписью в стихах «Паразиты съели иголки, но семена дадут на будущий год зеленые, как зеленый мох, ростки. Как добиться у неба, чтобы дождь, ветер, гроза и молния пришли в одно время?» (чтобы смыть паразитов с веток).
В чем же и во имя чего Ци Байши, так любящий и знающий природу, удаляется от «чрезмерного сходства» с природой? Такое удаление неизбежно при методе «изображения смысла», и если суммировать то, что по этому поводу высказывалось и что явствует из живописи Ци Байши, можно сказать, что оно исходит из трех главных импульсов, хотя вместе с тем все они – одно и то же, то есть разные стороны одного и того же. Во-первых, находя в явлениях прежде всего «идею», «душу», «поэтический смысл», нельзя не перерабатывать в воображении их внешний облик, заостряя выразительное и опуская побочное. Когда, например, Ци Байши пишет во многих вариантах своих знаменитых «Креветок», он изображает не столько самих креветок сколько их легкое, юркое, скользящее движение в воде. Если бы возможно было проследить траекторию этого движения, она предстала бы как затейливая паутина. И вот Ци Байши действительно рисует эту воображаемую паутину движения: помимо тонких линий, изображающих лапки и усики креветок, он окутывает рисунок еще целой сетью линий, круглящихся и прихотливо пересекающихся. Присмотримся к ним: это уже не усики и не клешни, в натуре эти линии увидеть невозможно, их нет, но, нанесенные на рисунок они передают впечатление движения креветок Зато существующие в натуре детали панциря и ножек художник не вырисовывал (он говорил: «Я не собираюсь писать эти штучки») – это отяжелило бы форму и помешало впечатлению легкой подвижности.
Точно также художник пишет не «плод», а «зрелость плода» (и чистым, сияющим желтым пятном подчеркивает идею зрелости), не «листву», а «воздушность листвы» – это позволяет ему, не колеблясь, писать листья цветка черной тушью, а лепестки – красной. Черная зелень Ци Байши обладает какой-то неотразимой убедительностью, это своего рода художественное открытие. Благородство и воздушность богатых оттенками черно-серых тонов отвечает поэтическому образу листвы с ее трепетностью, пронизанностью воздухом. И рядом с этим воздушно-черным особенно царственно, пышно выглядит красный венчик Цветы у Ци Байши всегда кажутся необычайно одухотворенными. Что-то в них напоминает мне пионы Эдуарда Мане, несмотря на полное различие живописной манеры.
Второе, что связано с отклонением от «чрезмерного сходства», – это ассоциативный строй живописи Ци Байши. Как и вообще в национальном китайском искусстве, у него многое основано на недоговоренности, заставляющей работать воображение зрителя и представлять себе то, чего на рисунке нет. В традиционных методах китайского искусства эти ассоциации нередко бывают условными, то есть у зрителя предполагается предварительное знание условных значений какого-либо изображения, жеста, знака. В китайском театре обязательно нужно предварительное знание для понимания некоторых вещей – например, нужно знать, что если у актера в руке палочка с кистями, которой он помахивает, значит, этот актер изображает всадника на лошади. Если зритель это знает, то все последующее поведение актера будет без труда ассоциироваться у него с верховой ездой. Если же он не знает, то может не понять, что происходит на сцене. Но не только на основе таких условных знаний работает ассоциативное восприятие: сплошь да рядом в том же театре ассоциативные образы возникают и без них, даже у зрителя, впервые пришедшего в китайский театр, – такова сила высокого мастерства. Живопись Ци Байши не требует для своего понимания знаний условного смысла: ассоциации возникают совершенно естественно у всякого зрителя, китайца или некитайца. В «Креветках» вода не изображена даже намеком, но зритель ее мысленно видит ощущение воды передается и изгибами тел рачков и туманящимися, слегка расплывающимися их очертаниями. Выдающийся мастер современного гохуа Ли Кэжань, ученик Ци Байши, рассказывает, какие представления навеял на него рисунок учителя «Ловля на леску мелкой рыбешки»: «Верхнюю, большую часть свитка занимает всего лишь узенькая, колеблемая ветром леска, а внизу изображено несколько привлеченных приманкой рыбешек Смотришь на картину – вроде бы ничего особенного, и вместе с тем здесь выражен трудно передаваемый словами чудесный поэтический образ – прохладный вечерний ветерок на небе будто еще видна последняя полоска вечерней зари, человек на берегу прозрачного пруда наблюдает за резвящимися рыбками. Глядя на эту картину, я невольно вспомнил свое собственное детство, хотя нет, сказать “вспомнил” не совсем точно – я ощутил этот особенный, щемящий аромат детства»1.
Почему, действительно, очарованием далеких детских воспоминаний веет от этого рисунка, такого простого и бесхитростного? Не потому ли, что он так забавно прост, что в нем есть чудесная безыскусная наивность и живость детского восприятия мира? Будь эти любопытные рыбки, вьющиеся вокруг приманки, и удочка, и все окружение изображены с точным детальным сходством, они бы напомнили разве что о зоологическом атласе. Нет, рыбки Ци Байши приплыли не из атласа, а из мира воображения, хранящего впечатления форм природы и претворяющего их в согласии с голосом чувства.
И еще третье, что, по-видимому, побуждает художника искать секрет мастерства между сходством и несходством, – это неоднозначность материала природы и материала искусства. Плоскость листа бумаги – не то же самое, что отрезок пространства; краски на палитре художника и тушь в его тушечнице – не то, что цвета в природе; линия, обозначающая на рисунке контуры, непохожа на границы предметов в натуре. Как же передавать одно через другое? Стремиться ли к их иллюзорной эквивалентности, чтобы зритель перестал ощущать лист бумаги и видел бы натуральное пространство? Но разве не обладает белый лист бумаги своей особой прелестью? Вот пятно красной акварели, изображающее чашечку пиона. Должен ли зритель видеть только пион? Или только пятно акварели? Художник своим рисунком как бы отвечает: он должен видеть и то и другое в новом качестве – видеть пион и вместе с тем не забывать, что это красная акварель. Он должен видеть пион, но не тот, что растет в саду, а особый, акварельный пион, который нельзя сорвать и который никогда не завянет. И сходство изображения с предметом, и дистанция между ними должны восприниматься в единстве и в целом создавать нечто третье – произведение искусства.
Всякий истинный художник ценит материал своего искусства, любит его особую красоту и умеет донести ее до зрителя. В китайской живописи любовь к материалу исключительна. Тушечница, кисти, рисовая бумага для китайского художника святы и драгоценны. Ци Байши не расставался со своей старой тушечницей, сделанной из толстого камня, даже тогда, когда от многолетнего растирания туши ее стенки истончились до прозрачности. Такой культ художественных материалов не мог бы возникнуть, если бы сама художественная техника рассматривалась только как вспомогательное средство, которое «умирает» в готовом произведении. Китайцы высоко ценят декоративную красоту техники живописи, пропадающую, если нет сходства с натурой, но звучащую самостоятельно, когда сходство налицо. Линия, извилистая, гибкая, с утолщениями и нажимами, позволяющая чувственно ощутить движения руки мастера, пятна краски, то пастозные, то прозрачные, мягко расплывающиеся по бумаге, наконец, сама девственная белизна листа, ритмически организованная линиями и пятнами, – это для китайской живописи нечто большее, чем вспомогательное средство.
У Ци Байши непосредственное, живое чувство природы, и отход от канонических шаблонов не связан с утратой этого исконного китайского артистизма техники. Компоновка рисунка на листе и декоративный строй рисунка каждый раз варьируются смело, свободно, и почти всегда в них чувствуется какая-то безошибочность, художественная неопровержимость. Это сказывается и в том, как связывается с изображением иероглифическая надпись. Обычай сопровождать картины надписями идет из глубокой древности. Надпись (часто в стихах) – связующее звено между поэзией и живописью Китая, иероглифы – прямое воплощение этой связи, так как они носители и словесного образа, и зрительного, поскольку сами являются своеобразными орнаментальными рисунками. Их не пишут на картине, а рисуют. Может быть, эта двуединая функция иероглифов и обусловила величайшее уважение китайцев к искусству каллиграфии.
На картинах Ци Байши иероглифическая надпись органически и разнообразно включается в общую композицию. В его изображениях цветов, птиц, насекомых, водяных существ при всей их удивительной жизненности обнаруживается родство с причудливыми формами иероглифов. Посмотрим на его картину «Сом»: расположенный вдоль и несколько под углом к вертикальной надписи, сом со своим гибким хвостом, изысканными завитками усиков и торчащим острием плавника напоминает большой изящный иероглифический знак В других случаях иероглифы сочетаются с изображением иначе. В картине, изображающей ветку цветов дикой сливы, два иероглифа придвинуты вплотную к рисунку и превратились как бы в деталь ветки, дополняя собой ее отростки и ответвления.
Ци Байши был мастером в еще одной, своеобразной отрасли китайского искусства: в искусстве вырезания печатей. На каждой его картине небольшой красный квадратик печати с бесконечно разнообразным графическим узором внутри него – это завершающий штрих композиции, ее заключительный яркий акцент. Но и сама внутренняя композиция печати не просто узор, как может показаться. Это тоже надпись – надпись из иероглифов, особым образом скомбинированных. Они содержат краткие изречения, автором которых является сам же художник – «трижды совершенный»: в поэзии, каллиграфии и живописи.
Нетрудно убедиться, что все «несходства» с натурой, которые мы можем заметить в живописи Ци Байши, только потому и имеют особый эстетический смысл и ценность, что являются как бы обратной стороной «сходства» – тончайшего и острого. Диалектическая связанность этих как будто бы противоположных категорий составляет основу искусства. Не будь «сходства» – не было бы и «выражения смысла», вместо него осталась бы бессмысленность, а лаконичные мазки туши потеряли бы все очарование, так и оставшись скучными прозаическими мазками.
Мы начали с того, что живопись Ци Байши понятна и отрадна без замысловатых рассуждений, а кончаем все-таки рассуждениями. Но это тоже вещи совсем не взаимоисключающие. Как всякое настоящее искусство, искусство Ци Байши сложно в своей простоте и просто в своей сложности: оно дает радость созерцания, но требует и труда размышлений над ним.
Ссылки
1 Ли Кэжань. Об учителе Ци Байши и его живописи //Ци Байши. Сборник. М., 1959-С. 64–65.
К вопросу о современном стиле в живописи[39]
Не приходится доказывать ту истину, что перед искусством нашего времени встают задачи исключительно широкого общественного масштаба. Современный художник, если он действительно руководствуется методом социалистического реализма, должен обладать повышенной чуткостью к совершающимся в мире великим сдвигам – в экономике, в политике, в науке и в сознании людей. Он мыслит широкими обобщениями, видит не только то, что делается на его улице, – его вдохновляет чувство всемирной солидарности трудящихся людей, которые ныне сами осознают себя не фоном истории, а ее движущей силой. Едва ли можно отрицать, что передовое искусство современности, как никогда, проникнуто публицистическим пафосом и тяготеет к созданию синтетических образов большого охвата.
И странно, что критикой так редко ставится вопрос о художественном стиле, который рождается этими задачами, или хотя бы о тенденциях развития стиля. Разве пафос современного реализма не находит созвучных себе стилевых форм, не сказывается в самых способах передачи и обобщения натуры, в направлении композиционных поисков, в преимущественном развитии тех или иных жанров и видов искусства?
В свое время очень интересно и глубоко затрагивала вопросы современного стиля В.И. Мухина, говоря о перспективах развития скульптуры в единстве с архитектурой, об участии искусства в создании городских ансамблей. Но по отношению к живописи чаще всего ограничиваются тем, что с удовлетворением отмечают «многообразие индивидуальностей»: Сарьян пишет не так, как А. Герасимов, Пластов не похож на Дейнеку, Нисский – на Ромадина. Все это прекрасно, но на этом нельзя ставить точку. Всякое многообразие хорошо постольку, поскольку в нем есть и единство, в том числе стилевое единство. В этом многообразии действительно намечаются какие-то стержневые линии, которые уже позволяют говорить о тенденциях стиля, особенно если не закрывать глаза и на то, как развивается социалистический реализм повсеместно: что происходит в искусстве Китая, Чехословакии, Румынии и других социалистических стран, а также в искусстве народов, ведущих освободительную борьбу, например в Мексике, или в итальянском неореализме.
Во всем мире бесплодному абстракционизму все более уверенно противостоит реализм нового типа – можно сказать, воинствующий реализм, который говорит от имени народа. Конечно, он носит своеобразный национальный характер в каждой стране, но есть и нечто общее в его устремлениях. Можно высказать предположение, что общественная масштабность и политическая заостренность искусства наших дней в соединении с его глубоким гуманизмом будут приводить художников к более синтетическим, обобщенным художественным решениям, а отсюда и к более лаконичным экспрессивным формам. В графике эти тенденции уже достаточно очевидны, но думается, что они по-своему нарастают и в живописи.
Сейчас мало показать зрителю то-то и то-то. Нужно побудить его размышлять над большими общественными проблемами современности, хотя, конечно, как всегда во всяком настоящем искусстве, путь к размышлению лежит через эмоцию. Стоит задуматься над принципами, которые настойчиво выдвигал, например, Бертольт Брехт, один из крупнейших передовых культурных деятелей нашей эпохи. Он хотел, чтобы театральный зритель не замирал в трансе, созерцая спектакль, а чтобы мысль его пробуждалась к активному отклику, к поискам ответа на те вопросы, которые ставит перед ним театр.
Но как поставить средствами изобразительного искусства большие проблемы эпохи? Это не всегда возможно сделать, оставаясь в рамках единичного эпизода, который с соблюдением полнейшей эмпирической достоверности воспроизводится на полотне. Иногда такой эпизод может быть сам по себе полон смысла, выразительности и красоты. Но не всегда. В нашей жизни много такого, что имеет для всех нас самое реальное, животрепещущее значение и что, однако, нельзя ни потрогать руками, ни увидеть в определенный момент на определенном отрезке пространства. А между тем мы хотим именно увидеть. Искусство в состоянии сделать для нас зримым незримое. Или, точнее, оно может синтезировать в одном вымышленном зримом образе то, что в жизни не умещается в одно явление, а познается только из суммы явлений, разделенных пространством и временем.
Это не так уж ново: синтетические образы такого рода всегда существовали в искусстве. Почему избегать их теперь, когда потребность в них больше, чем когда-либо?
Ведь написать на холсте обычную комнату, где стоит стол, покрытый красной скатертью, и людей, которые подходят к столу, чтобы поставить свою подпись под воззванием о мире, запечатлеть со всеми привходящими житейскими подробностями эту сцену (ее можно было непосредственно наблюдать в любом учреждении) – не мало ли этого для художественного воплощения великой темы нашего века: «борьба народов за мир»? Таких композиций мы видели много. Нужно прочесть подпись под картиной, чтобы узнать, что это именно изображение сбора подписей под воззванием, а не что-либо другое.
Между тем Борис Пророков в графических листах, посвященных теме борьбы за мир, находил принципиально иные решения. В листе «Танки Трумэна на дно!» он изобразил слитную массу людей, которая дружным натиском, подобно вздымающейся упругой волне, сбрасывает в море машину смерти. Вероятно, ни Пророков, ни кто-нибудь другой никогда не видел своими глазами такой сцены, – ее и нельзя было видеть; надо полагать, что история с отказом французских докеров грузить американские танки с внешней стороны выглядела совсем иначе. Можно вообще забыть, что эта композиция связана с определенным событием, – она все равно не утратит своего пафоса, и смысл ее будет ясен и без подписей. Тут найден действительно пластический эквивалент темы, найден зрительный синтез, которого эта тема требует.
«Оборона Петрограда» А. Дейнеки останется в истории советского искусства как одна из лучших картин, посвященных Великому Октябрю. Не правы те, кто, снисходительно одобряя замысел, упрекали художника за «условность» изобразительного решения. В данном случае именно эта условность, если угодно ее так назвать, и определила силу картины, силу наглядного выражения революционного долга, стойкости защитников революции. В чем, собственно, заключается здесь условность? В том, что художник лаконично и зримо сопоставил страдание раненых и непреклонную решимость идущих, оттеняя одно через другое – спотыкающийся, как бы подламывающийся шаг тех, кто возвращается, и чеканная поступь батальонов, идущих к месту боя. Пусть эти две группы не могут видеть одна другую – зритель видит и тех и других, и это сопоставление полно глубокого эмоционального смысла. Если закрыть нижнюю или верхнюю часть композиции, то другая утратит свою выразительность и свою идею.
Художник не ввел в композицию ничего, кроме двух противоположно направленных движений, ничего, что отвлекало бы от них внимание, никаких подробностей, кроме виднеющихся вдали судов на Неве. Но разве и эта сдержанность не оттеняет силу звучания главного? Если бы Дейнека взял такой эпизод революционных событий, который можно было бы увидеть из окна, со всем, что попадает в поле зрения, – его картина не была бы такой действенной и пластически говорящей. То, что он написал, не есть эмпирический отрывок видимого, и не нужно рассматривать его картину с этих позиций. Она представляет собой обобщение, основанное на изобразительных закономерностях, на особенностях зрительной эмоции.
Обращаясь к прошлому, можно сделать наблюдение, что именно те художники, которые наиболее непосредственно участвовали в социальной борьбе своего времени, которых можно назвать художниками-борцами, пропагандистами, чаще всего прибегали к такого рода «условностям»: потребность в идейной остроте картины рождает известные особенности стиля. Вспомним Питера Брейгеля, Гойю, Домье. Каждый из них говорил на современном ему художественном языке, но они пользовались этим языком до дерзости смело и изобретательно, как Маяковский языком поэзии. Мы находим у художников этого склада изобразительные гиперболы, гротеск и шарж, яркие контрасты, пространственные сдвиги, неожиданные в своей остроте точки зрения, объединение житейских и «символических» фигур в одной композиции – все это во имя силы, страстности идейного звучания. И как эти «вольности» обогащали, разнообразили язык искусства!
Изобретательность, гибкость, экспрессия реалистического художественного языка – вот чего хотелось видеть гораздо больше на Всесоюзной выставке 1957 года.
Разве не выиграла бы композиция А. Мыльникова «Пробуждение», если бы автор решил ее с большей фантазией, менее эмпирично? Композиция – слабое место этой талантливой, колоритной картины. Позади внушительных передних фигур ощущается не шествие, а теснота, чуть ли не давка с мельканием выброшенных вперед рук, неловко загораживающих друг друга голов. Художник хотел написать с полным соблюдением натуральности фрагмент фестивального праздника на улицах Москвы, но общий его замысел – пробуждение народов Востока, сбросивших цепи колониализма, – в этот фрагмент решительно не укладывается. Ведь это одна из самых значительных, эпохальных тем современности! И есть какая-то половинчатость в решении, предложенном художником: он хочет выразить величавую идею, оставаясь (композиционно) в пределах того, что выхватывает объектив фотоаппарата, наведенный на толпу. Если мы должны видеть в картине просто один из живописных эпизодов фестиваля, то композиция представляется несколько надуманной и торжественность фигур – натянутой. Если же это «пробуждение», тогда композиции недостает монументальности.
А ведь каким впечатляющим языком говорит подчас искусство самих порабощенных народов, борющихся за независимость! Проникнутое духом борьбы, оно не погружается в описания, а создает образы, очерченные скупо, резко, страстно. Лаконичные решения, где в немногом выражается многое, подобно сжатой пружине, таят в себе заряд энергии: она передается зрителю, и «пружина» развертывается уже в его сознании, в сердце, в мозгу.
Все помнят монументальную картину Цзян Чжаохэ «Беженцы», посвященную трагедии китайского народа во время японской оккупации. Она написана «условно», на нейтральном фоне, к тому же без соблюдения единой оптической точки зрения. Люди и их страдания, люди и их любовь и помощь друг другу – это бесконечно волновало художника, работавшего прямо по горячим следам событий, и он показал только то, что его волновало, – только людей и ничего больше, объединив их в группы, полные острейшей пластической выразительности, где каждое движение красноречиво. Созданное на почве национальных традиций «гохуа», произведение китайского художника вполне современно по стилю в смысле экспрессии, сжатости и монументальности выразительных средств.
Эти черты, формирующиеся в результате потребности в искусстве пропагандистском, призывном, искусстве больших интеллектуальных обобщений, становятся особенностями стиля и так или иначе проникают и в другие жанры, где такие широкие обобщения не столь необходимы. Независимо от жанра и сюжета, живопись начинает тяготеть к экономным решениям, к силуэтной выразительности, к цветовым и тональным контрастам, ритмичности, к освобождению композиции от перегрузки деталями.
Впрочем, думается, что поиски обобщающих образов уместны не только для таких больших тем, как народные движения, исторические перевороты, борьба за мир, покорение космоса, но и для более интимных, которые все так или иначе связаны с формированием нравственного облика человека. Эти темы тоже масштабны, незачем разменивать их на анекдотические мелочи. Прямое дело искусства – способствовать тому, «чтоб не было любви – служанки замужеств, похоти, хлебов. Постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь». Изображать с фотографической дотошностью жалкого мужа, который бросил жену, а потом пришел проситься обратно, – едва ли это вполне достойная задача живописи наших дней. Скажут: «И это нужно». Но ведь при прочих равных условиях бытовая кинокомедия справится с такой проблематикой несравненно успешнее: там развивающееся во времени действие раскрывает диалектику характеров и в целой цепи коллизий и конфликтов повседневные процессы жизни обнаруживают свою внутреннюю значительность. Но живопись, в распоряжении которой остановленное мгновение, должна искать сжатый пластический синтез, должна смотреть на вещи шире, проще, цельнее. Она требует особого художественного целомудрия и такта, чтобы не соскользнуть на анекдот. Картина А. Ацманчука «Дан приказ…» – еще наивное, не вполне зрелое художественное произведение, однако очень подкупает в нем стремление к пластически цельному образу, свободному от тривиальных мелочей и вместе с тем – нужно это признать – передающему атмосферу времени и обаяние нравственной чистоты молодых героев гражданской войны. Вероятно, нравственно-воспитательное воздействие живописи сильнее в простых концепциях такого рода, чем в морализующих замысловатых сценах.
Вообще на становлении современного стиля живописи, видимо, не может не отражаться широчайшее развитие того вида искусства, которого прошлые времена совсем не знали: искусства движущихся и говорящих изображений – кино. С одной стороны, можно отметить влияние кино на живопись хотя бы в области композиции: если в XIX веке в композиционных решениях преобладал скорее театральный принцип «сценической площадки», то теперь живопись переходит к более динамическим построениям, приближающимся к кинокадру, к композициям «крупным планом» и т. д. Но более существенно не прямое влияние кино, а косвенное, которое сказывается в стремлении к «размежеванию» этих искусств. Живопись невольно остерегается дублирования. Она хочет извлечь максимум выразительных возможностей из тех своих коренных свойств, которые кинематографу чужды: во-первых, из самой своей «неподвижности» и, во-вторых, из своей способности к творческому обобщению, переработке зрительно воспринимаемых форм. И это тоже направляется по руслу тех же стилистических исканий, о которых шла речь выше.
Но не таится ли в них опасность превращения живописи в «красочную графику»? Не уведет ли тенденция к лапидарности и синтетичности художественных решений от веками вырабатывавшейся специфики живописи, которая заключается в передаче всей зримой полноты окружающего мира со всеми богатейшими оттенками его форм и красок, с разлитым в природе дыханием и трепетом жизни?
Действительно, быть может, самым характерным и в известной мере ведущим видом искусства в наши дни является графика с ее экспрессивным языком линий и черно-белых контрастов, подобно тому как в Античности доминировала скульптура, в эпоху Возрождения – живопись. Тем не менее в Древней Греции процветала и живопись Полигнота и Апеллеса, а в эпоху Возрождения работал величайший скульптор Микеланджело. Также и сейчас нет оснований думать, что специфика живописи должна раствориться в графических приемах подхода к натуре.
Во-первых, тяготение к обобщающим образам и таким же приемам вовсе не исключает специфически живописного видения и полноценных живописных качеств, вещественную, пространственную и цветовую характеристику натуры. Мы можем назвать П. Кончаловского – блистательного живописца. Нельзя назвать неживописным и подход к натуре Г. Нисского, хотя его пейзажи всегда предельно обобщены и никогда не написаны прямо с натуры.
Во-вторых, это путь, конечно, не единственный. Он взаимодействует и переплетается с тенденцией, основанной на пристальном, любовном «исследовании» натуры кистью живописца.
На Всесоюзной выставке советского искусства можно было убедиться, что именно в области живописи как таковой были достигнуты значительные успехи и молодыми, и немолодыми художниками. В работах А. Пластова, Н. Ромадина, братьев А. и С. Ткачевых, В. Гаврилова, А. Левитина и многих других привлекали свежая, тонкая живопись, богатство палитры, многообразие тональных вибраций – словом, умение почувствовать и передать специфическими живописными средствами прекрасную «плоть мира». Это заложено в национальных традициях русского искусства, и, разумеется, это такой путь, от которого современное искусство не может и не должно уклоняться. Он не исчерпал себя в творчестве великих русских художников XIX века и никогда не исчерпает. Никогда не может зарасти тропа, ведущая от самого непосредственного, свежего, благоговейного восприятия натуры к ее смелому творческому обобщению.
Очевидно, можно говорить о единстве двух тенденций как основе современного стиля. Одна – к синтетическим обобщениям (и отсюда к монументальному и тоже очень обобщенному языку форм); другая – к раскрытию характерного и типического в конкретных явлениях, как они есть, как они могут быть увидены в самой натуре (и, следовательно, к живописности художественного языка). Искусству нужно и то и другое; естественно, если одни художники больше тяготеют к синтезу и вымыслу, другие – к природной «натуральности» и непосредственной живописности. Одновременное развитие этих начал ценно тем, что они так или иначе влияют друг на друга, взаимно освобождаясь от односторонности: в одном случае – от схематизма и излишней живописной аскетичности, в другом – от эмпирической приземленное™, мелочности сюжетов и натуралистичности их трактовки. В результате такого взаимодействия будут, очевидно, складываться общие черты большого стиля эпохи, некое стилевое единство в многообразии индивидуальных талантов.
Грести против течения[40]
Книга известного художника и педагога Бориса Неменского одновременно исповедь и проповедь. Исповедь – рассказ автора о работе над несколькими своими картинами, начиная от рождения замысла, через переборы многих вариантов до окончательного завершения. Проповедь – не своих методов, а своего творческого кредо: проповедь эстетических принципов, утверждающих высокую роль искусства, в частности живописи, в человеческой жизни. Неменский видит ее, эту роль, в том, что от художников к зрителям протягиваются нити чувства, – из них сплетается ткань духовной жизни; нити эти несут людям эмоционально-образное познание, не заменимое логически-понятийным, научным. Чтобы нити не повисали в воздухе, нужна культура восприятия, культура чувства у воспринимающих, понимание ими языка искусства, все это должно воспитываться с детских лет. Отсюда постоянная забота Неменского о занятиях искусством в общеобразовательной школе, в кружках, в студиях, в самодеятельных коллективах. Об этом тоже говорится в его книге.
Общетеоретические положения, изложенные в книге, как будто не новы; кто-нибудь скажет: прописные истины! И будет не прав. Во-первых, истины не перестают быть истинами оттого, что вошли в прописи, если же их успели основательно забыть, они звучат обновленно. Во-вторых, нельзя не почувствовать, что мысли Неменского добыты не из учебников эстетики, а из собственного большого опыта, а это совсем другое дело. Не стоит судить о них с профессорской точки зрения. И наконец – самое главное! – они получают свежий и острый смысл именно теперь, сегодня, в условиях довольно плачевного состояния русской художественной культуры, характеристике которого посвящены заключительные главы книги Неменского.
Сейчас в ходу успокоительное выражение «не надо драматизировать ситуацию». Но Неменский драматизирует, и у него есть на то основания. Он пишет: «Происходит тяжелейшая, еще не всеми замечаемая драма русского искусства. Оно уходит от тех духовно-проблемных, явно некоммерческих, сложных бесед со зрителями, которые уже столетия были у него в крови, к легкому развлекательно-украшательному искусству, сулящему быструю прибыль».
Диагноз вполне точный. Было бы еще полбеды, если бы развлечения были веселыми, а украшения изящными – но и этого нет: современный коммерческий кич мало чем отличается от пресловутой телевизионной рекламы. Но об этом несколько позже. Сначала остановимся на тех страницах книги, где художник рассказывает историю двух своих картин – «Это мы, Господи» (прежнее название «Безымянная высота») и «Женщины моего поколения». Я хорошо помню, какой живой интерес эти картины вызвали у зрителей всех рангов и уровней и какой переполох в официальных инстанциях. Особенно «Безымянная высота» – двое убитых юношей, русский и немец, лежат, соприкасаясь головами, и волосы их смешались. За эту картину художника обвиняли в пацифизме, непатриотизме, вызывали «на ковер», Министерство культуры расторгло с ним договор, требуя возвратить аванс. От чего-либо еще худшего Неменского, видимо, уберегло то, что он был военный художник, фронтовик, прошедший с войсковыми частями до Берлина. Война и дала ему первый импульс к созданию «пацифистского» полотна. Он рассказывает про это с предельной искренностью и простотой. В 1943 году двадцатилетний выпускник Студии военных художников им. М.Б. Грекова шел пешком к месту боевых действий через выжженные Великие Луки. «Весь город был спален, был зоной пустыни – ни одного живого человека, ни одного целого дома». Присел отдохнуть на какой-то торчащий из-под снега выступ, не то пенек, не то камень. И вдруг заметил, что сидит на окоченевшем трупе молодого немецкого солдата с такими русыми рыжеватыми волосами, как у него. «И я был поражен: мальчишка, юноша моего возраста и даже чем-то похожий на меня… Это был мой первый фронт и первый враг, увиденный лицом к лицу».
Потом этот эпизод как бы забылся, но хранился в подсознании и снова всплыл почти через двадцать лет, соединившись с пережитым и передуманным за эти годы, – и возникла композиция «Безымянной высоты», образ «врагов-братьев», лаконичный и сильный, как некая художественная формула. Картина действительно стала нитью, протянутой к сердцам. Ее много и горячо обсуждали, дискуссии проводились и в Союзе художников, и в Доме литераторов – литераторов картина задела за живое не меньше, чем художников, что бывает редко. Успех был большой, но совсем иного рода, не как у эстрадных звезд. Никто не «фанател» (ужасное слово из современного молодежного лексикона), но серьезно говорили о серьезном – о войне и мире, о жизни и смерти. Участвовали и «рядовые» зрители – инженеры, врачи, студенты. Писали в редакцию журнала: «Эта картина смотрится из будущего», «Этот немецкий парень – тоже жертва фашизма».
Тогда еще не осознавали в полной мере (или молчали об этом?) расширительного смысла «Безымянной высоты», который теперь художник называет «извечной проблемой человечества» – проблемой вечного взаимоубиения себе подобных, разделяемых на «верных и неверных, своих и чужих». Художник и сам пришел к этому не сразу. Он продолжал думать над своей многозначной картиной. Читатель узнает из его книги, сколько различных вариантов композиции он испробовал, как менял соотношение земли и неба, время года, антураж. Достаточно сказать, что последний законченный вариант был исполнен в 1992 году (значит, целых полвека шло подспудное развитие замысла). События последних лет побудили автора отойти от локального понимания того давнего фронтового эпизода. «Все ведь опять и опять: индийцы и пакистанцы, сербы и албанцы, турки и… израильтяне и… мы и… и т. д.». Композиция теперь стала еще более лаконичной. Раньше там были фигуры других убитых немцев, лежащие поодаль. В последнем варианте – только две центральные фигуры и пространство земли, превращенной в пустыню. «Это мы, Господи… Да, это мы, это мы вчерашние и сегодняшние».
Другая картина – о судьбе женщин военного поколения. После Великой Отечественной войны миллионы мужчин были убиты, сотни тысяч их сверстниц оказались обреченными на одиночество. В то время была сложена частушка: «Вот окончилась война, и осталась я одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик». На картине Неменского три представительницы этого злосчастного поколения, достигшие примерно сорокалетнего возраста, собрались на грустный девичник. Одна – та самая выносливая «баба и мужик». Другая – хрупкая постаревшая девушка, «вечная невеста». В третью, накрашенную, со взбитой прической, легче всего бросить камень, но рука не поднимется. Эта картина сохранилась в двух законченных вариантах, значительно между собой различающихся. И ей также предшествовали многие жизненные впечатления, долгие поиски, множество эскизов и натурных этюдов. Это одно из лучших произведений Неменского – и по глубокому постижению характеров, и по цельности пластического решения. Мне оно чем-то напоминает «Едоков картофеля» Ван Гога – может быть, суровой экспрессией, с какой передано ощущение «семьи». Ведь эти три подруги – тоже своего рода семья: среди холодного мира они находят опору друг в друге.
Вечный признак настоящего произведения искусства – оно не остается наглухо прикрепленным к своему времени, его внутреннее содержание как бы эволюционирует, давая возможность новых толкований. Так произошло с «Безымянной высотой», и, как мне кажется, «женщины моего поколения» тоже «вчерашние и сегодняшние». Конечно, типаж целиком принадлежит 60-м годам, современные женщины выглядят по-другому. Но вполне можно представить, что драматическая судьба героинь картины зависит не от демографической ситуации послевоенных лет, не от дефицита женихов, а от чего-то другого, может быть, как раз от плохого замужества – оно бывает куда тяжелее, чем безмужняя доля. И для зрительниц начала XXI века эта проблема, пожалуй, более насущна.
Я далека от мысли, что методы творческой работы Бориса Неменского являются каким-то эталоном или образцом. И сам художник так не считает. Он описывает свой, личный опыт и путь, никому его не навязывая. Излишне доказывать, что духовные флюиды могут излучаться не только проблемными композициями, но и простым натюрмортом с подсолнечниками, написанными всего за два часа. (С другой стороны, множество так называемых тематических картин не несут никакого духовного содержания.) Неменский стоит за многообразие художественных форм, жанров и функций искусства, спектр его художественных пристрастий широк – от Вермера Делфтского до Гойи, от Брейгеля до Пикассо. Он терпим ко всяческому инакомыслию. Настаивает на одном: «Искусство и для создателя, и для воспринимающего его – труд души. Всегда. Даже – когда развлечение». Здесь он неуступчив.
В книге «Познание искусством» Неменский рассказывает и о работе своей над портретами и натюрмортами («Вещи – как мысли»). Но мне хотелось задержать внимание читателей на рассказе-исповеди об истории создания двух его знаковых картин, потому что именно этот живой рассказ убедительнее всего свидетельствует, что работа художника – подлинно труд души.
Жаль, что раздел, посвященный преподаванию искусства в общеобразовательной школе, написан на уровне теории, не содержит примеров из практики. Ведь многолетняя деятельность Неменского в этой области – тоже труд его души, и еще какой труд! Неменский по натуре своей просветитель. Разрабатывая школьные программы, добиваясь их внедрения, собирая кадры единомышленников – школьных учителей, осуществляя шефство над школами, студиями, кружками любителей искусства, он тратил массу сил, времени и энергии, и усилия не пропадали напрасно: десятки школ работали и работают по его программе. Обо всем этом можно было бы рассказать историю не менее увлекательную, чем история создания картин. Тем более что в наши дни задача художественного воспитания детей и подростков актуальнее, чем когда-либо, поскольку всевозможные СМИ действуют в обратном направлении. В рецензируемой книге Неменского изложены в общей форме его педагогические установки, цели, принципы составления программ, приведены соответствующие схемы, – все верно, но слишком отвлеченно. Те учителя рисования, которые работали под его руководством, поймут, но ведь сейчас пришли другие, им не так легко разобраться в терминах и схемах, не видя за ними, как строится урок, что и как дети рисуют, сооружают, украшают. Правда, об этом можно прочитать в прежних публикациях Неменского и в его книжке «Мудрость красоты», но стоило бы и здесь оживить изложение примерами. Неменский – художник, его сила в конкретике.
Что касается собственно теоретических глав его книги, с некоторыми тезисами, в общем справедливыми, но чересчур категорическими, можно было бы поспорить, но это увело бы далеко. Однако не могу не возразить против чисто релятивистского понимания нравственности, а заодно и красоты (глава «Искусство и нравственность») – прежде всего потому, что оно, как мне кажется, противоречит основному пафосу самого же Неменского. Верно, конечно, что понятие о добре подвержено изменчивости – в разные времена, у разных народов и даже у отдельных людей. Представления, например, о солнце тоже менялись: его могли считать зажженным в небе фонарем, или божеством, или телом, вращающимся вокруг земли, но отсюда не следует, что солнце – понятие относительное. Солнце обладает собственной природой, независимой от разных толкований. Не так давно нас учили, что нравственность – понятие классовое: нравственно то, что полезно рабочему классу. Или еще проще: «Если сосед увел у меня корову – это зло, а если я увел корову у соседа – это добро». Знаменитая триада – Истина, Добро, Красота – имеет реальный смысл (и стоит того, чтобы во имя ее грести против течения) только в том случае, если это – категории субстанциональные, сущностные, а не эфемерная надстройка над экономическим базисом. Если некое племя, о котором упоминает Неменский, считало нравственным убивать стариков, так как это было в интересах рода, – это не значит, что они в самом деле поступали нравственно.
Рассуждения о разном понимании женской красоты дворянами и крестьянами, заимствованные у Чернышевского, уже и тогда звучали совсем неубедительно.
Релятивистские воззрения, думаю, случайны для Неменского. Они не работают на его позицию, скорее наоборот – ослабляют ее. Сторонники «чернухи и порнухи» могут сказать: так в чем же вы видите драму современного искусства? Никакой драмы, просто прежние взгляды и вкусы устарели, теперь внутри нашего общества возобладали другие представления о прекрасном и должном, мы идем им навстречу, только и всего.
Но с этим Борис Михайлович Неменский, конечно, не согласится. Он взял одним из эпиграфов к своему сочинению строки АК. Толстого: «Дружно гребите во имя прекрасного против течения».
Вероятно, потоки развлекательной макулатуры сегодня больше грозят русскому искусству, чем мрачный нигилизм постмодернистских течений. Рассуждения о неотвратимости вселенского хаоса и соответствующая им художественная практика слишком неинтересны, чтобы всерьез соблазнять читателей и зрителей, к тому же все это уже было и оставалось в копилке курьезов. (Чуть не сто лет тому назад Аркадий Аверченко написал смешной фельетон о художниках, выставлявших натуральных дохлых крыс в рамке.) И конфузные для homo sapiens действия миллионера-хулигана Флинта или Олега Кулика едва ли найдут много последователей. Но вот общее состояние «массовой культуры», пропагандируемой телевидением, действительно внушает опасения. Неменский в своей книге несколько раз упоминает о телевизионной рекламе, но вскользь, а надо бы побольше. То, что нам показывают по сто раз в день, что занимает не меньше половины эфирного времени, – это даже и не реклама, а какой-то новый жанр, и жанр очень скверный. Иной раз трудно и понять, что, собственно, рекламируется: какое-то мелькание рук, ног, задов, раздаются выкрики типа «лучше жевать, чем говорить», «оттянись со вкусом» – изречения, достойные неандертальцев, которые, оказывается, даже не были нашими предками. Великая царица Жвачка господствует на голубом экране, ей нет никакого дела ни до искусства, ни до политики, ни до войны, ни до чего. Когда работников телевидения спрашивают: зачем это? – ответ всегда один: реклама дает деньги. Деньги нужны, чтобы доставлять зрителям необходимую информацию о текущих событиях, то есть просвещать публику. Нормально ли – одной рукой просвещать, другой затемнять? Телевизор смотрят миллионы подростков, они народ восприимчивый, это их главное, если не единственное зрелище. Кроме рекламы, они по тому же ящику поглощают бесконечные боевики с непременной стрельбой, поножовщиной, выбрасыванием людей из окна и прочее. Я не думаю, что, насмотревшись таких фильмов, юный зритель тут же пойдет совершать теракт – это не обязательно. Но он привыкает к мысли, что убийства, вперемежку со жвачкой, составляют естественную стихию жизни и ее главный интерес, что киллер – обыкновенная профессия, не хуже других. А ведь какое замечательное изобретение – телевизор, и сколько светлых надежд с ним связывалось! Словно какой-то рок заставляет людей обращать во зло полезные научные открытия.
Как и Б.М. Неменскому, мне не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте. Может быть, все-таки не стоит слишком «драматизировать ситуацию»?
Современным художникам, так же как литераторам, музыкантам, деятелям театра, кинематографа, приходится работать в условиях рынка. Они к этому не привыкли. Они привыкли, что о них заботится государство: финансирует, дает заказы и… надзирает. За сравнительную обеспеченность они расплачивались унизительной зависимостью и жертвовали совестью – об этом нельзя забывать, это никак не благоприятствовало искусству. Теперь государство как бы отвернулось от искусства – ни внимания, ни денег, ни государственной политики вообще. Зато ни за какую картину, или книгу, или театральную постановку вас не будут вызывать на ковер, отдавать под суд как тунеядца или выдворять из страны. Никто не будет запрещать высказывать свои философские, эстетические, религиозные убеждения. Уже одно это позволяет предполагать появление в будущем оригинальных мыслителей и художников.
Но пока суд да дело – а зарабатывать на жизнь нужно. Художники всегда заботились о продаже своих произведений. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Покупателями и заказчиками были короли, папы, вельможи, меценаты, коллекционеры, торговцы и просто состоятельные сограждане. Как правило, они понимали толк в искусстве, чего нельзя сказать о современных нуворишах – «новых русских». Но это не значит, что состоятельные люди, бизнесмены, обречены оставаться невеждами.
Многое, наверное, зависит от инициативы самих художников. Им придется самим заботиться о самоорганизации, о сбыте своих вещей, а не «ждать кормежки». И заботиться о культуре подрастающего поколения – своих будущих покупателей, чтобы искусство поддерживалось культурными членами общества, а не правительственными указами и не пошлейшей рекламой. Нужна активная пропаганда подлинного искусства и бескомпромиссное отвержение макулатуры. Словом, нужно грести против течения. Может быть, немногие на это способны, но все лучшее всегда создавалось отдельными личностями – в них сила. Нельзя мириться с тем, чтобы «люди сметки и люди хватки победили людей ума», как сказано в стихотворении поэта Б. Слуцкого, которое цитирует Неменский. Оно было написано давно – в советское время. Тогда у «людей хватки» были сильные орудия для расправы с людьми ума. Теперь их позиции слабее и их бездарность очевиднее.
Книга Неменского – больше чем хорошая книга: это хороший поступок. Она написана искренно и взволнованно, читается легко (за немногими исключениями), ее с пользой прочтут учителя и студенты. Надеюсь, они обратят внимание и на изящные, остроумные рисунки Л А Неменской, которые не прямо иллюстрируют текст, а построены на ассоциациях, возникающих при чтении.
Времена и судьбы
Рожденная в семнадцатом[41]
Альберто Джакометти. Большая стоящая женщина. II. 1959–1960
Я родилась в год Октябрьской революции, провела жизнь при советской власти, вместе с ней состарилась и, к своему удивлению, ее пережила. У меня нет претензий выступать от лица поколения – в каждом поколении есть разные люди с разным образом мыслей, не говоря уже о разном общественном положении. Говорить могу только о себе и отчасти о своем ближайшем окружении. Это был, может, и не широкий, но все-таки круг, и нечто общее в его социальном самочувствии имелось.
Люди более молодые почему-то считают, что для нашего поколения (примерно от 1914 до 1924 года рождения) общим было: искренняя вера в коммунистические идеалы, преданность ленинским заветам и любовь к товарищу Сталину. (За исключением тех, кто стал жертвами террора, да и из них большинство сохранили веру в идеалы, хотя в товарище Сталине разочаровались.)
Возьму на себя смелость сказать, что все это не совсем так. Если мы во что и верили (имею в виду свою среду – молодых и средних «образованцев»), то в историческую неизбежность, против которой не попрешь. Нам было свойственно принимать вещи как данность. Где-то я читала, что дети, родившиеся и успевшие подрасти в условиях затянувшихся военных действий, воспринимают постоянные обстрелы как нечто хотя и неприятное, но естественное – а как же иначе? При этом у них есть и свои игры, и свои маленькие радости. Примерно так было с нами.
Больше всего это относится к сталинскому периоду. Поверьте: не было у нас «культа личности». С ним сообразовывались, поскольку он насаждался на официальном уровне. На этом уровне действительно полагалось считать, что Сталин все знает и предвидит, что его поступками движет высшая мудрость; его благодарили в стихах, песнях, прозе, статьях – благодарили даже за то, что он живет на Земле, то есть за то, что выбрал для рождения нашу планету. Нет, мы не были до такой степени глупы, чтобы принимать эту липу всерьез, да вряд ли принимали всерьез и сами насадители «культа». Слащавые, выспренние слова – «родной отец», «любимый», «гений всех времен» и пр. употреблялись в песнопениях и публичных речах, но в обиходных разговорах их никто не произносил – показалось бы дико.
Из тех, кого я достаточно близко знала, только одна моя приятельница «любила» Сталина и то обнаружила эту любовь только в первые дни после его смерти. Она, впрочем, была на десять лет старше меня и уже в двадцатые годы организовала какой-то женотдел. Также одна из моих двоюродных сестер, комсомолка двадцатых годов, в свое время участвовала в раскулачивании на селе и надолго сохранила «ортодоксальность». Мы, чья молодость приходилась на конец 1930-х, мы, не принимавшие участия в разрушении «старого мира», не изведавшие революционной эйфории, – мы не были ни ортодоксами, ни диссидентами. Мы были немощными фаталистами. Наше общественное поведение (не скажу: сознание, но именно поведение) определялось теми условиями бытия, которые мы застали уже сложившимися и в которых продолжали существовать, не зная других.
Моя семья жила скромно и средне. Отец – инженер старой закваски, получивший образование до революции; революции он не сочувствовал, но, как и многие, покорился обстоятельствам. Двое его закадычных приятелей «подверглись» и бесследно исчезли еще в начале 1930-х годов. Помню, что и отец со дня на день ждал ареста, настроен был нервно, не спал ночами, прислушиваясь к звукам и стукам. Однако все обошлось: отца не тронули, среди близкой родни репрессированных не оказалось. Вероятно, поэтому у меня не образовалось соответствующего «комплекса» – не помню, чтобы я испытывала страх. Об арестах, конечно, знала, но не знала, что они были столь массовыми. Опасения отца казались мне преувеличенными и происходившими «на нервной почве».
Тем не менее уже в детстве, а потом в студенческой юности, кончившейся с началом войны, общая атмосфера жизни, включая «социалистические идеалы», мне скорее не нравилась, чем нравилась. Родители здесь были ни при чем: они не проводили со мной идеологического воспитания ни в ту, ни в другую сторону. Меня никогда не водили в церковь, не учили молитвам, я привыкла считать, что «бога нет», – но мне не нравилось, когда разрушали храмы и когда прекратился гулкий колокольный звон, который я слышала в детстве. Не нравилось, когда я читала в журнале «Пионер», что дети должны воспитываться в коллективе, а не в узком семейном кругу, что обзаводиться собственными вещами и личными библиотеками – мещанство, а надо, чтобы все шло в общий котел. Я и мои подружки предпочитали мещанское времяпровождение со своими мамами, с собственными игрушками и книжками или игры во дворе в небольшой компании. А когда я все же вступила в пионеры, мне совсем не понравилось в пионерском отряде. Тогда они создавались не при школах, а при заводах и фабриках; наш отряд состоял при кондитерской фабрике имени Бабаева. Это бы ничего: на фабрике очаровательно пахло, и иногда перепадали конфеты. Но очень скучно было на пионерских сборах, где вожатые вечно кого-нибудь прорабатывали и перевоспитывали – не так, как учителя в школе, а гораздо суровее.
Самые невеселые воспоминания остались от пионерлагеря под Москвой, где я провела лето, кажется, в 1930 году. Во-первых, нас там кормили впроголодь, и все время хотелось есть. Во-вторых, мы должны были быть «всегда готовы» – это значило, что нас то и дело вызывали «на линейку», причем часто среди ночи. Заслышав призывный горн, мы поспешно вставали, выстраивались, рассчитывались по порядку номеров, салютовали поднятому флагу; нам кричали: «Будь готов!», мы кричали: «Всегда готов!»– потом могли идти досыпать. В порядке трудового воспитания нас обязывали чистить выгребные ямы – может быть, теперь не поверят, но это было так. Все лагерники разбивались на звенья, отлучаться от своего звена не полагалось ни за работой, ни в спальнях («палатках»), ни на прогулках, впрочем, редких.
Бывали у нас и знаменитые пионерские костры – на них все должны были присутствовать в обязательном порядке. Тут мы пекли картошку и пели «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка» и другие песни. Не только революционные – были и шуточные, например: «Ах, картошка объеденье, пионеров идеал» – эту песню пели с особенным воодушевлением. Еще помню такую: «Ах ты, тетя Лизавета, я люблю тебя за это, я люблю тебя за это, что ты, тетя Лизавета, и за это, и за то, – во! боле ничего».
Лагерный образ жизни казался мне нестерпимым. Не думаю, чтобы я была какой-нибудь отъявленной индивидуалисткой, белой вороной, редким исключением – нет. Меня даже выбрали вожатой звена. Но когда за мной приехала мама и до срока меня увезла, я была в полном восторге. Потом мы с ней поехали кататься на пароходе по Оке, кормили там тоже не ахти как, но это был рай.
После пионерлагеря я перестала ходить на сборы, автоматически выбыла из юных пионеров и никогда не вступала в комсомол. Пионерский опыт окончательно отбил у меня охоту к социалистическому коллективизму. Никакого осознанного протеста в моем уклонении от комсомола, конечно, не было. Просто вырабатывалась определенная жизненная линия поведения: по возможности увиливать от неприятного, а уж если не выходит – тогда подчиняться.
До поры до времени я думала (если вообще думала), что коллективизация, индустриализация (столько-то тонн чугуна на душу! и зачем моей душе столько чугуна?), преследование врагов народа, зубрежка истории партии (когда какой съезд), обожание Сталина – вещи противные, но, за вычетом ошибок и перегибов, нужные обществу. Если они есть, значит, так надо, значит, в них заключена некая, как говорил бессмертный Васисуалий Лоханкин, сермяжная правда. Более или менее ясное сознание, что ни сермяжной, ни вообще правды тут нет, пробудилось у меня поздно – во время войны.
Перед войной я окончила ИФЛИ и вскоре эвакуировалась с ребенком в Моршанск, где жили родственники. Пришлось испытать все трудности житья «выковыренных»: ни отопления, ни продуктов, ни электричества не было, к тому же фронт проходил близко, и над нашими головами постоянно летали немецкие самолеты, а «убежищами» были наспех вырытые ямы, заливаемые дождями до краев; никто в них, конечно, не лазил. При всем том я не чувствовала ни малейшего сожаления о «благополучном» прошлом и никакого желания, чтобы оно вернулось в прежнем виде: война обнажила его фальшь. Как тогда говорили – стало труднее жить, но легче дышать. Словно бы дрогнул висевший над страной камень. Я была уверена, что война кончится победой над немцами, но смутно надеялась и на победу над нашим собственным прошлым. Мне казалось, что и моя жизнь станет какой-то другой. В то, что я после войны буду работать «по специальности», я не верила, но мне это было все равно. В Моршанскея преподавала литературу в Учительском институте, мне были по душе мои ученицы, приходилось много читать – при свете коптилки, не снимая шубы. Там я прочитала и некоторые философские книги, о которых раньше и не слыхала, хотя получила высшее гуманитарное образование, и начинала понимать, что не религия – опиум для народа, а опиум то, чем нас усердно пичкали.
Но грубая истина состояла в том, что, вернувшись в Москву, восстановившись в аспирантуре, а потом, поступив на работу в журнал «Искусство», я не только не начала другую жизнь, которая мерещилась в военные годы, а окунулась в прежнюю в еще худшем варианте. Приходилось опять посещать политзанятия, изучать постылый «Материализм и эмпириокритицизм», разоблачая идеалистов «всех мастей»; что еще хуже – приходилось, в качестве редактора, портить чужие статьи и самой писать прескверные статейки (ничтожной редакторской зарплаты на жизнь не хватало). И самое худшее – то, что я довольно легко адаптировалась к этим условиям.
Правда, случались критические ситуации. По молодости и неопытности мне не удавалось «политически мыслить», как подобало работнику идеологического фронта. Время от времени меня в этом публично изобличали (например, в симпатиях к французскому импрессионизму), не скупясь на самые грозные, уничижительные слова; не допустили к защите диссертации. Один товарищ, выступая с трибуны, сказал обо мне: «Это не наш человек». Но как-то все сходило с рук и серьезных последствий не имело, даже с работы не уволили, а, напротив, предложили должность научного сотрудника в НИИ Академии художеств. (Это, скорее всего, свидетельствовало, что подобные мне были и среди начальства.) Крах диссертации меня не удивил – диссертация была о Врубеле, а как раз в это время происходил разгром Зощенко и Ахматовой, следовательно, и «декадентства»: Врубель пришелся совершенно некстати. Не растерявшись, я сравнительно быстро написала новую диссертацию – о московском Училище живописи и ваяния. С ней все прошло гладко, мне положительно везло.
Однако раздражала и удручала необходимость все время лавировать, оправдываться, изворачиваться, стараясь хоть что-нибудь, хоть самое невинное, протащить через многоступенчатую цензуру. Был момент, когда я намеревалась, пока не поздно, переменить профессию на менее идеологическую, поступив заочно на другой факультет. Техника была мне недоступна – ну так на биофак (что тогда творилось в биологии – до моего сознания как-то не доходило). Я уже и заявление написала, но оказалось, что с законченным высшим образованием да еще без должного стажа работы никуда учиться не примут. Пришлось возвращаться к своим баранам.
А возвращаться очень не хотелось. Работать в журнале в условиях «борьбы с космополитизмом» значило участвовать в каком-то идиотском шабаше. Например: я сижу в редакции, передо мной верстка статьи именитого Икса, в которой он обличает в космополитизме Игрека. Читаю, исправляю опечатки. В это время приносят сегодняшнюю газету, в газете – статья Зета, направленная против Икса – автора нашей статьи: Зет утверждает, что он-то и есть махровый космополит. Я звоню нашему главному редактору, спрашиваю, как теперь быть – кто космополит, кто нет? Ответ: немедленно снять статью Икса из номера. А номер уже сверстан, надо срочно искать замену. И вся моя «работа» в таком роде. Хорошо еще, что она была чисто техническая – от меня ровно ничего не зависело. Кроме нескольких авральных дней перед сдачей номера, мне вообще нечего было делать в редакции. Однако я была обязана приходить ежедневно к десяти часам, снимать табель и отсиживать положенное время. Опоздание на несколько минут грозило выговором, а повторное – судом.
Я вспоминаю мелкие факты своей биографии из желания как-то реконструировать мироощущение мелкого образованца тех лет. Его можно сравнить с состоянием человека, которого закусали комары: досадно, докучно, а спрятаться некуда. Нам не думалось, что все тучи комаров излетают от Сталина. Как ни странно, мы вообще о нем мало думали, хотя неуклонно его цитировали, а его портреты непрерывно маячили перед глазами – в некоторых номерах того же «Искусства» они помещались буквально на каждой странице. К ним пригляделись и перестали замечать. Сталин сделался эмблемой, в которой не оставалось ничего живого. В жизни он словно бы и не участвовал, а только осенял ее своими изречениями и усами. Действовали другие люди – очень многие люди на всех ступенях общественной лестницы. Не Сталин, а «органы» производили обыски и аресты; не Сталин, а Жданов громил Зощенко и Ахматову; не Сталин, а президент Академии художеств Александр Герасимов истреблял так называемый формализм. Театральных критиков-космополитов разоблачал тоже не Сталин, а сами же театральные критики, да еще с каким рвением. И не Сталин, а мелкий чиновник Тупицын (его подлинная фамилия) осуществлял цензуру над журналом «Искусство». Свои запретители и распорядители, свои ретивые доброхотные функционеры имелись везде и всюду. Среди тех, с кем мне приходилось сталкиваться, встречались сущие угрюм-бурчеевы, но были и люди, что называется, по-человечески неплохие. Одно дело – человек, другое – функция, к которой он приставлен.
Казалось, все жили под одним прессом, составляли единый механизм. А кто запустил механизм? Ну, очевидно, историческая необходимость. Из того, чему нас обучали в институтах и на политзанятиях, прочнее всего укоренился исторический материализм, понятый как исторический фатализм. Общественные формации закономерно сменяют одна другую: после первобытно-общинного строя обязательно приходило рабовладение, после рабовладения – феодализм, после феодализма капитализм, а после капитализма неминуемо должен последовать социализм. Если нас угораздило жить при становлении социалистической формации, хочешь не хочешь – принимай правила игры. Что социализм может развиваться по какому-то другому сценарию, не так, как у нас, – тому история не давала примеров, а истории виднее. Как я теперь понимаю, критическое отношение к нашей действительности, пробудившееся у меня в годы войны, касалось нравственного и религиозного аспекта, но исторического материализма из сознания не выбило. Если существующее и безнравственно, оно тем не менее закономерно, и надежды изменить ход вещей иллюзорны.
«Ах, хоть бы уже все это провалилось в тартарары», – как-то в минуту досады сказала я своему родственнику, в то время делавшему успешную служебную карьеру. «Не надейся, не провалится», – ответил он с оттенком легкого злорадства. Да и я сама думала, что «это» на веки-вечные.
В узком кругу мы позволяли себе посмеиваться – на это нас еще хватало. Помню остроты одного моего приятеля по поводу «потока приветствий» к 70-летию Сталина (приветствия печатались в газетах ежедневно, в течение чуть ли не целого года). Мой знакомый говорил, что следовало бы издать их в нескольких томах и изучать наряду с «Кратким курсом». «Представляете, будут друг у друга спрашивать: вы до какого тома “Приветствий” дошли? Мы уже прорабатываем третий». Он же замечал, в связи с нашими ритуальными походами на выборы, что надо предоставить право голоса и домашним животным. «А что? Они бы справились. Представляете: ведут на избирательный участок процессию собак и кошек с красными бантиками». Приятель мой был технарь; может быть, в их среде шутили на порядок вольнее, чем в нашей. Шутить-то он шутил, а политзанятия посещал аккуратно и выборами не манкировал. В его остротах выражалось не столько возмущение, сколько ироническое осознание обстоятельств, от нас не зависящих. Среди его знакомых были стукачи, он знал или догадывался, кто именно, но особо острой антипатии к ним не питал, только воздерживался в их присутствии от шуток. Стукачи тоже были неизбежной данностью.
Другой, искусствовед, в своем общественном поведении более чем лояльный, услышав по радио об очередных выборах, ворчал: «Ну и зачем эти выборы? Ну собрали бы с каждого по десятке и ладно». «Теперь опять будут брехать целый месяц», – подавала реплику его теща.
Еще один мой друг и почти ровесник, по профессии биолог, в ранней юности прошедший через двухлетнюю ссылку в Кемь, был настроен более жестко и радикально. От него я слышала такое высказывание: а жаль, что немцы нас не одолели, – их бы все равно потом победили союзники, и у нас бы установилась демократия. Но и он после войны не надеялся на перемены. Перемены представлялись несбыточными опять-таки не из-за Сталина персонально; еще раз повторю: маленьких Сталиных было видимо-невидимо, куда более тупых, а может быть, и более жестоких, чем большой Сталин, который просто физически не мог управлять всем и всеми в огромной многонациональной стране. В последние годы он редко выступал с речами, редко показывался; мы полушутя гадали: может быть, он давно умер, но нам не сообщают, на трибуне во время демонстраций стоит его двойник, а все и без Сталина идет по-заведенному.
Некоторый интерес к личности Сталина временно возник в нашей среде в 1950 году, когда шла «дискуссия о языкознании». Надо иметь в виду, что теорию Н.Я. Марра перед этим уже почти превратили в марксистский эталон (как «учение Мичурина», как «соцреализм» – требовалось установить подобные эталоны во всех областях науки и культуры). И вдруг – статьи в «Правде», одни за Марра, другие против, и неожиданно вмешивается Сам – тоже против «марксистского» Марра: вот это номер! Заинтересовали не рассуждения Сталина, вполне любительские (это-то мы понимали), а сам факт: вождь высказался против «аракчеевщины в науке» и даже призвал к развертыванию «свободных дискуссий». Никаких таких дискуссий, конечно, не было и быть не могло, но и риторический призыв к ним приятно ласкал слух подданных-интеллигентов.
Подданные-интеллигенты – были ли среди них, известных и авторитетных, такие, кто действительно, не лукавя, чтили Сталина и верили в его гениальность? Думаю, подавляющее большинство, как и мы, грешные мелкие «винтики», никаких чувств к нему не питали, а тоже принимали его и «систему» как судьбу. Одни при этом держались оборонительно: скрепя сердце выдавали требуемые тексты, сюжеты, портреты, цитаты, стараясь все-таки оставаться в приличных границах и не усердствовать чрезмерно. Другие усердствовали из страха, готовы были горящую вату глотать, только бы их не тронули. Третьи действовали наступательно: пользовались официальными установками, чтобы делать карьеру, самим властвовать, получать привилегии, сводить счеты. Людей этих трех категорий я встречала. Тех же, кто искренне «так вам верили, товарищ
Сталин, как, может быть, не верили себе», мне не приходилось знать лично. Хотя, наверно, они были. Их понять труднее всего: ведь это были не темные, малограмотные люди, они же что-то читали, умели думать, сопоставлять. Возможно, здесь играла роль степень приближенности к престолу и некий демонический магнетизм Сталина, который ощущался при личных встречах с ним, – в отличие от нас, знавших его только по цитатам и портретам; для нас он не был личностью.
Записки К. Симонова кое-что проясняют. Он Сталина любил и нескоро охладел к его памяти. Умный человек и небесталанный писатель, Симонов, по-видимому, не был ни циничным карьеристом, ни трусом, – но Сталин его возвысил, поручал ответственные посты, ежегодно награждал премиями; довольно слабые пьесы Симонова получали зеленую улицу во всех театрах. Не исключено, что Сталину даже импонировало, что Симонов, отпрыск аристократического рода, держался с некоторой долей независимости, если и льстил, то «с оттенком благородства». Симонов же в молодости увлекался Киплингом и питал пристрастие к сильным личностям, а Сталин, безусловно, был сильной личностью. К тому же авторское самолюбие: если вождь благосклонен к его сочинениям, оценил их, значит, он умен и «все понимает». Значит, исполнять его волю, писать по его заданию, не зазорно. И чем больше Симонов становился высокопоставленным функционером, тем больше верил вождю. У человека такого ранга, если он не лишен совести, есть потребность во внутреннем самооправдании: он убеждает себя, что не просто служит, а служит правому делу.
А любил ли Сталина народ? Принято называть народом «простых» людей, преимущественно людей физического труда, это осталось еще от XIX века. Хотя по прямому смыслу слова «народ» – те, кто народились, то есть все население. Скажем иначе: любили ли Сталина рабочие и крестьяне? Тут запас моих непосредственных наблюдений еще более ограничен, хотя мои семейные и мои друзья были «простыми людьми», никак не принадлежащими к каким-нибудь избранным и изолированным кругам. Жили в коммунальных квартирах, с трудом сводили концы с концами, стояли в очередях, ездили в метро, словом, находились «в гуще народа». Одно могу сказать: и в этой гуще каких-либо выражений любви к Сталину и к «системе» в частных разговорах слышать не приходилось; скорее, прорывались отрицательные эмоции, правда без уточняющего адреса. Класс-гегемон не ощущал себя гегемоном – Русью он не правил. Правила партийная верхушка – это отлично понимали все, грамотные и неграмотные. Очевидно, степень любви и преданности зависела от того, насколько тот или иной представитель рабочего класса сумел приобщиться к партийной верхушке (в большинстве случаев «с отрывом от производства», то есть переставая быть рабочим).
Относительно крестьянства – теперь уже и социологами установлено, что крестьяне не питали горячих симпатий к вождю, как и он к ним.
Знакомый художник мне рассказывал: как-то он, чтобы без помех ходить на этюды, снимал угол у старушки-бобылки в глухой деревне. Это было уже при Хрущеве. Однажды хозяйка спрашивает:
– Иваныч, а ты в Москве ничего не слыхал?
– Насчет чего?
– Да вот, к Нюшке сноха приехала из города, говорит: вводить будут этот, как его… При нем, говорят, жить будем.
– Коммунизм?
– Во-во, он. Ты не слыхал?
– Нет, прямо сейчас вводить не будут.
– Ну слава тебе господи. А то народ так горится, так горится. А я про себя и думаю: а может, и ничего. Вот когда колхозы вводили, уж как страшно-то было, думали: ну, все. А глядишь, сколько времечка прошло, и мужиков на войну угоняли, и всякое, а мы до сей поры живы. Молочка своего, конечно, теперь не попьешь, а терпеть можно, ничего. И с этим – как его? Бог даст, проживем.
Это к вопросу о коммунистических идеалах. Может быть, старушка была и не очень типичная, но повеяло чем-то родным. Что-то в ее квиетизме было общее с нашими умонастроениями.
Но чьи же слезы так обильно лились в день похорон вождя?
Вспоминаю этот день. У меня по расписанию были занятия в Художественном институте. Пришла: студенты все на местах, сидят присмиревшие. Кто-то нерешительно сказал: «Сегодня уж как-то не до занятий». Я, как положено, возразила: вот именно теперь и нужно проявить выдержку, трудовую дисциплину и прочее. Кажется, урок прошел нормально. Тогда среди студентов были и фронтовики, уже не очень юные, лет под тридцать, а то и больше. (Мне было тридцать пять – середина жизненного пути.) Но не помню, чтобы кто-нибудь выражал усиленную скорбь – ни в аудитории, ни в учительской, где преобладало настроение молчаливой озабоченности. Один педагог спросил меня не без лукавства: а вы что такая хмурая? Я ответила: нет, я ничего. После занятий отобранные студенты и преподаватели пошли прощаться с вождем; я не пошла.
Чувства мои были смешанные. Радостного облегчения – наконец-то! – я не испытывала, печали и подавно. Разбирал интерес: что будет дальше? И примешивалась тревога: не стало бы хуже. Подозреваю, что вот именно эта тревога, этот страх перед будущим заставляли многих проливать слезы. Все так отвыкли от какой бы то ни было самодеятельности, что и помыслить не могли, будто от них что-то зависит; оставалось ждать, что им преподнесут, а преподнести могли и худшее. Опасения небеспочвенные: ведь новым лидером собирался стать Берия.
День смерти Ленина я тоже помню, хотя смутно. Мы сидим у себя дома, на верхнем этаже: я, мои родители и еще двое-трое гостей. Молча смотрим в полузамерзшее окно – там толпы людей и, кажется, доносится траурная музыка. Мне шесть лет, я не знаю, кто такой Ленин, и плохо понимаю, что такое смерть, но общее подавленное настроение на меня действует. Один из гостей робко произносит (это я помню отчетливо): «Может, теперь лучше будет, как вы думаете?» Другой (уверенно): «Куда там, будет еще хуже!»
История повторяется, но с разными исходами. В тот раз, в 1924 году, пессимист оказался прав: после трех-четырех сравнительно благополучных нэповских лет все пошло куда как плохо. В 1953 году дело обернулось иначе: становилось лучше, хотя и хорошо не стало, но все познается в сравнении. Уже вскоре после похорон что-то неуловимо изменилось. Как бы невидимая рука понизила планку обязательной скорби. В газетах об усопшем писали не так много, как можно было ожидать, привычных гиперболических эпитетов поубавилось, тон стал сдержанным. И почему-то это никого не поразило. Если бы Сталина и в самом деле так уж любили, народ бы не понял внезапного официального охлаждения к его памяти и втихую роптал, но этого не наблюдалось. Многих москвичей постигла более насущная утрата – несколько сотен человек были во время похорон Сталина раздавлены.
Потом – прекращение «дела врачей», начавшиеся уже тогда реабилитации, арест Берии: общий вздох облегчения. Следующие три года память Сталина все более спускалась на тормозах, и народ из-за этого не сокрушался. Речь Хрущева на XX съезде стала, конечно, сенсацией, но как бы уже ожидаемой, предчувствуемой. Миф о всенародной любви к Сталину рассосался сам собой еще до XX съезда.
В доживших до наших дней «сталинистах» – остервенелых стариках и старухах, выкрикивающих на митингах непристойности, – не нужно видеть представителей целого поколения, якобы обожавшего Сталина, а теперь испытывающего ностальгию по своей молодости, овеянной романтикой трудовых подвигов, песен Дунаевского и тому подобным. Все проще. Дело не в возрасте этих людей, а в том, кем они в своей молодости были – они сами или их мужья, отцы. Ведь великое множество людей получали очень хороший навар, обслуживая сталинскую систему. Не говоря уже о номенклатуре, о разветвленном партаппарате – огромные штаты ГУЛАГа, следователи, надзиратели, сотрудники «органов», сексоты, а также чиновники, имеющие власть, бдительные цензоры… «их тьмы и тьмы». Прибавьте еще их обслугу. Какая-нибудь машинистка при обкоме пользовалась спецзаказами, спецбольницами, спецсанаториями и спецбуфетами, в то время как такая же машинистка из рядового учреждения стояла в очередях за убогим пайком, выдаваемым по карточкам (они тогда назывались «заборными книжками»). «Привилегированных» было, наверно, не меньше, чем репрессированных. Щедрые кормления первых и даровой труд вторых – на этих двух китах стоял режим. Третий кит – идеологический, включая веру в идеалы и любовь к вождю, служил дымовой завесой. О ее поддержании неусыпно пеклись – без нее режим предстал бы перед всем миром в своей циничной наготе. Постепенное его расшатывание и началось с тех пор, как в идеологической завесе образовались дыры. Можно, пожалуй, сказать, что «надстройка» определяла судьбу «базиса», а не наоборот.
В структуре и методах власти не так уж много изменилось после смерти Сталина. Государственный террор стал убывать, а остальное сохранялось в прежнем виде. Но внутренние перемены были разительны. (Родившиеся в конце 1930-х годов и позже не могут оценить их в полной мере – им не с чем сравнивать.) Появились «инакомыслящие» – факт огромного значения. Давящий идеологический пресс отменен не был, но он износился и больше не воспринимался как фатум. Мы запоздало осознавали простую вещь: кроме марксизма-ленинизма существовали и существуют другие системы миропонимания. Однако открыто им сочувствовать по-прежнему было нельзя, стало быть, уделом советских гуманитариев оставалось приспособляться и лавировать. Но в искусстве лавирования открывались теперь новые возможности – удаляться подальше от современности, в так называемую академическую науку. В сталинские времена это не срабатывало, уже сам факт такого ухода был криминалом, оценивался как «буржуазный объективизм», «абстрактный гуманизм», «аполитичность», со всеми вытекающими последствиями. Теперь же под критический обстрел чаще попадали те, кто, следуя марксистской традиции, пользовался все той же марксистско-ленинской фразеологией, поминал о партийности, коммунистической идейности, но старался облагородить эти понятия, сомкнув их с общечеловеческими ценностями. Такие авторы легко впадали в ересь, а ведь известно, что в догматических вероучениях еретики всегда считались опаснее неверующих. Но тех, кто привычными идеологическими формулами вообще не пользовался или пользовался минимально, говорил как бы на другом языке, – их оставляли в покое.
Поэтому тридцатилетний период после смерти Сталина не был пустым временем для гуманитарных наук. Появлялись серьезные работы, тем более значимые, чем дальше отстояли от проблем современности. Вот только экономики и философии не было. Экономических познаний общество было начисто лишено; возможно, этим объясняется его неподготовленность к экономическим реформам, так болезненно обнаруживающаяся теперь. Причина, наверно, не в каком-то особенном русском менталитете – просто мы ничего в экономике не смыслили, нас этому не учили. Фактически не существовало и философии: по-прежнему считалось, что философия раз и навсегда сказала свое последнее слово, можно его только «развивать» применительно к разным предметам исследования. Советских философов как таковых не было – зато были достаточно эрудированные специалисты по истории философии. Правда, им приходилось третировать свысока философов всех времен и народов, уличая их в исторической и классовой ограниченности, в незнании или в непонимании марксизма. Все же труды историков философии делали свое дело, оказывая определенное влияние на умы. К тому же начинали печатать кое-что из «чуждого нам» – с трудом, с риском, «для служебного пользования», а главным образом в самиздате. Через посредство героического самиздата и тамиздата мы в семидесятых годах, несмотря на завинчивания гаек, уже прочитали почти все, включая «Архипелаг ГУЛАГ», что с середины восьмидесятых стало публиковаться в журналах.
Тогда мы познали сладость «тайной свободы». Но пользоваться открытой свободой не научились и оказались так же не подготовлены к демократии, как и к нормальной экономике. Очевидно, свобода не дается, как именинный подарок, и «прыжок» в ее царство неосуществим – до нее надо доразвиться. «Рожденные в года глухие», вышедшие из сталинской шинели, оказались недостойны свободы. Ее поняли как выпускание на волю как раз тех свойств человеческой натуры, которые надо бы обуздывать: как свободу междоусобиц, свар и драк, свободу неразборчивых сексуальных инстинктов, свободу наживаться любыми способами, употреблять в печати непечатные выражения и громогласно выражать свое мнение, каким бы оно ни было нелепым.
«Свобода есть осознанная необходимость» – не такая уж плохая формула. Вопрос только в том – необходимость чего? Что требуется осознать, чтобы стать свободным? По определению поэта и мыслителя Даниила Андреева, необходимостью является «воспитание человека облагороженного образа». Мы же признавали необходимость вражды и насилия как «повивальной бабки истории», а значит, и сопряженных с этим злодейств. Подавляющее большинство с ними смирялось, а если и не участвовало в них деятельно, то оказывалось в сонме «жалких душ», не творивших ни добра, ни зла, для которых у Виргилия в поэме Данте не находится других слов, кроме презрительного: «Взгляни – и мимо».
Не хочу сказать, что не было творивших добро. Они были: без праведников земля не стоит, но это не снимает исторической вины с поколения «ровесников Октября». Легко все взваливать на Сталина и его приспешников, которые обманывали народ, – но почему же приспешников было так много, а народ так охотно обманывался?
На вечере памяти Александра Меня Сергей Аверинцев сказал, что отцу Александру выпало на долю быть миссионером среди самого дикого племени – советской интеллигенции. Сказано жестко, но во многом справедливо.
М.В. Алпатов – выдающийся ученый, пропагандист искусства, педагог[42]
В двухтомном издании «Этюды по истории русского искусства» М.В. Алпатов объединил свои работы разных лет, начиная с 1930-х и кончая 1970-ми годами: в совокупности они образовали нечто целостное. Это уже само по себе факт замечательный. Далеко не всякий автор решился бы переиздать свои ранние статьи вместе с самыми последними. Так может сделать только тот, кто всегда работал с полной мерой искренности и серьезности, никогда не поддавался конъюнктуре и с самого начала следовал определенным методологическим принципам, в плодотворность которых верил. Потом они, может быть, видоизменялись, но не отменялись. Ученый оставался верен себе и в фундаментальных исследованиях, и в кратких эссе.
В течение десятилетий выходили одна за другой его книги; естественно, среди них были наряду с очень значительными и менее удавшиеся, но не было таких, которые называют «проходными», то есть недостаточно серьезных, случайных «однодневок». Каждая воспринималась как событие, начиная с капитального труда 1939 года «Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто» и до недавнего «Андрея Рублева», удостоенного Государственной премии. Не одно поколение советских искусствоведов на этих книгах воспитывалось, не говоря уже о том, какое значение они имели для молодых художников, да и для всех, кто интересовался изобразительным искусством.
Что всегда импонирует в книгах Алпатова – так это, во-первых, универсальная культура автора, позволяющая ему рассматривать свой предмет в широком историко-культурном контексте, поворачивая его различными гранями, в живых связях с реалиями эпохи – с событиями общественной жизни, с поэзией, философией, нравами, вкусами, обычаями. А во-вторых, нисколько всем этим не заслоняемая, не отодвигаемая на второй план, неподдельная любовь автора к самому явлению искусства как таковому. Вот это, пожалуй, самое главное. Этого никакой эрудицией не добудешь: тут нужен талант, сердце, проникновение. Алпатов – аналитик он много рассуждает, сопоставляет, даже измеряет и чертит схемы, но замечательно то, что своим аналитическим скальпелем он умеет не повредить живых тканей искусства, не нарушить целостности. Произведение искусства остается стоять перед его мысленным взором как самосветящийся кристалл. И никогда не «растворяется» в историческом фоне, как бы широко и импозантно этот фон ни был обрисован.
Исходная методологическая идея М.В. Алпатова, собственно, очень проста: она состоит в том, что «самый надежный источник истории искусства – всегда сами произведения искусства». Не то, что вокруг них, и не то, что по поводу их, а они сами. Поэтому М.В. Алпатов с некоторым раздражением относится к «знаточеству», порой переходящему в крохоборчество: к бесконечным разысканиям и мелочным уточнениям «судеб» произведения, данных по поводу его литературных, иконографических и прочих источников. Хотя и сам он – первоклассный знаток и эрудит, но он против того, чтобы дотошная следовательская «кухня» вместо свойственного ей подсобного места претендовала на главное. Он за то, чтобы как можно пристальнее всматриваться, вдумываться в само произведение как оно есть, как оно создано художником, – и тогда оно само заговорит, расскажет многое, и не только о себе, а и об источниках жизни, его питавших.
Поэтому самый органичный для М.В. Алпатова жанр, в котором он достигает наибольших успехов, – это монографический «этюд»: небольшое по объему исследование об одном каком-нибудь памятнике искусства. Именно здесь ученый с блеском обнаруживает сильнейшие стороны своего метода; здесь он учит нас пристальности взора, способности «войти» в художественный мир и в нем ориентироваться. Причем Алпатов чаще всего берет произведения первой художественной величины, шедевры, такие, о которых, казалось бы, сказано и написано уже достаточно много. Это не смущает исследователя: он верит в неисчерпаемость великих произведений, в возможность открытия в них новых и новых пластов смысла. «Созданные на пересечении великих исторических эпох или в пору наибольшего художественного подъема, они заключают в себе такие огромные творческие силы, что пристальное изучение одного из них ближе подводит к пониманию всего исторического периода, чем беглый обзор десятка или сотни типичных, но заурядных мастеров»1.
Казалось бы, уж на что много сказано и написано о «Боярыне Морозовой» Сурикова. Так много и так обстоятельно, что как будто уже некий слой словесного лака лежит на знаменитой картине и «мешает наслаждаться» (по выражению ее создателя).
Но М.В. Алпатов несколько лет тому назад выступил с заявлением почти парадоксальным: «Нам предстоит еще много изучать замечательную картину Сурикова, раздумывать над ней, анализировать ее. В ней самой нас ждут самые главные открытия»2. Только еще ждут! А как же те, что уже сделаны? М.В. Алпатов показал, что сделаны они по двум разъединенным руслам: по линии «содержания» и «формы». «Содержание» – это исторические события и лица, положенные в основу картины, и сама ее фабула. «Форма» – это «художественные особенности»: сани, которые «идут», расположение групп, морозный синеватый колорит и так далее. «Не хватает только одного – понимания того, что Суриков был художником, то есть что он достиг в картине главного путем художественного познания, или, как говорят, художественного видения и художественного выражения. Ведь быть художником – это иное дело, чем быть психологом или историком. Быть художником – это больше, чем быть мастером колорита и композиции»3.
Я привожу здесь эти слова, не входя в обсуждение вопроса о «Боярыне Морозовой», не присоединяясь и не полемизируя, а только чтобы показать, что было целью самого М.В. Алпатова в его трудах и к чему он призывает своих коллег: «преодолеть двойственность, лежащую в основе большинства работ, в которых изучение “сюжета” чисто механически сопрягается с так называемым “формальным анализом”»4. В самом деле: разве произведение искусства – «содержание» плюс «форма»? Разве оно не есть нечто органическое, неделимое – живой плод художественного познания?
И однако каждый пытавшийся писать об искусстве, знает по опыту, до чего трудно эту двойственность преодолеть, избежать испытанного приема – поговорить сначала о «сюжете и идее», потом перейти к «художественным особенностям». Это кажется так просто и естественно, а между тем самое главное – искусство – при этом уходит в образовавшийся зазор между «содержанием» и «формой», как будто его и не бывало вовсе.
Я не хочу сказать, что и сам Михаил Владимирович всегда находит «эталонные» решения проблемы, да и как можно этого требовать? И возможно ли это вообще? Но путь он указывает и подсказывает, а в лучших своих «этюдах» дает и превосходные образцы истинно адекватных суждений об искусстве. Я считаю в своем роде классическими его исследования-миниатюры о «Замахнувшемся мальчике» Микеланджело и о «Слепых» Брейгеля. В первом случае речь идет о таких скульптурах, где движение человеческого тела или вовсе «бесфабульно», не имеет сюжетного оправдания, или оно несоразмерно действию, избыточно для него. Но именно анализируя эти загадочные бессюжетные мотивы с их одновременно патетическим и скованным движением, М.В. Алпатов добирается до сокровенной сущности искусства Микеланджело.
«Слепые» Брейгеля, напротив, кажутся настолько «сюжетными» – откровенная иллюстрация к известному изречению, – как будто все лежит на поверхности, и что тут, собственно, писать? Но как много открывает взгляд исследователя в этой картине: и сходство людей с автоматами, и странную жизнь неодушевленных вещей, и контраст идиллического пейзажа с трагической сценой, и устойчивость мимолетного мгновения, «будто это мгновение длится целую вечность».
Диапазон художественных интересов М.В. Алпатова очень широк – он слишком отзывчив к искусству, слишком увлечен им и поглощен, чтобы ограничиваться «узкой специализацией» (кажется, любовь к искусству и «узкая специализация» вообще плохо совмещаются). Но вместе с тем его отношение к искусству очень избирательно. Он пишет о том, что избрал, что любит, и чем больше любит, тем лучше этот предмет видит, тем лучше пишет о нем. Невозможно любить все одинаково, а бесстрастная объективность не принадлежит к достоинствам Алпатова (если ее вообще можно считать достоинством).
Вот почему, как мне кажется, трехтомная «Всеобщая история искусств» удалась ему меньше, чем «Этюды».
Третий ее том, посвященный древнерусскому искусству, подлинно превосходен, но в первых двух томах многим художникам и даже целым периодам «не повезло» – они получили беглое, иногда, быть может, и не вполне справедливое освещение.
Настоящая история искусств создана Алпатовым в сборниках «Этюдов» – русских и западноевропейских, хотя там «не все», а только основные опорные вехи. Но так ли уж и нужно, чтобы было обязательно «всё», кому, в сущности, нужна эта вымученная полнота (хоть несколько строчек, да о каждом!), к которой стремятся составители учебных пособий? Не этим путем – не видимостью «полноты» и «бесспорности» характеристик – добываются знание и понимание искусства.
М.В. Алпатов – пропагандист искусства по призванию, и он хорошо знает, что действительно необходимо для его пропаганды, для воспитания любви к искусству. Он выработал методы показа, демонстрации художественных произведений, эффективные и красноречивые сами по себе: сюда относятся фрагментирование и сопоставление. Отобрать выразительные фрагменты целого, привлечь к ним внимание, указать на детали, показать их крупным планом – и именно те детали, какие нужно, – этим мастерством М.В. Алпатов владеет в совершенстве. А его сравнения, наглядные сопоставления вещей, близких по мотиву, но разных по внутреннему смыслу, по стилю, по художественному решению, – излюбленный его прием – иногда кажутся неожиданными, почти парадоксальными, но всегда достигают цели: активизации видения.
В смысле отбора и качества репродукций, вообще «внешнего вида» издания, книги М.В. Алпатова всегда выделяются. Этой стороне дела он уделяет особое внимание, понимая, насколько это важно. Обдуманно, любовно и нешаблонно найденные, тщательно отобранные иллюстрации его книг уже сами по себе являются настоящей школой художественного воспитания.
Можно было бы, наверно, многое написать о многолетней деятельности Алпатова как педагога, воспитателя художников, как неутомимого пропагандиста русского и советского искусства за рубежом, как организатора, участника научных конференций и так далее. Но я такую задачу на себя не беру, равно как не берусь здесь анализировать его важнейшие труды (кроме уже названных) – очерки по теории композиции, по истории портрета, исследования древнерусской живописи, монографию об Александре Иванове, книгу о Матиссе, о графике Пикассо и многие другие работы.
М.В. Алпатов преподавал в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. За многие годы педагогической деятельности Михаил Владимирович Алпатов воспитал замечательную плеяду историков и теоретиков искусства, неутомимых исследователей и пропагандистов прекрасного.
Мне не пришлось учиться у Михаила Владимировича Алпатова, я никогда не слушала курса его лекций. Но сказать о плодотворных импульсах, полученных мною от его книг, о том облагораживающем влиянии, какое столь долгие годы оказывала и оказывает на всех нас (думаю, что на всех без исключения!) сама его творческая личность, – это единственное, что я могу и чувствую себя обязанной сделать.
Ссылки
1 Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.; Л., 1939. С. 6.
2 Алпатов М. Этюды по истории русского искусства. Т. II. М., 1967. С. 133.
3 Там же. С. 130.
4 Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. С. 9.
М.А. Лифшиц[43]
В недавнем прошлом советские гуманитарии – философы, историки, филологи, экономисты, искусствоведы, критики – все поголовно были или считались марксистами. Они всосали марксизм-ленинизм с молоком матери и приняли его как данность, не имеющую альтернативы.
Тем не менее за всю свою жизнь я знала только одного воистину убежденного, глубоко искреннего марксиста – Михаила Александровича Лифшица. Наверно, были и другие, но мне не встречались. Я не хочу сказать, что остальные только прикидывались марксистами, – нет, тут были самые разнообразные варианты. Во всяком случае, в среде искусствоведов и эстетиков, мне больше знакомой, я не могу вспомнить ни одного из сколько-нибудь серьезных людей, стоявших «на платформе» марксизма, кто бы не был склонен сойти с платформы хотя бы одной ногой, если бы позволили обстоятельства. Сейчас многие так и сделали. Не думаю, что все они раньше были или теперь стали сознательными приспособленцами. Люди со временем и под влиянием времени пересматривают свои установки, это более чем естественно. Неестественно положение, когда изменять взгляды запрещено. Но М.А. Лифшиц, то ли благодаря своему выдающемуся интеллекту, то ли вопреки ему, не был расположен меняться. Может быть, в этом заключалась его трагедия.
Его научная судьба сложилась парадоксально. Будучи непоколебимым марксистом-ленинистом и живя в обществе, где марксизм-ленинизм был своего рода религией, Лифшиц не пользовался доверием жрецов этой религии. Не знаю, может быть, уже сам блеск его ума отпугивал идеологическое руководство: где ум, там и ересь. Его только что не арестовывали, но всячески придерживали и задвигали в тень. Еще до войны я своими глазами читала в газете объявление о дне защиты его докторской диссертации, но по неясным причинам защиту отложили на многие десятилетия. Когда шли атаки на «Новый мир» Твардовского, в ряду главных ошибок журнала числилась статья Лифшица. Вообще его выступления в печати в лучшем случае замалчивались, в худшем получали полуофициальную отповедь. В итоге его научная карьера оказалась сломленной. В последние свои годы он нашел тихое пристанище под крылом Академии художеств – думаю, не от хорошей жизни. Нынешнему поколению «ортодоксальный марксист» может представиться воинствующим фанатиком или скучным начетчиком. Ни тот ни другой стереотип к Лифшицу не подходит. Скорее, это был человек аристократического склада. Мне почему-то всегда казалось, что он был бы вполне на своем месте где-нибудь среди французских энциклопедистов XVIII века, Дидро или Монтескье, одновременно моралистов и острословов, аристократов и вольнодумцев. Может быть, даже в напудренном парике, но с небрежно распахнутым воротом.
Вероятно, сейчас уже немногие помнят Лифшица в те годы, когда восходила его ненадежная звезда. Мрачные годы – конец тридцатых. Я училась тогда в ИФЛИ на отделении искусствоведения. В отличие от филологов, у меня не осталось каких-либо романтических воспоминаний об этом учебном заведении, хотя оно было, конечно, не хуже, а должно быть, и лучше других. У нас были совсем неплохие учителя, знающие свое дело (свой «предмет»), по мере возможности объезжающие стороной заминированные идеологические поля. Мы были сравнительно в лучшем положении, чем следующее, послевоенное поколение студентов. Нам еще давали читать труды таких авторов, как Вёльфлин, позже изъятые из употребления за иностранность, буржуазность и формализм. Борьба с формализмом в отечественном искусстве уже велась, но в относительно приличном тоне, проработочный стиль еще не набрал полную силу.
Время от времени кого-нибудь из педагогов арестовывали – не за идеологические диверсии, а за что-то никому неведомое. На ученом совете устраивалось ритуальное отмежевание от «врага народа»: выступали его вчерашние коллеги, впрочем довольно вяло, без партийной страсти. Преподавателя древнерусского искусства, почтенного профессора А.И. Некрасова арестовали в тот день, когда он должен был принимать экзамены. Мы пришли на экзамен, долго ждали, в десятый раз просматривая шпаргалки, наконец кто-то позвонил профессору домой, и все стало ясно. Мы были в печальном недоумении. Комсорг сказал, вздохнув: «Что делать! Органы – меч пролетарской диктатуры». Меч поражал и студентов. В один день взяли почти все отделение западной литературы – там было несколько родственников тех, кто проходил по зиновьевскому процессу, других прихватили, видимо, заодно. Они исчезли без шума, и все продолжало идти как бы своим чередом: седовласый профессор Радциг нараспев читал античные гекзаметры, В.Н. Лазарев методично прослеживал изживание готического спиритуализма у художников Проторенессанса. А кто читал нам общественные науки – диамат, истмат, историю партии? Вот уже и не помню. Не осталось в памяти ни фамилий, ни лиц, ни слов.
На таком фоне, не столько драматическом (для нас, уцелевших), сколько унылом, появился новый лектор. Если не ошибаюсь, его курс назывался просто «Теория искусства». Это был факультативный курс, необязательный для посещения, но посещали его не только все студенты, а, как тогда говорили, «вся Москва». Единственный в институте большой зал-амфитеатр всякий раз заполнялся сверху донизу, и еще не хватало мест.
Михаилу Александровичу тогда было тридцать с небольшим; он казался старше – не из-за раннего полысения, а потому что производил впечатление полной зрелости, зрелости личности и зрелости ученого. В том, как он развивал свои мысли, была «структурность», для молодого возраста редкая. И внешность его отличалась пластической завершенностью: четко изваянные черты, а не эскиз, допускающий переделки. Глаза с прищуром смотрели ясно и мягко: казалось, от человека с таким кротким взором скорее можно ожидать христианской проповеди, чем лекции по марксизму. Но христианство было абсолютно чуждо Михаилу Александровичу.
Держался он хорошо и просто, без малейшего высокомерия, однако что-то в нем заранее исключало всякую фамильярность: трудно было представить, чтобы кто-то обратился к нему на «ты» или назвал уменьшительным именем. Словом, это был настоящий мэтр, по крайней мере в глазах молодых слушателей. Он вызывал у нас почтительное восхищение и некоторую робость.
Было известно, что Михаил Лифшиц, Георг Лукач и их единомышленники из журнала «Литературный критик» успешно покончили с вульгарной социологией. Вульгарной ее стали называть только с тех пор, а прежде считали ортодоксальной марксистской наукой о надстройках над экономическим базисом. Как ни странны теперь кажутся рассуждения о том, продуктами каких классов были Пушкин, Гоголь, Тургенев, кто из них выражал интересы крупнопоместного дворянства, кто мелкопоместного, кто нарождающейся промышленной буржуазии и т. д., – до середины 1930-х годов эта методология господствовала и особенно укоренилась в школьных программах. Я перед поступлением в ИФЛИ посещала курсы подготовки в вуз, и нам литература преподавалась именно так и никак иначе.
Журнал «Литературный критик» для своего времени был почти таким же глотком свежего воздуха, как впоследствии «Новый мир». Выходил он недолго – кажется, лет пять. Там, между прочим, была помещена прекрасная статья Андрея Платонова о Пушкине; почему-то ее теперь не вспоминают. Лифшиц печатался в «Литературном критике» изредка, но все считали, что он и Лукач определяют направление журнала. Говорили, что Георг Лукач признавал первенство за талантливым молодым теоретиком, хотя был старше его лет на двадцать.
Разделаться с вульгарной социологией – уже одно это было их большой заслугой. Но ставилась и другая задача – создать в противовес методологию не вульгарную, «работающую» и подлинно марксистскую (немарксистских теорий искусства хватало в недавнем прошлом, но для
Лифшица все они были совершенно неприемлемы). Эту цель преследовал курс лекций, прочитанный в ИФЛИ. На восприимчивой студенческой аудитории Лифшиц проверял и отрабатывал концепцию, которую считал развитием эстетических идей Маркса. Он начинал с обзора уже существующей марксистской традиции – трудов Лафарга, Каутского, Меринга, Плеханова, подвергал их уважительной, но довольно жесткой критике, затем переходил к своей собственной интерпретации.
Вспоминать о Лифшице – значит вспоминать о его идеях: это то главное, чем он жил. Я коротко, конспективно записывала его лекции: записи у меня сохранились. Восстановить по ним текст лекций, к сожалению, невозможно, можно только попытаться выделить стержневые тезисы, насколько я их тогда уловила и поняла. Без облекающей их «плоти» они выглядят оголенно и сухо, как палка вместо дерева, но все-таки некоторое представление дают. Тезисы примерно такие:
1. «Бытие определяет сознание», но а) бытие несводимо к среде, оно шире и объемлет собой всю историческую действительность данного времени; б) высшая ступень сознания – самосознание; оно предполагает способность подняться над своекорыстными классовыми интересами и возвыситься до объективной истины.
2. Реализм искусства означает постижение «истинной действительности», или, что то же, отражение жизненной правды – правды-истины и правды-справедливости. Реализм определяется не тем, как изображено, а тем, что изображено. Достоинства художественной формы вытекают из достоинства содержания. Не бывает «хорошей» формы при «плохом» содержании (и наоборот).
3. Талант художника – особая глубокая чуткость к голосу объективной действительности. Через талантливые произведения совершается ее самораскрытие. Несостоятельны попытки социологов рассматривать гениальных художников как продукт среды и считать их творения таким же документом времени, как произведения посредственных авторов.
4. Хотя истина рано или поздно всегда становится исторической необходимостью, далеко не все, что совпадает с интересами необходимого развития в данный момент, есть истина. Поэтому часто оказывается, что художник, стоящий в оппозиции к интересам необходимого развития общества, полнее отражает в своем искусстве объективную истину, чем тот, кто «идет в ногу со временем».
5. Идеалы большого искусства в конечном счете совпадают с идеалами и глубинными интересами всего народа, а не отдельных общественных классов.
Для нас, начинающих гуманитариев, все это звучало ново. Нас учили, что искусство классово, что никаких вечных истин нет, как нет и внеклассовой нравственности; что «классическое искусство» ценно постольку, поскольку дает материал для изобличения пороков эксплуататорского общества, а также своим абстрактно понимаемым «мастерством», которым может воспользоваться искусство победившего пролетариата. От этого давно мутило, хотя сомневаться в марксизме мы тогда и не думали.
Теория Лифшица как бы восстанавливала престиж искусства, униженный фатальной подчиненностью классовым интересам. Искусство рассматривалось как сосуд истины и трактовалось целостно – без разрыва на социальную и формальную стороны. Понятие «реализм» становилось более богатым и гибким, не исключающим ни «примитивные» формы ранних ступеней, ни условность, ни фантастичность, ни даже (с рядом оговорок) религиозное искусство средневековых художников.
Другой вопрос, была ли эта теория действительно марксистской? М.А. в этом не сомневался. Но другие марксисты задавали ему каверзные и довольно резонные вопросы: а как же с классовой борьбой? Вы признаете ее только на словах, а для анализа искусства она вам не нужна, вы подменяете ее безбрежной народностью? И не ставите ли вы на место прежней вульгарности другую вульгарность – «изнародование» всего и вся?
Ответам на подобные контроверзы Лифшиц посвятил специальный доклад в стенах ИФЛИ (восстановленный по стенограмме, он теперь опубликован в собрании его сочинений под заглавием «Народность искусства и борьба классов»). Он прибегал к тонким диалектическим маневрам. Говорил, что классовое сознание свойственно художникам и художественным течениям, но иногда они достигают истины благодаря, а иногда вопреки своим классовым позициям. (У нас шутили, что оппоненты Лифшица раскололись на «вопрекистов» и «благодаристов».) Искусный полемист, Лифшиц парировал выпады своих противников и одновременно находил новые аргументы в пользу своей концепции.
Теперь мне кажется, что его оппоненты были, пожалуй, правы: концепция Лифшица едва ли была развитием марксистской эстетики – уже по той причине, что Маркс и Энгельс, в отличие от Гегеля, Канта, Шеллинга и многих философов, эстетикой не занимались. М.А. Лифшиц, сам того не желая, то есть, желая показать обратное, подтвердил это двухтомником «Маркс и Энгельс об искусстве». Он собрал и сгруппировал все мало-мальски относящееся к искусству и культуре в сочинениях и письмах Маркса и Энгельса, включив сюда и общие положения об историческом развитии общества. Если просматривать эту книгу непредвзято, можно убедиться, что теории или философии искусства там нет. Основатели научного социализма были высокообразованными людьми, весьма начитанными и в художественной литературе, упоминания имен и сочинений писателей в их трудах многочисленны, но преимущественно в аспекте внеэстетическом. Часто цитируется, например, Шекспир (которого Маркс особенно любил): цитаты или иллюстрируют какое-либо политико-экономическое положение (например, деньги как заменитель человеческой ценности), или служат подсобным орудием в политической борьбе Маркса. Об искусстве вообще – несколько разрозненных замечаний в ранних произведениях и набросках Маркса, в поздних письмах Энгельса о греческой культуре как прекрасном детстве человечества, о «типических характерах в типических обстоятельствах». Замечания не отличаются особой оригинальностью, да и не претендуют на это. Вопрос о природе и специфике художественного творчества не ставится нигде.
Маркс и Энгельс не создавали и не собирались создавать эстетику или философию искусства – они честно оставляли ее в стороне. Можно говорить об их взглядах на отдельные произведения искусства, но на взглядах теории не построить, они зависят и от личных вкусов, и от политических убеждений; у Маркса чаще всего последнее. Если Маркс пренебрежительно отзывался о музыке Вагнера, то, видимо, по причине неприемлемых для него политических и философских воззрений композитора.
Однако самые общие социологические основы для выработки соответствующей эстетики, вернее – социологии искусства, в трудах Маркса и Энгельса найти можно. Это и знаменитый тезис о бытии, определяющем сознание, это экономический детерминизм, учение об экономике как базисе идеологических надстроек, которые (согласно позднейшим уточнениям Энгельса) могут влиять и друг на друга; наконец, учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. На этом фундаменте строил свою теорию искусства Плеханов и был в этом смысле более последовательным марксистом, чем Лифшиц. Поиски «социального эквивалента» логически следуют из марксизма, но «тезисы» Лифшица обращаются с ним достаточно вольно. Фактически концепция Лифшица больше черпала у Белинского, Добролюбова, просветителей, чем у Маркса. Сам же Лифшиц был глубочайше убежден, что развивает именно марксистскую науку об искусстве.
Его собственные вкусы и склонности влекли его к искусству «аполлоническому» (хотя он никогда не употреблял этого термина). Он любил живопись Высокого Возрождения, греческую классику, поэзию Пушкина, чья муза, по выражению Белинского, которое он часто цитировал, была «прекрасной девушкой аристократкой». М.А. не мог не противиться прямолинейно-социологическому истолкованию прекрасных муз. В упомянутом докладе он говорил: «Если <…> допустить, что произведения Пушкина или Шекспира могут в самом деле выражать реакционные цели и идеалы, прославлять своекорыстные интересы классового господства и эксплуатации, то вообще было бы невозможно связать концы с концами на этом свете. И едва ли стоило бы вообще существовать, ибо это значило бы, что весь мир подвержен какому-то неустранимому извращению»1.
Вероятно, мир действительно подвержен многим извращениям, а с позиций ортодоксального марксизма связать концы с концами трудно. Михаилу Александровичу приходилось изобретать для этого всякие «вопреки» и «благодаря», лавировать между ортодоксией и ревизионизмом, тратя на это массу интеллектуальной энергии. Но с верой в марксизм он не расставался никогда.
Это была именно вера. В одной из статей Лифшиц далее употребил выражение «наше марксистское вероисповедание»: Маркс – Энгельс – Ленин, непогрешимая святая троица. Здесь есть какая-то психологическая загадка. Возможно одно объяснение: вакуум, образующийся от утраты религии, невыносим; на опустевшем месте воздвигаются кумиры, обоготворяются представители человеческого рода, такие же грешные, как все, «и может быть, еще грешней». Надо сказать, служителем сталинского «культа» Лифшиц не только не был, но умудрялся не цитировать Сталина даже в те годы, когда это было неизбежно. Но намного ли лучше культ Ленина?
Курс теории искусства оборвала война. Вскоре ИФЛИ эвакуировался, а после войны перестал существовать, слившись с МГУ. Как известно, многие студенты и аспиранты ушли на войну добровольцами и погибли. Но из преподавателей нашего факультета, кажется, никто не был на фронте – кроме Лифшица. Утонченный теоретик не стал уклоняться от жестокой практики. Я узнала об этом в эвакуации, из писем знакомых. Писали, что Лифшиц со своей воинской частью оказался в окружении, выходил из окружения, лежал в госпитале. Потом вернулся в Москву.
Я окончила институт перед войной и успела поступить в аспирантуру. Когда началась война, я уехала с ребенком в город Моршанск, где жили мои родственники. Кажется, еще в первый (или второй?) год войны пришло на мое имя официальное письмо из ИФЛИ, чуть ли не из Ашхабада: меня извещали, что я отчислена из аспирантуры за несдачу аспирантских экзаменов. Странно показалось, что кто-то там помнит о каких-то экзаменах, как будто ничего не происходит. Отчисление из аспирантуры я приняла без всякого огорчения. У меня было такое чувство, что со всем этим покончено, и если еще предстоит жизнь, то она будет совсем другая. В эвакуации жилось голодно, холодно, небезопасно (фронт проходил близко, над нами летали немецкие самолеты), но довоенной жизни было не жаль и не хотелось возврата к ней. Ее фальшивость была войной проявлена. Впервые со мной стало происходить что-то вроде пробуждения от умственной дремоты. Я начинала думать и кое-что понимать. Рядом оказались люди, которые мне в этом помогли. Помогло и чтение книг, о которых я, получившая высшее гуманитарное образование, раньше и не слыхала. <…>
Но вот что интересно: в этом новом умонастроении «марксистские» лекции Лифшица вспоминались как некий луч света в темном царстве. Чтобы было понятнее, почему я их вспоминала, придется сказать немного о моей жизни в эвакуации.
Мне удалось устроиться на работу в Моршанский учительский институт, преподавать историю литературы. Никакого педагогического опыта у меня не было, да и специальность другая – искусствоведам литературу преподавали в сокращенном объеме. Но выбирать не приходилось. Здание учительского института было занято под госпиталь, занятия шли в каком-то вовсе не приспособленном помещении Горторга, студенты записывали лекции на полях старых газет. Больше половины времени у них уходило на другое – ездили в совхоз и на лесозаготовки, посещали госпиталь, рыли окопы, возделывали огороды в институтском подсобном хозяйстве. Я была не намного старше своих студентов и занималась всеми этими делами с ними вместе. Несмотря ни на что, занятия литературой, как ни странно, шли. У нас была приличная библиотека, я готовилась к лекциям без всяких методических пособий и руководящих указаний, зная материал с пятого на десятое и многое сама прочитывая в первый раз. Мои слушательницы (слушателей мужского пола не было, кроме нескольких слепых, которые учились усерднее всех) частью были местные, городские, а большинство – девушки из окрестных сел, окончившие сельскую школу и образованием почти не затронутые. На первых порах «культурный уровень» аудитории мне показался таким низким, что я растерялась. Но потом эти девочки стали мне все больше нравиться. Они были нисколько не похожи на московских юных филологинь, тоже не бог весть каких культурных, но полных зазнайства и напускного снобизма. У моршанских студенток в их 17–18 лет сохранялась свежесть восприятия, а вместе с тем крестьянская серьезность отношения к делу. Как и везде, среди них были, конечно, разные люди. Попадались случаи действительно безнадежные, анекдотические. Но некоторые прямо удивляли способностью к быстрому развитию и непритворным влечением к книгам. Помню одну тихую беленькую девочку: отвечая на какой-то вопрос о Тургеневе, она принялась наизусть читать длинный отрывок с описанием природы; жаль было ее прерывать, а она все читала и читала.
На работу я поступила, чтобы за что-то зацепиться, получить хотя бы хлебную карточку и право прикрепить сына к молочной кухне. Но тут мне захотелось заинтересовать девушек литературой. Меня никто не контролировал и не стеснял – полная свобода слова. Нужно было самой найти какой-то подход, какую-то руководящую нить, чтобы не сбиваться на обыкновенный пересказ сюжетов или чужих статей, наспех прочитанных перед уроком. И здесь лекции Лифшица, еще свежие в памяти, очень пригодились. Они остерегали и от постылого социологизирования, и от бойкого перечисления «художественных особенностей» (эпитеты, метафоры, гиперболы), хотя это был самый легкий, обкатанный путь. Мне хотелось дать понять учащимся, что художественные особенности органически вырастают из содержания, а содержание – из жизни; что все в искусстве слито и переплавлено. Не знаю, как у меня получалось, призвания к педагогике у меня не было, достаточных знаний тоже, но, во всяком случае, я старалась как могла.
(Сам Лифшиц не часто прибегал к конкретным анализам художественных произведений, но когда он это делал, то делал превосходно: стоит прочитать хотя бы страницы, посвященные сцене охоты из «Войны и мира», в его статье, полемизирующей с югославским литературоведом И. Видмаром.)
Узнав, что Лифшиц вернулся в Москву, я написала ему письмо. Помнится, писала, как многим ему обязана и как хотела бы считать себя его ученицей. Он ответил коротким любезным письмом; к сожалению, оно у меня затерялось. Помню только, что там были цитаты из Библии.
Следующая моя встреча с Михаилом Александровичем состоялась лет через двадцать, в начале шестидесятых годов, – уже не как с лектором, а как с коллегой. Многое к тому времени изменилось. Скажу коротко, что сразу после войны, восстановившись в аспирантуре, а потом работая в журнале «Искусство», я, вместо того чтобы начать «другую жизнь», которая смутно мерещилась в военные годы, окунулась в прежнюю, в еще худшем варианте. Трудно представить менее благоприятное время для начала «работы по специальности», чем несколько послевоенных лет. Бытие свирепо определяло сознание, сознание барахталось и сопротивлялось, но глухо. Однако поворот к оттепели принес облегчение, и следующие годы можно вспомнить добром, хотя все нервно ждали, что вот-вот начнется новое завинчивание гаек, и оно действительно периодически возобновлялось. Но теперь его меньше боялись: последствия были неприятными, но не губительными.
Я не знаю, коснулась ли Лифшица «борьба с космополитизмом» и вообще как ему жилось после войны; предполагаю, что неважно. Во всяком случае, его имя долго не встречалось в печати. В 1954 году появилась в «Новом мире» его статья «Дневник Мариэтты Шагинян», которая вместе со статьями В. Померанцева и Ф. Абрамова послужила поводом для первого снятия Твардовского с поста редактора.
«Дневник Мариэтты Шагинян» – блестящий памфлет. Памфлет без грубости, без нарочитой хлесткости, скорее, мягкий по тону, а по существу беспощадный. По-моему, в таком жанре ярче всего обнаруживалось писательское дарование Лифшица. Было особое фехтовальное изящество в его «научных сатирах». Позднее он писал, что они направлялись против двух «отчужденных сил» – пустозвонства и двоемыслия, многочисленные примеры которых он находил «в мире эстетики». Действительно, того и другого было в достатке. Лифшиц только не добавлял, что двоемыслие чаще всего вызывалось вынужденной необходимостью вести двойную игру, приспособляясь к требованиям руководства, к цензуре, к идеологии марксизма-ленинизма. (Что же касается пустозвонства – от него никакая свобода слова не вылечивает.)
В случае с дневником Шагинян речь шла о пустозвонстве особого рода – о неуемной погоне за «требованиями времени». В Постановлении о журнале «Новый мир» статью Лифшица осуждали за «глумление». По-видимому, дело было не столько в глумлении над пожилой писательницей, сколько в подтексте статьи. В подтексте была ирония по адресу официальных партийных установок писатель обязан «вторгаться в жизнь», быть «в гуще народа», помогать выполнению пятилетки и т. д. Лифшиц на примере ретивой Шагинян показал, что из этого получается. И, как водится, был наказан. Должно быть, издание сборника «Маркс и Энгельс об искусстве» его отчасти реабилитировало, к тому же времена менялись.
Мне кажется, что лучшие свои работы Лифшиц написал на протяжении десяти или двенадцати лет, – начиная с 1954 года и до того времени, когда он всенародно поведал, почему он не модернист. Если я правильно понимаю, именно на эти годы приходилась его близость с А.Т. Твардовским. Потом удач уже не было.
В 1963 году Лифшиц стал сотрудником сектора эстетики в Институте истории искусств, где я тогда работала. Наш директор, B.C. Кружков, не без торжественности его представил, высказав при этом удивление, что такой маститый ученый до сих пор не имеет докторской степени. Он намекал, что Лифшиц мог бы защитить докторскую в стенах нашего института. Михаил Александрович в ответ пошутил: «Можно умереть и кандидатом – там принимают». (Умер он все-таки доктором, но не благодаря нашему НИИ, в нем он задержался ненадолго.)
Присутствием опального теоретика все были приятно возбуждены. Ядро сектора эстетики составляли тогда несколько еще довольно молодых людей, условно говоря «младомарксистов», особенно ценивших ранние произведения Маркса (их соблазнял пресловутый «прыжок из царства необходимости в царство свободы»), а к идеологической «генеральной линии» настроенных оппозиционно. К ним принадлежал и руководивший сектором Ю.Н. Давыдов. Их неофициальным лидером был философ Э.В. Ильенков: он в Институте не работал, но на заседания сектора иногда приходил. Никто, кроме меня, довоенных лекций Лифшица не слушал, но печатные его труды читали с уважением.
Тогда еще не появлялись статьи Лифшица против модернизма, наделавшие шуму через несколько лет. Еще никто не предполагал, что он займет столь непримиримую позицию по отношению к современному искусству, не только беспредметному, но и такому, которое, с его точки зрения, ревизовало и разрушало реалистическую традицию. Сюда входили и наши отечественные новаторы 20-х годов, и символисты, и экспрессионисты, и Пикассо, и Матисс, и мексиканская монументальная живопись, которой тогда многие увлекались, и практически все новое западное искусство, не исключая и литературу. С этого началась полоса великих споров в нашем секторе, потом перешедших в раздоры.
Я не записывала наших дебатов и восстановить их по памяти не могу; их суть сводилась примерно к тому же, что несколькими годами позже стало предметом дискуссии в «Литературной газете». Устные споры живее, хотя и бестолковее: спорящие на ходу подбирают аргументы, перехватывают через край, горячатся; тут есть момент спортивной состязательности. Состязаться с таким оппонентом, как Лифшиц, было увлекательно. Наши заседания иногда длились по шесть часов и больше: делали перерыв на обед и снова возвращались доспоривать, уже до вечера. Такого у нас не водилось ни до, ни после: обычно больше двух часов не выдерживали. С приходом Лифшица сектор превратился в настоящий дискуссионный клуб. Лифшиц, выступая, держал речь примерно в течение часа, другие рвались ему возражать и тоже себя не ограничивали; много было наговорено слов, наверно и лишних, но скучно не было.
«Младомарксисты» были по образованию не искусствоведами, а философами, Лифшиц тоже, споры шли главным образом по теоретическим вопросам – о месте и роли искусства в обществе. Помню, Ильенков однажды высказался в том смысле, что вообще искусство получало импульсы к развитию не тогда, когда чересчур оберегался его высокий статус и традиции, а когда к нему относились не слишком почтительно (он ссылался на инвективы Льва Толстого и Маяковского). «Если все время твердить, ах, искусство, ах, искусствичко! – это искусству не на пользу». Были и такие суждения: искусство испокон веков подменяло действительную жизнь и являлось поэтому своего рода «духовной сивухой». В левом искусстве «младомарксисты» усматривали освежающие революционные начала, а разрушительные тенденции их не пугали.
Все это Лифшицу нравиться не могло, и, возражая, он в свою очередь допускал крайности обратные. Как мне казалось, он сильно «поправел». В 1930-е годы, читая лекции в ИФЛИ, он почти не останавливался на «декадентстве» и не распространялся о его опасности, а теперь это стало его коньком. Может быть, прежде он считал «левую» опасность неактуальной, тогда ему важнее было добить вульгарную социологию? Лишь мимоходом он предостерегал от соблазнов «Цветов зла», цитируя стих Бодлера:
На мягком ложе зла, рукой неутомимой. Наш дух баюкает, как нянька, сатана, И мудрым химиком в нас испарен до дна Душевной твердости металл неоценимый.Но уже то, что цитировался главный декадент Бодлер (а М.А. его очень любил), позволяло думать, что декадентство не так уж плохо. Теперь же, когда новый зарубежный декаданс, он же модернизм, явно расширял сферу влияния, Лифшиц сделал его «направлением главного удара». А может быть, причина лежала глубже – в неудовлетворенности состоянием мира, в частности – нашего советского мира. Создавался он как будто бы «по Марксу», а между тем «наступала ночь» (выражение Лифшица). Винить в том Маркса и Ленина ортодоксальный Лифшиц никак не мог, и вот он перелагал вину на всемирную духовную отраву, проникающую во все поры, идущую, конечно, с буржуазного Запада, которую он именовал модернизмом, понимая этот термин чрезвычайно широко, включая сюда иррационализм и интуитивизм в философии, а также – непонятно почему – фашистский «культ силы». Как бы ни было, у нового поколения эта концепция не вызывала сочувствия.
Однако до поры до времени споры с Лифшицем на секторе эстетики не принимали ожесточенного характера, и он сам, казалось, был настроен довольно благодушно. Обаятельный и остроумный, он не производил впечатления «окаменелости». Однажды принес и показал копию итало-критской иконки, им самим выполненную лет десять назад. Сказал: «Вот, чтобы вы не смотрели на меня укоризненно и не думали, что я признаю только Шишкина». Это было трогательно. Рассказывал, что в юности, обучаясь во Вхутемасе, расписал стены мастерской абстрактной живописью, – то есть, значит, сам прошел через детскую болезнь левизны, но вовремя одумался.
Как сотрудник нашего НИИ, он писал историю эстетического воспитания, начиная с древности. Окончить не успел; видимо, дописывал позже, теперь это исследование опубликовано под расплывчатым названием «Античный мир, мифология, эстетическое воспитание». Законченного вида оно так и не получило, осталось во фрагментарном состоянии, и об эстетическом воспитании как таковом там сказано мало: мысль ветвится, «растекается по древу». И все же – это одна из интереснейших работ Лифшица. Помимо богатой эрудиции, она замечательна именно живой ищущей мыслью, стремлением проникнуть в тайны мифологического сознания, исходя не столько из марксистских постулатов, сколько из материала исследования. О нераздельности (в мифе) возвышенного и смешного, о том, что «миф сочетает священное с уродливым и смешным», Лифшиц сказал, пожалуй, раньше М. Бахтина, исследовавшего «смеховую культуру». Тема эта могла бы стать делом всей жизни ученого, но, по-видимому, М.А. по натуре не был кропотливым исследователем кабинетного типа, слишком многое его отвлекало.
Примерно тогда же он опубликовал в «Новом мире» очередную научную сатиру «В мире эстетики», вызвавшую у нас единодушный восторг своим тонким язвительным юмором при полном соблюдении научной добросовестности. На этот раз предметом сатирического анализа стали сочинения одного много и бойко пишущего эстетика, который как раз тогда собирался защищать докторскую диссертацию. Кажется, все-таки защитил, но его имя, после статьи Лифшица, стало чуть ли не нарицательным.
На всякое пустословие, на всякую «имитацию осведомленности» Лифшиц реагировал безошибочно, и в этом отношении общение с ним было очень полезно: ведь в той или иной мере мы все, обитающие «в мире эстетики», этим грешили, так что, посмеявшись над героем его очерка, приходилось и на себя оборотиться.
В те же годы Лифшиц написал еще одну язвительную статью под названием «Почему я не модернист?» – уже менее научную, менее доказательную, зато с глобальным обобщением. Вероятно, на этот лад его настроили и побудили к полемическому заострению проблемы дискуссии на секторе эстетики. Но у нас он эту статью не обсуждал и не оглашал, она была напечатана в конце 1966 года, в «Литературной газете», когда Лифшиц в Институте уже не работал.
У меня отношение к баталиям на секторе эстетики было двойственное, особенно поначалу. С одной стороны, исходные позиции «младо марксистов» меня совсем не устраивали, а Лифшиц по-прежнему (хотя не в той мере, как прежде) привлекал логикой, даром слова, юмором, личным обаянием: все это оставалось при нем. С другой стороны – соглашаться с ним по существу было невозможно, и чем дальше, тем невозможнее. Я-то была все-таки искусствоведом, и мне резало слух, когда он, придававший прежде великое значение таланту художника, оценивал произведения пластического искусства с чисто теоретической колокольни. Меня еще тогда очаровывал своенравный гений Пикассо: никак нельзя было согласиться, что создатель «Герники» и сюиты Воллара есть носитель каких-то зловредных упадочных тенденций. Я помнила «ифлийский» тезис Лифшица: чем талантливее художник, тем полнее совершается через его произведения самораскрытие истины. Теперь мой прежний учитель об этом словно забыл.
В общем, я все чаще объединялась с нашими «младомарксистами» в их противостоянии Лифшицу. Однако он долгое время относился ко мне благосклоннее, чем к ним. Может быть, вспоминал о письме, которое я ему когда-то послала, и был бы не прочь пополнить мною редеющие ряды своих последователей. Но все клонилось к обратному. И не только из-за разногласий по поводу модернизма. Как-то М.А. в виде особой чести пригласил меня к себе домой. За чаем мирно разговаривали, о модернизме не поминали, и тут, не помню в какой связи, МА. сказал что-то прочувствованное о Ленине, я же неосмотрительно заметила: «Да ведь и Ленин расстреливал вовсю». Я могла ждать возражений, но такой реакции не ожидала: М.А. сделался очень серьезен, даже как бы изменился в лице и произнес нечто вроде того, что у себя в доме он не может потерпеть таких высказываний. Лидия Яковлевна, жена Михаила Александровича, желая замять неловкость, стала мирным тоном говорить, что Ленин избегал крутых мер. М.А. молчал и был сух и тверд, как скала. Ни минуты не сомневаюсь: он так сурово осадил меня не из осторожности, а искренне – малейшая хула на Ленина для него означала хулу на духа святого. Я думаю, доживи М.А. до наших дней, до вскрытия архивов, до издания неизданного, он все равно не поверил бы, что «Ленин расстреливал» (и даже вешал). Или сказал бы, что красный террор был вынужденным ответом на белый террор.
Вспоминаю еще один разговор. Уязвимым местом в рассуждениях Лифшица было отсутствие «позитивных примеров» из современности: оставалось неясно, где и в чем он видит продолжение большой реалистической традиции, так им ценимой. Однажды я напрямик спросила у него – не на заседании, а в «кулуарах», – кого же из современников он любит и считает продолжателем этой традиции. Он сказал: Солженицына. (Это было в то время, когда в «Новом мире» печатали рассказы Солженицына.) Я спросила, помня, что Лифшиц хорошо знал Андрея Платонова, не находит ли он, что и Платонов был не хуже? На это М.А. ответил, что Солженицына ставит выше, так как тот берет самый значительный, самый важный пласт жизни (примерно так). Мне понравился этот ответ в духе «прежнего» Лифшица, и я решилась задать еще вопрос: а не смущает ли Михаила Александровича мировоззрение Солженицына? Слегка замявшись, М.А. сказал: «Но ведь он же не против…» (не помню точно, как он выразился: «не против советской власти» или «не против социализма»). «Что вы, Михаил Александрович, конечно, он против». – «Откуда вы взяли?» – «Это чувствуется по его рассказам». М.А. промолчал.
(Надо заметить, что в те сравнительно либеральные времена мы таких щекотливых тем в частных разговорах не избегали; прежнего страха не было, снова нагонять страх начали позже.)
Когда Солженицына перестали печатать, исключили из Союза писателей, а потом выслали, Лифшиц в нашем институте не работал, мы не встречались, и я не знаю, изменил ли он свое высокое мнение о писателе. Но вот грустная ирония: Солженицын, как выяснилось, никогда не отвечал Лифшицу взаимностью. В книге «Бодался теленок с дубом», которую мы все читали не то в самиздате, не то в тамиздате, Солженицын довольно нелестно отзывается о друзьях Твардовского и среди них называет «ископаемого марксиста-догматика» – Лифшица. Передавали, что Лифшиц, прочитав, сказал: «Бывают ведь и полезные ископаемые».
Но все это позже, а тогда отношения Лифшица с коллегами по сектору постепенно портились, росло взаимное раздражение, и дебаты стали вырождаться в запальчивые пикировки. Лифшиц ушел, кажется, в конце 1964-го или в начале 1965 года, точно не помню, но припоминаю свой последний, довольно долгий разговор с ним по телефону. Он мне позвонил, сказал, что уходит из института, тон его был раздраженный, почти гневный, таким я его раньше никогда не слышала. О некоторых наших сотрудниках он отозвался весьма отрицательно и добавил, что от меня ждал другого, но теперь убедился, что и со мной у него нет и не может быть общего языка. Мои робкие сожаления и возражения он не очень слушал.
Как мне теперь кажется, причина необычной для него ожесточенности и нервозности крылась не только в неладах с членами сектора, с заведующим сектором, и уж конечно не во мне: что-то в его жизни именно в тот момент переломилось. Могу только гадать: может быть – в отношениях с «Новым миром», с Твардовским. Может быть, это было как-то связано и с Солженицыным – Лифшиц прочитал в рукописи «В круге первом» и мог наконец убедиться, что Солженицын «против»2.
Но тогда я ничего этого не знала, мне было жаль, что Лифшиц так плохо с нами расстается, и хотелось, чтобы он все-таки меня понял. Через некоторое время я написала ему письмо – второе за двадцать лет. Я писала, что, несмотря ни на что, и сейчас чувствую себя его ученицей, благодарна ему за ифлийские лекции, оставившие прочный след, – но то, что он говорит сейчас, в моем сознании не укладывается, и по-моему, не вполне согласуется с его же собственными главными идеями.
На это письмо Лифшиц не ответил. Но позже, когда вышла его книжка «Кризис безобразия» (в соавторстве с Л.Я. Рейнгардт), он мне ее прислал с надписью: «На память об ИФЛИ». Увы, содержание книги напоминало не об ИФЛИ, а о перепалках на секторе эстетики, да еще в сгущенном, махровом виде.
Еще до выхода этой книги появилось в «Литературке» эссе «Почему я не модернист». Оно было написано с вызовом. В редакцию стали приходить десятки, если не сотни писем, в большинстве своем протестующие. Автору возражали очень уважаемые лица: Д. Лихачев, Г. Померанц, Л. Гинзбург и другие. Не буду пересказывать их аргументы, на мой взгляд вполне убедительные. Коллективное письмо, помещенное в газете, называлось «Осторожно – искусство!». Ответное выступление, занявшее целую газетную полосу, Лифшиц озаглавил «Осторожно – человечество!», ибо человечеству, писал он, грозит наступление средневековой ночи, попирание разума, «сатанинский релятивизм» (М.А. снова процитировал стих Бодлера). И все эти ужасы заложены в модернизме, который берет начало еще в декадансе прошлого века и закономерно приводит к «консервной банке» поп-арта. Лифшиц допускал, что иногда встречаются талантливые, даже гениальные художники-декаденты (тот же Бодлер, Блок), но это не меняет существа дела, то есть регрессивности их искусства. «…Хорошего модернизма не бывает, как не бывает хорошего идеализма или хорошей религии. Другое дело, что есть на свете умные идеалисты, которых читать гораздо интереснее, чем глупых материалистов»3.
Почему идеализм и религия хорошими не бывают – в этом пункте Лифшиц не утруждал себя аргументацией. Не бывают, потому что запрещены марксистским вероисповеданием: тут стоит дорожный знак с кирпичом – проезда нет. Такими запретительными кирпичами он огородил себя раз и навсегда, причем совершенно добровольно. Почему он не модернист, почему он не вульгарный социолог, – это он обосновывал и разъяснял, но почему он атеист – никогда. Я даже сомневаюсь, читал ли он, при всей своей феноменальной начитанности, религиозных философов – В. Соловьева, Бердяева, С. Булгакова? Возможно, считал это чтение просто ненужным – как Ленин считал ненужным читать Достоевского.
Но Библию он знал хорошо и, кажется, любил Ветхий Завет – едва ли не наравне с греческой мифологией: как «бессознательное художественное творчество народов». Первобытным и древним народам он охотно прощал то, что его отталкивало в современном искусстве, – гиперболизм, гротеск, иррациональность, невнятное бормотание оракулов, демонизм, нарушения нравственного порядка. Он считал, что тогда это была «неизбежная форма проявления чувства свободы».
Не могу удержаться, чтобы не привести небольшую цитату из упоминавшейся выше работы Лифшица о мифологии:
«Единство смертного и бессмертного в самой противоположности этих начал присуще даже такому единственному в своем роде и недоступному мифологическому герою, как библейский Яхве. Не свод предписанных им моральных правил, а именно история его доверия людям, его разочарования в них, его любви и ненависти, его прощений и возмездий выступает источником поэтического обаяния Библии. Вместе с лирикой одинокого бессмертия нас привлекает и рассказ о земных делах, звучащий как человеческая партия на фоне этого basso profondo»4.
Так мог сказать только человек, действительно находившийся под обаянием великой Книги, хотя и не признававший ее боговдохновенности.
Вернусь к злосчастной дискуссии о модернизме. В относящихся к ней статьях Лифшиц прочерчивал совершенно произвольную траекторию модернизма: от импрессионизма к декадентству, от декадентства к символизму, затем к футуризму, кубизму, абстракционизму, поп-ар-ту – как будто все эти несходные между собой течения составляли звенья одной цепи и соединялись причинно-следственной связью. Один из возражавших ему справедливо замечал, что таким способом можно доказать что угодно: «например, что Жан-Жак Руссо – творец империи Бонапарта, поскольку Руссо способствовал революции 89 года, а та… в тех условиях… и в результате: “Ты этого хотел, Жорж Данден!”»5
Последнее восклицание, взятое из комедии Мольера и Лифшицем адресованное философу Морису Шлику, могло бы теперь с большим правом быть обращено к нему самому. Он сам оборвал те нити симпатии, которые прежде протягивались к нему от читателей «Нового мира», вообще от «шестидесятников». Теперь ему начинали симпатизировать люди совсем иного склада, которых он едва ли хотел иметь своими союзниками. В статье в «Вопросах философии», все по поводу той же дискуссии, он гордо заявил, что ему все равно, кто его одобряет, пусть даже «темные силы» – их сочувствие или несочувствие ничего не значат, была бы высказана правда. Позиция, достойная уважения, – но все же, я думаю, ему было невесело, когда от него отворачивались люди, им ценимые, а также и обратное – когда его вдруг приветствовали ничтожные. Тому был выразительный пример. В статье в «Вопросах философии» М.А. упоминал, что в одном из полученных им писем говорится, будто его взгляды мог бы одобрить автор «Тли» («Тля» – одиозная и бездарная книжка некоего И. Шевцова). «Фантазия убогая, а злости много», – небрежно замечал Лифшиц.
Но оказалось – не фантазия. Через год в журнале «Октябрь» и в самом деле появилась похвальная рецензия на книгу «Кризис безобразия» за подписью того самого Шевцова, автора «Тли». Это было настолько пикантно, что наводило на мысль: уж не является ли рецензия мистификацией, чьей-то злой шуткой? Но едва ли по-видимому, то был действительно автор «Тли» собственной персоной, которому действительно пришлась по душе книга Лифшица, хотя о Лифшице он явно ничего не знал и соавтора книги, Л.Я. Рейнгардт, принимал за мужчину. Единственное, что рецензента не устраивало, – заявление авторов: «Наша критика направлена против кубизма, а не против отдельных лиц». Шевцов полагал, что если кубисты – лица, то лица и должны отвечать по всей строгости, и еще он был недоволен «приглушением» классового характера модернизма; в целом же горячо одобрял «боевой наступательный дух» книги. Этим липким поцелуем Лифшиц был награжден на страницах «Октября», редактируемого В. Кочетовым печатного органа, антагонистичного «Новому миру». Как тут не сказать: ты этого хотел, Жорж Данден!
Впрочем, он хотел другого. Что он борется с идеями, а не с лицами – это он подчеркивал всегда. «Казенщины и секуции» не выносил, откуда бы они ни исходили – слева или справа. Ради справедливости не мешает вспомнить, каким не совсем обычным призывом он заканчивал упомянутую статью. Процитирую: «Чтобы победить религию, нужно прежде всего предоставить людям свободу совести. Чтобы сплотить народы, нужно устранить малейшую тень национальной несправедливости <…>. То же самое и в нашем случае. Нужно предоставить тем, кому нравится кубизм, абстрактное искусство, поп-арт и все, что угодно, их гражданское право наслаждаться своими радостями. Препятствием могут быть только контрреволюция, порнография и прочие гадости, да и здесь нужно быть очень осторожным в окончательных суждениях. Но почему бы не открыть для обозрения всех Малевичей и Кандинских, которые хранятся у нас в запасниках, и не выставить их в специальном помещении? Можно поручиться, что возбуждение вокруг этого запретного плода, ведущее к тому, что люди видят худо там, где его вовсе нет, исчезнет через полгода, если не раньше»6.
Демократическое пожелание Лифшица сбылось нескоро, уже не при его жизни (а до тех пор самодеятельные выставки «модернистов» давили бульдозерами). Свободный доступ к произведениям Малевича, Кандинского, Шагала, Филонова – действительно больших художников – разочарования в них не вызвал: тут М.А. жестоко ошибся (как ошибся и относительно «победы над религией» при условии свободы совести). Но целый ряд выставок всевозможных авангардистов невысокого полета, зарубежных и отечественных, в самом деле понизил кредит доверия к прежнему запретному плоду. И даже отчасти оживил интерес к «соцреализму». Маятник преходящей моды качается, делают свое неправедное дело и шум рекламы, и заговоры молчания, и коммерческие расчеты – все так; однако время производит отбор и подлинные ценности сохраняет, были ли они связаны с модными или немодными, «прогрессивными» или «консервативными», традиционными или новаторскими течениями. Дух веет, где хочет, а не там, где ему предписывают.
И все же в чем-то Лифшиц был прав. Можно понять его отвращение перед разгулом одичалой стихии, где элитарный авангардизм сливается с пошлым китчем и критерии художественной ценности утрачиваются. Только не надо все сваливать на капиталистические производственные отношения. Любимая мысль Лифшица: эти производственные отношения сковывают самодеятельность масс и вызывают ответную реакцию бунта против культуры типа иррациональных поступков Дикаря из романа Хаксли «Прекрасный новый мир» (пример, на который Лифшиц постоянно ссылался). Но ведь иррациональные свойства человеческой натуры давали о себе знать на протяжении всей истории, при любых общественных отношениях.
Новое, что появилось в XX веке, – воля к такому самопознанию, которое проникает в скрытые подвалы человеческой психики. Стремление извлечь наружу то, что принято утаивать, выговорить то, о чем умалчивалось, сделать видимым невидимое. В литературе – зафиксировать «поток сознания», в пластических искусствах – изображать не столько вещи, сколько «переживание» вещей. Многое из этого предвосхищалось и в XIX веке, а «материал» накапливался веками: сама человеческая природа, в сотворении которой раскаивался Яхве, ибо «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». (Однако, покушаясь «истребить», Яхве неизменно щадил праведников.)
Я только пересказываю соображения многих теоретиков на этот счет. Лифшиц их не принимал: он с порога отвергал «представление о роковом иррациональном начале, заложенном в природе человека», так как, согласно марксизму, в природе человека вообще ничего не заложено, все зависит от исторически складывающихся общественных отношений, обусловленных развитием производительных сил. Как будто и эти силы, и эти общественные отношения сами не являются действиями человеческой воли, человеческой природы. Наверно, не случайно именно в XX веке усилилась потребность в беспощадном, нестыдливом зондировании человеческой натуры: человек, располагающий небывалыми средствами самоистребления, должен знать, чего ему ждать от самого себя, должен посмотреть в глаза чудовищам, в нем гнездящимся.
Но верно и то, что для искусства это путь опасный: здесь возрастают шансы продать душу черту (как случилось с героем Томаса Манна) или вообще утратить художественную силу: ведь она – дитя гармонии. Не говоря уже о том, что усиленный акцент на «негативном» самопознании способен поколебать веру в высшие возможности человека, делающие его образом и подобием Божьим. Если такая вера утрачена, то и искусству нечего делать, оно умолкает, а на потребу остаются грубые суррогаты – музыка для «притопа и прихлопа», длинные киносериалы ни о чем. Великое множество современных произведений живописи, литературы, музыки, кинематографа чаще являются симптомами общественной психологии, чем искусством. «Не следует давать имя искусства тому, что называется не так», – предостерегал А. Блок. Гениальные художники – Манн, Пикассо, Феллини – сохраняют верность гармонии и делают великие открытия, заглядывая в темные бездны. Но гениев всегда мало, а «среднее» искусство, которое тоже имеет право на существование, такого испытания не выдерживает.
Так или иначе, проблемы судеб современной культуры не решаются на уровне марксистской методологии и отход от нее гуманитариев начался давно. Все «младомарксисты» сектора эстетики впоследствии перестали ими быть: они круто свернули, разошлись в разных направлениях, верность марксизму не сохранил никто. Э.В. Ильенков покончил самоубийством. Лифшиц остался «все в той же позицьи» до конца дней.
Я его больше никогда не видела. Признаться, почти и не читала его работ последних лет. Они уже не возбуждали интереса. Как-то попалась на глаза его статья под интригующим названием «Чего не надо бояться». Оказалось – не надо бояться быть марксистом. Все то же.
Бояться не боялись, но – надоело. Даже не потому, что марксизм столько лет был принудительным ассортиментом и насильственно внедрялся «деревянными ортодоксами», как полагал Лифшиц. А просто потому, что учение это выдохлось, не находя реального подтверждения ни в чем. Между тем цензурный догляд несколько ослабевал, заградительные барьеры ветшали, кое-что подзапретное стало издаваться, хотя бы «для служебного пользования». Те, кто хоть как-то мыслил, не могли не приходить к простому соображению: ведь были же (и есть) в истории другие системы идей, другие точки отсчета, другие воззрения на мир, почему мы должны их только «разоблачать»? Почему мы пожизненно обречены на «марксистское вероисповедание»?
Надоело повторять в сотый раз, что Лев Толстой – зеркало русской революции; надоело с серьезным видом дебатировать буквоедскую проблему – сказал ли Ленин Кларе Цеткин, что искусство должно быть «понятно народу» или «понято народом»; надоело поносить буржуазную идеологию – впору было поносить идеологию КПСС. Марксизм давал последние вспышки не у нас, а на Западе: там бунтующие студенты своеобразно сочетали Маркса с Мао Цзэдуном и Христом. Впрочем, скорее всего они не читали Маркса. Вряд ли его читал и кто-либо из наших тогдашних политических лидеров. Гуманитарии читали по диагонали, разыскивая необходимые цитаты. Похоже, что Лифшиц действительно один, или один из немногих, оставался часовым на забытом посту. Его работы печатались и перепечатывались, но их мало кто замечал.
Некоторые его поздние статьи я прочла только недавно, в трехтомном собрании избранных сочинений (составленном неудачно – по принципу «академической» солидности). В основном – все то же, но на порядок бледнее, хотя ум его не ослабел и, насколько можно судить, он внимательно следил за тем, что происходит в мире, особенно в мире искусства на Западе. Только вот на происходящее в нынешнем советском мире и в советском искусстве он почти не откликался, если не считать некоторых общих фраз о социалистическом реализме – ведь он, как-никак, состоял при Академии художеств, положение обязывало. Порой эти фразы звучат фальшиво, даже «пустозвонно», например: «Несмотря на злостные измышления его врагов, советское искусство… высится как могучий утес над обломками разных школ и течений мнимого авангарда»7. Но что за утес и кого автор видит стоящим на его вершине, не сказано.
Многие из статей конца 1960-х и 1970-х годов опубликованы теперь впервые, раньше не доходили до печати, хотя, казалось бы, все в них «вылизано». Вот статья «Нравственное значение Октябрьской революции», написанная к 50-летию Октября. Уж кажется – до чего «нужная» тема и как искренне автор восхищен «чудом Октябрьской революции», однако статья в свое время света не увидела. Она содержит пространные рассуждения о моральном кризисе и духовной нищете современного буржуазного мира. Автор признает, что предреченного Марксом обнищания масс не произошло, – капитализм обеспечил народным массам определенный уровень сытости, но человек нуждается не только в пище, – святая евангельская истина! – а не менее того в свободе, свободной самодеятельности, которой нет у «рабов капитала». Скованная духовная энергия масс находит уродливый выход в различных формах общественного положения. Потом следует гимн Октябрю, открывшему путь исторического творчества народу, заложившему основу товарищеской солидарности, сплочения, братства и той нравственности, которая «измеряется отношением данного класса к общественному целому». Статья заканчивается на высокой ноте: «Хотите видеть пример такого чуда? Взгляните на Октябрьскую революцию»8.
Взглянули – а что же дальше? Дальше молчание. Автор ни слова не говорит о том, какие плоды принесло «чудо» в течение следующих пятидесяти лет (только где-то в середине статьи туманный намек на «зигзаги великой сложности»). У читателя естественно возникает вопрос: если
Октябрьская революция открыла шлюзы свободной самодеятельности народа, то почему ее, этой самодеятельности, нет и в помине? Как с ней обстоит на Западе, мы толком не знаем (кажется, и сам Лифшиц там никогда не бывал), а у нас ее уж точно нет. Единогласные голосования, аплодирования, скандирования даже самый наивный читатель не признал бы за свободную самодеятельность. Очевидно предусматривая такой вполне возможный ход читательской мысли, статью Лифшица не стали печатать. Вот если бы она завершалась еще и гимном современному состоянию советского общества, созданного Октябрем, – тогда другое дело.
Но Лифшиц был слишком честным человеком, чтобы делать реверансы в эту сторону. Он просто избегал каких бы то ни было высказываний о советской действительности. Формально и не обязан был: ведь он был не политиком, не политологом, не журналистом; как всякий добропорядочный академический ученый, он имел право спокойно писать о Гегеле, о Герцене, Бальзаке, Вольтере. Что и делал. Однако главная его тема – «Маркс – Энгельс – Ленин» – предполагала выход на современность, к проблемам сегодняшнего дня. Тем более что публицистическая струна отчетливо звучала в его сатирических критических статьях по вопросам эстетики. Но тут он строго ограничивался «миром эстетики», а в очерках более общего характера не шел дальше Ленина и Луначарского, как будто после них «история прекратила течение свое». Видимо, он не хотел давать позитивную оценку явлениям «развитого социализма», так как пришлось бы лгать, – и потому не пользовался поддержкой партийных властей. Давать же критическую оценку, пусть косвенную, тоже не хотел, хотя при желании мог артистически пользоваться «эзоповым языком». Не хотел, думаю, не из опасений неприятностей – он не был труслив; скорее всего потому, что это значило бы сеять сомнения в плодотворности Октябрьской революции, в ленинских идеях, а подобные сомнения он и самому себе запрещал, если они у него и появлялись на периферии сознания. Поэтому критически настроенные шестидесятники потеряли к Лифшицу всякий интерес. Он, таким образом, не снискал расположения ни у тех, ни у других, и вокруг него постепенно образовывалась пустота.
Говорили, что в последние годы он стал угрюм, замкнут, в институте Академии художеств почти не показывался, хотя числился там в какой-то должности. Это похоже на правду. Как мог чувствовать себя в старости незаурядный человек, сознающий свою незаурядность и не растерявший умственного багажа, видя, как стремительно его забывают, а главное – как неотвратимо рушатся его заветные идеалы. Он не мог не понимать, что хотя марксизм остается официальной идеологической вывеской, на деле ей никто не доверяет.
Поиски иных путей, иных духовных истин представлялись ему в лучшем случае пагубным заблуждением, а в худшем – модничанием «смешных жеманниц», желающих «крутить фильм наоборот». «…Для этих новых ликвидаторов мы с вами не лучше дикобраза на современной автостраде. Их мудрые головы забиты модной эклектической кашей – от религиозного экзистенциализма до социологических методов управления быдлом»9. Желчным и вместе с тем каким-то жалобным становится его тон, когда он говорит о современных «какодоксах» (придуманный им термин), – а прежде он умел иронизировать весело и с достоинством. Вину он возлагает на «демагогов и сикофантов былых времен». «…Деревянные ортодоксы былых времен расчистили путь нынешним какодоксам (от греческого kakos – плохой) с их логикой “все наоборот”»10.
В его призывах вернуться в лоно марксизма звучит уже что-то маниакальное. «Читайте переписку Маркса и Энгельса. Какое суровое, лишенное всякой фразы и вместе с тем возвышенное чтение! Нет, положительно жаль тех сомнительных интеллектуалов, которые ищут свою “духовность” на других путях»11. Это – из его, может быть, самой последней статьи. Заклинание «Читайте переписку Маркса и Энгельса!» поневоле вызывает ассоциации с лозунгами китайской культурной революции: «Читайте председателя Мао!»
У меня иногда возникали и другие обидные для Лифшица ассоциации: он напоминал образованного, «до ужаса красноречивого» материалиста Берлиоза из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» – того, кстати, тоже звали Михаилом Александровичем. А впрочем, так ли уж обидно это сравнение? Ведь в сцене бала у сатаны Маргарита видит на мертвом лице Берлиоза «живые, полные мысли и страдания глаза…».
Я была знакома с Лифшицем недолго и не близко, подробности его биографии мне совершенно неизвестны; может быть, поэтому мне и трудно понять, откуда у него бралась религиозная вера в марксизм-ленинизм, которую не могли поколебать ни очевидные факты, ни книги, ни люди: «Здесь я стою и не могу иначе». Если бы еще он был старым большевиком, из тех, что жизнь положили за революцию, – тогда понятно; но он никак не мог принадлежать к старой ленинской когорте – когда произошла революция, ему было всего 12 лет.
Тем более странно, что его светлые мысли, – а их было немало – строго говоря, не вытекали из боготворимого им учения, совпадая с ним разве что по касательной. Недаром же Лифшица терпеть не могли «деревянные ортодоксы».
Я и сейчас думаю, что его лекции в ИФЛИ были плодотворны, направляя неокрепшие умы на верный и естественный путь. Думаю и сейчас, что ценности искусства неотделимы от истин жизни, от истин нравственных и религиозных; не убеждают в обратном ни Ортега-и-Гассет, ни структуралисты. От формального понимания искусства меня во всяком случае Лифшиц отвратил раз и навсегда.
А.И. Солженицын пишет, что Лифшиц долгие годы имел сильнейшее влияние на Твардовского. Солженицын – великий человек и великий писатель, тут сомнений нет, но я не уверена, что влияние Лифшица на Твардовского было только отрицательным: тут еще надо разобраться. Ведь как раз эти годы были для «Нового мира» далеко не худшими. Если бы Лифшиц был окаменелым догматиком и только, мог ли он вообще иметь влияние на такого человека и поэта, как Твардовский? – сомнительно. Да ведь и произведения Солженицына Лифшиц считал, по крайней мере в 1963 году, вершиной современной литературы: это тоже о чем-то говорит.
Я не ктому веду, чтобы «оправдать» своего старого учителя, также как не могу его решительно «обвинять». Человек сложен – тем сложнее, чем внутренне значительнее. Лифшиц был значительным человеком. Если правда, что в каждой личности изначально заложен какой-то замысел, то его личность была задумана для более высокого, чем осуществилось. Ему было дано много – он не зарыл свой талант в землю, но вложил в обанкротившееся предприятие. «Трагедия есть действие, в котором обратная сила рождается из наших собственных свободных поступков и помыслов»12 – это слова Лифшица из статьи о Луначарском, они применимы и к его личной трагедии.
В том же очерке о Луначарском Лифшиц несколько раз употребляет выражение «притча его жизни». Некой притчей обернулась и его собственная жизнь. Из притчи положено извлекать мораль, но простенькой моралью не обойтись. «Не сотвори себе кумира»? Да, но это не все, притчи жизни многозначны, как древние мифы.
Ссылки
1 Лифшиц Михаил. Собр. соч.: В 3 т. Т. II. М., 1986. С. 247.
2 А.И. Солженицын пишет: «В тех же днях еще М.А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и, может быть, отчасти поколебала Твардовского» (Новый мир. 1991. № 6. С. 70).
3 Лифшиц М. Почему я не модернист? // Литературная газета. 1967. № 7. С. 7.
4 Лифшиц Михаил. Собр. соч. Т. III. М., 1988. С. 410.
5 Лифшиц М. Почему я не модернист? // Литературная газета. С. 6.
6 Вопросы философии. 1968. № 1. С. 109–110.
7 Лифшиц Михаил. Собр. соч. Т. III. С. 301.
8 Там же. С. 258.
9 Там же. С. 516.
10 Там же. С. 515.
11 Там же. С. 261.
12 Там же. С. 219.
Случайность или необходимость[44]
Трудно сомневаться, что жизнь полна случайностей. Даже рождение любого индивидуума – дело случая: он бы не появился на свет, если бы его родители в свое время не встретились, а встреча их зависит от случайного стечения обстоятельств.
Нас учили, что через множество случайностей прокладывает себе путь необходимость. Игре случая подлежит частное и отдельное, сфере необходимости – общее, имперсональное. Если бы Менделеев умер в детстве, не успев открыть периодическую систему элементов, ее открыл бы кто-то другой. Существование периодической системы – закон природы, природная необходимость, ее открытие – общественная необходимость, а личность Менделеева – случайность. Что должно совершаться в природном мире и в истории общества в силу законов, ими движущих, то и будет совершаться, хотя возможны варианты задержки, зигзаги, зависящие от случайностей, к которым, видимо, относится и наличие «доброй воли» или «злой воли» у тех или иных лиц и групп.
Но вот смешной вопрос в духе Кифы Мокиевича: может ли случайно произойти гибель всего живого на Земле?
Никого не удивляют извещения типа: «В результате несчастного случая безвременно погиб такой-то…», «Нелепый случай вырвал из наших рядов…». А тут пришлось бы сообщать (если бы было кому): «В результате нелепой случайности безвременно погиб мир». Допустим, призывы к доброй воле человечества достигли цели: никто не хочет гибели мира, государства договорились и замирились, запасы ядерного оружия лежат без употребления, а со временем их демонтируют. Однако ведь может вмешаться случайность, как вмешивается она в повседневную жизнь: вдруг взрывается в воздухе самолет, вдруг срывается под откос автомобиль, вдруг человек, поскользнувшись на полу собственной комнаты, падает и ударяется виском об угол стола – хотя никто этого не хотел и не злоумышлял. Также не исключено, что кто-то где-то по недосмотру, по ошибке нажимает не на ту кнопку, противная сторона, приняв это за намеренный акт, в свою очередь нажимает на кнопку, и следует необратимый процесс, настолько стремительный, что все кончится прежде, чем успеют опомниться. Или нечто подобное может случиться как раз при демонтаже ядерного оружия, который, говорят, сам по себе и труден и опасен.
Подсчитали даже, что вероятность случайного взрыва больше, чем вероятность сознательного и намеренного начала ядерной войны. Некоторые полагают, что она еще не будет означать гибели мира: поголовного уничтожения не произойдет, человечество частично уцелеет, сумеет все пережить, выжить, как выживало и раньше, когда история сплошь состояла из войн и разрушений. «Вы что же думаете, – спрашивает американский футуролог Герман Кан, – что отныне и навеки все стало по-другому, что трагедии и драмы истории миновали и что люди просто должны жить все лучше и лучше? Извините, но именно это – сумасшедшая идея». «Кровавый опыт истории был на стороне футуролога», – вынужден согласиться наш журналист. Но вот уже после смерти этого трезво глядящего на историю футуролога ученые заговорили о «ядерной зиме», которая наступит в результате взрывов: солнечные лучи не будут достигать земной поверхности, и потому живые существа и растения вскоре вымерзнут, даже если и уцелеют. Значит, нет ничего невозможного в случайной и притом полной и окончательной гибели мира. Сфера действия случайности, таким образом, неимоверно расширяется; случайность выступит в несвойственной ей роли решающего исторического фактора и, так сказать, восторжествует над необходимостью.
Стоит вообразить и прочувствовать до дна абсурдную ситуацию: история прекращает свое течение только из-за того, что кто-то что-то напутал или потерял рассудок. А не окажись этой микроскопической случайности, история будет благополучно продолжаться, мир просуществует еще тысячи, а то и миллионы лет, развиваясь, воюя по пустякам, делая новые открытия, рождая новых гениев. Но раз случайность может сыграть в истории решающую роль, то и вся предшествующая история есть дело случая, и вся жизнь народов – «ничто как сон пустой, насмешка неба над землей». А так называемые закономерности и необходимости – иллюзия системо-созидающего ума, который, бессознательно плутуя, подтасовывает факты и задним числом выводит мнимые законы игры в рулетку, произвольно выстраивает причинно-следственные ряды там, где имеет место лишь случайное рядоположение событий.
Тогда надо согласиться с изначальной абсурдностью мира. Однако мешает этому хотя бы то, что если не в человеческом обществе, то уж в природном-то мире есть причинно-следственные связи, есть закономерности, которые себя обнаруживают слишком наглядно и повсеместно, чтобы в их существовании можно было сомневаться. Если так, то почему же история людей, представляющих, как говорят, высшую ступень природной эволюции, является исключением? Сама склонность разума к «системности» – откуда она? Не тем ли вызвана, что упорядоченные системы заложены в фундаменте мироздания? «Случайная» гибель земного мира с этим не вяжется. Здесь к месту сакраментальное изречение: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». То есть конец человеческой истории, а с ней и жизни на Земле может настать и когда-нибудь непременно настанет, но, произойдет ли это через тысячелетия или завтра, он не будет делом случая. Он будет необходимостью, какие бы ничтожные и случайные обстоятельства ни сыграли роль спускового крючка. Спусковым крючком для Первой мировой войны послужил выстрел сербского студента Гаврилы Принципа в австрийского эрцгерцога (отсюда каламбур: «Война началась из принципа»), но он не был ее причиной. Никто не думает, что Первая мировая война была просто досадной случайностью. Тем более не может ею быть исчезновение жизни на Земле.
Возвращаясь к тому, «как нас учили», случайность есть скрытая форма проявления необходимости. Так что роковые последствия нажима на кнопку, будет ли она нажата намеренно или по ошибке, не могут быть ничем иным, как необходимостью. И это как бы единственное для нас утешение. Человечеству слишком обидно исчезать из-за неосторожности какого-то неизвестного дурака. Подчиниться высшей необходимости – другое дело.
Но, видимо, это необходимость какого-то иного порядка, чем та, которой нас учили, то есть природная или социальная (она же экономическая). Здесь эти понятия не срабатывают. Если природная – гибель Земли могла бы быть обусловлена чем-то от людей не зависящим, например истощением энергии Солнца. До этого сейчас, кажется, так же далеко, как и сотни миллионов лет назад, – очевидно, катастрофа близкая природной закономерностью не является. Она не может быть и социальной необходимостью, вытекающей из хода развития человеческого общества со всеми его институтами, потому что история общества явно не сказала своего последнего слова, не пришла ни к победному финишу (даже и коммунизма не успели построить), ни к социальному распаду, исключающему дальнейшее развитие. Она где-то «в пути», и еще совсем недавно полагали, что даже в начале пути.
С позиций исторического материализма все призывы к доброй воле государственных деятелей, манифестации протеста и сборы подписей, строго говоря, ненаучны. Положим, какая-то группа сильных мира сего проявит добрую волю или не проявит ее – будет ли это решающим для вопроса, быть или не быть человечеству? По Энгельсу, «история делается таким образом, что конечный результат получается от столкновения множества отдельных воль <…>. Эти воли достигают не того, чего они хотят, но сливаются в нечто общее, в одну общую равнодействующую». А равнодействующая, как говорит Энгельс в другом месте, совпадает с осью экономического развития: «необходимость, пробивающаяся здесь сквозь всякую случайность, – опять-таки в конечном счете экономическая»1.
Есть ли экономическая необходимость в гибели мира на нынешнем этапе? Если ее нет, то и не стоит так сильно волноваться и без конца твердить тривиальные общие места, нет – значит и не будет, равнодействующая вывезет. Если же есть экономическая необходимость, против нее, как учит марксизм, не выстоять: возможен лишь тот или иной зигзаг. Но поскольку встает вопрос о конце всего, в том числе и самого экономического развития, зигзаг превращается в завершающую точку. Получается, что и находящиеся на подъеме сами развивающиеся, прогрессирующие производительные силы создают необходимость самоуничтожения. Самоубийственный прогресс – это что-то новое: классики марксизма его не предусматривали.
Стало быть, необходимость конца, если она действительно настала (а конец без необходимости был бы абсурдом!) лежит в какой-то иной плоскости. Может быть, понятия вины и возмездия, эти старинные «донаучные» категории, применимы более всех других.
«Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять…
Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт. 18:27–29,32).
Ссылки
Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса: В 39 т. Изд. 2-е, 1955–1966. Т. 37. С. 395–396.
Наступление прошлого[45]
Отчего мы так любим будущее, в котором нас так же не будет, как не было в прошлом? Будущее – склад наших надежд и упований: мы верим, что в нем воссияет свет. По крайней мере, до недавнего времени верили. Вера строилась на иллюзии, что оно, будущее, зависит от нашей доброй воли, что мы можем его спланировать и подготовить. Хотя прошлое могло бы подсказать нам, что будущее никогда не выходило по плану, по задуманному.
В марксизме, который мы всосали с молоком матери, культ будущего достигал кульминации. Коммунистическое будущее обязано быть и будет земным раем, где если и останутся страдания, то разве только от неразделенной любви. Во имя этого грядущего рая «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Позади проклятое прошлое, впереди – прекрасное будущее, а в настоящем «вся-то наша жизнь есть борьба», борьба с прошлым – за будущее. Маркс говорил о пролетарской революции: она «…может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины»1.
Отсюда главная идея наших послереволюционных лет создавать все заново на развалинах старого. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» Фигура абстрактного пролетария, под сенью красного знамени сокрушающего земной шар, – частый мотив плакатов и росписей тех лет. Миру насилья причастна культура, созданная в нем: здания, книги, картины. Ее поэтому тоже следовало разрушить. Так прямо это высказывалось не всеми, а только левой интеллигенцией, но она брала свои лозунги не с потолка и не из собственного нервического нутра. И не получала их «сверху». Эти лозунги основывались на массовых настроениях.
Вот эпизоды, рассказанные Маяковским в статье 1927 года «Только не воспоминания…» (вопреки заглавию, вызванному отвращением ко всяким воспоминаниям, он вспоминал происходившее несколькими годами раньше): «Кто-то требует создания комиссии по охране памятников старины. И сейчас же предложение – кажется, художника Льва Бруни – “создать комиссию по планомерному разрушению памятников искусства и старины”. Кто-то просит послать охрану в разрушаемую помещичью усадьбу: тоже-де памятник и тоже старина. И сейчас же О. Брик “Помещики существуют давно, поэтому их искусство старо. Защищать памятники старины – защищать помещиков. Долой!”»2
Это, наверно, и тогда звучало чересчур лихо – но ведь усадьбы и памятники и в самом деле разрушали. Без злобы, стихийно. (Как это происходило, рассказано в необыкновенном по художественной мощи рассказе Пришвина «Адам», написанном в 1917 году.) Разрушали не безусадебный дворянин Маяковский, не юркий Брик и не потомок маститого академика Бруни. Они только подводили идеологическую базу, давали формулировку.
Сверху спускались гораздо более уверенные формулировки: пролетариат должен унаследовать все ценное в старой культуре. Разумно. Но как понимать ценное, для кого оно представляло ценность, что именно ценно для пролетариата? Чтобы отделять пролетарские зерна от буржуазных и феодальных плевел, нужно было научиться проделывать с наследием хитроумные операции. Например, расчленять его на форму и содержание: содержание (плохое) – отбросить, а форму (хорошую) – взять. В этом духе рассуждал Маяковский в свои последние годы: отойдя от первоначальной установки на разрушение, он, под впечатлением правительственных установок, признал, что у классиков можно учиться «технике». Что это за загадочная «техника»? Он имел в виду Пушкина, желая сказать, что у того была искусная техника манипулирования стихом, безотносительная к содержанию. Ей пусть обучаются новые поэты-профессионалы и применяют к своему делу. Что же касается читателей, которые сами стихов не пишут, им лучше совсем не читать классиков. «Чтивом советских масс – классики не будут»3, – сказано Маяковским в 1928 году. У того же Пушкина на каждом шагу вредные мысли («Смирись, Кавказ, идет Ермолов!»), непонятные и ненужные мифологические имена, а к новой жизни его стихи не имеют ни малейшего отношения: нельзя же в рядах первомайской демонстрации выкрикивать: «Мой дядя самых честных правил».
Но было справедливо замечено (Мандельштамом?), что, как ни толки художество в ступе, как ни раздробляй его, надеясь выделить форму (или технику) в чистом виде, – не получится: каждая мельчайшая частица будет представлять единство формы и содержания.
Литературоведы и теоретики выходили из положения несколько иначе. Они допускали, что в самом содержании имеются «про» и «контра» – надо взять прогрессивные «про» и отбросить реакционные «контра». Классики критиковали пороки существующего строя – это взять. Предлагали ложные выходы – это отбросить. Или вообще не видели выхода, так как не догадывались об исторической роли рабочего класса, – тут их даже можно извинить, поскольку они не читали Маркса.
Такие формулы отношения к прошлой культуре прочно внедрились, нельзя сказать, что и теперь забыты. По крайней мере, в школьных программах они остались, только слегка потесненные «народностью». По ним ценность любого произведения старой культуры – в критике старого строя. Не составляет труда отыскать такую критику хотя бы в «Коньке-Горбунке». Она и только она имеет идейно-художественное значение, не считая нейтральных «художественных особенностей» – эпитетов, метафор и пр. Если писатель не критикует старый строй сознательно – значит, критикует объективно, «как художник». Если он критикует не строй, а человеческую натуру – значит, сам обманывается, не понимая, что дело не в человеке, а в социальных условиях. (Как будто не люди создают условия!) Короче говоря, в прошлом нам дорого то, что направлено на отрицание этого самого прошлого.
Эти методы освоения наследия выработались несколько позже, а в начале 1920-х годов преобладал дух абсолютного отрицания наследия, со всем его содержанием и всей его формой, со всеми его потрохами. (Не говорю, конечно, о недобитых представителях «акстарья», но только о передовой революционной интеллигенции.) Искренно думали, что оно отжило. Не только у нас, а, пожалуй, и повсюду реял перманентно возрождавшийся в истории озорной демон нигилизма. Ведь «левые» еще раньше появились на Западе. Не кто иной, как французский архитектор Корбюзье намеревался наново перестроить Москву, стерев с лица земли старую, не исключая Кремля. Только что денег не было, а то бы на это пошли. Зато хватило средств снести Красные ворота, Сухареву башню, Китайгородскую стену, множество церквей. Никто особенно не возражал. Демьян Бедный, не принадлежавший к «левым», поместил в газете стихотворение о сносе Сухаревой башни, где горячо приветствовал уничтожение этого «жирного пятна» на облике столицы. И даже те, кто все-таки стремился уберечь творения старой культуры, делали это, скорее, в плане чисто музейном, не настаивая на их участии в современности: зачем разрушать, пусть себе остаются в роли памятников. Памятники, как известно, ставятся мертвым.
Наш отечественный нигилизм был активнее, агрессивнее западного, но вместе с тем и более «жизнеутверждающим», так как совпал с революцией, обещавшей построение нового мира взамен старого. Новый, лучший мир всегда был в подтексте, подразумевался; разрушители не чувствовали себя только разрушителями: мнились какие-то небывало прекрасные голубые города на месте снесенных, клубились заманчивые утопии вроде татлинского крылатого человека или его же башни III Интернационала (это вам не Сухаревка!). Нельзя отказать утопическим новациям того времени в поэзии взлета, воспарения над обломками старого мира, огаженного насилием, неравенством, несвободой. Новаторы при этом верили, что путь к свободе пролегает через срочную и беспощадную расправу со старьем и его носителями.
Но «летатлин» не полетел, но «левый фронт» раскалывался на яростно друг друга шельмовавшие группы, но дворцы-коммуны обернулись уродцами – коммунальными квартирами, где хозяйки на общей кухне стояли насмерть за место для своего индивидуального примуса.
Романтикам нового мира их романтизм выходил боком, с ними происходило примерно то, что описано Алексеем Толстым в рассказе «Гадюка». Эту новую опасность наименовали «мещанством» и сначала сваливали вину на нэп, потом нэп прекратился, а деромантизация жизни продолжалась в условиях междоусобной борьбы примусов – с одной стороны и начавшихся репрессий, уже не только словесных, против самих же паладинов нового мира – с другой.
Тем временем совершались какие-то сдвиги зодиакальных созвездий, которые, как утверждают астрологи, влияют и на судьбы личности, и на судьбу социума. Социум постепенно становился более терпимым к своему несовершенному, своему проклятому прошлому. Тут и начали складываться методы его компромиссного приятия: исподволь стали протаскивать прошлое. Не все могли с этим примириться. Маяковский был безмерно огорчен, когда его на собрании угостили конфеткой в обертке, изображавшей Венеру Милосскую. Он тут же выступил и сказал (дословно): «Значит, против чего ты борешься и боролся двадцать лет, оно уже сегодня входит в жизнь. Вот эта самая искривленная старая красота даже через конфетную бумажку распространяется у нас в массах, опять отравляя наш мозг и отравляя наше понятие об искусстве»4.
В самом деле: за что боролись?.. Бедная Венера и бедный Маяковский. Меньше чем через месяц он покончил с собой. Прямые причины самоубийства поэта остались неясны, но в каком-то косвенном смысле злосчастная конфета с Венерой внесла свой вклад.
Но что бы сказал Маяковский, если бы прожил еще лет пятнадцать и увидел, что князья Александр Невский, Юрий Долгорукий, монархисты Суворов и Кутузов появились не то что на конфетных бумажках – на знамени? Возможно, впрочем, что как раз Маяковский сумел бы адаптироваться. При всем своем погромном радикализме он был достаточно гибок похоронил ЛЕФ, вошел в РАПП. Да ведь он и сам был посмертно канонизирован в качестве «лучшего, талантливейшего советского поэта» почти одновременно с канонизацией старых воителей и завоевателей, в том числе Ивана Грозного, – такой вот парадокс. А новый культ Суворова ужился с традиционным для пролетарского сознания культом Пугачева. Может быть, с исторической точки зрения эти парадоксы естественны: история, в идеале, беспристрастна как великий художник, отдает должное всем, невзирая на социальные личины и ярлыки. Но именно в то время, в 1940-е годы, наше историческое мышление меньше всего было склонно к беспристрастию и больше всего – к фальсификациям. Тем не менее процесс реабилитации прошлого шел, хотя поистине в странных формах.
Сослужило службу «учение о двух культурах»: решили, что в одной национальной культуре – русской – были две: буржуазная и демократическая. Последнюю локализовали в довольно узких границах, но уж зато в этих границах она была объявлена образцом для подражания. Распределение на чистых и нечистых и требование продолжать традиции чистых проводилось топорно, но решительно под руководством А. Жданова. Жданов сказал: прежде чем перегонять классиков, надо их сначала догнать, а мы еще не догнали. Задача была – догонять, то есть стараться все делать как они, лишь на другом тематическом материале, а где тематика большого значения не имеет, например, в музыке, там и эта оговорка снималась. Шостакович, чем-то отличавшийся от образцов, был «формалистом», а его музыка – «сумбуром». В изобразительном искусстве обновить тематику было недолго.
Как это делалось – я помню по Академии художеств конца 1940-х и начала 1950-х годов, идеальной модели ждановщины. Помню президента Александра Герасимова, низенького, толстенького, с жидкими кудрями, редкими усиками и заплывшими злыми глазками: внешность плакатного черносотенца. Кажется, он и действительно в молодые годы имел отношение к Союзу русского народа. Он был откровенным антисемитом, что не мешало ему держать при себе Кацмана, который тоже, как ни странно, был антисемитом. Почему-то с особой страстью они ненавидели Эренбурга. Но Эренбург оставался вне пределов досягаемости Академии художеств, а в этих пределах стратегия и тактика А. Герасимова проводилась, как теперь выражаются, совершенно четко. Направлением главного удара были «безродный космополитизм» и формализм, а твердой творческой установкой – реализм.
Реализм. Сколько умственных хлопот доставлял этот термин теоретикам, желавшим оставаться на высоте марксистской мысли! То ли реализм означает изображение жизни в формах самой жизни, то ли правду жизни, которая, в свою очередь, распадается на правду-истину и правду-справедливость (последняя особенно важна для угнетенных классов), то ли еще что-то посложнее. Академия художеств не забиралась в теоретические дебри, у нее реализм был прост и ясен. Реализм № 1 – это «тематическая картина», написанная как у Репина, только изображающая не заседание Государственного совета при царе, а выступление товарища Сталина на съезде. Реализм № 2 – портретный жанр, в котором никаких отличий от Репина или Крамского не требуется: пойди в Третьяковку и посмотри, как надо делать. Пейзаж и натюрморт тоже могут иметь место в искусстве соцреализма, но они рангом пониже. Вот, собственно, и все. Репин был принят за главный эталон: до Репина искусство, даже русское, еще не дотягивало до полного реализма, а после Репина начался распад. Сам А. Герасимов в Училище живописи занимался по классу Коровина, но неохотно про то вспоминал, так как Коровин был замешан в импрессионизме, то есть в формализме.
Формализмом для простоты называлось все, как-то отличающееся от реализма, понимаемого в вышеописанном смысле, причем даже слабые отклонения не прощались. Формалистами были Дейнека, Кончаловский, отчасти Сергей Герасимов и Кукрыниксы; о Сарьяне, Фаворском, Павле Кузнецове и говорить нечего: они являлись показательными образчиками формализма в советском искусстве, на этой роли их и держали. А формалистам западным начиная с середины XIX века имя было легион, неформалистов там насчитывалось единицы. Западные же ученые-гуманитарии все без исключения, без различия воззрений и эпох, считались апологетами формализма, а одно их упоминание – делом криминальным. На одной из сессий Академии художеств, разоблачая с трибуны советских критиков, страдающих буржуазным объективизмом, президент сказал (дословно): «Эти критики и искусствоведы чаще всего оперируют такими именами, как Винкельман, Бергсон и им подобные, вроде наших Бенуа, Розанова, Гершензона, Петрушевского и т. д.» Нужно оценить эрудицию президента, для которого Винкельман и Бергсон были чем-то однородным (по-видимому, он считал их современниками), а Бенуа и Гершензон – «им подобными».
Среди окружения Александра Герасимова были люди, знавшие хотя бы понаслышке, кто такой Винкельман и кто – Бергсон, но никто не думал поправлять президента по таким пустякам. Остерегаться следовало других ошибок как бы не просмотреть очередного космополита или формалиста. Этим был постоянно озабочен П.М. Сысоев, тогда редактор журнала «Искусство», мой первый крестный в практическом искусствознании, человек в общем незлобный и по-своему порядочный, но замечательно твердолобый. Когда оказался вакантным пост председателя Комитета по делам искусств (Министерства культуры тогда еще не было), думали, что его займет Сысоев. Помню, как мы в редакции спросили у него о том напрямик. П.М. тяжело вздохнул и сказал, как Чапаев: «Нет, не сумею». «Да почему же?» – «Не смогу распознать формализм в музыке».
П.М. был малосведущ не только в музыке, но и в тех искусствах, в которых распознавать формализм мог. Невежество не считалось пороком, скорее, положительным качеством руководящих деятелей. У моей подруги был муж, профессиональный философ, окончивший философский факультет и преподававший философию в институте. Из русских философов ему был известен только Чернышевский. Он никогда не слышал даже имени Владимира Соловьева и очень удивился, узнав, что такой был.
Можно бы вспомнить много мрачно-анекдотического в таком роде. Но в конце концов – разве не анекдотичны и сетования Маяковского по поводу конфетной обертки с Венерой, и разве не зловещи поэтические призывы расстреливать Растрелли, бить из парабеллума по оробелым, убивать старых и делать из черепов пепельницы? Пусть это были не практические рекомендации, а, так сказать, риторические фигуры с ассонансами – но страшноватые фигуры; и ведь сам же Маяковский говорил: «Я знаю силу слов». А он был мастер словесных дел – впрочем, и А. Герасимов был далеко не бездарным живописцем.
Может быть, всякая идея, на которой уж очень настаивают, легко превращается в «служанку дьявола», как удачно выразился один из безродных космополитов? Или и в самом деле какие-то роковые влияния светил наводят дурман, насылают циклоны на наш злополучный социум? Кого крушить? – аристократов, космополитов, академиков, оппозиционеров, классиков, стариков, негров, папу римского?., скорее, скорее – боги жаждут. У богов уже пересохло в глотке. Служителями кровавых месс иной раз оказываются вовсе не кровожадные по натуре, но идейные люди. Анатоль Франс прозорливо сделал героем своего романа кроткого художника Эвариста Гамлена.
Но не о том речь.
В отличие от установок лефовцев, установки «ждановские» шли сверху, насаждались директивно, поэтому они были страшнее – только поэтому. Открыто с ними спорить никто не мог, иначе следовали оргвыводы, так что надо было соглашаться, а чтобы не чувствовать себя при этом мерзким двурушником – самое лучшее как-то убедить себя, свою совесть, что так и надо. Это мы и делали. Но ненадолго хватало малодушных самоуговоров. Насильственные способы «внедрения» достигают цели на какой-то срок и на поверхности, в конечном же счете вызывают глухое отвращение к внедряемому. Ни в чем не повинные Репин и Суриков становились в глазах молодых художников темными лошадками, во-первых, потому что смертельно надоели в качестве принудительного ассортимента, а во-вторых – потому что являлись как бы союзниками Александра Герасимова, а уж его-то любить было невозможно. Учащиеся художественных институтов в те годы прошли основательную школу лицемерия: они навострились не моргнув глазом изготовлять требуемые «тематические картины», в то же время тайно мечтать о совершенно ином, своем, сделанном для души, а не для приемных комиссий. Это мечтаемое «свое» соотносилось с запретным плодом – с левыми течениями, не столько западными (о них тогда слишком мало знали из-за «железного занавеса»), сколько отечественными, двадцатых годов. «Левые двадцатые» были предметом черной ненависти Академии, и уже по этой причине к ним тайно тянулись. Негласно, подспудно шел в умах процесс новой романтизации 1920-х годов с их поисками новых форм, с их «великолепными нелепостями», с их изобретениями и антинатурализмом. А в это время случайно уцелевшие могикане двадцатых где-то доживали, горько бедствуя, и голодавший Татлин корявым дрожащим почерком писал на тетрадных листках просьбы о денежном пособии.
Прошло еще несколько лет, могикане вымерли уже окончательно, но созвездия опять немного сдвинулись, конъюнктура изменилась, стало модно говорить о двадцатых, хотя и не очень громко. Стали устраиваться выставки, появляться «смелые» статьи, даже книги о «тех революционных временах». «Аврора» выпустила роскошное издание для заграницы. Наряду с Маяковским, который и прежде был надежно защищен званием «лучшего, талантливейшего», так что в реабилитации не нуждался, понемногу воскресали к новой посмертной жизни Мейерхольд, Хлебников, тот же Татлин, Штеренберг, Лисицкий и многие другие.
Но – странно! – настоящего их апофеоза, хотя бы и негласного, все-таки не произошло. Они, эти люди, эти художники, сами стали прошлым, и в числе прочего прошлого их приняли – и только. А ведь их-то главным пафосом было воинствующее отвержение прошлого, «старья». Этого пафоса новое поколение не разделило. Наоборот, оно пристрастилось к старью. Сначала к далекому: скульптура древней Мексики, русская икона, архаика. Потом все ближе и ближе. К русскому XIX веку, замусоленному Академией и другими официальными органами, долго относились с холодком. Но и его очередь пришла.
В семидесятые XX столетия началось наступление прошлого, медленно, но верно оно берет нас в окружение. Можно назвать это иначе (и уже называют) – пробуждением исторической памяти у беспамятного человечества, у манкуртов. Словно бы в бессознательном стремлении, чтобы, как сказано у Гоголя, «стало видимо далеко во все концы света», или во все концы времени. Историки с удивлением констатируют, что сильно возрос интерес к историческим книгам, мемуарам. То и дело слышишь: там подготовили перевод сочинений Блаженного Августина (правда, пока не разрешено печатать), тут издали стихи скальдов, расшифровали записи крюками старинных молитв, устроили выставку старых купеческих портретов, создали мемориальный музей А.К. Толстого, превратили в музей чью-то бывшую усадьбу, где, по слухам, бывал Рылеев, – и так далее. Кто-то через газету вносит предложение восстановить (то есть построить заново) Сухареву башню. Боже мой, да не проще ли было ее не сносить? – ведь не так уж давно это было. Но тогда судили здраво: к чему эта дурацкая башня? только мешает уличному движению. А теперь она вдруг понадобилась, хотя уличного движения стало во много раз больше.
На выставки старой живописи народ ломится и выстаивает многочасовые очереди. Выставки современных художников пустуют. Привычное объяснение: обыватели хотят попасть на выставки Дрезденской галереи, мюнхенской пинакотеки, собрания Тиссена не из любви к искусству, а потому что это престижно. Пусть так, однако почему именно старина престижна? Почему не новое, самое последнее, только вышедшее из мастерской? Почему обыватель не гордится тем, что посетил выставку какого-нибудь Семенова-Амурского или Барто, который, будучи художником несколько салонного склада, должен бы нравиться широкой публике? Нет, все равно не идут. Правда, валом валят на Глазунова и Шилова – не потому ли, что те стараются имитировать «старых мастеров» и нажимать на ностальгические болевые точки. Работа опять-таки топорная, но нам к топорной работе не привыкать.
С новым, можно сказать, юношеским пылом принялись за Пушкина. Выходит одна книга за другой, и все интересные, и сколько оживленных споров. Ну хорошо: Пушкин – гений, гордость России. Также Достоевский, Толстой, Чехов, но вот, например, Карамзин. Кто вспоминал о Карамзине не только 50 лет тому назад, но даже 100 лет назад? Еще Белинский считал его устаревшим. А теперь очерк о нем Эйдельмана – бестселлер, и уже готовится издание «Истории государства Российского», и «Бедную Лизу» ставят на сцене. Да что Карамзин – он как-никак был первым популярным русским историографом и вообще личностью выдающейся. Я беру в руки первый попавшийся журнал 1985 года и узнаю темы литературоведческих статей. Один автор «отвечает на некоторые вопросы, связанные с поэтическим состязанием 1743 года между Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым». Другой «анализирует неизданную трагедию Н.П. Николаева “Святослав”» (а кто это – Н.П. Николаев?). Третий «рассматривает вновь обнаруженное письмо И. Добровского Е. Болховитинову 1828 года» (а кто они?).
Кто бы они ни были – они жили, мыслили, писали романы и письма, зачем же о них забывать. Да и те, которые ничего особенного не сделали, – хорошо бы и их вспомнить. Вот только мало осталось – дневников, писем, документов. Или не так уж мало, а просто они валяются где-нибудь в забросе? Тогда надо найти, извлечь, отряхнуть от хартий пыль веков. С.В. Житомирская, долгие годы заведовавшая архивом Ленинской библиотеки, в 1970-х годах опубликовала статью с призывом не выбрасывать, не сжигать, хранить семейные архивы: все имеет значение, все дорого, а не только сведения о знаменитостях. Не одни же, в самом деле, знаменитости имеют право на жизнь, а значит, и на память. И не «народ» как некое безымянное образование, а люди с именами, с биографиями – личности.
Это новое поветрие, или как бы его ни называть, «сверху» не спущено, возникло стихийно. «Наверху» предостерегают от «неправомерной идеализации патриархального уклада» и вообще прошлого, видя в том угрозу ухода от настоящего. «Наверху» собираются подсократить школьный курс истории, заменив изучение фактов изучением закономерностей исторического развития, то есть вместо истории обществоведение, как и было в мои школьные годы. Но «внизу» интересуются фактами и личностями, что было одинаково чуждо и лефовцам, и ждановцам, которые, в сущности, не так уж сильно разнились. Беспамятны были и те и другие: культ отобранных «классических традиций» диктовался всего лишь стремлением подстричь всех ныне живущих под одну гребенку.
Пробуждение памяти у нас, темных манкуртов, совершается иногда в формах кустарных и комических. Идет процесс «музеефикации», музеи создаются на пустом месте, из ничего. Давно существовал музей Тютчева в Муранове, теперь этого показалось мало: поэт родился и провел детство в имении Овстуг под Брянском, надо устроить его музей и там. Тютчев туда приезжал редко, дом в Овстуге не сохранился, но музей пока что открыли в бывшей сельской школе, построенной потомками поэта, а дом стали строить (теперь уже построили). Кругом старый парк. В парке расставлены обычные фанерные щиты, которые портят все наши парки: вместо «выполним решения…» на них написаны отрывки тютчевских стихотворений. В самом музее, состоящем из двух небольших комнат, висят литографированные портреты самого Тютчева, его жен и дочерей, цитаты в рамочках под стеклом и более чем ужасный портрет поэта, написанный местным живописцем. И милая девушка-экскурсовод рассказывает о частной жизни поэта и с чувством читает наизусть его стихи. По пути в Брянск, в туристском «Икарусе», женщина-гид тоже всю дорогу декламирует стихи Тютчева. А также АК. Толстого – и у него было имение в тех краях, Красный Рог. Там давно уже дом отдыха, но в последние годы создан на его территории и музей – в маленьком домике, к Толстому не имеющем отношения. Дом Толстого постройки Растрелли (недострелянного) сгорел дотла во время немецкой оккупации, теперь и его собираются выстроить на основе единственной сохранившейся фотографии. В этом музее, в отличие от тютчевского, есть несколько предметов, принадлежащих поэту, – письменный стол и кресло. Они, как сказал, экскурсовод, пожертвованы семьей бывшего управляющего имением, который в годы революции их увез и оставил у себя. Кто-то из посетителей поправил экскурсовода: «Не пожертвовали, а вернули незаконно присвоенное». Но экскурсовод с живостью возразил: «Если бы управляющий их не вывез, этих вещей бы не существовало. Он их спас, и мы должны быть ему благодарны». Потом экскурсовод прочел наизусть, с начала до конца, длинную сатирическую поэму «Сон Попова».
Сравнительно недавно открытый дом Меншикова в Ленинграде действительно принадлежал лукавому царедворцу Петра, но с тех времен сохранилась только облицовка стен изразцами, в течение многих лет погребенными под слоями штукатурки (тут было какое-то учреждение). Штукатурку сбили, изразцы сияют прежней красотой. Все остальное – убранство комнат, мебель, портреты – взято из запасников Эрмитажа и других хранилищ: интерьер создан «по воображению».
Да, конечно, и раньше создавали мемориальные музеи, дополняли утраченное, чтили память. Но прежде это не делалось с таким усердием и почти самодеятельно. Б. Бродский, заметивший небывалую волну музеефикации, отнесся к ней скептически – и напрасно, ведь все устраивается трудами и самоотверженными усилиями плохо оплачиваемых музейных работников, с мучительным добыванием средств у разных ведомств, которые всегда могут сказать (и говорят): у нас на жилищное строительство не хватает, а вы со своими могилами. Тем не менее упорна жажда воскресить былое, хотя бы заново его соорудить, если следы стерты. Бродский так это и называет – «воскрешением покойников», попытками игнорировать смерть, выражающимися между прочим и в том, что больше не отмечают годовщин смерти, – только рождений. И некрологи составляются так, что трудно понять – умер человек или жив (такой именно некролог Г.А. Недошивина был напечатан в газете).
Воскресить мертвых, победить смерть… Слова, давно знакомые по Евангелию, но где мы их читали совсем недавно?.. Мы их читали и в сочинениях Н.Ф. Федорова, изданных в 1982 году – и, кажется, уже кто-то пострадал за это издание. Между тем оно пришлось ко времени.
Загадочный русский философ и великий библиотекарь, незаконнорожденный сын князя Гагарина, при жизни почти не печатавший свои труды, однако оказавший влияние на Достоевского, Льва Толстого, В. Соловьева и К. Циолковского, высказывал странные идеи. «Общее дело», к которому он звал, – телесное воскрешение всех когда-либо живших людей, всех праотцев, всех предков, с последующим расселением их по другим планетам (что изображал в своих графических циклах юный «федоровец» художник Чекрыгин). Немыслимое дело! Но только оно, по Федорову, может искупить несправедливость человеческой истории, в чаянии неведомого прогресса шествующей по забытым гробам. Философ говорил: если Христос воскрес из мертвых, значит, Он дал пример, поставил задачу перед живущими, которые не должны бездеятельно дожидаться Страшного суда, а сами, соединив на том все помыслы и силы, должны вырвать у смерти ее жало.
Нынешнее состояние науки как будто бы отчасти снимает полнейшую фантастичность проекта Федорова: открыта возможность клонирования – воспроизведения живых существ по одной клетке, вживленной в материнский организм… Но если даже допустить, что невероятное станет возможным, – не страшно ли оно? Вернуть всех, без изъятия, – всех преступников, всех безумных, грешных, падших?., а также пещерных предков, неандертальцев?., и заселять ими Вселенную?.. Нет, это непредставимо. А если выбирать только «достойных» – тогда кто судьи? Неужели «высоколобый химик» Маяковского будет производить отбор (Маяковский, по-видимому, знал об идеях Федорова – через Чекрыгина)? Федоров, впрочем, отвергал избирательность, настаивая на воскрешении всеобщем, идущем по цепи от сына к отцу в глубь поколений.
Никогда ни одному мистику не являлась идея, столь непостижимая, столь великая и ужасная, как этому сыну позитивистского века. И кто же ее внушил – Бог или диавол? В жизни Федоров был святой, безгрешный человек. Познания его были универсальны. Но он был нетерпим ко всем идеям, кроме своей.
Может быть, он нарочно ставил перед человечеством невозможные цели, ибо только невозможное стоит того, чтобы к нему стремиться, так же как только непредставимое можно признать Богом?
Но не экстремальная цель, которую даже его ближайшие ученики не могли без колебаний принять, привлекает к его сочинениям. И не мысль об активной «регуляции природы» («обратить слепой ход природы в разумный») – Земля и так уж пострадала от этой регуляции. А вот те нравственные основания, на которых Федоров возводит свою утопию, – они понятны. Сознание нравственного долга перед прошлыми веками, прошлыми поколениями.
В самом деле: почему дети дороже родителей, почему будущее важнее прошлого, почему линейное течение времени в одну сторону приемлется как не только неизбежное, но – справедливое?
Может быть, вера в прогресс все это оправдывала до тех пор, пока не была поколеблена. Но она поколеблена. Несомненен только технический прогресс, однако он не приводит к благу, теперь это видно. В других сферах, духовных и даже материальных, прогресса нет: люди не становятся ни совершеннее, ни счастливее. В лучшем случае они остаются при том же балансе добра и зла, ума и глупости, благоденствия и нищеты, радостей и страданий. «Мы работаем для счастья будущих поколений, для наших детей», – говорят добросовестные мученики истории. Будущие поколения, в свою очередь, трудятся и страдают для своих детей, те – для своих, а оглядываясь назад, вздыхают: «В старину живали деды веселей своих внучат».
Допустим даже, что прогресс существует, только идет зигзагами и пути его неисповедимы, что в каком-нибудь далеком тысячелетии люди, преодолев все грозящие опасности, действительно достигнут гармонического устроения на земле. А как же те миллиарды живших, что унавозили для него почву? Не будет ли стыдно потомкам пировать на забытых могилах предков?
Иван Карамазов у Достоевского даже небесную гармонию, окончательную, которая наступит в финале бытия, где все оживут, сольются и все простят друг другу, – даже ее отказывался принимать по той же причине (слишком дорогая цена заплачена). Если же речь идет о земном социальном прогрессе, долженствующем привести к благоденствию какое-нибудь миллионное по счету поколение людей, то не нужно быть Достоевским, чтобы понять, насколько нравственно несостоятельна идея такого прогресса. Сергий Булгаков рассуждал об этом так
«В представлениях о государстве будущего, о спасающемся прогрессом человечестве неизбежно приходится колебаться между двумя возможностями: или будущие люди с более чуткой совестью, с более развитым чувством общечеловеческой солидарности и любви будут терзаться сознанием, что их благополучие куплено такой дорогой ценой, и тогда они в тысячу раз жалче нас и несчастнее и уже совершенно не годятся для роли увенчивающих мировую историю счастливцев будущего, или, в обратном случае, если они обо всем забудут и все припишут себе самим, то мы имеем просто свинство, отталкивающее безобразие, при одной мысли о котором тошнит и мутит, при мысли, что ради мещанского довольства и благополучия этих господ была заплачена такая цена, пролита была мученическая кровь»5.
Священник С. Желудков добавляет к сказанному Булгаковым: «Мы говорим: “все человечество” – и подразумеваем человечество на земле. Но на земле никогда не все человечество, а совершенно ничтожная часть человечества. ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – НЕ НА ЗЕМЛЕ, все человечество – это мертвецы, “СУЩИИ ВО ГРОБЕХ”, чающие Воскресения. Итак, говоря “человечество, все человечество”, мы должны подразумевать ВЕЧНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, воскресшее человечество. Надо признать: либо у нас вечная судьба, либо мы в истинном смысле не существуем»6.
Как ни рассуждай, будь хоть трижды материалистом, а все получается, что без воскресения никакие идеалы несостоятельны и всякое добро будет только паллиативом. Твердому религиозному сознанию дана вера в воскресение мертвых произволением Божьим. Сознанию автора «Общего дела» – надежда на воскресение мертвых волей и силой живых. Что же остается обыденному сознанию, нерелигиозному или сомневающемуся, агностическому, которое преобладает и, наверно, всегда преобладало у живущей части «человечества»? Одно: беречь память о «всем человечестве». Тоже паллиатив, но по крайней мере на сей день это может стать реальным «общим делом».
В концепции Федорова именно это и было первой ступенью, исходным пунктом. В качестве первоочередных задач он выдвигал культивирование памяти о прошлом, в том числе создание хранилищ памяти – музеев; он призывал создавать их в каждом городе и селении, воскрешая прошлое по мельчайшим крупицам. Так, по мысли его, надлежало истребить неблагодарность к предкам, переломить сложившуюся и почитающуюся естественной и законной тенденцию однолинейного движения «по забытым гробам», неумолимо сжигающего за собой мосты.
Есть ли нынешнее обращение взоров к прошлому только временное поветрие, которое схлынет подобно другим и, может быть, вскоре опять сменится желанием сжигать мосты, культом нового и новейшего? Или это что-то устойчивое, большее, чем очередная мода? Не исключено, что «мода на прошлое» угаснет постепенно, хотя бы под влиянием очередной директивы. Но тогда – худо нам. Ведь, как бы ни было, земная человеческая история не есть бесконечно вращающееся колесо: если она когда-то началась, то когда-то и кончится. Сейчас симптомы конца, во всяком случае, конца цивилизации, реальны. Их связывают с угрозой самоистребления в ядерной войне, но война – не единственное, что угрожает; перед лицом других угроз она может возникнуть как акт самоубийства безнадежно больного, не желающего дожидаться, когда его доконает болезнь, и самовольно ускоряющего неизбежное. Какого рода другие угрозы – тоже достаточно говорят и пишут. В журнале «Земля и вселенная» был опубликован краткий отчет о конференции по проблеме внеземных цивилизаций, состоявшейся в Будапеште. Участников занимал вопрос: почему усилия по обнаружению внеземных цивилизаций не дают результатов, хотя звезд с планетными системами достаточно много. Очевидно, причина в краткости жизни цивилизаций. Астрофизик из США Папагианнис назвал и предположительные причины краткости (цитирую по изложению в журнале):
«…У внеземных цивилизаций, как у всякой конечной системы, существует предел количественного роста. И только та, которая преодолевает стихийные тенденции непрерывного количественного накопления, заменив их интеллектуальными задачами, сумеет в итоге пережить кризис роста и, следовательно, пройти барьер естественного отбора». В качестве примера автор рассматривает нашу собственную цивилизацию. «Менее чем за сто лет технологической фазы эволюции она оказалась перед лицом многих кризисных ситуаций… все их можно свести к шести основным». Дальше они перечисляются: 1) перенаселение земного шара; 2) истощение ресурсов (нефти, природного газа); 3) уменьшение производства продуктов питания, связанное с сокращением пахотных земель на планете; 4) засорение и разрушение окружающей природной среды; 5) предел производства энергии, обусловленный тем, что температура среды обитания должна оставаться в сложившихся на земле границах. И наконец – 6) опасность самоуничтожения посредством ядерного оружия. Она идет только в-шестых.
В отчете не поясняется, что подразумевает ученый под «интеллектуальными задачами», которыми следует заменить количественный рост. По-видимому, имеется в виду сознательное регулирование, изучение и использование того, что уже накоплено, вместо того чтобы его бесконечно увеличивать дальше – давать (как мы привыкли) еще больше всего: еще больше топлива, еще больше промышленных предприятий, еще больше машин и еще больше людей на планете. Этими «еще больше» питается прожорливый прогресс, не знающий пределов и приближающий цивилизацию к роковому и последнему пределу.
У людей «технологической фазы эволюции» есть и духовная жизнь, духовная культура. Позволительно задаться вопросом: не существует ли и здесь предел количественного роста? Уместно ли бесконечное накопление и в этой области? Или и тут назревает переход к «интеллектуальным задачам», иными словами – к обращению пристального взора на то, что уже создано, но плохо понято и забыто?
Кому-то принадлежит изречение: «Все давно сказано, но так как никто не слушает, приходится повторять».
Повторять и вспоминать – может быть, в этом и состоят насущные «интеллектуальные задачи», нужные, чтобы уцелеть духовно.
Ссылки
1 Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса: В 39 т. Изд. 2-е, 1955–1966. Т. 37. С. 395–396.
2 Маяковский В. ПСС (1955–1961): В 13 т. М., 1961.Т. 12.С. 150–151.
3 Там же. С. 167.
4 Там же. С. 423-
5 Булгаков СН. Лекция. Воскресение Христово и современное сознание. М., 1908.
6 Желудков С. Почему и я – христианин. Самиздатская рукопись. 1970.
Биографическая справка
Нина Александровна Дмитриева родилась 24 апреля 1917 года в селе Богоявленское Тамбовской области, с начала 1920-х годов жила в Москве. Училась на отделении искусствоведения Института истории, философии, литературы (ИФЛИ). Среди профессоров и преподавателей, курсы которых ей довелось слушать, были А.И. Некрасов, В.Н. Лазарев, М.А. Лифшиц, С.И. Радциг. Окончив ИФЛИ в 1940 году, Дмитриева поступила в аспирантуру. Когда началась Великая Отечественная война, уехала с маленьким сыном в эвакуацию в Моршанск, где преподавала историю литературы в Моршанском учительском институте.
После войны Нина Александровна продолжила учебу в аспирантуре, работала в редакции журнала «Искусство», потом в НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. H.A. Дмитриева начинала как историк русского искусства: ее первая крупная научная публикация посвящена истории Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Эта работа и была защищена в качестве кандидатской диссертации, хотя ей предшествовала другая – о творчестве Врубеля. Но защитить в 1950-е годы диссертацию о Врубеле было невозможно, и лишь спустя десятилетия книги Нины Александровны об этом мастере увидели свет.
Основным местом ее научной деятельности стал Институт истории искусств Академии наук СССР (ныне Государственный институт искусствознания), где Дмитриева сначала была сотрудником сектора эстетики, а затем сектора современного западного искусства.
В 2003 году уже посмертно Дмитриева была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за «Краткую историю искусств», создававшуюся на протяжении многих лет и изданную в 2000 году отдельной книгой.
H.A. Дмитриева скончалась 21 февраля 2003 года и похоронена на Пятницком кладбище в Москве.
Список публикаций
Книги
«Утро стрелецкой казни». Картина В.И. Сурикова. М.; Л.: Искусство, 1948.
Училище живописи, ваяния и зодчества. М.; Л.: Искусство, 1950.
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.: Искусство, 1951.
Абрам Ефимович Архипов. 1862–1930. М.: Искусство, 1952.
Вопросы эстетического воспитания. М.: Искусство, 1956 [пер. на румынский, словацкий].
Очерки марксистско-ленинской эстетики (совместно с В.М. Зименко, ЮД Колпинским и др.). М.: Искусство, 1956.
Николай Константинович Рерих. М.: Гос. изд-во изобразительного искусства, 1959.
О прекрасном. М.: Искусство, I960 [пер. на румынский, чешский].
Изображение и слово. М.: Искусство, 1962 [пер. на словацкий].
Краткая история искусств. Очерки. Вып. I. М.: Искусство, 1968 (изд. 2 – М., 1969, изд. 3 – 1985, изд. 4 – 1986, изд. 5 – 1987, изд. 6 – 1988).
Пикассо. М.: Наука, 1971.
Борис Михайлович Неменский. М.: Советский художник, 1971.
Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества. М.: Детская литература, 1975.
Краткая история искусств. Очерки. Вып. II. Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII–XVIII веков; Англия; Россия XVIII века. М.: Искусство, 1975 (1-е изд.).
Винсент Ван Гог. Человек и художник. М.: Наука, 1980.
Татьяна Маврина. Графика, живопись. / Альбом. М.: Советский художник, 1981.
Искусство Древнего мира (совместно с НА. Виноградовой). М.: Детская литература, 1986 (2-е изд. 1989).
Античное искусство (совместно с Л.И. Акимовой). М.: Детская литература, 1988.
Михаил Врубель: Жизнь и творчество. М.: Детская литература, 1984 (2-е изд. 1988).
Михаил Александрович Врубель (1856–1910). Л., Художник РСФСР, 1984 (1990, 2-е изд.).
Nina Dmitrieva, Mikhail Allenov, Olga Medvedkova. L’art russe / L’art et les grands civilizations. Collection cree par Lucien Mazenod. / Edition Citadelles. Paris, 1991-
Краткая история искусств. Вып. III. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. М.: Искусство, 1993 (1-е изд);
Краткая история искусств. М.: Галарт, АСТ-ПРЕСС, 2000. [1-е изд. в одном томе].
Послание Чехова. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
Статьи
К вопросу о современном стиле в живописи //Творчество. 1958. № 6. С. 9–12. Выставка произведений Н.К. Рериха // Искусство. 1958. № 8. С. 31–36. Художественное сознание современника // Вопросы литературы. 1961 № 7. С. 66–75.
Между сходством и несходством. К столетию со дня рождения Ци Байши// Искусство. 1961. № 2. С. 51–56.
Структура образа (рец. на кн. «Теория литературы» – М., 1962) // Вопросы литературы. 1963– № 4. С. 40–77.
Жизни навстречу (вчера, сегодня, завтра) // Вопросы литературы. 1964. № 3-С. 146–170.
Диалектическая структура образа //Вопросы литературы. 1966. № 6. С. 72–87. Томас Манн о кризисе искусства (Опыт комментирования романа «Доктор Фаустус») // Вопросы эстетики. Кризис западноевропейского искусства и современная зарубежная эстетика. Вып. 8. М.: Искусство, 1968. С. 5–66.
Юмор парадоксов (заметки о стилистике современной западной карикатуры) //Иностранная литература. 1973– № 6. С. 253–262.
Искусство Татьяны Мавриной // Декоративное искусство СССР. 1973– № 7. С. 39–41.
Искусство Пабло Пикассо // Московский художник. 1973– 21 апреля. № 16 (544). С. 3.
Автопортреты Ван Гога // Випперовские чтения. 1972. Проблемы портрета. № 4. М., 1974. С. 246–257.
Гротеску Пикассо // Советское искусствознание’74. М.: Советский художник. 1975. С. 241–261.
М.В. Алпатов – выдающийся ученый, пропагандист искусства, педагог // Искусство. 1975. № 3– С. 40–47.
Эвристическая роль юмора //Театр. 1977. № 1. С. 118
Живое слово критика //Декоративное искусство СССР. 1977. № 6. С. 28–29. Передвижники и импрессионисты // Из истории русского искусства второй половины XIX – начала XX века. Сборник исследований и публикаций. М.: Искусство, 1978. С. 18–39-
Некоторые мифы о Пикассо // Западное искусство. XX век. М.: Наука, 1978. С. 292–304.
Китч // Искусство ii массы в современном буржуазном обществе. М.: Советский композитор, 1979– С. 11–55.
О строгости терминологии искусствознания // Психология процессов художественного творчества. Л.: Наука, 1980. С. 267–268.
Карнавал вещей // Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. М.: Наука, 1982. С. 220–251.
Впечатления от выставки «Москва-Париж» // Советская живопись. № 5. М.: Советский художник, 1982. С. 141–158.
Ван Гоги литература //Литература и живопись. Л.: Наука, 1982. С. 268–289.
Опыты самопознания // Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М.: Наука, 1984. С. 7–50.
Судьба Пикассо в современном мире // Советское искусствознание’82. Вып. 2. М.: Советский художник, 1984. С. 252–263.
Существуют ли критерии художественности? // Творчество. 1984. № 11. С. 27–28.
Гуттузо и Данте // Борьба тенденций в современном западном искусстве. М.: Наука, 1986. С. 212–222.
Молча присутствующие // Юный художник. 1986. № 6. С. 12–18.
Сорок лет назад //Творчество. 1987. № 11. С. 22–23.
Долговечность Чехова //Чеховиана. Статьи, публикации, эссе. М.: Наука. 1990. С. 19–40.
Эпизоды из истории «Божественной комедии» Данте (к проблеме интерпретации) //Мир искусств. Альманах. М.: 1991– С. 302–330.
Художественные традиции в раннем творчестве Пикассо // Западное искусство. XX век. М.: Наука, 1991– С. 3–27.
Библейские эскизы Александра Иванова // Юный художник 1993– № 2. С. 36-
«Голгофа» Александра Иванова // Мировое древо. Вып. 3– М., 1994. С. 133–146.
К проблеме интерпретации //Мир искусств. М.: РИК «Культура», 1995. С. 7–41.
М.А. Лифшиц // Мир искусств. М.: РИК Русанова, 1997. С. 66–88.
Об одном рисунке Пушкина // Мир искусств. М.: РИК Русанова, 1997. С. 388–396.
Изобразительное искусство стран Западной Европы (конец XVIII–XIX в.) // Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». (Спецвыпуски). 1997. № 12. С. 1–16; № 16. С. 1–16; № 20. С. 1–16; № 23. С. 1–16; № 24. С. 1–16.
Библейские эскизы Александра Иванова // Истина и Жизнь. 1999– № 8. С. 54–61; № 9-С. 52–61.
Черный монах А.П. Чехова // Истина и Жизнь. 2000. № 3– С. 42–46, № 4. С. 30-
А.П. Чехов. «В овраге». Опыт прочтения //Истина и Жизнь. 2000. № 11. С. 48–53, № 12. С. 54–57.
Мистическая повесть А.П. Чехова // Мир искусств. Альманах. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 615–632.
Грести против течения [о Б.М. Неменском и его книге «Познание искусством»] // Искусство. Газета изд. дома «Первое сентября». 2001. № 10. С. 20–21.
Библейские эскизы Александра Иванова // Искусство. Газета изд. дома «Первое сентября». 2001. № 12. С. 1–24 (Спецвыпуск).
Тема добра и зла в творчестве Пикассо // Истина и Жизнь. 2002. № 2. С. 54–63
Послание Чехова. «Студент»: самый любимый рассказ писателя // Истина и Жизнь. 2002. № 4. С. 40–44.
Духовные искания Врубеля // Истина и Жизнь. 2002. № 11. С. 52–62; № 12. С. 52–61.
Импрессионисты // Искусство. Газета изд. дома «Первое сентября». 2003. № 4. С. 1–24 (Спецвыпуск).
Тема добра и зла в творчестве Пикассо // Западное искусство. XX век. Образы времени и язык искусства. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 69–77.
Чистилище. «Божественная комедия» Данте // Истина и Жизнь. 2003. № 9-С. 21–27; № 10. С. 38–41.
Об одном шедевре Ф. Гойи: «Расстрел в ночь со 2-го на 3 мая 1808 года» // Искусство. Газета изд. дома «Первое сентября». 2004. № 2. С. 8.
Случайность или необходимость // Истина и Жизнь. 2004. № 2. С. 22–23. Женский вопрос («Ариадна», «Душечка» и другие) // Истина и Жизнь. 2004. № 3. С. 24–29. № 4. С. 36–40.
Наступление прошлого // Истина и Жизнь. 2003. № 6. С. 26–33-Долговечность Чехова //Литература. Газета изд. дома «Первое сентября». 2004. № 27–28. С. 3–15.
Авторедактура Чехова // Мир искусств. Альманах. Вып. 5. СПб.: Алетейя, 2004. С. 55–78.
Новый тип юмора в карикатуре // Искусствознание. М.: 2004. Вып. 2. С. 164–187.
Рожденная в семнадцатом // Истина и Жизнь. 2005. № 9– С. 20–25.
Тема добра и зла в творчестве Пикассо // Пикассо и окрестности: Сборник статей. М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 15–24.
Бездетный король (Сказка) // Истина и Жизнь. 2006. № 1. С. 46–49.
Иллюстрации к книге
О. Домье. Дон Кихот. Около 1868
А. Иванов. Фигура Христа (в рост). 1840-е
А. Иванов. Явление Христа народу. Малый вариант картины. 1836 – не позднее 1855
А. Иванов. Ветка. 1840-е
А. Иванов. Аполлон, Гиацинт и Кипарис. 1831–1834
А. Иванов. Моисей перед Богом, читающим ему заповеди. Конец 1840-х – 1850-е
А. Иванов. Архангел Гавриил поражает Захарию немотой. Конец 1840-х – 1850-е
А. Иванов. Благовещение. Конец 1840-х – 1850-е
А. Иванов. Хождение по водам. Конец 1840-х – 1850-е
А. Иванов. Выход с Тайной вечери. Эскиз. Фрагмент. Конец 1840-х – 1850-е
А. Иванов. Распятие. Конец 1840-х – 1850-е
Н. Ге. Голгофа. 1893
Н. Ге. Тайная вечеря. 1863
И. Репин. Дама, опирающаяся на стул. Этюд к картине «Парижское кафе». 1875
Э. Дега. Абсент. 1876
А. Тулуз-Лотрек. Бал в «Мулен-де-ла-Галетт». 1889
В. Ван Гог. Портрет папаши Танги. 1887
В. Ван Гог. Почтальон Рулен. 1889
В. Ван Гог. Автопортрет перед мольбертом с кистями и палитрой. 1888
В. Ван Гог. Автопортрет со свечой. 1888
В. Ван Гог. Человек с перевязанным ухом. 1889
В. Ван Гог. Автопортрет. 1889
В. Ван Гог. Прогулка заключенных. 1890
В. Ван Гог. Ирисы. 1889
М. Врубель. Шестикрылый Серафим (Азраил). 1904
М. Врубель. Надгробный плач. Эскиз. 2-й вариант. 1887
М. Врубель. Портрет Н. И. Забелы-Врубель, жены художника. 1898
М. Врубель. Летящий Демон. Фрагмент. 1899
М. Врубель. Испания. 1894
М. Врубель. Венеция. 1893
П. Сезанн. Пьеро и Арлекин. Около 1888
Г. Мур. Король и королева. 1952–1953
П. Пикассо. Эскиз к картине «Три женщины». 1908
Ж. Брак. Замок Ла Рош Гюйон. 1909
П. Пикассо. Композиция с разрезанной грушей. 1914
П. Пикассо. Мать с ребенком. 1922
П. Пикассо. Женщина в шляпе. 1936
П. Пикассо. Плачущая женщина (Дора Маар). 1937
П. Пикассо. Натюрморт. 1942
П. Пикассо. Портрет Жаклин Рок. 1954
П. Пикассо. Завтрак на траве. 1962
П. Филонов. Крестьянская семья (Святое семейство). 1914
Р. Делоне. Красная Эйфелева башня. 1910–1911
М. Шагал. Автопортрет с семью пальцами. 1912–1913
А. Матисс. Музыка. 1910
А. Матисс. Танец. 1910
А. Мыльников. Пробуждение. 1957
А. Мыльников. Городской пейзаж. 1957
Б. Неменский. Три женщины. 2-й вариант. 1968
Б. Неменский. Безымянная высота. 2-й вариант. 1962
Н. Рерих. Славяне на Днепре. 1905
Н. Рерих. На вершинах. 1936
Г. Нисский. Зима. Подмосковное шоссе. 1957
Ци Байши. Цыплята радуются солнцу. 1949
О. Домье. Любители живописи (Знатоки). Около 1862
Г. Доре. Иллюстрации к роману Мигеля Сервантеса «Дон Кихот». 1862–1863
А. Иванов. Портрет итальянки с гребнем. Середина 1930-х
А. Иванов. Жених Campagnuolo, выбирающий серьги для невесты. 1838
А. Иванов. Коленопреклоненная натурщица. 1833–1835
А. Иванов. Коленопреклоненная Мария Магдалина. 1833–1835
А. Иванов. Голова Марии Магдалины. 1833–1835
А. Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. 1835
А. Иванов. Голова Иоанна Крестителя. Около 1837
А. Иванов. Голова Иоанна Крестителя. 1837
И. Крамской. Христос в пустыне. Фрагмент. 1872
Н. Ге. Распятие. Эскиз-вариант для картины «Распятие». 1894
В. Ван Гог. Соломенные крыши. 1884
В. Ван Гог. Едоки картофеля. 1885
В. Ван Гог. Хижины. 1890
В. Ван Гог. Нагнувшаяся крестьянка. 1885
В. Ван Гог. Крестьянка, возвращающаяся домой. 1885
В. Ван Гог. Автопортрет с трубкой. 1886
В. Ван Гог. Кафе в Арле. 1888
П. Сезанн. Дама в синем. Около 1900
А. Тулуз-Лотрек. Бал в «Мулен Руж». 1890
М. Врубель. Автопортрет. Этюд. 1883
М. Врубель. Портрет В. С. Мамонтова. 1890–1891
М. Врубель. Богоматерь с Младенцем. Фрагмент. 1885
М. Врубель. Женская голова (Э. Л. Прахова). Этюд. 1884–1885
М. Врубель. Голова Демона. Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 1890–1891
М. Врубель. Дуэль Печорина с Грушницким. Иллюстрации к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1890–1891
М. Врубель. Тамара и Демон. Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 1890–1891
М. Врубель. Лилия. Эскиз витража. 1895–1896
М. Врубель. Весна. 1899 – начало 1900-х
М. Врубель. Портрет В. Я. Брюсова. 1906
М. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова. 1897
М. Врубель. Голова пророка. Эскиз. 1904
Э. Мунк. Крик. 1895
П. Пикассо. Семья циркачей с обезьяной. 1905
П. Пикассо. Пародия на «Олимпию» Э. Мане. 1901
П. Пикассо. Жизнь. 1903
П. Пикассо. Встреча (Две сестры). Этюд. 1901–1902
П. Пикассо. Автопортрет. 1906
П. Пикассо. Портрет Гертруды Стайн. 1906
П. Пикассо. Этюд к картине «Авиньонские девицы». 1907
П. Пикассо. Художник и модель. 1928
П. Пикассо. Дружба. Этюд. 1907–1908
П. Пикассо. Дружба. 1908
П. Пикассо. Художник и модель. Иллюстрация к «Неведомому шедевру» О. де Бальзака. 1927
П. Пикассо. Любовная сцена. 1932
П. Пикассо. Распятие. 1932
П. Пикассо. Минотавромахия. 1935
П. Пикассо. Рыба. 1943
П. Пикассо. Женщина с листьями. 1932
П. Пикассо. Причесывающаяся женщина. 1940
П. Пикассо. Франсуаза. 1946
П. Пикассо. Франсуаза. 1946
П. Пикассо. Венера и Амур, по Кранаху. 1949
П. Пикассо. Дон Кихот. 1955
А. Матисс. Сидящая натурщица. 1909
А. Матисс. Обнаженная женская фигура. 1910
А. Матисс. Обнаженная женская фигура со спины. Первый вариант. 1909
М. Шагал. Дом деда. 1922
М. Шагал. Пьяный. 1913
П. Филонов. Коровницы. Фрагмент. 1914
Г. Мур. Художник и модель. 1940
Г. Мур. Пять металлических форм. 1937
Ци Байши. Тыква. 1930
Ци Байши. Креветки. 1948
А. Мыльников. Набросок. 1958
А. Дейнека. Оборона Петрограда. 1927
Б. Пророков. Распятие (Казнь девушки на Новороссийском кладбище). Эскизы композиций. 1957–1958
Н. Рерих. Гуга-Чохан. 1931
Н. Рерих. Ростов Великий. Этюд. 1903
Примечания
1
Дмитриева Н.А. Об одном рисунке Пушкина // Мир искусств: Альманах. М., 1997.
(обратно)2
Дмитриева Н.А. Мир искусств: Альманах. М., 1997.
(обратно)3
Дмитриева НА. Вопросы эстетического воспитания. М., 1956. С. 30.
(обратно)4
Дмитриева НА. Послание Чехова. М., 2007.
(обратно)5
Дмитриева Н.А. Западное искусство. ХХ век. М., 1978.
(обратно)6
Дмитриева Н.А. Пикассо. М., 1971. С. 50.
(обратно)7
Там же. С. 122.
(обратно)8
Дмитриева НА Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М., 1984.
(обратно)9
Дмитриева НА Пикассо. С. 121.
(обратно)10
Дмитриева НА Карнавал вещей // Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. М., 1982. С. 240.
(обратно)11
Дмитриева НА Пикассо. С. 121.
(обратно)12
– Дмитриева НА Мир искусств: Альманах. М., 1991.
(обратно)13
Дмитриева НА Карнавал вещей. С. 224
(обратно)14
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2000. С. 64–5.
(обратно)15
Печатается по тексту статьи в кн.: Мир искусств: Альманах. М.: РИК «Культура», 1995-С. 7-41.
(обратно)16
Публикуется по тексту статьи в журнале «Вопросы литературы» (1966. № 6. С. 72–87).
(обратно)17
Публикуется по тексту рукописи.
(обратно)18
Публикуется по тексту статьи в газете «Искусство» (изд. дом «Первое сентября» – 2001. № 12. С. 1–24, спецвыпуск).
(обратно)19
От французского bigot – ханжеский.
(обратно)20
Печатается с учетом авторской правки по тексту статьи в сб.: Из истории русского искусства второй половины XIX – начала XX века. Сборник исследований и публикаций. М.: Искусство, 1978. С. 18–39.
(обратно)21
Печатается по тексту статьи в журнале «Творчество» (1971. № 5– С. 17–22).
(обратно)22
Печатается по тексту статьи в сб.: Випперовские чтения. 1972. Проблемы портрета. М., 1974. С. 246–257.'
(обратно)23
Публикуется по тексту статьи в сборнике «Литература и живопись» (М., Наука, 1982. С 268–289).
(обратно)24
Публикуется по тексту статьи в журнале «Истина и жизнь» (2002. № 11. С. 52–62; № 12. С 52–61).
(обратно)25
Печатается по тексту статьи в сб.: Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М.: Наука, 1984– С. 7–50.
(обратно)26
Это чарующе (франц.).
(обратно)27
Печатается по тексту статьи в сб.: Вопросы эстетики. Кризис западноевропейского искусства и современная зарубежная эстетика. Вып. 8. М.: Искусство, 1968. С. 5-66.
(обратно)28
Печатается по тексту статьи в сб.: Советское искусствознание’ 74. М.: Советский художник, 1975. С. 241–261
(обратно)29
Печатается по тексту статьи в сб.: Западное искусство. XX век. М.: Наука, 1978. С. 292–304.
(обратно)30
«При лунном свете» (франц.) – популярная песенка конца XIX века. – Прим. ред.
(обратно)31
Публикуется по тексту статьи в сб.: Советское искусствознание’ 82. Вып. 2. М.: Советский художник, 1984. С. 252–263.
(обратно)32
Печатается по тексту статьи в сб.: Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. М.: Наука, 1982. С. 220–251.
(обратно)33
Печатается по тексту статьи в сб.: Искусство и массы в современном буржуазном обществе. М.: Советский композитор, 1979– С. 11–55
(обратно)34
От французского exagérer – преувеличивать.
(обратно)35
Печатается по тексту статьи в сб.: Советская живопись. № 5– М.: Советский художник, 1982. С. 141–158.
(обратно)36
Печатается по тексту статьи в журнале «Декоративное искусство СССР» (1977. № 6. С. 28–29).
(обратно)37
Печатается по тексту статьи в журнале «Искусство» (1958. № 8. С. 31–36).
(обратно)38
Печатается по тексту статьи в журнале «Искусство» (1961. № 2. С. 51–56).
(обратно)39
Печатается по тексту статьи в журнале «Творчество» (1958. № 6. С. 9–12).
(обратно)40
Печатается по тексту статьи в газете «Искусство» изд. дома «Первое сентября» (2001. № 10. С. 20–21). [о Б.М. Неменском и его книге «Познание искусством». М., 2000].
(обратно)41
Публикуется по рукописи. В сокращенном виде статья напечатана в журнале «Истина и Жизнь» (2005. № 9. С. 20–25).
(обратно)42
Печатается по тексту статьи в журнале «Искусство» (1975– № 3– С. 40–47).
(обратно)43
Печатается по тексту статьи в кн.: Мир искусств: Альманах. М.: РИК Русанова, 1997. С. 66–88.
(обратно)44
Публикуется по рукописи. В сокращенном виде статья напечатана в журнале «Истина и Жизнь» (2004. № 2. С. 22–23).
(обратно)45
Публикуется по рукописи, относящейся, вероятно, к второй половине 1980-х годов. В сокращенном виде статья напечатана в журнале «Истина и Жизнь» (2003– № 6. С. 26–33).
(обратно)



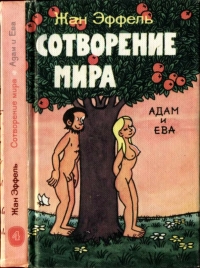

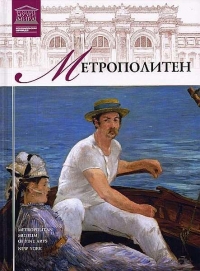
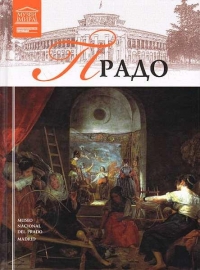

Комментарии к книге «В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет», Нина Александровна Дмитриева
Всего 0 комментариев