Евгений Осетров ЖИВАЯ ДРЕВНЯЯ РУСЬ Книга для учащихся
Не в худой и не в неведомой
земле владычествовали, но в
Русской, что ведома и слышима
есть во всех концах земли…
Иларион. Слово о законе и благодати (XI в.)Борис и Глеб. Середина XIV в.
Родословное древо
Стоит ли перечитывать рукописные книги, рассматривать почерневшие от времени фрески в давно заброшенных церквах, думать о значении волнистой линии орнамента, высеченного на замшелом камне? Есть ли смысл сохранять бревенчатые избы, домотканые полотенца, расшитые красными нитями, донца прялок, расписанные пестрыми красками, вальки, украшенные загадочными геометрическими узорами?..
Человек не подобен бабочке-однодневке, весело порхающей при солнце, не знающей о том, что было вчера и что ей сулит завтра. В его судьбе сплетаются в единый узел былое, нынешнее и завтрашнее. Человек — сын своего времени и своей страны; чувство Родины всегда неотделимо от чувства истории. Не случайно в годины военных и иных лихолетий люди обращаются к памятным страницам прошлого, ища в отшумевших веках поддержку, ответы на загадки современности.
«Семейство Святослава». Древнерусская миниатюра.
В незабываемом сорок первом году, когда смертельная опасность нависла над Отечеством, Алексей Николаевич Толстой написал слова, исполненные глубокого смысла: «Родина — это движение народа по своей земле из глубины веков к желанному будущему… Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его поколения слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сиживали по вечерам при восковой свече над книгами, а иные, как неистовый протопоп Аввакум, — в яме, в Пустозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полууставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах, недаром старушки-задворенки и бродящие меж дворов старички за ночлег и ломоть хлеба рассказывали волшебные сказки, — все, все, вся широкая, творческая, страстная, взыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве…»
Родословное древо нашего искусства своими корнями уходит в таинственные толщи столетий; эти корни питались глубокими подпочвенными соками, невидными невооруженному глазу. Потребовалась работа не одного поколения ученых, художников-реставраторов, собирателей-коллекционеров, подвижнический труд знатоков, для того чтобы приоткрылась завеса времени и мы увидели безграничный и неисчерпаемый мир образов Древней Руси. В наши дни (для многих нежданно-негаданно!) художественные явления средних веков — произведения живописи, музыки, архитектуры — стали живой и зримой действительностью; в бурных ритмах современности зазвучали соразмерные напевы древнерусского искусства, а краски, которые вчера еще представлялись блеклыми, становятся цветом, светом и воздухом эпохи.
Читатель представляется мне молодым и задорным умницей: старшеклассником, студентом… Все интересно моему читателю, цепкий взор примечает то, что, может быть, оставит других равнодушными, во всем хочется ему дойти до сути. Я же мечтаю своей работой помочь юному книгочею самостоятельно подойти к тому, что высказывал в беседах со мной выдающийся скульптор двадцатого столетия Сергей Тимофеевич Коненков. Он увлеченно говорил:
— Мы, современники полетов в космос, — по-своему истолковываем мысль Достоевского о том, что мир спасет красота. Мы стремимся к тому, чтобы человек и весь окружающий его. мир были прекрасными. Мы стремимся к тому, чтобы действительность стала гармоничной и возвышенной. В благоговейном отношении Достоевского к красоте, по-моему, есть что-то пророческое. Я никогда не жалел о том, что посвятил жизнь поискам красоты. Изменяя себя, человек изменит и окружающий мир. Мы уже вступили в королевство счастья, добра и красоты. Возврата назад быть не может.
Моя книга — это размышления по поводу встреч с великими произведениями искусства и литературы нашей страны, с картинами окружающей нас природы. Круг этих встреч, естественно, ограничен авторскими интересами и возможностями. Я стараюсь также сообщить читателям — юным, пытливым, любознательным — сведения, для того чтобы сделать их путешествие в прошлое более интересным и полезным.
Эпоха Возрождения в свое время открыла для себя античность: развалины Греции и Рима стали школой прекрасного, образцом для подражания. Древнерусские художественные сокровища для нас — живые эстетические ценности. Они властно входят в жизнь. В них полно и верно выразилась душа народа, красочность его художественных впечатлений, значительность его мыслей. Бесконечные заснеженные просторы, луговые, лесные и речные пейзажи, летние грозы, осенняя листва, половодье весны — все это родное, домашнее, нерасторжимо связанное с народным искусством.
Слегка переиначивая слова летописца, я могу сказать, что любить свое прошлое — значит наследовать всю красоту жизни, ее славу и свет разума предков.
Как-то однажды в Москве в залах Академии художеств была устроена редкостная выставка, посвященная новым открытиям реставраторов. Демонстрировались произведения изобразительного искусства, спасенные от разрушающего влияния времени, над которыми потрудилась Центральная художественная научно-реставрационная мастерская имени академика И. Э. Грабаря. Тридцать с лишним лет художники-реставраторы возвращают к жизни шедевры и целые коллекции. Мы все любовались на выставке иконами круга Андрея Рублева, живописью конца шестнадцатого века из церкви Преображения Кирилло-Белозерского монастыря, древнерусским шитьем, совершеннейшим по рисунку и исполнению (епископское облачение словно соткано из золота и серебра), единственным в своем роде зеркалом царевны Софьи, привезенным в Москву из Архангельска… Проходя по залам Академии, нельзя было не вспомнить тех, кто одаряет нас «заколдованной красотою».
Движение за возрождение ценностей, завещанных нам предками, началось еще в минувшем веке.
Крупнейшие русские писатели, композиторы, художники, зодчие обращаются к сокровищнице древнерусского искусства и черпая в ней мотивы для новых произведений, и создавая переложения-стилизации, и восстанавливая то, что казалось утраченным навсегда. А. Бородин был некогда воодушевлен «Словом о полку Игореве» и лучшие годы жизни посвятил созданию оперы «Князь Игорь», которая вот уже много десятилетий шествует по сценам мира. Вспомним М. Мусоргского, И. Стравинского и С. Рахманинова, обращавшихся столь плодотворно к нашей музыкальной старине.
Среди пионеров, почувствовавших глубину и красоту старого искусства, должен быть назван Николай Константинович Рерих, неустанно совершавший путешествия по древнерусским городам, много трудившийся в художественном гнезде — Талашкине, под Смоленском, где были созданы художественные ремесленные мастерские, ставившие целью возрождение русского народного творчества.
Живописные полотна Рериха во всем мире (в Европе, Азии, Америке) в последние десятилетия пользуются особенно большим успехом: выставочные залы с трудом вмещают посетителей, желающих приобщиться к миру прекрасного, неразрывно связанному с нашей историей. Леонид Леонов так оценил значение Рериха для современности: «В особенности люблю раннего Рериха — он для меня как бы полное сладостных и пророческих видений окно детства — собственно моего и — моего народа. И всегда были близки мне его мысли и мечтания о свободном от зла и непогоды, светлом и чистом человечестве, — но еще ближе его страх утерять некое вечное сокровище, которое мы постепенно, незаметно и запросто разучиваемся ценить».
Нельзя не гордиться тем, что наша страна поставила некогда подпись в числе других крупнейших стран мира под международной конвенцией, в основу которой был положен так называемый «пакт Рериха», обязывающий защищать и охранять памятники культуры, где бы они ни находились.
В основу книги легли впечатления от встреч с великими памятниками древнерусского искусства во время моих журналистских поездок на протяжении всей жизни. Я многим обязан тем авторам, которых читал, и тем людям, которые щедро делились со мной своими знаниями.
Иду путем Игоря
Что мне шумит, что мне звенит рано-рано перед зорями? Скоро, видимо, забрезжит рассвет. Звезды меркнут, и ветер сдувает с черной тверди светила — одно за другим. По небу несутся тревожные облака. Мне нынче опять видятся две зари: одна на востоке, ровная, ясная, золотящая по краям лиловую тучу, и другая на западе, похожая на окровавленное пожарище. Впрочем, эти две зари я вижу много недель подряд.
Счет дням давно потерян.
Мы идем днем и ночью.
Я забыл, когда мне приходилось спать.
Я иду по следам князя Игоря, героя древней лиро-эпической поэмы «Слово о полку Игореве». Ноги одеревенели в походе и кажутся мне чужими. Они напоминают сказочные сапоги-скороходы, что в одно прекрасное утро сбежали от хозяина. Надо идти вперед и поэтому о ногах не следует думать, — иначе они откажутся шагать. Стану размышлять совсем о другом. Еще раз проверю, не улетучились ли из памяти за эти месяцы строки, которые я еще в детские годы вытвердил наизусть. С трудом разжимая запекшиеся губы, я повторяю слова, что придают мне силу и бодрость. Слова сверкают перед глазами, как сказочный скатный жемчуг.
«Прыснуло море полночью, идут смерчи мглами… Погасли вечером зори. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит…»[1]
Неужели это написано восемь столетий назад? Неужели эти трепетные, полные внутренней энергии, живописующие слова произнесены человеком, чье имя затерялось в толстых летописных фолиантах с кожаными корешками? Неужели мы никогда не узнаем имя автора «Слова о полку Игореве»?
«Игорь спит, Игорь бдит…» Ведь это же сказано про меня или про моего друга, шагающего с вещевым мешком по пыльным дорогам войны. Ведь это у моего друга от многодневного бдения воспалены глаза. Это он — спит и не спит, это я — шагаю и не шагаю.
Вражеская оборона взломана. Передний край — выжженная снарядами «катюш» земля — далеко позади, мы днем и ночью преследуем убегающих к Днепру немецких оккупантов.
На десятки верст раскинулось безлесное пустынное пространство, поблескивающее островками полусожженного серебристого ковыля. Древняя степь, считавшаяся некогда окраиной Половецкого поля. Без труда можно представить, как на одиноких холмах пылали костры кочевий, чернели шатры и раздавалось дикое конское ржание.
Пожухлые степные травы расцветут весной. Прорастет омытая дождями зелень. Мы не увидим вешнюю пору. В небе гудят бомбардировщики. В нашу сторону пикирует назойливая «рама». Не знаю, дождемся ли мы рассвета. Не надо, не надо об этом думать. И я вслух говорю: «Что мне шумит, что мне звенит рано-рано перед зорями?»
Всю весну и лето того памятного сорок третьего года, глубоко Закопавшись в землю, выстроив блиндажи, доты и землянки, укрывшись в непроходимых брянских и курских лесах, мы простояли в обороне. Какие это были месяцы! После непрерывных скитаний — на вокзалах и в теплушках, на открытых машинах в лютые морозы, пешком по снежной целине — ночлег на одном месте воспринимался как дарованное судьбой счастье.
Месяцы окопного сидения врезались в память. Я видел тогда, как на полянах, на солнцепеке, осел снег, по тропинкам побежали ручьи и в конце марта над луговыми проталинами бубенцами зазвенели жаворонки. Какое той весной было синее-синее небо!
В. А. Фаворский. Иллюстрации к «Слову о полку Игореве».
Природа старалась вовсю, развертывая — что ни день — перед нами, словно свиток, разрисованный рукой волшебного мастера, свою нескончаемую красоту. Мы жадно впитывали ее, понимая, что для многих из нас завтра не наступит.
Короткой предлетней ночью, когда усердно заливались курские соловьи, мои одногодки-друзья ушли, натянув на себя плащ-палатки, в долину, повитую пеленой тумана. Они не вернулись из разведки. Они навсегда остались лежать в черной курской земле, обильно политой кровью на протяжении веков. На травянистых буграх лесного ручья появилось несколько могильных холмиков. За знакомой строкой «кровавые берега не добром были посеяны: посеяны костьми русских сынов» мне виделись близкие, родные лица…
Летом, когда стала поспевать земляника, неожиданно обнаружилось, что у нас даже есть свободное время. Несколько раз, поочередно сменяясь, мы ходили в дальнюю дубраву — во второй эшелон — смотреть фильм. Мы восприняли сюжет легкомысленной американской картины как нечто совершенно нереальное. В самых драматических местах смеялись и молчали тогда, когда должен был раздаваться гомерический хохот.
Полевая почта стала поступать постоянно. Многие солдаты завели бурную переписку с тылом. Получали письма от незнакомых девушек с фотокарточками и нежными клятвами. Письма читали вслух, сообща комментируя.
Мне из дому прислали перевитый веревкой пакет. Когда я открыл конверт, то ахнул от радости — передо мной лежало «Слово о полку Игореве». От древней эпической песни неожиданно повеяло домашним теплом, вспомнились школа и далекие, неизвестно где раскиданные военной грозой друзья по классу. Я сразу представил себе длинного, в коротких штанишках Алика Митюшина, имевшего привычку несколько щурить глаза: он был близорук. Алик никогда не расставался с книгами. Он превосходно читал по-немецки и по-французски, отлично музицировал и даже сам писал небольшие музыкальные пьесы. Но главной страстью Алика было «Слово о полку Игореве». Каждое утро, шагая по городским улицам в школу, я выслушивал его новые и новые доказательства того, что «Слово о полку Игореве» — памятник русской письменности двенадцатого века.
Ах, какие это были прогулки по тихим городским улочкам! Алик без конца высмеивал наукообразные переводы «Слова», толмачей, буквалистски воспроизводивших старинные слова, не заботившихся о духе поэмы. Во время этих прогулок до школы и из школы домой родилась наша мечта — совершить путешествие по следам героев «Слова о полку Игореве». Алик вычертил подробную и обстоятельную карту будущего похода.
Так предавался я воспоминаниям в землянке, держа в руках тоненькую книгу с текстом древнерусской поэмы. За полтора года, проведенные на фронте, я многое понял и многому научился.
У полярного путешественника Амундсена есть в книге о скитаниях среди льдов мудрая и простая мысль: «К холоду нельзя привыкнуть». Я не мог привыкнуть к тому, что Алик, узкоплечий, рослый, веселый, уже лежит, закопанный в братской могиле. И я никогда, никогда не услышу из его уст новых, наиболее точных переводов «Слова». И мы никогда не пройдем по следам князя Игоря.
Всю ночь я сижу в землянке, привязав к уху телефонную трубку. Я не могу даже задремать. Если прямо в ухо знакомый голос тихо скажет: «Туча», я должен мгновенно ответить: «Я — туча». На фронте нельзя говорить и даже думать о смерти. Она всегда с нами и можно не сомневаться, что «чей-нибудь уж близок час». Поэтому я думаю о разных разностях. Я думаю о поэме «Слово о полку Игореве».
Интересно все-таки, кто автор гениального произведения? Неужели во веки веков «Слово» останется анонимным? Неужели время навсегда надвинуло завесу на имя поэта, воспевшего Ярославну? Неужели соловей старого времени, принявший в свои руки вёщие струны Бояна, — наша неразрешимая загадка?
— Туча?
— Я — туча.
— Что делаешь?
— Читаю.
Это Володька Смирнов, дежурящий на коммутаторе дивизии, проверяет мою линию. Я чувствую по голосу, что нашему главному телефонисту скучно: глубокая ночь, на переднем крае — тишина, изредка нарушаемая ленивыми пулеметными очередями, на которые теперь никто не обращает внимания.
— Что ты читаешь?
— Слушай.
И я бросаю слова в телефонную трубку:
В городах затворены ворота. Приумолкло на Руси веселье. Смутен сон приснился Святославу.«Слово о полку Игореве» было написано тогда, когда на месте ныне многолюдных улиц Москвы шумело лесное урочище, не было еще храма Василия Блаженного, не было Кремля и не блестел золотой купол Ивана Великого. Еще не ходил за три моря тверской купец Афанасий Никитин, не горел в срубе неистовый протопоп Аввакум и не было еще на лесном острове северной сказки — Кижей, что пленят сердца художников будущих веков…
Землянка сотрясается от взрыва. Я со своим напарником Степаном Кузьминым бегу в кромешную тьму леса, чтобы связать, починить порванный взрывом телефонный кабель. Ведь связь существует не для того, чтобы я по телефону читал Володьке стихи.
В. А. Фаворский. Обложка к «Слову о полку Игореве».
В. А. Фаворский. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве».
Люди на переднем крае, лишенные связи, одиноки. Они один на один с врагом, который может напасть каждую минуту. Но, если у боевого охранения есть связь, оно непобедимо: с горсткой солдат на переднем крае вся часть, вся дивизия. Если связь в порядке, им всегда будет протянута рука помощи. Искать, скорей искать и устранить обрыв.
Но надо держать ухо востро. Были случаи, когда немцы специально перерезали наши провода и ждали, когда к ним в засаду попадет всегда спешащий связист. Поэтому мы прислушиваемся к каждому шороху. Кузьмин курит, прикрывая огонек цигарки рукой.
Разрывы то утихают, то возобновляются. Темноту леса озаряют вспышки.
Я тихо повторяю про себя стихи:
«Земля гудит, реки мутно текут, прах поля покрывает…»
— Что ты бормочешь? — сквозь зубы цедит Кузьмин. Он добродушно настроен. Я знаю, что, когда мы будем идти обратно, устранив обрыв, он расскажет мне несколько старых-старых анекдотов с «перцем», а я стану молчать, потому что не терплю его веселостей. Я нынче сужу опрометчиво, считая Кузьмина пожилым, скучным человеком. Единственное, что оправдывает меня, — это то, что человеку в восемнадцать лет свойственно превратно судить о возрасте и достоинстве старших. Зная, что будет рассказывать Кузьмин, я не знаю главного. Через несколько месяцев Кузьмин вынесет меня, истекающего кровью, с поля боя, а сам погибнет.
«Черная земля под копытами костьми была засеяна и кровью полита: горем взошли они по Русской земле».
Земляное наше житье кончилось в августе. Никогда не забуду, как над фиолетовыми и иссиня-черными облаками взвилась, распушив павлиний хвост, ракета. На секунду все замерло. Было слышно, как бьется в листве шмель. А потом огненное пылающее небо рухнуло на землю — в одно мгновенье ударили тысячи «катюш». Началась битва на Курской дуге. Как же было тут не вспомнить слова, словно написанные в наши дни?
«А мои-то куряне славные воины, под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, овраги ими знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены».
Взломав вражескую оборону, мы вырвались на Украину и погнали врага в междуречье Дона и Днепра.
Подсолнухи поворачивали черные головы навстречу солнцу; на дорогах стояла пыль, и в криницах вода была родниково-холодной и непередаваемо вкусной.
Такой приятной воды я потом уже не пил никогда.
Днем мы узнали, что нам приказано взять город Путивль.
Володя Смирнов услышал по телефону новость, которая вскоре облетела все роты: ночью будет лунное затмение. Было приказано не обращать на темноту никакого внимания и преследовать врага.
Как давно я не спал!
Но сегодня я и впрямь иду путем Игоря.
В жизни все бывает не так, как в отроческих снах. Я войду в Путивль. На городской стене меня встретит Ярославна. Непонятно, почему же, стоя на путивльской стене, она говорит о том, что полетит кукушкою по Дунаю. Ведь никакого Дуная под Путивлем нет — здесь течет река Сейм. А до Дуная нам еще идти и идти.
Видимо, Дунай понадобился автору «Слова» для того, чтобы подчеркнуть песенный характер плача Ярославны. Издавна Дунай был одной из любимых славянских рек и в песнях его именовали ласково, по-домашнему — Дунай-батюшка. Обращаться в серьезных жизненных случаях к Дунаю в ту пору, видимо, было так же естественно, как в наши дни к Волге.
Угощая из деревянного ковшика водой, хозяйка вчера жалобно вздохнула:
— Вечор зегичка плакала…
Оказывается, под Путивлем зегичкою зовут чибиса, украинскую чайку. В «Слове», помнится, сказано: «Полечу, рече, зегзицею по Дунаю…», т. е. речь идет о полете чайки над дунайскими волнами.
В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
Верно ли мы все переводим «зегзица» как «кукушка»?
Впрочем, на войне трудно было решать филологические тонкости.
На лунный диск надвигается черное пятно. Ночь все темнее и темнее. Я давно не спал и не хочу спать, потому что иду на свидание к Ярославне. Что я знаю о ней? Почему мне кажется, что я знаю о ней все, — ведь в поэме о ней сказано скупо, даже нет словесного портрета Ярославны? Почему же я так отчетливо представляю ее лицо, одежду, знаю слова, с которыми она встретит меня?
Я знаю о Ярославне больше, чем автор «Слова». И не потому, что я видел ее на сцене и слушал мелодии Бородина, в которых для Ярославны найдена глубокая музыкальная характеристика. И не потому, что я стоял возле многих живописных полотен, посвященных Ярославне, видел миниатюры, на которых палешане особенно любят изображать юную княгиню. Мое неоспоримое преимущество в том, что мне известно, какой облик примет Ярославна в столетиях.
Во время татарского ига ее зовут Авдотьей Рязаночкой. Это она, миновав леса, озера и реки, ходила в «землю басурманскую», вызволяла пленных из неволи; она — Антонида в период Смутного времени, благословившая своего отца Ивана Сусанина на ратный подвиг; она — старостиха Василиса в памятном 1812 году.
Поэт — наш современник — в пору Отечественной войны отлично выразил настроение фронтовиков: «В любой я бабе видел Ярославну, в ручье любом Непрядву узнавал».
Мы вошли в Путивль глубокой ночью. В городе не было ни огонька. Неприятель только что его покинул. Темные низкие домики прятались в густой зелени. Жителей не было видно. С Сейма веяло прохладой.
Мы остановились на мысе, между быстрой Путивлькой и Сеймом, на краю оврага. Вспомнилось, что здесь в двенадцатом веке — это я читал еще в довоенную пору — был детинец, укрепленное городище, на стенах которого плакала Ярославна об Игоре, взятом в плен половцами.
Тридцатиминутный привал на городском валу. Вдали неясно чернела старинная церковь, ее очертания лишь угадывались во мраке.
Потом резкий крик: «Выходи строиться!»
Вот и вся встреча с Путивлем.
И опять много дней я иду по следам князя Игоря.
…Вдалеке блещут синие воды Днепра, Днепра Словутича, что пробил каменные горы сквозь землю половецкую.
Мы стоим в старинном раскольничьем поселке Радуле на Днепре. Здесь рядом местечко Любеч, вошедшее навсегда в отечественную историю. В эпоху, предшествовавшую созданию «Слова о полку Игореве», в канун нашествия кочевников на Русь, здесь собрались князья, чтобы договориться о дружбе перед лицом грозной опасности. В Любече, а потом и в других местах в ту пору произошли события, которые потрясли современников. О них, конечно, хорошо знал автор «Слова». Известно, что в Любече в 1097 году князья порешили не враждовать меж собой: «Да ноне отселе имеемся в едино сердце». Но клятва была нарушена. Отважный князь Василько был вероломно схвачен, и храброму воину выкололи глаза.
Автор «Слова» рисовал печальную картину междоусобной братоубийственной борьбы:
Стонет Киев, тужит град Чернигов, Широко течет печаль по Руси…Таковы были игоревы времена.
Я гляжу на Днепр, на древние холмы за рекой, где гитлеровцы возвели укрепления, перед которыми знаменитые фортификационные сооружения нашего века кажутся игрушками. Еще одно мгновение, и заговорит могучий бог войны — артиллерия…
Скоро — переправа. Штурм начнется на рассвете.
* * *
…В научных кругах, а затем и среди студентов-филологов несколько лет назад распространился слух: обнаружено, что «Слово о полку Игореве» — подделка, что поэма, стилизованная на старинный лад, была написана в самом конце восемнадцатого века.
Слухи возникли при таких обстоятельствах. На одном из заседаний Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде выступил доктор исторических наук А. Зимин с обширным докладом, в котором доказывал, что «Слово» было написано в последней четверти восемнадцатого века. А. Зимин сказал, что, убирая это произведение из двенадцатого века, он дарит его восемнадцатому. По мнению А. Зимина, «Слово» написал ярославский архимандрит Иоиль Быковский, а Мусин-Пушкин объявил подделку поэмой двенадцатого века, ибо в екатерининскую эпоху она служила набатным призывом к завоеванию новых территорий на юге России. В современной научной периодике появилось несколько выступлений А. Зимина, была проведена специальная дискуссия. Точка зрения А. Зимина не встретила поддержки.
Ученый должен всегда отстаивать истину. Даже в том случае, если она не очень приятна, если она идет вразрез с мнениями авторитетов, с устоявшимися представлениями. Но, к разочарованию любителей сенсаций, доктор исторических наук А. Зимин не открыл ничего нового. Горячие головы, утверждавшие, что «Слово»— подделка, находились еще и в пушкинские времена.
В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
Пушкин, как известно, отстаивал подлинность «Слова», утверждая, что к моменту публикации произведения в России не было поэта, способного создать эпос такой художественной силы.
Вопрос о подлинности «Слова» обсуждался многократно. Достаточно сказать, что число научных работ, посвященных «Слову», перевалило за тысячу. Один исследователь даже грустно заметил, что «Слово» породило такую литературу, что ее прочесть в течение одной человеческой жизни невозможно. В каждой из работ в той или иной степени рассматривается проблема: что перед нами — подлинник или подделка? Но вопрос возникает вновь и вновь, несмотря на то, что все общепризнанные авторитеты утверждают подлинность произведения. В чем же дело?
В одной из работ выдающегося специалиста по древнерусской литературе Д. С. Лихачева сказано: «Никто никогда не спросит, фальшив ли лежащий на дороге булыжник, но жемчуг может оказаться фальшивым. „Слово о полку Игореве“ так хорошо, что хочется спросить себя: да может ли быть на свете такая красота? Драгоценный его блеск гипнотизирует, тревожит, возбуждает любопытство. Настоящее произведение большого искусства всегда кажется до известной степени загадочным, необъяснимым. Отчасти поэтому и в отношении „Слова“ время от времени возникал вопрос: да могло ли оно быть написано в двенадцатом веке?»
Нередко приходится слышать недоуменный вопрос: так ли уж это важно, когда написана поэма — в двенадцатом столетии или шесть веков спустя? Произведение хорошо, независимо от времени создания.
В. М. Васнецов. Богатыри. Фрагмент. Москва. ГТГ.
Дело обстоит не так просто, как это может показаться с первого взгляда. Приведу еще одно соображение Д. С. Лихачева: «Передатировать „Слово“ нельзя без ущерба для его идейной и эстетической ценности. В двенадцатом веке „Слово“ было произведением огромной идейной силы, произведением, призывавшим к единению, обличавшим усобицы князей. Его общественный пафос огромен, и только в связи с ним можно понять и его эстетическую ценность. В восемнадцатом веке это произведение оказалось бы литературной безделушкой — „пастиш“ (стилизацией), как утверждают одни, или служило бы „империализму“ Екатерины, как утверждают другие. В обоих случаях оно бы утратило значительную часть своей идейной и художественной ценности».
Истории известны несколько крупных литературных подделок. Так, английский поэт Джеймс Макферсон печатал в восемнадцатом столетии поэмы от имени древнешотландского барда Оссиана. Велико было разочарование любителей сентиментально-меланхолической старины, когда выяснилось, что творения Оссиана — талантливая мистификация. Аналогия далеко не всегда надежная помощница в деле установления истины. Методом аналогии можно доказать все что угодно. А ведь именно этот метод более всего воодушевляет старых и новых противников признания подлинности «Слова о полку Игореве».
Мусин-Пушкин приобрел рукопись «Слова» в Ярославском монастыре. Архимандритом в старом волжском городе в ту пору был Иоиль Быковский, происходивший родом, видимо, из Белоруссии, живший некогда и на Украине. Иоиль писал стихи на русском и польском языках, по-латыни. Правда, как отмечает сам Зимин, стихи Быковского «самые заурядные, яркого поэтического таланта в них не чувствуется». Возникает простейший вопрос: каким же образом человек, писавший посредственные стихи, мог вдруг создать гениальную поэму? На этот вопрос Зимин отвечает следующим образом: оказывается, «дар художественной стилизации может сочетаться с творческой беспомощностью при создании вполне самостоятельных произведений».
Но кто же у нас в литературе был блестящим стилизатором и творчески беспомощным человеком? Я затрудняюсь назвать фамилию. Мастера замечательных стилизаций — Пушкин, Алексей Кольцов, Лермонтов, А. К. Толстой, Некрасов, Лесков… Авторы посредственных стилизаций были беспомощны и в самостоятельных творениях. Кто помнит теперь о растопчинских листках, стилизованных в двенадцатом году под народный сказ? Кто читает бесчисленные былины-подделки, бывшие в моде в тридцатых годах нашего столетия? Они канули в Лету, их уже невозможно воспринимать всерьез.
Когда произносишь беспомощно-ходульные, казенно-риторические стихотворения Иоиля Быковского, то становится ясным, что этот человек отличался полной эстетической глухотой. Поэтому нельзя не согласиться, что глубоко прав выдающийся славист-филолог И. Н. Голенищев-Кутузов, сказавший: «Из всех кандидатов в российские Макферсоны архимандрит Иоиль представляется мне наименее удачливым. Сказать по правде, он мрачно бездарен, о чем свидетельствуют и его школьные вирши, и его нудные проповеди. Трудно представить себе, даже насилуя свое воображение, что дряхлый старец, не отличавшийся литературными талантами, написал „Слово о полку Игореве“. Историки и лингвисты должны были бы прислушаться к мнению не только филологов, но и поэтов и писателей, которым подобные идентификации не могут не показаться смешными…»
Противники подлинности «Слова» выдвигают доводы и идеологического порядка. Явное смущение вызывает двоеверие автора «Слова»— он обращается то к христианским святым, то к языческим идолам. Плач Ярославны построен на обращении к свергнутым языческим божествам; Игорю-князю бог, несомненно христианский, указывает путь домой, когда тот бежит от половцев. В поэме с одинаковым почтением упоминаются и Богородица Пирогощая, и Дева Обида, что «восплескала лебедиными крыльями на синем море». Как стало возможно такое удивительное сочетание.
Язычество и христианство на Руси причудливо уживались в сознании людей. Уживались не только в простом народе, но и среди знатных воинов-дружинников, многоопытных книжников. «Слово» далеко не единственный памятник двоеверия. Кому приходилось видеть каменные резные рельефы Дмитриевского собора, построенного во Владимире при Всеволоде Большое Гнездо, тот знает, что храм до половины покрыт еще во многом загадочными украшениями, где рядом с христианскими святыми благополучнейшим образом мирно соседствуют персонажи языческой мифологии. В общей композиции рельефов Дмитриевского собора есть ощущение органического единства человека с природой. Двоеверие — дополнительный и весьма веский довод в пользу подлинности «Слова», отразившего дух своей эпохи.
Нет анализа более точного, чем языковой. В самые смутные вопросы лингвистика нередко вносит математическую ясность. В «Слове» несколько раз упоминается певец Боян. Это именно он не соколов на стадо лебедей напускает, а опускает свои вещие персты на струны. В поэме говорится о Бояне, как о всем известном великом песнопевце, соловье старого времени. Летописи о Бояне молчат.
Св. Георгий. XII в. Успенский собор в Москве.
По старым хартиям мы можем даже проследить судьбу половца, помогавшего Игорю бежать из плена. О Бояне нам известно только по «Слову». Мимо этого странного обстоятельства не прошли противники подлинности «Слова». Они стали доказывать, что никогда на Руси и не было даже такого имени — Боян.
На стенах Софии Киевской в далекую старину часто выцарапывали записи: просьбы, пожелания, жалобы, благодарности. Столетия скрыли эти надписи, граффити, от глаз. Но вот к старым стенам прикоснулась рука исследователя. Оказывается, стены могут иметь не только уши, но и язык. По мере того как публиковали граффити, составился список ранее неизвестных русских имен одиннадцатого-двенадцатого столетий. В этом списке мы находим и имя Боян. Так появилось еще одно, пусть небольшое, но ценное свидетельство.
Н. К. Рерих. Изборск. Башни.
В августе 1975 года в периодике промелькнуло сообщение о найденной очередной новгородской бересте-записке, относящейся к одиннадцатому веку. Когда расшифровали запись, то выяснилось, что она содержит большое число тогдашних имен, среди которых есть и имя Боян. Все, что открывают в последние годы исследователи, подтверждает подлинность и древность Игоревой песни.
Можно не сомневаться, что постижение русской книжной старины приведет ко многим интересным, а может быть и выдающимся, находкам. Полное раскрытие биографии «Слова», несмотря на его почтенный возраст, принадлежит будущему. В последнее время предпринимаются действенные попытки приподнять завесу анонимности и назвать имя автора. Правда, пока ни одну из многочисленных гипотез имен нельзя признать убедительной. Например, писатель Иван Новиков считал, что поэму создал сын тысяцкого Рагуила, бывшего вместе с Игорем в плену. Ивану Новикову возражает специалист по древнерусскому оружию и старым походам В. Г. Федоров. Последний доказывает, что автором «Слова» был сам Рагуил. Вот что пишет В. Г. Федоров: «Весь вопрос о личности автора „Слова“ сводится к решению вопроса о том, можно ли в данном случае говорить только о высокой одаренности его. Следует признать, что автор „Слова“, помимо одаренности, должен был обладать еще и большим жизненным опытом, глубоким знанием не только военного дела, но и истории Руси».
Можно не сомневаться, что новые и новые поколения будут обращаться к гениальному памятнику древнерусской литературы, черпать в нем новые духовные силы. Недаром крупные поэты нашего времени с любовью делают поэтические переводы «Слова». Вслед за отличным поэтическим пересказом «Слова», сделанным Николаем Заболоцким, поэму перевел стихами Николай Рыленков. Он отлично выразил всеобщее отношение к поэме, сказав: «Мне сейчас трудно представить то время, когда я не знал о существовании „Слова о полку Игореве“. Кажется, что оно сопутствует мне всю жизнь».
* * *
Кто наиважнейший герой «Слова о полку Игореве»?
Князь Игорь? Нет. О нем говорится больше, чем о других князьях, но почти всегда в любовно-укоризненном тоне. Игорев полк? Но последний потерпел поражение, открыв дорогу Степи. Ярославна? Она прекрасна, трогательна, героична, но — лицо все-таки эпизодическое, персонаж лучшей, но единственной главы поэмы. Святослав Киевский? Он — высказыватель суждений по поводу происходящих событий; он — действует, но как хор в античной трагедии. Он — второе поэтическое «я», недаром его речь, именуемая «златым словом», незаметно переходит в авторское обращение к князьям.
Подлинный герой поэмы — Русская земля. Ей певец отдает весь жар сердца, безмерную любовь, сыновнюю привязанность и верность.
Княжеские дружины для Автора — «русские сыны», «русские полки», которых ждут «жены русские». Храбрые воины, вспоминаемые четыре раза, — «русичи». В контексте поэмы это слово имеет эпическое звучание, оно словно навечно высечено на граните: «…поля…храбрии Русици преградиша чрълеными щиты». Или: «…ту пиръ докончаша храбрии русичи».
Автор — незаурядная фигура Руси домонгольской; его патриотический пафос не был порождением личностных представлений и убеждений. Ценность поэмы для того времени состояла в том, что она высказывала в непревзойденной художественной форме то, что зрело в умах лучших людей эпохи. Так, в Ипатьевской летописи под 1168 годом князь восклицает: «Нам дай бог за крестьян и за Русскую землю головы свои сложити», под 1179 годом в этом же своде книжник следующим образом оценил дела и подвиги Мстислава Храброго: «…всегда бо то спешать ся умерети за Русскую землю и за христианы».
В «Слове» земля Русская предстает в своей исторической и природной красоте. Глазами Автора народ словно впервые взглянул на родные и давно обжитые места; по великим рекам Дунаю и Днепру славяне, начавшие исторический путь между Вислой, Карпатами, Одрой и Балтийским морем, селились с «веков Трояновых», то есть с античных пор. Для русских людей двенадцатого века — это была земля отчич и дедич, обильно политая кровью предков, связанная со сладостными припоминаниями минувшего. Раскинувшаяся на необъятных просторах — от Волхова до Черного моря — Русская земля была «украсно украшена» городами, селами, крепостями. Достаточно назвать такие архитектурные жемчужины, как Киев, Чернигов, Новгород Великий, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Владимир. Скандинавские хроники именовали Русскую землю страной городов. Новейшие раскопки значительно точнее определяют возраст крепостей, одетых камнем, стороживших землю, ее пахарей и ремесленный люд. Уже в девятом веке на мысу, образованном Волховом и Ладожкой, стояла могучая стена, слепленная из каменных плит без раствора. Ладожская крепость не была одиноким каменным богатырем. В древнем Изборске откопана стена, сложенная не позднее десятого века. Но древнее замков и рвов, прочнее камня оказалось народное слово, записанное летописцами. Первые древнерусские книжники, принесшие в летописи многовековую традицию дописьменной литературы, с гордостью повествовали о том, что апостол Андрей, поднявшись вверх по Днепру, посмотрев на Киевские горы, предсказал, что здесь «великий город будет». В начальную летопись попало и горделивое историческое предание о том, как Олег ходил в поход и повесил щит на вратах Царьграда в знак победы.
Киев обликом и богатством — это отмечали и иноземные путешественники — мог тягаться с Константинополем. Византийская столица была в ту пору всесветным городом, и сравнительно молодому Киеву было лестно с ней соперничать. Свое величие Киев подчеркивал, давая храмам названия царьградских святынь. На днепровских холмах, как на берегу далекого Босфора, сияли Золотые ворота, был сооружен грандиозный Софийский собор, церкви Ирины и Георгия Победоносца. Между папским Римом и православным Константинополем происходил яростный спор из-за далеких восточных славян. Византия простирала властную руку из-за моря, считая, что народ, принявший христианство, должен подчиняться ее законам. Рим же был невероятно далек. Борьба за церковную самостоятельность, утверждение Ярославом Мудрым в Киеве особой митрополии Константинопольского патриархата, создание Летописного свода — все это составляло эпоху культурной и идеологической жизни страны, связанную со становлением национального самосознания.
Н. К. Рерих. Изборск. Крест на Труворовом городище.
Академик Б. Д. Греков писал: «Летописи — это один из самых ярких показателей высоты древнерусской культуры. Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов, которые вместе с русским народом были объединены в одно Киевское русское государство». В «Повести временных лет» передается обращение к князьям — выстраданное и выношенное поколениями, в котором народ умоляет не губить раздорами Русскую землю, «приобретенную вами и дедами трудом великим и храбростью».
Архангел Гавриил («Ангел Златые власы»). XII в.
В откровенно поучительной форме здесь говорилось о том же, что в Игоревой песни высказывалось художественно.
В наиболее полном виде мысли о месте русского народа среди других народов мира выражены в «Слове о законе и благодати» Илариона — первого Киевского митрополита из русских, жившего в одиннадцатом веке. Иларион не просто «от себя» сочинил проповедь, а говорил «от всея земли нашия», просветленной христианством, которое равно, словно солнце, обогревает все народы, в том числе и русский, — «ведомый и слышимый» во всем мире. Есть предположение, что Иларион произносил «Слово о законе и благодати» в только что отстроенном Софийском соборе, в присутствии семьи Ярослава Мудрого.
Иларион был неутомимым борцом за единство родной земли. Вспоминая великого князя Владимира, Киевский митрополит выдвигал идею о единой Руси как высокую гражданственную цель. В своей «Молитве», получившей широкое рукописное бытование, он просил бога: «Пока стоит мир, не наводи на нас напасти искушения, не предавай нас в руки чужих, чтобы не прослыл твой город плененным, а стадо твое — пришельцами в земле несвоей». И далее: «Продолжи милость твою на людях твоих, ратные прогоняя; мир утверди, врагов укроти, в голод дай хороший урожай, сделай наших владык грозными для соседей, бояр умудри, города расшири». Перед нами — обширная программа действий, которую выдвигал перед своими современниками Иларион.
Можно сказать, что Русь выросла и закалилась в борьбе со Степью, где кочевые племена, поглощая одно другое, жили военной добычей. В средневековом мире отношения между народами нередко определялись брачными союзами. Южнорусские князья, пытаясь сдержать степняков, отдавали в половецкие ханские семьи своих дочерей. Нелегкой была судьба женщины, попавшей из княжеских хором в кочевую кибитку, отторгнутой от родной среды, сменившей город на Поле. Но беда была и в другом. Брачные узы не сдерживали степняков. Зятю ничего не стоило привести в пределы князя-свойственника своих людей, разграбить, захватить добычу и пленных и выжечь все, что попадалось на пути.
Обороняясь, а нередко переходя в наступление, Русь отстаивала и народ, и государственность, и свою молодую, несомненно незаурядную, культуру, выполняя роль щита Европы на Востоке.
Н. К. Рерих. Прокопий Праведный за неведомых молится.
С такой гордостью вспоминается в Игоревой песни «поход Святослава» — грозного и великого, который, наступая на землю Половецкую, притоптал холмы и яруги, взмутил реки и озера, иссушил потоки и болота, пленил хана Кобяка. Автор прекрасно понимал международное значение борьбы со Степью и отметил, что успехам Святослава были рады в чужих странах. Во времена «Слова» свежи, конечно, были в памяти победоносные походы Владимира Мономаха, нанесшего кочевникам сокрушительные удары, испившего, как отметил летописец, «золотым шеломом синего Дону».
Наступила невеселая година, когда, по словам Игорева певца, стал брат оспаривать брата, и стали князья про малое «это великое» говорить. Из-за усобиц враги со всех стран приходили с победами на землю Русскую. Автор не просто вспоминает о минувших победах, не только скорбит о несчастьях современности, постигших Русскую землю. Называя князей и военачальников по имени, поэт призывает встать за землю Русскую… Это обращение повторяется в поэме, имея целенаправленный смысл.
«Как известно, в слова „Русская земля“, — пишет академик Б. А. Рыбаков, — средневековые авторы вкладывали два различных понятия: во-первых, так называли часть лесостепного пространства на юге Руси от Киева до Курска; во-вторых, так постепенно стали называть всю совокупность восточнославянских земель, территорию древнерусской народности, все государственное пространство Киевской Руси от степей до Ледовитого океана».
Важно то, что для Автора «Русская земля» — это не только Киев и южная степь. В понятие включаются все края, населенные русским народом, отражаются представления, прочно сложившиеся в умах современников. Академик Б. А. Рыбаков отметил, что не знает лучшего обозначения географических границ Русской земли, чем дано в «Слове о погибели…», возникшем, по мнению ряда исследователей, под непосредственным влиянием Игоревой песни. Перечисляя народы и местности — от угор до Дышащего моря, от черемис до мордвы, «Слово о погибели…» с гордостью отмечало, что «все покорено было богом крестияньскому языку». Мысль о былом величии Русской земли, связанная и с пространственными представлениями, входит составной частью в миросозерцание Поэта двенадцатого века.
Внимательное вглядывание в обстановку — политическую и военную— 1185 года, убеждает, что Автор доподлинно представлял, что происходило повсеместно в Русской земле, был прекрасно осведомлен о княжеских взаимоотношениях, дипломатических, геральдических и семейных делах, знал о крестоцелованиях и раздорах, вникал в тактику и стратегию Поля и т. д. Существует даже предположение, что «Слово», произнесенное или спетое на встрече князей, заставило их на несколько лет прекратить распри и зорко следить за происками кочевников, то есть дало краткую военную передышку.
Певец «Слова», соколиным взором осматривая все края родной земли, погружаясь в былые века, был деятельным сыном бурного времени, знал все радости, скорби, поражения и победы своих лет.
Он первым избрал главным героем произведения Русскую землю, положив начало героической традиции, живущей века.
Рядом с образом Родины — национальным, историческим, географическим — живет в «Слове о полку Игореве» многообразный лик природы, неотделимый и неотрывный от всей отчей земли. Ощущением первозданного мира, — едва тронутого рукой человека, — проникнуто все произведение. Солнце, вода, ветер, степь, лес, молнии такие же полноправные герои «Слова», как воины, князья, дружины, пахари, жены, мифические существа. Каждый сюжетный ход в поэме находит одновременный отклик в природе. Она радуется, негодует, ликует, предвещает победу или поражение, никнет от жалости, она — скорбна и нежна, гневна и элегична. Она — поет, шепчет, бьет грозой, заливается птахой… Трудно назвать еще другое произведение, где бы в таком нерасторжимом единстве выступал мир природы и мир человека. В окружающем мире, как и среди людей, действуют две противостоящие силы — совершенно добрые или совершенно злые. В «Слове» мы присутствуем при чуде рождения того чувства природы, которое столетия спустя найдет свое полное выражение в тютчевской поэтической формуле: «Не то, что мните вы, природа; не слепок, не бездушный лик, — в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык…»
Присмотримся к облику и характеру степи, в которой развертываются основные действия похода. Даже сравнительно недавно — в минувшем веке — южная степь потрясала воображение художников от Гоголя до Чехова. Народ воспевал «степовое раздолье», но по тяжкому опыту знал, что огромное, поросшее ковылем пространство таит и немалую опасность, угрозу путникам. Отсюда бытовавшая поговорка-предостережение: степь леса не лучше.
Одинокой песчинкой чувствовало себя войско, пришедшее в нескончаемое безлюдье. Даже во времена молодого Ивана Бунина при виде степного тракта рождалось ощущение заброшенности: «Много пустынных дорог на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать… — Тут на нас в старину несметные татары шли. — А давно? — Больше тысячи лет!» («Муравский шлях»).
В дни «Слова» безлесая пустошь — бескрайная зеленая стихия, великая и таинственная, — Незнаемое поле, подобное океану. Идущую по дороге рать степи встречают ревом грозы, воем волков по оврагам, клекотом орлов; рать слышит, как лисицы брешут на красные щиты. Ночью степь оглашают «щекотом» соловьи, утром дружину будит говор галок… Круглые сутки степь звучит, говорит ковыльной речью. Поэт любит символический полевой пейзаж, когда сама природа, — «дружелюбная» к «своим», — пытается предупредить храбрых витязей о предстоящем побоище. Издалека видны меняющиеся краски — «кровавые зори свет возвещают», «черные тучи с моря идут», «трепещут синие молнии». Дождь, пришедший с Дона, сыплет на войско стрелами… Войско углубляется в Незнаемое поле, и начинается бранная страда. Печально-отрешенный вид вечерней и ночной степи утром меняется — она само действие: «земля гудит, реки мутно текут, пыль поля покрывает, стяги говорят…»
В пору бегства Игоря — при всем драматизме повествования — наш взгляд все-таки останавливается на степных реках, стелющих зеленую траву на песчаных берегах, где в тростниковых зарослях кишмя кишат лебеди, гоголи, утки, носятся чайки. Все отмечено острой живописной выразительностью, напряженным динамизмом, — это, кстати говоря, дало в наши дни живописцам и графикам богатейшие возможности увидеть и воспроизвести изначальный степной и курганный пейзаж. Его островки, не знавшие никогда ни сохи, ни плуга, уцелели поныне на курских просторах. Поэт острым всевидящим глазом приметил степное бездорожье — ведь ковыль в те времена, росший по пояс человеку, опьянявший ароматными запахами, переплетался с низкорослым кустарником, образуя непролазные чащобы. Недаром половцы бегут к Дону «неготовыми дорогами». Вполне понятно, что по таким путям было невозможно продвигаться бесшумно — телеги издают скрип, напоминающий крики испуганных лебедей.
При чтении все подробности, обильно рассыпанные по произведению, складываются в звучную картину степи — законченную, целостную, выразительную. Ее невольно хочется назвать достоверно-поэтической. Степная пыль, лисицы, брешущие на воинов, галочный говор, тучи, прорезаемые молниями, дичь, избиваемая для питания, соловьиный щекот, кричащие повозки — все это приближает нас к поэзии природы, живущей в красках и запахах в произведениях Гоголя, Шолохова, Леонова. В пейзажах «Тихого Дона» возникает далекая, но явственно ощутимая перекличка с Игоревой песнью: «Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в вышине, в небесной крепи плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду. Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса».
Можно сказать, что создатель «Слова», сведя воедино традиции дописьменной литературы, фольклор и книжность своего времени, передал свое обостренное и трепетное чувство природы далеким потомкам.
* * *
Поразительно знание животных, зверей и птиц, о которых в поэме говорится с охотничьим пониманием.
Издавна соколиная охота — любимейшая забава, летняя потеха, спорт, промысел на Руси. От Гостомысловых времен до наших дней, с гордостью помнящих еще о том, что «славна Москва старинною охотой соколиною». Князья — киевские, владимирские, московские — ее так любили, что забывали за ней о всех делах и продолжали «болеть» охотой чуть не на смертном одре. С изображением птиц мы встречаемся в самом начале «Слова»: «Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей…» Эта строка примечательна, ибо она — первая по времени «охотничья сцена» в литературе; она напоминает об излюбленных персонажах славянского фольклора — соколе и лебеде. Автор «Слова» также отдает им жар сердца, сплетая фольклорную память с личными непосредственными наблюдениями.
Для тогдашних слушателей и сокол и лебедь были привычными, может быть даже несколько примелькавшимися упоминаниями в песенных формах речи. Поэт заставляет их зазвучать с неожиданной и смелой новизной. Соколы в данном случае — это вещие персты Бояна, опускаемые на живые струны, а стадо лебедей — это струны, которые князьям «славу рокотаху». Я уже упоминал об уподоблении тележного скрипа кликам лебедей. После несчастного сражения Игоря мы видим Деву Обиду, расплескивающую лебедиными крылами синее море, символизирующую горе, пришедшее на Русскую землю. Потом мы встречаемся снова с охотничьей метафорой: «О, далече зайде соколъ, птиць бья, — къ морю!» Так оплакивает Поэт храброе Игорево войско, которое нельзя воскресить. Мудрые бояре, истолковывая сон Святослава, сравнивают Игоря и Всеволода, потерпевших поражение, с двумя соколами, слетевшими с золотого отчего престола.
В поэме Автор «поворачивает» образ Сокола, высвечивая его все с новых и новых сторон. Есть специальный охотничий термин — «в мытях», обозначающий повзрослевшую птицу, линяющую или перелинявшую, приобретающую взрослое оперение. Такой сокол обладает молодой и яростной, силой, он может отпугнуть от гнезда и даже более сильного противника. Это превосходно знал Поэт, заметивший: «Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнезда своего въ обиду». Еще один выразительный штрих, увиденный острым профессионально-охотничьим взглядом. Так, шаг за шагом обогащается Игорева Соколиана. Примечательно, что в позднем (XVII век) списке повести об Акире встречается вставка, напоминающая изречение Игоревой песни: «Егда бо сокол трех мытей бывает, он не дастся с гнезда своего взяти».
М. А. Врубель. Шестикрылый серафим.
Конечно, не исключено, что перед нами авторский пересказ широко бытовавшего охотничьего выражения, бывшего долгие времена всем привычным.
Споры в нашей и зарубежной научной печати породило определение: «не худа гнезда шестокрилци», встречающееся, помимо «Слова» в «Изборнике» 1076 года. Возникла мысль, что речь идет о шестикрылом ангеле (вспомним хотя бы знаменитое пушкинское — «и шестикрылый серафим на перепутьи мне явился»). Высказано было соображение также о том, что Поэт имеет в виду сокола, чей «летательный аппарат», если наблюдать сверху, как бы состоит из шести частей. Есть еще и такие соображения: во времена «Слова» понятия шестокрыл и шестокрыльно обозначали одинаково библейского Серафима, быстрого сокола и, наконец, быстрого удалого витязя. В южнославянских сказаниях и песенном фольклоре встречается образ шестикрылого сокола, символизирующего быстроту, смелость и благородство. В этом-то значении, пожалуй, всего скорее и вспоминал Поэт попавшее в русскую книжность древнебалканское определение. Автор «Слова», как видим, не употреблял ни одного выражения зря, ради красного говорения, попусту, — все в произведении имело смысл, глубокие корни, если только не было испорчено позднее малоосмысленной перепиской текста.
В сцене бегства из плена Игорь, стремящийся со спутниками уйти от погони, уподобляется соколу, а его попутчик — половец Овлур (или Влур) сравнивается с волком. В последний раз излюбленный образ сокола возникает в разговоре Гзака с Кончаком, едущих по Игореву следу. Примечательно, что «соколиная беседа» происходит под гомон птиц. Молчат «враждебные» Игорю пернатые — вороны, сороки, галки (обычно эти птицы и в фольклоре олицетворяют враждебное начало), зато стучат дятлы, распевают веселые песни соловьи. Гзак предлагает в отместку за бегство сокола расстрелять соколича, то есть сына Игоря, оставшегося в плену. Кончак же отвечает, что если сокол к гнезду летит, то лучше «соколца опутаеве красною дивицею». Браки между знатными русскими и половецкими семьями, как я уже сказал, были довольно распространенными. Кончак показывает себя в разговоре более мстительным и недоверчивым, замечая: «Аще его опутаеве красною девицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны девице, то почнутъ наю птици бити въ поле Половецкомъ».
Соколиный диалог в поэме — удивительная по красоте и образности сцена.
Читая «Слово», убеждаешься, что Автор знает о царстве пернатых не понаслышке. Можно не сомневаться, что Поэту не раз приходилось выезжать во чисто поле, наблюдая за «полетом сокола под мглами», принимать непосредственное участие в соколиной охоте.
Народная традиция поэтизации сокола и соколиной охоты, кстати говоря, дожила до семнадцатого столетия, завершившись восторженным гимном любимейшей на Руси потехе. Я говорю, разумеется, об «Уряднике сокольничьего пути», в котором о церемонии охоты повествуется восторженно и красочно: «Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лёт. Премудро же челига соколья добыча и лёт… Будучи охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою зело потешно, и угодно, и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякия». Так, еще во времена Алексея Михайловича соколиная охота рассматривалась как целебное средство от душевных невзгод. Да и позднее, в девятнадцатом веке, образ парящего в поднебесье сокола воодушевлял Аксакова, а в наши дни Пришвина и Соколова-Микитова, чьи охотничьи страницы принадлежат к наилучшим в литературе.
Так протягивается золотая узорчатая цепочка — традиция от двенадцатого столетия и к нашим дням.
* * *
Проследим отношение Автора к солнцу, месяцу, смене дня и ночи, ветру, небесным явлениям, ко всему мироустройству.
Средневековый русский человек, еще не забывший о язычестве христианин, каким был создатель поэмы, глядел на природу с молодой радостной влюбленностью. Все или почти все, что происходило на небе, в воздушной и водной стихии, кроме самоочевидного значения, носило еще другой, тайный, символический смысл, нуждавшийся в угадывании.
Едва ли человек таких всесторонних познаний, каким являлся создатель «Слова», мог не читать распространеннейшую византийскую книгу «Христианская топография» Космы Индикоплова (то есть плавателя в Индию), являвшуюся для европейцев основным источником познаний устройства Вселенной. По Индикоплову, небосвод опирается на стену, возвышающуюся в виде двойной арки над плоской землей, окруженной океаном. Движением светил — с четвертой сферы небесного царства — управляют огненные ангелы, они и будут продолжать делать это до кончины мира, когда звезды спадут с неба и «времени больше не будет».
Христианские («книжные») представления уживались в сознании вчерашних язычников с верой в очеловеченную природу, в то, что мир и человек во всем подобны друг другу, они находятся в постоянном взаимодействии.
«Слово» пронизано символическим — христианско-языческим — восприятием. Уже в самом начале похода Игорь предупреждается, что его ждут несчастья. Автор прямо называет тьму, заволокшую солнце, «знамением», то есть небесным знаком, которого не послушался герой. Такова первая — предупреждающая и тревожная — встреча с солнцем. Неодолимое желание испить шеломом Дону оказалось сильнее небесного предупреждения. Киевская летопись (Ипатьевский список), повествуя об Игоревом походе, также подробно останавливается на эпизоде затменья. Летописец рассказывает, как Игорь посмотрел на небо «и виде солнце стояще яко месяцъ. И рече бояромъ и дружине своей: „Видите ли, что знамение се?“ Естественно, что вопрошенные ответили: „Не на добро знамение се“. Весь этот, несомненно, бывший разговор, записанный „документально“, звучит с большой бытовой достоверностью. В Игоревой песни бесчисленные споры вызвало солнце, помрачневшее вроде бы дважды. У художника свои законы.
Возможно, на мой взгляд, и другое прочтение спорного места. Игорь едет по полю, помня о затмении, с опаской поглядывая на солнце. Оно в степи садится так же быстро, как в море, опускаясь за горизонт. Наступающая вечерняя тьма с ее тревожными звуками и пугает Игоря. В поэме сказано в двух соседствующих фразах о том, что солнце тьмою путь застилало, ночь грозила птичьими криками… Так надо ли считать, что речь идет о втором затмении? Быть может, здесь тьма не „сверхъестественная“, а обычная, предвечерняя, ночная?
В произведении рисуются новые и новые космогонические картины, последовательно развивающие действие и показывающие состояние героев, их страсти, надежды, борьбу, горечь. Каждая краска не только светится, но имеет смысл, как икона или фреска.
Вслед за радостным рассветом дня победы наступает горестное утро, когда половецкое Поле было обильно полито русской кровью. Вид неба — как много тогда говорил он человеку! Насыщенное резко контрастными красками, небо напряженно-тревожно, скорее страшно: „…велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии“.
Четыре солнца — это, конечно, четыре князя. Во всей поэме нет более драматического пейзажа! Небесным светилам здесь отведена чисто символическая роль. Зато все остальные детали предельно достоверны: кровавые зори, молнии, трепещущие в синих тучах… Они-то и делают реальными четыре символических солнца, заставляют их служить общей художественной идее. Поэтому черные тучи, идущие с моря, не просто фон для развертывания сюжета, — они входят в движение событий. Тучи движутся, затмевая славу солнц-князей. Символы и реальность переплетаются, образуя единый метафорический сплав.
Живописная космогоническая картина встречает нас в сне Святослава, когда бояре, истолковывая значение увиденного князем сна, говорят, что два солнца померкли, багряные столпы погасли и в море погрузились… Не будем здесь угадывать, кого из исторических лиц имел в виду Автор, представим зрительно картину, нарисованную художником. Увидим багряные столпы, погружающиеся в глубину морскую, и гаснущие за ними молодые месяцы, когда тьма свет покрыла. Несколькими словесными штрихами, достойными Дантова пера, создается неотразимо-впечатляющая сцена кончины мира.
Там, где в произведении идет поочередное обращение к князьям, Автор, отдав должное храбрости и мечам своих современников, горестно восклицал: „…Игорю, утръпе солнцю светъ, а древо не бологомъ листвие срони… Игорева, храбраго плъку не кресити!“, то есть Игорю померк солнца свет, дерево не добром листву сронило, и теперь Игорев храбрый полк не воскресить. Перед глазами возникают два графических символа, перекликающихся между собой, — помраченное (быть может — „черное“) солнце и оголенное, то есть лишенное листвы, дерево. По-воински суровый рисунок-образ воспринимается как памятник, вознесенный создателем поэмы над останками безымянных воинов, полегших в чистом поле.
Багряные столпы, погружающиеся в море, померкшее солнце и дерево, уронившее листву, — все это производит впечатление близящегося, вот-вот наступающего конца, о котором много толковали в двенадцатом веке апокрифы. На молодую, христианизированную Русь неизгладимое впечатление произвел образ богородицы, сошедшей в ад, увидевшей „тьму великую“ и мучения тех, кто „мраком злым одержимы суть“. Не исключено также, что „Слово“ опиралось, как и во многих других случаях, в своей апокалипсической метафоричности на народную фантазию.
Возвеличение солнца мы находим в плаче Ярославны, когда тоскующая на городской стене одинокая женщина поочередно обращается с причитаниями к природным стихиям. К верховному языческому божеству тоскующая княгиня обращается с таинственными словами: „Светлое и тресветлое слънце!“ Исследователи проводят параллель с образом-метафорой, встречающейся в знаменитом тогда сборнике — „Шестодневе“ Иоанна Экзарха болгарского, где говорится: „Тремя светы сияюще“. „Интересно отметить, — пишет Б. В. Сапунов, — что Ярославна призывает на помощь не персонифицированных богов официального пантеона Владимира, а тех народных богов, которым „отай“ молились русские люди еще в течение нескольких столетий после принятия христианства. Ярославна обращалась не к Хорсу или Даждьбогу, а прямо к Солнцу“. В плаче — непосредственное смешение старой и новой веры. Ярославна не столько молит, сколько упрекает Солнце, которое всем тепло и красно, но только не милостиво к Игореву войску.
В последний раз мы встречаемся в произведении с Солнцем — радостно светящимся на небе, торжествующим вместе с градами и странами по поводу возвращения Игоря.
Автор показал нам Солнце так, как воспринимали его герои в предчувствии горя, в пору бедствий и в радости. Отношение к Солнцу соединило в себе чувство Вселенной и чувство Земли, неразделимо связанные между собой.
* * *
Если Солнце — могучее и, скорее, милостивое божество, то образ Ветра или Ветров носит, пожалуй, враждебный характер. После того как Русская земля оказалась за холмом, первое, что встречает в поле „Олегово храброе гнездо“, — это ветры, внуки Стрибога, которые веют с моря стрелами на Игоревы полки. Дальше следует сцена окружения воинов половцами, и получается, что первыми действие открывают ветры. Не потому ли Ярославна, начиная доверительный разговор с природными стихиями, высказав мечту о том, что она утрет князю „кровавыя раны“, тотчас же обращается к Ветру-ветриле с тягостными упреками? Они — эти упреки — звучат довольно резко, и если к Реке и Солнцу высказываются просьбы, то смысл речей к Ветру сводится к вопросу: „Чему, господине, насильно вееши?“ В плаче проступает в этом месте его заклинательная сторона. В магических народных формулах обращения к ветру или его упоминание довольно часты: „На море на Океане… живут три брата, три ветра — один северный, другой восточный третий западный“. Заговоры были связаны с наиболее древней верой в силу и могущество слова.
Поэтическое же „ветрило“ издавна на Руси употреблялось в смысле „парус“. В этом живом значении оно бытовало еще в начале девятнадцатого века. Вспомним стихи Жуковского: „Не белеет ли ветрило, не плывут ли корабли?“ По-видимому, в разговорной речи в двенадцатом веке ветер — сильный и порывистый — еще можно было называть ветрилом, хотя не исключено, что мы имеем дело с необычайным словоупотреблением, художественным переосмыслением. Разговорная речь знает употребление слова „ветер“ и в смысле буря, непогода, ураган. Про степняков еще в минувшем веке говорили: „Киргиз в степи и ветер“, то есть скроется, не найдешь.
Единственно безразличное, не окрашенное чувственным отношением — в разговоре Игоря с Донцом — упоминание ветра в смысле воздуха.
В остальных случаях ветер — неуправляемая стихия — не приносит героям ничего хорошего.
* * *
Заметное место в „Слове“ отведено воде, волнам, струям, рекам, большим и малым озерам, болотным топям, водоплавающей дичи, морю, речным и морским берегам. Отношение к воде совсем иное, чем к ветру. Устная языческая традиция, как известно, разделяла воду на живую и мертвую, могущую оживить и умертвить; мертвая вода сращивает части изрубленного человека или коря, живая вода затем их оживляет — этот мотив постоянно проходит в волшебных сказках. Вода может обратить человека в животное; отогнать нечистые силы, возвратить молодость и зрение; залить огонь и утопить врагов — отношение к ней полно манящей колдовской таинственности. Вода могущественна, но надо уметь ее скрытой силой пользоваться, иначе — беда.
Заветная цель Игоря — „испити шеломомь Дону“. Об этом пламенно говорит князь в начале похода. Почти буквально повторяют фразу бояре-советники, истолковывая сон Святослава Киевского. Слава же последнего по поэме покоится на том, что, наступив на землю Половецкую, он действовал как богатырь эпоса. Святослав не только притоптал холмы и яруги, но — это говорит о его волшебной силе — взмутил реки, иссушил потоки и озера. Но даже этот былинный подвиг отходит на второй план перед исполинской силой и могуществом Всеволода Большое Гнездо. Под стать ему только Галицкий Осмомысл, что затворил железными полками ворота Дунаю. Там, где заходит речь об отношении героев к воде, Автор не жалеет поэтических преувеличений.
Реки разливаются не только силой, но и дружелюбием или враждебностью к героям. Каяла-река, текущая в половецком пространстве, — на ее дно после поражения Игоря погрузилось русское золото, то есть богатство. Споры о названии реки Каялы носят затяжной характер. Реки с таким названием встречаются в тюркской топонимике. Исследователи же в последнее время все чаще склоняются к мысли, что название метафорично, что Каяла происходит от глагола „каяти“, то есть река покаяния, печали, скорби. В поэтической ткани произведения название, несомненно, связано с горечью, болью поражения, с несчастьем. Каяла — предчувствие-предугадание Калки, где, согласно былинной памяти, погибли русские богатыри.
Наиболее любимые реки в народе всегда величались в песнях уважительно и торжественно — Волга-матушка, наш батюшка тихий Дон, Дунай свет Иванович… Волны в них не просто волны, — они наполнены отцовскими и материнскими слезами. Среди всех южных рек Автор, естественно, выделил Днепр — путь из варяг в греки, Ярославна недаром проникновенно говорит: „О, Днепре Словутицю!“ Примечательно, что если упоминаемый Ярославной Дунай выглядит сугубо символично (он — только большая, всем известная река. Дунай расположен далеко в стороне от Игоревых путей, и лететь по нему — значит уклониться далеко в сторону), то картина Днепра верна в географическом и в историческом плане: „Ты пробилъ еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеялъ еси на себе Святославли насады до плъку Кобякова“. За этими сокровенными, полными силы словами — ревущие днепровские пороги и воинская цепочка быстрых ладей, несущихся навстречу опасности. Разница в отношении Автора к Дунаю и Днепру очевидна и может быть объяснена только тем, что для киевлянина Дунай — воспоминанье, дорогое, историческое, но все-таки далекое. Днепр же — постоянно перед глазами, быть может, и образы „Слова“ родились под всплески днепровских волн. Упомянуть же Дунай было Ярославне необходимо — ведь это река ее детства.
Диалог Донца с Игорем — лирическое отступление в эпизоде бегства князя. Смысл его в противопоставлении доброй и приветливой реки другой реке — недоброй, злой и коварной. Речь идет о Донце и Стугне… Донец, видя в этом веселье для Русской земли, спасает Игоря, лелея князя на волнах, стеля ему зеленую траву на песчаных берегах, одевая его теплыми туманами под сенью зеленых деревьев. Все на привольном речном просторе готово служить беглецу, все стремится беречь его от опасности. Донец стережет Игоря гоголем на воде, чайками на струях, утками в воздухе. Таков портрет Донца, обладающего живыми и привлекательными чертами. В каждом слове здесь слышится непосредственный голос степного охотника, привыкшего бродить по речным поймам, знающего их шумное пернатое царство. Поэту хорошо известно, что гоголь — чуткая птица и, заслышав самые отдаленные шаги, она своим взлетом предупредит об опасности.
Добро и зло по средневековым представлениям — свет и тьма, — они никогда не смешиваются, являя собой резкие противоположности. Поэтому доброму Донцу противостоит река Стугна, жадно пожирающая чужие ручьи и потоки, расширяющаяся к устью. Здесь автор воспроизводит в лаконичной форме летописный рассказ о гибели юноши-князя Ростислава, переправлявшегося через Стугну вместе с Владимиром Мономахом. Как и князь Игорь, Мономах и Ростислав спасались от погони. Но если Донец помог Игорю, то Стугна, показав свою „худу струю“, затворила на дне возле темного берега злосчастного юношу Ростислава. Горестно замечает по этому поводу поэт: „Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславе. Уныша цветы жалобою, и древо с тугою къ земли преклонилось“.
Примечательно историко-публицистическое размышление писателя Алексея Югова на эту тему: „Стугна была в XI веке рекой пограничной, южным берегом ее владела половецкая орда, а северным — Киевская Русь. И вот, когда Стугна разлилась весною (а Ростислав, по словам летописца, утонул именно в разлив реки, в половодье), то, приняв чужие, то есть с половецкого берега, воды, она стала „чужой по крови“ и предала русского князя“.
Таким образом, две реки — два характера, два портрета, два облика. Автор, проявив глубокое знание событий, исходил из существовавшей „репутации“ рек, из воспоминаний, связанных с походами, стычками на берегах, переправами и сражениями.
Не обойдена в „Слове“ и морская стихия — синё море, рождающее смерчи, посылающее на землю грозы. Именно перед упоминанием моря говорится о том, что „въстала обида… вступила девою“, а затем это загадочное существо плещет лебедиными крыльями на синем море, чтобы потом появиться у самого Дона. Иногда спрашивают: откуда море — ведь действие развертывается в степи, удаленной от бескрайней соленой стихии, в местах, куда даже ветер не доносит влажное морское дыхание? Не будем забывать, что Автор не хронист. Образ моря постоянно живет в его душе. Он любит синё море, как любили его народные певцы, вспоминавшие о том, как крикнула лебедонька на просторе, как разыгрались белопенные волны…
Такова природа в „Слове“, живущая нераздельной жизнью с героями, действующая в сюжете, создающая фон и пространство, показывающая движение во времени. Во взгляде Автора мы угадываем и любование родными просторами, и доподлинное знание природы — от степной травы, перелетных птах, диковинных зверей до могучих рек и синих морей, смерчей и гроз. Автор глядит на мир полей, рек и гор то взглядом поэта-живописца, то охотника, то воина, то философа-политика.
Как сложилась дальнейшая судьба „Слова о полку Игореве“, когда герои поэмы — один за другим — сошли с исторической арены, когда отшумел могучий Днепр для неведомого нам внука Бояна?
Лучшим свидетельством того, что русские люди не забыли Игореву песнь, служит, на мой взгляд, найденный в прошлом веке памятник литературы тринадцатого столетия — поэтическое „Слово о погибели Русской земли“. Трудно сыскать в отечественной словесности произведения, которые бы так непосредственно перекликались по своему настроению, дополняя друг друга.
Бытовало представление о том, что „Слово о погибели…“ не самостоятельное произведение, а часть, скорее всего — предисловие, вступление к светской биографии Александра Невского. Это утверждение взято под сильное сомнение. Исследователь В. В. Данилов применил следующее метафорическое уподобление: „…если у архитектора возникла идея здания в коринфском стиле, творчески немыслим для него внезапный скачок к дорийскому стилю, потому что это разрушило бы всю первоначальную идею. „Слово о погибели…“ — это произведение красочное, орнаментированное; если применить к нему архитектурные представления — созданное в коринфском стиле. Житие Александра Невского — произведение менее орнаментированное, это дорический стиль“. Трудно с этим не согласиться.
Найденный в послевоенную пору В. И. Малышевым, неутомимым и удачливым собирателем старинных рукописей, второй список „Слова о погибели…“ восходит к какому-то оригиналу, который буквально повторял то, что было обнаружено X. М. Лопаревым в конце прошлого века. Новонайденный текст слит с житием Александра Невского. Переписчики, по всей вероятности, пользовались сборником, который до нас не дошел. Мы знаем, что под одной обложкой нередко объединялись совершенно разнохарактерные и разновременные произведения. Доказательством, что „Слово о погибели…“ — самостоятельное произведение, наиболее убедительно служат его особенности, его „коринфский стиль“.
Поражает перекличка и внешняя и внутренняя, подспудная, которая существует — при всем лексическом и ритмическом несходстве — между „Словом о погибели…“ и „Словом о полку Игореве“. Нельзя не почувствовать в создателе симфонии-реквиема Русской земле, попавшей в страшную и доселе неслыханную беду, внимательного и памятливого читателя Игоревой песни — он не только ее знает и любит, но и пытается ей подражать.
Образ Русской земли художественным волшебством перенесен из одного произведения в другое. Она — самая любимая и прекрасная, ей отдается весь жар сердца. Но времена изменились. Новое проповедническое — страстное и вдохновенное — слово говорит не о походе, не о полку, а о погибели. Во времена Святослава Киевского всплескала лебедиными крылами Дева Обида. В пору же „Слова о погибели…“ несчастье было всеобщим — лишь до Новгорода, Пскова да редких селений Русского Севера не докатилось нашествие. Если в Игоревой песни звучит энергичный боевой призыв: „Загородите Полю ворота“, то в „Слове о погибели…“ обращение исполнено бесконечной печали: „О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! и многыми красотами удивлена еси… А в ты дни болезнь крестияномъ…“
Совпадение одного оборота потрясает. Если в Игоревой песни мы читаем: „от старого Владимира до нынешнего Игоря“, то в „Слове о погибели…“ сказано: „от великого Ярослава и до Володимера, а до нынешнего Ярослава“. Таким образом, очевидно, что автор „Слова о погибели…“ не только построил фразу по образцу Игоревой песни, но и прибег к прямому лексическому заимствованию. Сделано это тоже нарочито, сознательно, обдуманно.
„Слово о погибели…“ — наиболее убедительное свидетельство того, что древнерусские книжники знали „Слово о полку Игореве“. Нельзя также не обратить внимания на ритмическую перекличку произведений.
В тринадцатом веке отозвались — в пору мрачного иноземного владычества — мотивы Игоревой песни, прозвучав для соотечественников воспоминанием о былом могуществе.
И в самом начале четырнадцатого века обнаружились следы жизни „Слова“. Особенно большое значение для подтверждения подлинности, первичности „Слова“ имело открытие в минувшем столетии неутомимым исследователем К. Ф. Калайдовичем приписки к псковскому Апостолу 1307 года, носившей характер слегка переделанной цитаты из поэмы.
У Арсенальной башни Московского Кремля. Современный вид.
Писец Домид, описывая междоусобицу князей Михаила Тверского и Юрия Даниловича, меланхолически заметил: „При сихъ князехъ… сеяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша въ князехъ которы и вецы скоротишася человекомъ“. Нет сомнения, что Домид здесь пересказывал выразительнейший период из „Слова“: „Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь-божа внука; въ княжихъ крамолахъ веци человекомъ скратишась“. Как видим, сходство разительное! Конечно, Домид не мог вспоминать обитателя языческого Олимпа, но смысл давнего образа передан точно. Для Домида афоризмы „Слова“ были, видимо, настолько привычны, что он воспользовался одним из них для горестной оценки современных ему событий и для осуждения розни князей, и сделал это, кстати сказать, довольно умело.
Находятся и другие следы знакомства древнерусских книжников с Игоревой песнью. Сошлемся, например, на описание битвы в 1514 голу пол Оршей в Псковской летописи или на утраченный список „Моления Даниила Заточника“ с цитатой из „Слова“.
Важнейшие же пути „Слова“ ведут нас к „Задонщине“.
„…Жаворонок птица, красных дней утеха! Взыди под синие небеса, посмотри к сильному граду Москве…“. Поэт помнил о каменном Кремле.
Проникновенно, лирично и возвышенно звучит обращение к одной из самых любимых народом птах, чья мелодия, возвещая пробуждение природы (жаворонки, как известно, поют над первыми луговыми и полевыми проталинами), олицетворяет наступление радостной весенней поры. Испокон в народе говорилось: зяблик к стуже, жаворонок к теплу; существовала и поговорка — весела, как вешний жавороночек. Архаичное, почти забытое определение жаворонка — „вещевременник“, то есть вещающий время. В трепетных словах о „красных дней утехе“, словно вырвавшихся из-под сердца, слышен голос воспевшего Куликовскую битву и ее героев — Софония (или Софрония) Рязанца. Жил Софоний в начале пятнадцатого века, и в рукописях его называют „иереем резанским“, иногда — „брянским боярином“, и являлся, хотя об этом спорят, автором „Похвалы вел. кн. Дмитрию Ивановичу и брату его Володимеру Андреевичу“, более известной под названием „Задонщины“.
Свое произведение Софоний рассматривал как „жалость и похвалу“, то есть он относился к своему созданию так, как к песням на исторические темы их безымянные создатели, скорбевшие о павших в боях воинах и восхвалявшие доблесть живых. Был Софоний патриотом и печалователем за многострадальную Русскую землю…
* * *
В средние века представление об авторстве носило совсем иной характер, чем в новое время. Произведение ценилось тем выше, чем значительнее был духовный или светский авторитет его автора. Старое творение вызывало большее благоговение, нежели недавнее. Так было не только в литературе, но и во всех областях жизни. „Как отцы и деды“ — похвала самая лестная. Андрей Боголюбский, призвав строителей из различных стран, возводил на клязьминском холме „дом Богородицы“, подражая не только формам Софийского храма в Киеве, но и далекого Софийского собора в заморском Царьграде, сопоставляя таким образом стольный Владимир с византийской столицей. Зодчие Андрея Боголюбского были не робкими копиистами, а смелыми творцами, сознательно включавшими в свое творение то, что было создано до них. В свою очередь Москва, пославшая Аристотеля Фиораванти, архитектора и инженера, смотреть, как построен владимирский храм, тем самым высказала желание, чтобы Московский Кремль был украшен собором, напоминавшим тот, в котором испокон веков венчались на царство владимирские князья.
„Свое“ и „чужое“ не разделялось. Не случайно почти все средневековые архитектурные творения остались анонимными. Подобным же образом поступали и книжники. Как, например, возникали новые летописи? Приступив к делу, создатель ощущал себя первоначально переписчиком, составителем, редактором, политиком, дипломатом… Но только включив в создаваемый манускрипт написанное предшественниками, летописец становился наконец автором. Конечно, пристрастно рассказывая о своем князе и событиях своего монастыря или города, книжник включал в свод только то, что отвечало потребностям времени. Так, исследователи отмечают, что в двенадцатом-тринадцатом веках во Владимире были широко использованы южные источники — Киевская великокняжеская летопись и хроника Переяславля Русского. Затем, отредактированная в Ростове Великом, она, совершив путь с берегов озера Неро на Кремлевский холм, легла в основу московского летописания. Чем был более образован, начитан, сведущ писатель, тем чаще обращался он к чужим источникам.
Средневековый монах, вооружившись гусиным пером, нередко считал себя вершителем судеб рукописи.
Софоний жил в совсем иную эпоху, чем певец Игоря. Автор „Задонщины“, воспользовавшись художественной тканью „Слова“, воспевал Куликовскую битву — радостнейшее событие для русских земель, увидевших, как возросли народные силы, созревшие под гнетом монголо-татарского ига. Заимствование было целенаправленным и носило глубоко осознанный, преднамеренный характер. Повесть о горе, поражении, неудаче обернулась вдруг долгожданным творением о том, как „по Русской земле простреся веселье и буйство и вознесеся слава русская над поганых хулою“.
„Задонщина“, воспевавшая долгожданную победу, сразу полюбилась и запомнилась; была же она записана в Кирилло-Белозерском монастыре — крупнейшем очаге просвещения и художественной культуры на Русском Севере — монахом Ефросинием в семидесятых годах пятнадцатого века. Сделана была эта запись в связи с приближением столетия битвы с большими сокращениями и переработками. Но несомненно, Ефросиний владел и каким-то списком, который до нас не дошел. Во всяком случае, в древнейшем списке, которым мы располагаем, было рукой Ефросиния записано: „Писания Сафониа старца рязанца благослови отче“. Есть предположения о том, что монах Софоний происходил из брянских бояр, чей род дал и замечательного героя Куликовской битвы знаменитого богатыря Пересвета-чернеца, который в „Задонщине“ ведет себя как подобает рыцарю-герою: „Поскакивает на своем борзом коне, свистом поле перегороди, и златым доспехом посвечивает“.
Можно было представить, как радовались те, кто, сокрушив ненавистного и коварнейшего врага Руси, слушал названия любимых городов, звучащие поэтически: „Кони ржут на Москве, звенит слава по всей земле Русской! Бубны бьют на Коломне, трубы трубят в Серпухове, чудно стоят стязи у Дону великого… Звонят колоколы вечевые в Великом Новегороде, стоят мужи новгородцы у святой Софии…“
Едва ли нужно говорить, как удачно здесь подражает Софоний певцу Игоря — географические наименования верно обозначали силы, которые противостояли Орде и Мамаю. Москва, Коломна, Серпухов, наконец, Дон — довольно точное обозначение пути, проделанного объединенными силами воинства, ведомого князем Дмитрием. Не сомневаюсь, что где-нибудь — в теремах Московского или Серпуховского белокаменных кремлей, — на княжеском пиру „Задонщина“ звучала с впечатляющей силой.
До нас дошло шесть списков „Задонщины“, самый ранний из них — Кирилло-Белозерский. Волей-неволей рязанский иерей оказался похитителем славы поэта, чтившего Даждьбога, как прародителя русского народа. Никому, разумеется, не было никакого дела до того, что самостоятельных мест в „Задонщине“ не так уж и много, — даже изощренные книжники в ту пору не занимались сравнительной филологией. Теперь же, сопоставляя „Задонщину“ и „Слово“, видно, что художественные открытия Софония нельзя отрицать, они — несомненны, хотя не так-то уж их и много. Прекрасно обращение к жаворонку; найдены красочные метафоры, характеризующие сподвижников Дмитрия Донского, они — соколы, кречеты, белозерские ястребы, летящие за Дон и ударяющие стада гусиные и лебединые, то есть бьющие полчища Мамая; есть в „Задонщине“ и публицистические афоризмы: „Русь одолела рать татарскую на поле Куликовом!“ Или — потерпевшие поражение говорят: „Целовати нам зелена мурава, а на Русь ратию не ходити, а выхода нам у русских князей не прашивати“.
Нельзя принижать литературные достоинства „Задонщины“, открывшей первую страницу московской литературы. Народная поэма вполне достойна славы, которой она пользовалась на протяжении двух столетий — для жизни литературного произведения срок немалый.
Рассматривая „Задонщину“ на фоне зарождавшейся московской литературы среди так называемых памятников Куликовского цикла, академик А. С. Орлов отметил: „Судя по произведениям, посвященным Мамаевщине, московская историческая беллетристика конца XIV — начала XV в. уже была достаточно развитой и по стилю даже разнообразной. Правда, мы здесь не наблюдаем еще большой самостоятельности и оригинальности. Авторы все еще творят „по-вышеписанному“, пользуясь опытом не только владимирских, но и киевских — точнее, южнорусских — своих предшественников. Тем не менее авторы заимствовали не рабски, а уже ловко трансформировали заимствованное и, начав суховатой „летописной“ повестью, возвысились почти до романа“.
Восход солнца на Куликовом поле осветил жизнь исстрадавшихся людей. Начали отстраиваться города и веси. Застучали топоры на пепелищах. Гордостью всей земли стал белокаменный Московский Кремль, отстроенный при Дмитрии Донском. Позднее историки свяжут эти два факта между собой — возникновение мощных стен над Москвой-рекой и битву в устье Непрядвы. Общей направленностью стало стремление к возрождению во всех сферах духовной и материальной жизни. Появляются первые московские святые, составляется их агиография, местные жития мучеников и чудотворцев, возобновляются храмы во владимирской и суздальской землях. Возникает литература в Московском и Тверском княжествах, усердно постигавшая образы и метафоры письменности, существовавшей некогда в Киеве, Чернигове и Владимире. В этой обстановке и родилась „Задонщина“.
* * *
Как видим, и автор „Слова о погибели земли Русской“, и псковитянин Домид, и создатели других произведений, в том числе о Мамаевом побоище, знали поэму об Игоре и охотно прибегали к ее цитированию. В дальнейшем же судьба „Слова“ была загадочной. Б. А. Рыбаков пишет: „Москва в XVI столетии, очевидно, не имела понятия о киевской поэме XII века. Большая работа московских историков эпохи Ивана Грозного, поднявших разнообразные архивы и извлекших множество забытых материалов, не могла порадовать москвичей находкой „Слова о полку Игореве“. Только в сочинении А. М. Курбского „История о великом князе Московском“ есть строки, как будто говорящие о его знакомстве со „Словом“…“. С последним утверждением маститого ученого можно поспорить. Курбский не был единственным читателем Игоревой песни. В знаменитом своде шестнадцатого века „Книге Степенной царского родословия“, вобравшей в себя многие летописи, хронографы, повести и сказания, есть рассказ, как Всеволод Суздальский в 1185 году ходил громить половцев. На самом деле такого похода не было, а Всеволод Большое Гнездо имел совсем другие и весьма важные воинские заслуги. Зачем же была сочинена легенда о походе? Не была ли это попытка перетолковать Игореву песнь, автор которой призывал в 1185 году Всеволода в южные степи? В этом предположении нет ничего невероятного. И. М. Кудрявцев обратил внимание на то, что в грамоте архиепископа новгородского Феодосия к Ивану Грозному встречается выражение — „вооружи свое сердце, наполнися о бозе духа ратного…“. Не свидетельство ли это бытования „Слова“ или „Задоншины“ в шестнадцатом веке?»
Нельзя без чувства живейшей благодарности думать о неутомимых псковских книжниках, последний раз переписавших Игореву песнь, — это они спасли для русской культуры многие бесценные рукописные творения, созданные в городах, разрушенных под ногами кочевых орд.
Е. П. Барсов с горестью писал в конце восьмидесятых годов прошлого столетия: «В области русской исторической науки и литературы за текущее столетие является целая библиология „Слова“; в области искусства нельзя указать ни одного замечательного произведения, относившегося к „Слову“. Всякий более или менее замечательный ученый, литератор, историк, поэт, педагог восхищался этим произведением и стремился сказать о нем свое слово; из среды же художников находится не более двух-трех имен, связанных с воспроизведением этого творения… В настоящее время мы можем указать только на жалкие гравюры, помещенные в иллюстрированных и периодических листах („Нева“, „Сияние“) и в изданиях „Слова“ Гербеля, Алябьева, Погосского. Все эти гравюры в художественном отношении ниже всякой критики».
Барсов был не совсем прав, уничижительно оценивая первых оформителей «Слова». Так, внимания заслуживают иллюстрации Михаила Зичи, появившиеся в свет в 1854 году, в которых художник показал себя «талантливым мастером рисунка». Правда, Барсов оговаривался, что в живописи (наконец-то!) появились «два истинных художника, воплотившие в своих произведениях картины „Слова“, — это Шварц и Васнецов». Следует также напомнить о том, что В. Г. Перов, один из известнейших передвижников, в 1880 году написал картину «Плач Ярославны», которая заслуживает нашего внимания.
В 1880 году Виктор Васнецов завершил свою картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», находящуюся ныне в Третьяковской галерее. Возле огромного полотна всегда толпа зрителей, любующихся созданием художника, прочитавшего «Слово» как произведение, в котором угадывается «целый облик народа». На поле лежат храбрые русичи, которые пали в битве за отчий край. Эпическим спокойствием полны прекрасные лица воинов. Луна, словно омытая кровью, поднимается над степным океаном; во всем пейзаже разлито спокойствие, и невольно вспоминаются слова поэта: «Ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую».
Васнецовское «Побоище» — воплощение народных идеалов и высоких патриотических чувств. Любуясь созданием Васнецова, Репин так оценил его в письме к Стасову: «Для меня — это необыкновенно замечательная, новая и глубокая поэтическая вещь».
Среди истолкователей «Слова» в музыке, на сцене, в живописи, графике, лаковой миниатюре — композитор Александр Бородин, художник Виктор Васнецов, график Владимир Фаворский, палехский миниатюрист Иван Голиков… Работа над «Словом» составила неотъемлемую часть их творческой биографии.
Почти символична встреча Александра Порфирьевича Бородина, композитора, чье творчество отмечено чертами мужества и эпической широты, с песнью Игорева похода. Знаменательно также и то, что обращением к «Слову», оказавшимся счастливым, Бородин был обязан Владимиру Васильевичу Стасову, его душевной, художественной и исторической проницательности. Рождение эпической оперы неотрывно от общественной и музыкальной атмосферы «Могучей кучки», знаменитого Балакиревского кружка, выступавшего в шестидесятых годах прошлого века за искусство национальное, демократическое, народное.
Стасов писал: «…мы везде чувствуем события, действительно реальные, исторические, мы везде встречаем образы живые, дышащие атмосферой Древней Руси, везде имеем перед глазами картины действительной русской местности, русской обстановки, разнообразнейших предметов бытовых, наконец, эпический склад, не имеющий в себе уже ничего чужого, заимствованного, и переносящий наше чувство и воображение в среду древнерусской жизни, понятий и воззрений». Стасов подчеркнул чувство природы, обнаруживаемое в поэме. Стасову принадлежит первый сценарий будущей оперы, который хотя и перерабатывался затем Бородиным, но все же лег в основу произведения.
Александр Бородин, работая над музыкой и либретто, существенно видоизменил стасовский сценарий, стремясь приблизить оперу к тексту произведения, заботясь о том, чтобы передать эпичность Игоревой песни.
Н. К. Рерих. Иноземные гости.
По Стасову, опера, должна была начаться в тереме Ярославны, задумчивой и грустной, ничего не знающей об Игоре, ушедшем в поход. Опера же, как мы знаем, открывается величественной сценой выступления рати Игоря, которого Бородин сделал основным героем. Его образ наиболее полно раскрывается в каватине «Ни сна, ни отдыха измученной душе», ставшей знаменитой. В опере нет «златого слова» Святослава, введены новые герои — князь Владимир Галицкий, гудошники, Кончаковна. Бородин проявил глубокое понимание старого творения, в котором, конечно же, преобладает эпическое настроение, неотрывное от воинского и степного быта.
Изменения, произведенные Бородиным в сценарии Стасова, диктовались исключительно желанием композитора «написать эпическую русскую оперу».
Бородин ввел, как я сказал, в оперный текст сцену сбора Игоря в поход, зловещее затмение, прощание с Ярославной и народом; колоритные фигуры гудошников были навеяны Александру Порфирьевичу встречами с рожечниками-пастухами в суздальских деревнях. Бородин подчеркнул в опере действие космических сил, обрушивших свой гнев на Путивль, ввел драматическую сцену набата, — ведь и само «Слово» было призывом. Половецкие сцены, написанные Стасовым, удовлетворили Бородина, но он укрупнил обрисовку фигур Игоря и Кончака. Третий акт был намечен Бородиным только пунктирно, его подробно позднее разработали Глазунов и Римский-Корсаков. Четвертый, заключительный акт Бородин написал как народное торжество, проникнутое радостью по поводу возвращения Игоря. От стасовского сценария без изменения сохранилась сцена плача Ярославны.
Римский-Корсаков позднее вспоминал, что Бородин, работая над оперой, страдал зрительными галлюцинациями — стоило ему закрыть глаза, как во всех подробностях он видел торжественные восточные шествия, лица, одежды. Эта особенность, видимо, была связана еще и с тем, что композитор погрузился в музыкальный и словесный мир фольклора, желая воспроизвести восточные сцены в опере как можно выразительнее.
Бородин, постоянно отвлекаемый научными обязанностями (ведь он был одним из крупнейших химиков своего времени), сочинял оперу не акт за актом, а кусками, создавая те сцены, которые больше всего привлекали его в данную минуту. Мы знаем об этом по свидетельствам Стасова и по отрывочным заметкам Бородина в письмах. Больше всего композитора пленил трогательный женский образ Игоревой песни, и он проникновенно написал «Плач Ярославны» и «Сон Ярославны». В русской оперной музыке бородинская Ярославна — один из наиболее ярких образов, нашедших народное звуковое выражение.
Как ни складывал Бородин кирпичик за кирпичиком грандиозное здание оперы, всевозможные музыкальные, научные и житейские дела постоянно отвлекали его от работы; завершить оперу Александру Порфирьевичу было не суждено. В 1887 году Бородин — незадолго до кончины — играл для собравшихся друзей фрагменты оперы. После смерти Бородина «Князя Игоря» завершили его друзья. Римский-Корсаков по этому поводу вспоминал: «Между мною и Глазуновым было решено так: он досочинит все недостающее в III акте и запишет на память увертюру, наигранную много раз автором, а я переоркеструю, досочиню и приведу в систему все остальное, не доделанное и не оркестрованное Бородиным».
Проницательному взору, чуткому слуху Бородина, его гениальной художественной интуиции открылось то, что почти не замечали исследователи «Слова». Два мира соприкасаются и противоборствуют в «Игоре»: стихия русской народной жизни и стихия Востока — степного, связанного с кочевьем, с фигурой всадника на коне, с огнями походов, с мелодиями, идущими из глубины столетий.
В апреле 1890 года «Князь Игорь» был впервые поставлен на сцене Мариинского театра в Петербурге, чтобы затем начать триумфальное шествие по театрам мира. В опере сказался весь Бородин именно таким, каким его видел Стасов, с его великанской силой и душевной широтой, колоссальным размахом, стремительностью и порывистостью, соединенной с изумительной страстностью, нежностью и красотой. Академик Б. В. Асафьев отметил, что в опере Бородина содержится «концепция национально-государственная… Тезис строительства государственного как обороны и против стихии степи с ее кочевниками, и против феодально-княжеской раздробленности и безначальности проведен мощной, можно сказать, „суриковской рукой“ через всю оперу, — именно эта сфера содержания „Игоря“ обосновывает монументальность музыки, ее основное качество…»
Музыкальное воплощение «Слова», явившееся почти сто лет спустя после счастливой находки Мусина-Пушкина, стало до некоторой степени и новым рождением произведения. К старому эпосу приобщились и такие художники-декораторы, как знаток языческой старины Н. К. Рерих, и великие певцы, и замечательные дирижеры, список которых открыт был Н. Римским-Корсаковым; среди постановщиков мы видим М. Фокина, С. Дягилева… Опера Бородина звучала в Париже, Вене, Праге, Бухаресте, Барселоне…
Из старых работ надо еще вспомнить написанную в конце минувшего века акварель В. В. Беляева «Затмение» (1898) и картину А. Ф. Максимова «Вещее затмение», относящуюся уже к десятым годам. Постепенно сложилась традиция выпуска поэмы в свет с иллюстрациями. Среди создателей последних мы видим А. И. Шарлеманя, Г. И. Нарбута…
Бурные, ветровые, если прибегнуть к любимому блоковскому определению, годы — революционный взрыв и гражданская война — заставили поэтов и прозаиков не раз прибегнуть к образам и метафорам «Слова», перетолковывая их на современный лад. Народный художник из Палеха Иван Голиков воскресил всю безмерную радость красок, живших в поэтическом шедевре, рожденном Киевской Русью. Иван Голиков, потомственный иконописец, был в числе немногих благородных рыцарей старого искусства, решивших спасти его любой ценой. Палехский донкихот, сражаться которому пришлось отнюдь не с ветряными мельницами и не с призраками. Как утопающий хватается за соломинку, так Голиков, скитавшийся по фронтам первой мировой войны с книгой-альбомом Рафаэля в солдатском мешке, решил вместе с друзьями-палешанами обратиться к лаковой живописи на светские темы. Миниатюра была близка палешанам, в этом легко убедиться, посмотрев клеймы на иконах, которые их прадеды писали с утонченным мастерством. Более того, миниатюра входила в поэтику палехского письма, в этом легко убедиться, посмотрев знаменитые «Акафисты» или икону «Николы в житии и чудесах» в Крестовоздвиженском храме.
Иван Голиков воплотил в себе все лучшее, что существовало в народном художественном гнезде столетия. Первые же работы артели древней живописи, созданной в Палехе, были отмечены на международных выставках.
Конечно, каждому из нас больно, что древнерусские книжники, украшавшие звериными орнаментами всевозможные похвалы, рисовавшие заставки и миниатюры к лицевым псалтырям, не оставили нам ни одного списка Игоревой песни. В тридцатых годах двадцатого столетия историческая несправедливость была исправлена. За художественную переписку всего текста и иллюстрирование поэмы взялся Иван Голиков.
В двадцатых — тридцатых годах популярностью пользовалось издательство «Academia», выпускавшее русских и западных классиков, историко-литературные памятники, мемуары и т. д. Художественным редактором там одно время работал энергичный М. П. Сокольников, прекрасно знавший Палех и друживший с Иваном Голиковым в юности. Сокольникову и принадлежала мысль выпустить «Слово» в палехском оформлении.
Максим Горький, горячо ратовавший за обращение к народной культуре, не только поддержал Сокольникова, но, и посоветовал поручить всю работу одному палехскому мастеру. Выбор пал на Ивана Голикова, который воспринял заказ как дело жизни.
Худощавый человек в белой рубашке, подпоясанной ремешком, появился в залах Исторического музея, где со стен на него глядели образы васнецовского «Каменного века», где загадочно, словно из глубины веков, устремляли взор каменные истуканы, где дремали вещи, помнившие прикосновения рук Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, Ивана Грозного… В Рукописном отделе музея открыл палешанин древние манускрипты; в орнаментальных заставках звери сталкивались в стремительных схватках, буквицы напоминали сказочных чудовищ, миниатюры поражали первозданной свежестью красок. Живые ассоциации вызывали узорчатые обрывки тканей (не от рукава ли одежды Ярославны?), холодное оружие (не им ли Игорь избивал дичь в побеге?), ковши-скопкари (не из них ли пили гусляры в гриднице Святослава?).
Переписка текста, создание заставок, работа над миниатюрами — все выполнялось с необычайным подъемом, — это продолжалось два года в основном в Палехе, в окрестностях которого бродил Голиков.
Мы не знаем, видел ли Иван Голиков фрески Гурия Никитина, художника семнадцатого века, расписывавшего соборы в Костроме, Ярославле, Ростове Великом. Палехские иконописцы хорошо знали утонченную живопись этого волжского самородка, одного из основоположников так называемого «фряжского стиля» в древнерусском искусстве.
Бывают переклички художников через века. В иллюстрациях Голикова к «Слову» воскрес Гурий Никитин и его тончайшее фряжское письмо. От руки, древним полууставом переписал палешанин весь текст Игоревой песни. Подобно старым летописцам-изографам, коротавшим ночи в монастырских кельях, художник тонкой кистью выводил букву за буквой. Никто в двадцатом столетии не занимался подобной работой, во всяком случае в таком объеме, с такой тщательностью и артистизмом. Заглавные буквы, заставки и концовки отмечены небывалой красотой; знатоки говорят о графике Ивана Голикова, как о редчайшем явлении в современном искусстве. Переплет, титульный лист, оборот титула и десять цветных миниатюр, посвященных важнейшим, ключевым эпизодам «Слова», таким, как «Боян», «Игорь и Всеволод», «Затмение», «Поход», «Пленение», «Сон Святослава», «Златое слово», «Ярославна». Что главное в этих работах? Миниатюры являют собой праздник красок-символов. Иван Голиков вызвал к жизни то, что таила словесная вязь произведения.
Книга вышла в свет в 1934 году. Она — образец не только художественного, но и типографского мастерства, которое продемонстрировали невские полиграфисты.
Надо сказать, что оригиналы Голикова, хранящиеся в настоящее время в Третьяковской галерее, претерпели, превращаясь в типографские листы, существенные изменения. Голиков был слишком самобытен, он не мог во всем оставаться правоверным палешанином. Кроме того, следует учитывать, что в тридцатые годы издательские возможности были во многом (с нашей точки зрения) ограничены, и далеко не все в книге выглядит так, как представлялось Голикову. Черный лаковый фон — непременная примета Палеха, и можно ли не согласиться с издательством, стремившимся сделать так, чтобы по внешнему виду книга напоминала палехскую шкатулку, в которой цветовые блики горят, как маленькие солнца? Фон Голикова далеко не всегда был черным, и стихия темноты далеко не всегда была его единственной радостью.
Любопытно, что, закончив работу, Голиков был так захвачен «Словом», что продолжал писать пластины и шкатулки, посвященные Игоревой песни. Чем бы ни занимался Голиков — театральными декорациями или иллюстрированием новейшего литературного произведения, — его мысли непрестанно обращались к половецким степям, битвам, к Днепру Славутичу.
После Голикова нелегко было обращаться к зрительной стороне Игоревой песни. Но произошла еще одна встреча со «Словом», оказавшаяся на редкость современной, своеобразной и выявившая в старом творении стороны, которые были до сих пор не замеченными. Речь идет о графическом воплощении «Слова» Владимиром Фаворским. Тогда-то родилась крылатая метафора: график должен относиться к книге как дирижер к оркестру, в котором каждый инструмент — от обложки и титула до виньетки и шрифта — должен играть свою партию. Можно назвать несколько графиков, чье творчество явилось вкладом в сокровищницу культуры; однако все лучшее, что было тогда создано в этом роде, воплотилось в иллюстрациях В. А. Фаворского — великого и непревзойденного поэта книги, повелителя линий, светотеней, белых и цветных фонов листа… Вспоминая о своей работе, Владимир Андреевич впоследствии рассказывал:
«Я оформил и иллюстрировал „Слово о полку Игореве“, потому что это произведение всегда меня восхищает. Трудно, по-моему, даже в мировой культуре найти эпическое произведение, равное „Слову“… Книга, изданная „Детгизом“, последняя моя работа над „Словом“. Издание это отличалось тем, что в книге, на развороте, друг против друга, помещались текст древний и перевод. И поэтому естественно было делать иллюстрации в разворот, занимающий обе страницы. При такой композиции все иллюстрации имеют удлиненную форму, подобно фризу в архитектуре, что способствует, как мне кажется, передаче эпического характера всей вещи. Мелкие картинки на полях и буквы сопровождают весь рассказ и должны соединить всю книгу в одну песнь».
Нет сомнений, что «Слово» и впредь найдет свое новое воплощение в образах кино, пластики, балета, мозаики. Поэты еще будут создавать вариации на темы «Слова», а композиторы извлекать новые и новые звуки из бесконечного художественного и музыкального пространства поэмы.
Поэма из камня
Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам времени. Иногда прославленную белокаменную церковь под Владимиром уподобляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность мироздания. Один художник назвал это чудесное сооружение поэмой из камня. Есть афоризм, рожденный встречей с редкостным архитектурным памятником: «Мы сами обретаем вечность пред этой вечной красотой».
Если вам в жизни приходится нелегко, если скорбь и печаль овладели вашим сердцем, отправляйтесь в заливные клязьминские луга, туда, где у старицы реки, на холме среди куп деревьев, стоит многостолетний храм Покрова.
Церковь Покрова на Нерли. Общий вид с юга. 1165.
Церковь Покрова на Нерли. Вид с юга. 1165.
Вглядитесь в благородные пропорции белого храма, отражающегося свыше восьми веков в водах, и вы увидите, как точно и естественно вписано строение в окружающий пейзаж — луговое среднерусское раздолье, где растут духмяные травы, лазоревые цветы и звучат нескончаемые песни жаворонков… Душевное спокойствие приходит к вам с ощущением полноты бытия, олицетворяемой белым храмом и умиротворяющим видом местности.
Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, считает, что знает его. Лирическую поэму из камня, именуемую Покровом на Нерли, надо перечитывать многократно. И тогда, может быть, во всей полноте, вы поймете, в чем прелесть этого небольшого сооружения, гармонирующего с окружающей природой.
«…Церковь Покрова на Нерли близ Владимира, — пишет И. Э. Грабарь, — является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства. Как и все великие памятники, Покров на Нерли непередаваем ни в каких воспроизведениях на бумаге, и только тот, кто видел его в действительности, кто ходил в тени окружающих его деревьев, испытывал обаяние всего его неописуемо-стройного силуэта и наслаждался совершенством его деталей, — только тот в состоянии оценить это чудо русского искусства».
Мне трудно сказать, когда Покровом на Нерли лучше всего любоваться. Недвижимый белый камень удивительным и таинственным образом перекликается с временами года. У двенадцати братьев-месяцев свой разговор с женскими масками и другими настенными рельефами, бесстрастно глядящими на мир с высоты столетий.
По весне Клязьма и Нерль разливаются на много верст, впитывая в себя ручьи, бегущие из лесов, озер, болотцев. Вода затопляет луговую пойму, и в темных, напоминающих густо настоенный чай волнах отражаются чуть зазеленевшие березы, гибкие ветви ив и похожие на богатырей-великанов дубы, что в десять раз старше берез и, наверное, помнят, как владимирскую землю топтали татарские кони, как в этих местах стояли повозки и шатры кочевников.
На рассвете, когда над заречными муромскими лесами играют солнечные лучи, от всплесков светотени древние стены словно колеблются, светлея час от часу. Храм возвышается среди волн, как белоснежный лебедь. Текут речные потоки. Дни и ночи, месяцы и годы, столетия уносит река жизни. Сменяются поколения, а лебедь-храм плывет и плывет среди неоглядных просторов. Любуясь Покровом на Нерли, думаешь об истории храма, о веках, что пронеслись над его стенами…
Храм посвящался Покрову Богородицы и был тесно связан с одной из византийских легенд о том, как Дева Мария защитила город Царьград от врагов-сарацин.
Давид с гуслями. Рельеф церкви Покрова на Нерли.
Лев-страж. Рельеф на северном фасаде церкви Покрова на Нерли.
На Руси в большом количестве списков распространялось «Житие Андрея Юродивого». Занимательное само по себе, это житие привлекало к себе тогдашних читателей еще и тем, что герой повествования был славянин (в отдельных редакциях его даже называют русином), попавший в рабы к видному византийскому сановнику. В житии рядом с описанием большого города, историями о корыстолюбивых менялах и ночных гуляках-пьяницах соседствуют мрачные пророчества о конце света и, конечно, рассказываются истории чудес, свидетелем которых был Андрей. Однажды, когда к Константинополю подступили сарацины, Андрей, молившийся во Влахернском храме, увидел парившую в воздухе Деву Марию, которая держала в руках плат — покров, обещая защиту городу от врагов.
Старое византийское предание привлекло внимание Андрея Боголюбского. Политический смысл посвящения собора Покрову Богородицы состоял в том, что покровительство Богоматери уравнивало Русь с Византией, а Владимир с Царьградом.
Первое октября — празднование Покрова — совпадало у славян с днем благодарения матери-земли за урожай. На Руси, кроме того, с незапамятных языческих времен было распространено почитание Девы-Зори, что расстилает по небу свою нетленную розовую фату, прогоняя всякое зло. В древних заговорах говорилось: «Зоря-Зорница, красная девица, полуночница! Покрой мои скорбные зубы своею фатой; за твоим покровом уцелеют мои зубы», «Покрой ты, девица, меня своею фатой от силы вражей, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь». Дева-Зоря, по народным поверьям, могла своей пеленою остановить кровь, утихомирить недуги, спасти от всяких бед. Таким образом, в народном представлении Дева-Зоря и Дева Мария сливались в один образ, и богородицын Покров был неотличим от зоревой Пелены — то и другое защищало человека.
Византийское сказание на Руси было обогащено народными красками, и Покров стал одним из торжественных и любимых крестьянских праздников. Отмечаемый в пору, когда заканчиваются полевые работы, начинаются свадьбы, Покров был своего рода и праздником урожая. На Покров нередко выпадал снег, и отсюда сложилась девичья поговорка: «Батюшка Покров, покрой мать сыру землю и меня, молоду».
Очень хорош Покров на Нерли летом, когда косари выходят на пойму, когда замолкают кукушки и на зелени появляются солнечные подпалины. По скошенной луговине вы минуете реку Нерль и поднимаетесь на высокий холм, где стоит храм. С пологого бугра пред вами откроются луга, озера, прибрежные кустарники, простирающиеся за Клязьму. Вы оглядываете окрестность, где все дышит миром и спокойствием, и думаете: на свете есть счастье… Но вот ваш взгляд падает на воды, подступающие к холму. Перед вами сказочное видение: храм плывет в подводной глубине, в ключевой прозрачности старицы. Там, внизу, в подводном царстве, чуть заметно покачиваются вершины деревьев, овевая, словно опахалами, белопенный храм. Если вы будете внимательно приглядываться, то увидите под водой стены, что слегка колышутся…
Но первые впечатления, вызванные серьезностью и тишиной, совершенством архитектурного исполнения, внезапно рассеиваются. Голоногие ребятишки со всего размаху Ныряют в прозрачную глубину с нерлинских холмов. Забавно смотреть, как под водой они насквозь проходят отраженные, как в зеркале, стены храма. Ныряльщики убежденно говорят, что еще ни одному человеку не удавалось здесь ступить на дно. Археологическая экспедиция, работавшая здесь, выяснила, что глубина старицы в самом деле немалая: она достигает семи — десяти метров.
Дмитриевский собор во Владимире. Старый аркатурный фриз. 1194–1197.
Главы Успенского собора во Владимире.
Чтобы лучше понять и уразуметь искусство древних зодчих, давайте отойдем на некоторое расстояние от нерлинского холма и смешаемся с шумной деревенской толпой, что косила травы в лугах и собралась возле стогов на полдник. Слушая веселый и непринужденный разговор косарей, начинаешь смутно угадывать нерасторжимую связь этих людей с гениальным памятником искусства, живущим не музейной, а доподлинной живой жизнью. Травы и цветы ложатся в поймах Клязьмы и Нерли, как ковер, ведущий к храму…
Успенский собор во Владимире. Консоль западной галереи. 1158–1160.
Незаметно уходит жаркое лето, сменяясь осенью. Желтизной вспыхивают заклязьминские леса, по которым огненно-рыжей лисой крадется осень. В пойме скосили отаву, и золотистые листья покрыли холм возле Покрова. Печаль родных полей… Некогда при виде развалин старой крепости было сказано: не у камней учись бессмертью, а у цветов и у травы. Но Покров на Нерли внушает иную мысль. Перед глазами камни, которые, испытав прикосновение рук мастера-гения, стали бессмертными. Столетиями перед храмом расцветали и умирали цветы и травы, а звериные и человеческие рельефы, стройный каменный пояс, порталы, украшенные резьбой, недвижимо возвышаются над окрестностью.
Львиная маска. Рельеф Успенского собора во Владимире.
Георгиевский собор. Фриз на западной стене. Юрьев-Польский.
Женская маска. Рельеф Богородице-Рождественского собора. Суздаль.
Дмитриевский собор. Рельеф центрального прясла западного фасада. XII век.
Покров на Нерли надо увидеть во время дождя, когда огромная туча, миновав Боголюбово, останавливается, словно для того, чтобы полюбоваться храмом. Окрестные воды делаются мутно-зелеными, а строение приобретает задумчивость, словно ожидает кого-то. И с неба на землю опускается осенняя радуга, освещая силуэт храма, делая его почти неосязаемым, нереальным, фантастическим. Пройдет еще несколько недель, почернеют поля, оголятся деревья, дни станут короткими и серыми, беспросветная мгла затянет небо. Редко-редко пробьется через облака луч солнца и осветит храм, священную белизну его стен. Ни в какое другое время года вы не почувствуете так остро и живо прелесть белого камня, поэтического в своей простоте.
Зима обволакивает бахромой деревья, кустарники, дома, железнодорожный мост. Храм растворился в окружающей белизне и стал плохо виден издали. Но если подойти поближе, приглядеться внимательнее, увидишь, сколько оттенков в белом! Зимние припорошенные деревья похожи на цветущие вишни. Холодные своды храма по-прежнему полны жизни и чувства.
Любопытно сопоставить нерлинский памятник зодчества с другими владимирскими каменными храмами времен Андрея Боголюбского и его преемников. Строгий величественный Дмитриевский собор во Владимире как бы символизирует могущество: он врос в почву, он. внушает нам мысль о силе и незыблемости людей, его поставивших; он, этот собор, по-княжески параден, суров, его строители при сооружении, несомненно, больше думали о земных делах, чем об идеальной красоте. Перед нами эпос, порожденный исторической действительностью домонгольской Руси.
Покров на Нерли в том виде, как мы его знаем, — лирическая поэма, обращенная к внутреннему миру человека, к его задушевным чувствам. Глядя на утонченный силуэт храма, вспоминаешь о том, что он построен в честь погибшего в лютой сечи семнадцатилетнего сына Андрея Боголюбского, юного Изяслава, которого народное предание называет вишенкой, срубленной в цвету. Убитый врагами юноша, возможно, и был похоронен на нерлинском холме или в самом храме. Возвратившись из победоносного похода против волжских булгар, Андрей скорбел о сыне, «яко человек», и сам выбрал место для этого храма.
Представляется почти необъяснимым выбор князем места для строительства храма — на луговине, затопляемой в половодье. Есть много различных предположений о причине выбора. Одно из них заключается в том, что раньше Клязьма подходила к храму гораздо ближе, чем ныне. Собор стоял при самом впадении Нерли в Клязьму, которая была судоходной рекой. Те, кто ехал во Владимир водным путем, могли, подъезжая к городу, дивиться красоте сооружения.
Древние камни, накладные рельефные маски, поросший травой холм, сам воздух окрестности, все окружающее пространство насыщено духом истории.
Мы любим церковь Покрова такой, какова она есть. Нам трудно отрешиться от мысли, что облик этого храма не извечен, что во времена Андрея Боголюбского сооружение выглядело по-иному, что даже вид местности, окружающей собор, был иным. Много лет археологи под руководством Н. Н. Воронина вели раскопки возле храма, выясняя историю его строительства, пытаясь воссоздать его первоначальный вид.
Археологической экспедиции неожиданно пришла на помощь студенческая молодежь, проводившая свои каникулы в палатках, среди луговых клязьминских просторов. Узнав, что интересует ученых, молодые люди, вооружившись ластами и аквалангами, стали нырять в глубины вод возле храма. Успех любителей-археологов, спустившихся в подводный мир, превзошел все ожидания.
Среди ила и песка были найдены белые строительные камни, обработанные рукой человека, плиты, обломки каменных масок.
Н. К. Рерих. Обитель св. Сергия.
Н. К. Рерих. Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь.
Николай Николаевич Воронин пришел к выводу, что при постройке храма зодчие, видимо, превосходно зная, что пойму весной заливает вода, проявили недюжинную инженерно-строительную изобретательность. Они соорудили высокий искусственный холм, одели его белокаменным панцирем. Фундамент уходил на глубину свыше пяти метров. Таким образом, храм был надежно защищен и от разлива, и от льдин, которые, конечно, не раз шли на приступ каменного острова.
Пройдем в храм, в котором много света, струящегося из окон.
Древняя живопись, украшавшая стены, до наших дней не сохранилась. Собор внутри не раз подвергался переделкам, и старинные фрески были вначале замазаны, а потом и вовсе оббиты. Еще в середине прошлого века стены собора хранили изображения Спасителя, архангелов, серафимов, апостолов. Можно было, хотя и не без труда, разглядеть нимбы, овалы голов, палаты. Откосы окон хранили признаки орнаментов. Об этом мы знаем по записка м и зарисовкам академика живописи Ф. Солнцева, бывавшего на нерлинском холме в середине прошлого века. К сожалению, свои зарисовки Солнцев делал весьма торопливо и бегло; по ним мы не можем судить о том, что представляли собой фрески. Особенно досадно, что не были скопированы остатки орнаментов.
…С Покровом на Нерли трудно расставаться. Каждый раз, покидая нерлинский холм, я думаю о новой встрече с поэмой из камня.
Лик веков
На вокзале, огромном и холодном, часть стены которого была полуразрушена недавней бомбежкой, на изрешеченной осколками деревянной скамье сидела женщина с ребенком. Малыш, обвив ручонкой материнскую шею, беспечно спал. Лицо женщины застыло в скорби и печали. Ее огромные глаза не замечали суеты. Она смотрела вдаль и думала о чем-то своем.
Это было в сорок первом году. На военных дорогах мне довелось видеть все, что бывает на войне. Но я никогда, наверное, не забуду одинокую женщину с ребенком на вокзале. Она и теперь представляется мне олицетворением скорби фронтовой поры. О чем она тогда горестно размышляла? О родных и близких, ушедших навсегда из родимого дома? Об испытаниях, которые были суждены ей и ее младенцу? О гибели близкого человека?
Я часто замечал, что произведение искусства глубже и проникновеннее воспринимается не само по себе, а через призму жизненных впечатлений, через сопоставление того, что хотел сказать мастер-художник, с личными переживаниями.
Воспоминания военных лет не случайно посетили меня в ту пору, когда я по шумным улицам, мостам и набережным Москвы шел в Третьяковскую галерею.
Блестит, как и века назад, над столицей золотая шапка колокольни Ивана Великого, голуби неторопливо бродят по асфальту, не обращая внимания на людскую суету, мерцает цветными отблесками храм Василия Блаженного, нескончаем поток городского транспорта…
Вырвавшись из столичной сутолоки, вы попадаете в сравнительно тихий Лаврушинский переулок. В нижних залах Третьяковской галереи вас охватывает состояние ровной задумчивости. В будничные дни, в вечерние часы, народу здесь немного. Торопливо прошла стайка школьников-экскурсантов. Пожилая женщина, опираясь на палочку, восхищенно любуется огненными красками Петрова-Водкина. Вихрастый паренек загляделся на зимние, залитые солнцем пейзажи Юона и Кустодиева.
Третьяковская галерея — бесконечный мир. Каждый в нем может найти то, что ему представляется самым важным и необходимым, отвечающим настроению. Нижний этаж галереи для меня— вечный праздник древнерусского искусства. В двух залах собраны шедевры живописи, что народ создавал столетиями: гениальная рублевская «Троица», иконы новгородского, владимирского и северного письма; аристократически утонченные работы Дионисия и трагически суровые образы Феофана Грека; иконы-исполины, украшавшие иконостасы знаменитых храмов, и миниатюрные иконки, что путники брали в дорогу.
Присядем на скамью и присмотримся к ликам — скорбным, озаренным надеждой, тревожным, умиротворенным, ликующим.
Я стою перед иконой «Владимирская Богоматерь»… Встретив ее взор, я испытываю чувство, похожее на то, какое я пережил давным-давно, в военную пору, на вокзале. Но не слишком ли далекое сравнение? Что общего между нашей современницей, испытавшей военное лихолетье, и византийской иконой, написанной много столетий назад?
Глаза матери полны чувства, которое в средние века определяли как радость святой печали. Свершится то, что должно. Грядущее неотвратимо. Дитя вырастет и примет мученический венец — пострадает за людей. Мать это знает.
В испытующем взоре есть и какая-то смутная тайна, и невыразимая словами боль, и влекущая, загадочная сила.
Игорь Грабарь, художник и искусствовед, изучавший икону «Владимирская Богоматерь», так определил свое отношение к этому произведению: «Несравненная, чудесная, извечная песнь материнства — нежной, беззаветной, трогательной любви матери к ребенку!» Игорь Грабарь пишет, что не знает произведения ни в эпоху Возрождения, ни в более близкие нам времена равной силы, равного вдохновения и равного очарования.
Князь Юрий Всеволодович. Золотая кладовая. Суздаль.
В произведении выражено то, что близко людям всех времен и народов. Нет, совсем не случайно, глядя на скорбный лик Богоматери, вспомнил я женщину военных лет, прижимавшую к себе ребенка, которому грозили, как и всем нам, многие беды.
Приблизимся к древнему творению и останемся с ним наедине.
Сын, сидящий на правой руке, прижался округлым личиком к материнской щеке, и его детские глаза устремлены к Марии. Тонкие уста матери сомкнуты, но в уголках губ мы ощущаем горечь. Глаза, в которых сосредоточена вся жизнь, устремлены вдаль. Мария придерживает левой рукой младенца, словно пытаясь робко защитить его от уготованной ему судьбы.
Ученые-реставраторы установили, что «Владимирская Богоматерь» была записана четыре раза. От константинопольского оригинала сохранилось немногое: «К древнейшей живописи XII века относятся лица матери и младенца, часть синего чепца и каймы мафория с золотым ассистом, часть охряного с золотым ассистом хитона младенца с рукавом до локтя и виднеющимся из-под него прозрачным краем рубашки, кисть левой и часть правой руки младенца, а также остатки золотого фона…»[2]
Таким образом, немногое дошло до нас в первозданном виде. Но над поновлением этой иконы всегда трудились лишь первоклассные мастера.
Можно поручиться, что если вы хоть раз внимательно вглядитесь в это древнейшее произведение искусства, то вы его никогда не забудете, станете стремиться повидать его вновь и вновь. Глаза Марии, весь ее облик так запоминаются посетителям галереи, что и спустя десятилетия при мысли о редкостной иконе они испытывают чувство благоговения перед мощью искусства.
Биография «Владимирской Богоматери» не менее удивительна, чем ее гениальное изображение. В русских летописях, сказаниях, легендах, стихах и песнях запечатлено множество эпизодов, связанных с богородицей. Если бы она могла так же говорить, как она умеет смотреть, ее рассказы напомнили бы нам о событиях отечественной истории, и трагических, и печальных, и торжественных… Сколько жизненных драм прошло перед ее очами, сколько слез было пролито перед нею… Сколько раз в прежние века глядевшим в ее глаза людям вспоминалось мрачное библейское пророчество: «…будет скорбь великая, какой не бывало от начала мира…» Но — увы! — уста «Владимирской» плотно сомкнуты, и мы должны сами попытаться приподнять завесу над тайнами ее жизни.
Что нам известно об истории знаменитой иконы?
В рукописной «Степенной книге царского родословия», содержащей летописные известия, расположенные по генеалогии русских великих князей и царей, сказано следующее: «Повесть на сретенье (т. е. встречу. — Е. О.) чудотворного образа пречистыя владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии, его же написал богогласный евангелист Лука, самовидно зря на истинную Богородицу, при животе ея…»
Средневековая Русь считала евангелиста Луку автором иконы «Владимирская Богоматерь». В основу предания был положен апокриф, гласивший, что евангелист Лука славился своим высоким образованием, был не только книжником и врачевателем, но и искуснейшим художником. В Западной Европе, да и у нас, есть несколько первоклассных станковых произведений, приписываемых Луке. Русские изографы считали Луку своим защитником и покровителем, любили его рисовать с кистью в руке.
Как ни поэтична легенда о Луке, авторе «Владимирской Богоматери», это все же легенда. Ученые до сих пор спорят, какова была первоначальная композиция иконы, дошедшей до нас лишь во фрагментах. Но теперь никто не отрицает, что она была написана в самом начале двенадцатого века, в Константинополе, неизвестным гениальным византийским мастером.
…Перенесемся мысленно в Киев начала двенадцатого века. Город окружали малопроходимые леса да поросшие густыми высокими травами степи. Мощный оборонительный вал, построенный еще в одиннадцатом столетии, защищал стольный град от половцев и других воинственных кочевников. За городскую черту можно было попасть лишь пройдя ворота — Золотые, Львовские и Лядские. У этих ворот в одиннадцатом и двенадцатом веках происходили ожесточенные схватки с врагами, богатырские поединки на виду у людного города.
Прекрасен был древний Киев, раскинувшийся на горе и подоле, с его затейливыми теремами и златоверхими храмами, каменными и деревянными дворцами и неприступными башнями, с округлыми и продолговатыми бойницами, с многоязычными торгами и площадями, по которым расхаживали внуки и правнуки былинных богатырей. До татарского нашествия Киев был одним из крупнейших и красивейших городов мира. Когда Анна — дочь Ярослава Мудрого — была выдана замуж за французского короля, то Париж ей показался провинцией.
На стольный Киев все время зарились кочевники. Это и не удивительно — в город стекались богатства Востока и Запада. На торгах рядом с хлебом, рыбой и медом, тканями, изделиями местных ремесленников продавали арабское серебро, византийские ткани, египетскую посуду, франкские мечи. Князья отлично понимали, что хранить богатства в самом Киеве небезопасно: тут и междоусобные схватки, и народные волнения, и внезапные набеги кочевников. Поэтому в стороне от города, в живописной местности над Днепром, была выстроена хорошо укрепленная княжеская резиденция— Вышгород. Там подолгу жили князья со своими семьями и дружинами, там хранились наиболее ценные сокровища.
В Вышгороде и была помещена икона, названная впоследствии «Владимирской Богоматерью».
Феодальные войны, как смерч, проносились над городами и весями Руси, перемежаясь с набегами кочевников и других вражеских племен. Борьба князей за «большой стол», т. е. за Киев, истощала силы народа. Каковы были нравы той поры, мы можем судить по таким обычаям, как посажение противников в поруб, т. е. в погреб, лишенный света, ослепление взятых в плен недругов, поголовное истребление мирных жителей. В Ипатьевской летописи, в записи за 1170 год, встречается мысль, продиктованная весьма мрачными житейскими наблюдениями: «Зол бо человек противу бесу, и бес того не замыслит, еже зол человек замыслит».
Но Русь была велика, и наиболее дальновидные люди понимали, что свет не сошелся клином на одних днепровских кручах. Свежие народные силы зрели в далеких лесах, в междуречье Оки и Клязьмы, в далеком от Киева Владимирском Залесье.
Следующая страница биографии иконы, привезенной из Византии, связана с Владимиром Залесским и с такой колоритной исторической личностью, как Андрей Боголюбский.
Князь Андрей, сын Юрия Долгорукого, не стал тратить всю энергию на бесконечную борьбу с родичами из-за Киева, который по праву старшинства принадлежал ему. Он вопреки воле отца предпочел совсем малоизвестный Владимир на Клязьме, расположенный в далекой Суздальской земле. Чтобы оценить значение поступка Андрея, вспомним, как дорожили в ту пору правом на главный стол в Русской земле. Один князь, рассказывает Никоновская летопись, не хотел даже под угрозой смерти или ослепления уходить из «Киева, потому что сильно полюбилось ему великое княжение Киевское, да и кто не полюбит Киевское княжение? Ведь здесь вся честь и слава, и величие, глава всем землям русским — Киев».
Кому приходилось бывать во Владимире, тот знает, как красив этот город, строительство которого так энергично начал решительный и непреклонный Андрей.
Владимирская богоматерь. Икона. Фрагмент. Начало XII в. ГТГ.
По весне холмы над Клязьмой покрываются белым вишневым цветом. Когда утром над рекой поднимается волокнистый туман, то огромный Успенский собор, расположенный на самом видном и высоком месте в городе, кажется плавающим в воздухе. Белокаменные стены, купола, кровля, переходы представляются вознесенными над землей. Впечатление особенно усиливается, если смотреть на город с заклязьминской стороны, от некогда непроходимых муромских лесов.
Храбрый и расчетливый Андрей не случайно избрал столицей Владимир и обнес его крепостными стенами: местоположение города, весь окружающий ландшафт напоминали и жителям, и гостям Владимира о далеком Киеве. Холмы Владимира походили на зеленые киевские горки. Сами владимирцы старались во многом подражать киевлянам. Речки, впадающие в Клязьму, получили названия Лыбеди и Ирпени. Были поставлены, так же как и в Киеве, Золотые ворота. Полноводная Клязьма, дремучие леса, окружавшие город, холмы и валы (некоторые из них сохранились до наших дней) позволяли горожанам чувствовать себя до некоторой степени защищенными от военных превратностей.
Год от года богател и украшался Владимир. Росли терема и храмы. В город вели ворота — Золотые, Серебряные, Медные, Волжские, Иринины. В посаде трудились гончары, оружейники, чеканщики по золоту, серебру и меди, эмальеры. Искусные резчики выводили узоры на белом камне, плотничьи артели возводили чертоги для знатных людей. Бойко шла продажа на торгах, куда приезжали гости из дальних городов и стран.
Но богатый, прославленный во всех концах света, воспетый в былинах Киев — родину отцов и дедов — затмить было нелегко. Чтобы усилить могущество и получить общерусское влияние, надо было добиться перевеса не только материального, но и политического. И здесь мы должны вернуться к византийской иконе, находившейся под Киевом, в Вышгороде. В одном из списков Новгородской летописи рассказывается: «И помолився князь Андрей той чудной иконе матери божии, и взя нощию святую ту икону без отче повеления, и поеха на Русскую землю со своею княгиней и со своим двором».
Андрей с помощью верных ему вышгородцев Лазаря, Нестора и Микулы перенес икону Богоматери во Владимир. Это был смелый шаг, дерзкое похищение святыни.
В окружении Андрея Боголюбского были созданы сказания о том, как царьградская святыня переселилась во Владимир. Эти легенды, исполненные простоты и поэтической прелести, пришлись по вкусу читателям и слушателям.
В сказаниях говорилось, что в Вышгороде икона чудесным образом перемещалась с места на место. Напрасно ее старались удержать там, где она много лет стояла.
Каких чудес не происходило с иконой по дороге в Залесскую землю по этим сказаниям!
Сначала она спасла тонувшего в Вазузе повозника. Потом уберегла от смерти жену попа Микулы, когда на нее налетел взбесившийся конь; затем она исцелила от «огненной болезни» володимирца; облегчила роды жене князя Андрея; помогла отроку, что отравился заколдованным яйцом; вернула зрение слепой; утихомирила сердечную болезнь муромской женщине… Но эти чудеса носили главным образом бытовой, простонародный характер. Политическая же окраска ярко выражена в приписываемом иконе самом главном чуде.
Икону везли летом на санях — таков был старинный обычай. В нескольких верстах от Владимира кони встали, и никакая сила не могла сдвинуть их с места. Заменили коней — сани ни с места. Много раз меняли коней, но сани оставались недвижимыми. Тогда решили Андрей и его спутники, что икона желает остаться во владимирской земле. На месте чудесного происшествия был позднее заложен Боголюбов-град. Знаменательному событию была посвящена особая икона — «Боголюбская». Во Владимире же построили огромный Успенский собор — «Дом Богоматери»; отсюда и пошло наименование византийской иконы — «Владимирская».
Отправилась рать Андрея на волжских болгар и возвратилась с победой, богатой добычей, воинскими трофеями. Икону брали в поход, и после воинского успеха владимирцы-ратники дружно поклонились святыне — «хвалы и песни воздали ей».
Софийский собор в Киеве. 1037.
Летописец, рассказывая о возведении Золотых ворот, упомянул небесную заступницу: из створ Золотых ворот вырвались массивные полотнища, но, к счастью, никто не пострадал.
Так создавался ореол славы вокруг иконы, но чудеса чудесами, а жизнь жизнью. Росли богатства и слава Андрея, еще быстрее росли зависть и ненависть его врагов. А завидовать было чему. Каменный дворцовый ансамбль, сооруженный Андреем в Боголюбове, превосходил своим великолепием, пожалуй, все, что до этого видела Русь. Древнерусский писатель поп Микула, описывая красоту дворцового храма, говорит, что не только вся утварь была драгоценной, но даже полы, двери и порталы были окованы золотом. Когда к Андрею приезжали знатные гости из Киева, Византии, Скандинавии, то он приказывал провести их на соборные хоры, чтобы они могли любоваться пышной красотой построек, легко и свободно вписавшихся в приклязьменский пейзаж.
Долгое время восторженные воспоминания о красоте боголюбовской резиденции казались летописным преувеличением. Но вот уже в наши дни лопата археолога коснулась земли, по которой ступал гордый князь Андрей и его искусные зодчие. Археологическая экспедиция Η. Н. Воронина выяснила, что все, о чем красноречиво писал Микула, — правда. Из земли вынули каменные резные маски, каменные головы зверей, нашли основания круглых столбов, порталы со следами гвоздей, некогда окованные тонкими блестящими листами позолоченной меди.
Слава и богатства не помогли Андрею уберечься от домашних врагов-заговорщиков. Когда убийцы тайно проникли в княжескую опочивальню, напрасно Андрей искал загодя похищенный врагами свой грозный меч, напрасно он грозил им божьим гневом. Тело убитого князя было выброшено «на огород — собакам», а соучастники убийства отослали себе домой награбленные в княжеских хоромах золото, жемчуг и ткани.
Византийская святыня стала переходить из рук в руки, ею поочередно владели местные князья, коростолюбивые и злобные. Была она в руках Ярополка, потом попала к рязанскому правителю Глебу, затем ее владельцем стал князь Михаил…
На Русь шли орды кочевников. Наступал самый мрачный период нашей истории — монголо-татарское иго.
Жертвами нашествия Батыя стали крупнейшие города — Рязань и Владимир, а затем и Киев. В былине о собаке-царе Калине мы находим отзвуки разгрома великих городов Руси Батыем:
Сбиралося с ним силы на сто верст, Во все те четыре стороны. Зачем мать сыра земля не погнется, Зачем не расступится? А от пару было от кониного А и месяц, солнце померкнуло, Не видать луча света белова, А от духа татарского Не мощно крещеным нам живым быть.Владимир и его жители были обречены. Клязьма и Лыбедь покраснели от людской крови. Большая часть горожан была вырезана. Не щадили даже детей. В плен брали лишь ремесленников, за которых на невольничьем рынке на чужбине давали огромные деньги.
На глазах истекавших кровью владимирцев произошло кощунственное святотатство. Кочевники, как драматично повествует летописец, «святую Богородицу разграбища, чюдную икону одраша, украшену златом и серебром и каменьем драгим…»
Мы не знаем имени безвестного спасителя драгоценного произведения искусства. Видимо, кто-то из уцелевших владимирских жителей тайком унес икону в непроходимые муромские леса. Где-нибудь в лесной землянке искали у нее утешение несчастные и загнанные люди, спасавшиеся от полона.
Горькое признание вырвалось из уст древнерусского писателя-проповедника Серапиона Владимирского: «Величество наше смирися, красота наша погыбе…»
Тринадцатый век на Руси — глухая, беспросветная ночь. На месте цветущих некогда городов — развалины и пепел.
Пахотные земли заросли лебедой. На медных образках, которые носили люди, безвестные мастера изображали Марию, печально прижимающую ребенка. Матери, конечно же, не переставали любить своих детей, хотя народ, как отмечают историки, «находился в состоянии мертвенного оцепенения».
Перелистаем последующие страницы истории… «Владимирской Богоматери» суждено было вновь оказаться в центре важнейших событий.
Наверное, каждый современный москвич знает залитую электрическими огнями Сретенку, где бойко торгуют магазины, движутся автомашины, до глубокой ночи снуют пешеходы. И разумеется, мало кто обращает внимание на сравнительно небольшую церковку, что стоит поблизости от Бульварного кольца. А она имеет прямое отношение к участию Владимирской иконы в отечественной истории.
1395 год. До Москвы доходит слух о том, что «покоритель вселенной» Тамерлан вторгся в русские пределы, захватил и разграбил Елец и движется со своими несметными полчищами к белокаменной столице. Представьте себе ужас населения, пережившего всего тринадцать лет назад разорительное нашествие Тохтамыша.
Москва начала готовиться к обороне.
Правда, надежд на победу было мало. С Тамерланом шла тьма воинов, всю жизнь не расстававшихся с оружием.
Несмотря на военные приготовления, население Москвы находилось в панике.
Положение в самом деле было отчаянным. И тогда великий князь Василий, сын Дмитрия Донского, как об этом сообщает Η. М. Карамзин, «желая успокоить граждан любезной ему столицы… писал митрополиту, чтобы он послал за иконою Девы Марии». Не надо думать, что это была единственная мера, на которую решился Василий. Князь собрал всех способных носить оружие и вышел навстречу дерзкому захватчику.
Икону «Владимирская Богоматерь» из города на Клязьме привезло посольство, посланное князем Василием Дмитриевичем и митрополитом Киприаном, в Москву. Все горожане и жители окрестных сел, что не ушли в ратное ополчение, вышли встречать святыню.
Это было на Кучковом поле двадцать шестого августа 1395 года.
На следующий день стража Москвы рано утром увидела всадника, который мчался на взмыленной лошади по направлению к городским валам. Ударило било. Измученный гонец в льняной, пропахшей соленым потом рубахе взошел на видное место. Он снял шапку, поклонился на четыре стороны и объявил: «Радуйтесь, добрые люди. Нечестивый Тамерлан и его поганое воинство, не приняв сражения, обратились вспять. Ночью татары оставили Елец и бегут прочь от Русской земли».
Тысячи горожан устремились на Кучково поле, где днем и ночью шел молебен перед Владимирской иконой. Уже пелась сочиненная по такому необычайному поводу стихира «Умилительная».
Когда победное войско, не потеряв ни единого человека, отогнало полчища Тамерлана и вошло в ликующую Москву, жители встречали его шумно и радостно.
Событие было столь знаменательным и редким, что в его честь ровно через год на Кучковом поле в Москве возникла Сретенская церковь.
Древнерусские писатели не могли не задуматься над тем, что же заставило грозного Тамерлана, не знавшего поражений, обратиться вспять. Была, в частности, сочинена широко бытовавшая в списках безымянная «Повесть о Темир-Аксаке». Сначала в ней рассказывалось, как Тамерлан покарал своего строптивого вассала Тохтамыша, сообщалось о походах Железного Хромца в далекие южные страны, где после его пребывания даже трава не росла, а на месте цветущих городов и селений появлялись дикие пустыни. Вторая часть ее была посвящена описанию того, как из Владимира в Москву несли чудотворную икону, как в белокаменной ее встречал народ. Средневековому писателю в этом событии виделось чудо. Он написал, что Тамерлану ночью пригрезился сон. Тамерлан ясно узрел идущих на него святителей «с золотыми жезлами» и «жену некую, в багряные ризы одешу». Тогда Тимур «ужасно вскочи, яко от тресновен бысть», и, собрав своих сподвижников, сообщил о том, что видел, и услышал от них следующее: «…на русских движемся все и без успеха метемся». Устрашенное небесным знамением, войско в ужасе обратилось вспять.
Поэтическая легенда, созданная народом, нашла свои многочисленные воплощения в фресковой и станковой живописи. Кому приходилось бывать в Ярославле, тот, конечно, помнит церковь Николы-Меленки, построенную местными мастерами в самом начале восемнадцатого века. На ее северной стене стенопись — сцены нашествия Темир-Аксака на Москву, переноса владимирской иконы и другие фрески, тематически связанные с памятным эпизодом истории.
В прошлом веке Η. М. Карамзин так повествовал о Тамерлане и его армии: «Сокровища, найденные ими в Ельце и некоторых городах рязанских, не удовлетворили их корыстолюбие и не могли наградить за труды похода в земле северной, большей частью лесистой, скудной паствою, и в особенности теми изящными произведениями человеческого ремесла, коих цену сведали татары в странах Азии».
Конечно, Карамзин, как и его современники, имел весьма смутные представления о наших древних сокровищах.
Но надо помнить и другое. Тамерлан только что разгромил в кровопролитной схватке своего недавнего вассала Тохтамыша. Потери были огромными. «Завоеватель вселенной», как его именовали приближенные льстецы, не мог не помнить о судьбе полчищ Мамая, о Куликовом поле, где его недавний предшественник потерпел жестокое поражение. Историки также пишут о том, что Тамерлан вторгся в русские пределы по инерции, преследуя убегавшего Тохтамыша, и в планы Железного Хромца не входила война с Москвой и новые кровопролитные схватки.
Знаменитая икона была помещена в соборе Московского Кремля, но Владимир властно заявил свои права на византийскую святыню. Город на Клязьме считал себя единственным и законным владельцем иконы.
Чтобы Владимир не помнил зла и не таил обиды на Москву, великий князь объявил, что во Владимир будет послан для украшения Успенского храма именитый изограф Андрей Рублев и его содруг Даниил Черный.
Вот как описывает эти события И. Э. Грабарь:
«Ввиду настойчивых ходатайств владимирцев о возвращении иконы, московский князь, желая их хоть чем-нибудь утешить, посылает во Владимир в 1408 году Даниила-иконника и Андрея Рублева для украшения Успенского собора, поновления его обветшавшей росписи и написания новых икон». В это именно время во владимирском соборе появляется копия с задержанной в Москве иконы, присланная московским князем и долженствовавшая заменить владимирцам потерянный оригинал.
Копией, в этом смысле слова, как мы его понимаем теперь, этой иконы назвать нельзя, но в то время не только русский икон-ник, но и итальянский мастер копировали настолько свободно, что эти копии являлись в лучшем случае лишь вольным пересказом оригинала. Это очень хорошо иллюстрируется одним эпизодом легенды об иконе «Владимирская Богоматерь». «Князю Василию Дмитриевичу наскучили вечные ходатайства и паломничества владимирцев. Когда одна из таких депутаций стала угрожать князю открытым восстанием, он велел заковать назойливых ходатаев в железо, а во Владимир послал отряд для подавления недовольных силою. На другой день после этой расправы пономарь кремлевского Успенского собора, открыв храм, увидел в нем вместо одной иконы „Владимирская Богоматерь“ две совершенно сходные, и не было возможности отличить, какая из них подлинно владимирская. Когда об этом было доложено князю и он лично убедился в тождестве двух икон, он тотчас велел освободить заключенных и предложил им выбрать любую. Выбранная была увезена во Владимир, после чего ропот там прекратился»[3]. Она оказалась подлинником.
Византийско-русской иконе было суждено еще один раз посмотреть в глаза кочевникам грабителям.
Московский летописный свод повествует, как нижегородский боярин Семен Карамышев по наущению своего князя Данило Борисовича навел полчища Талыча на Владимир в 1410 году. «Окаянные», как называли тогда кочевников-грабителей, сначала укрылись в заклязьминском лесу, а в полдень, увидав, что у городской ограды никого нет, сначала захватили стадо, а затем бросились сечь и грабить людей. Драма разыгралась возле Успенского собора, куда успела укрыться часть людей. Ключарь Патрикей спрятал горожан и драгоценные сосуды на верху церкви, а затем, убрав лестницы, стал «пред образом пречистые плачася». Татары ворвались в собор и учинили Патрикею жестокие пытки. Летописец говорит о мужестве и стойкости Патрикея: «Он же никако не сказа того, но многие муки претерпе. на сковороде пекоша и за ногти щепы биша и ноги порезав, ужа вздергав, на хвосте у конь волочища, и тако в том муце скончашеся».
Грабители ободрали драгоценный оклад с иконы «Владимирская Богоматерь». Неизвестные люди тайно передали ее митрополиту московскому Фотию, находившемуся во время татарского набега во Владимире. Захватчики гнались за Фотием и его спутниками, но он, по старому обычаю, укрылся в лесах.
Шли годы. Москва собирала силы, становясь общерусским центром. В 1480 году «Владимирская» окончательно «переселилась» в Москву, в Успенский собор, только что выстроенный итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти по образцу прославленного владимирского храма.
С тех пор знаменитая икона несколько столетий не покидала Москву.
Перед нею стоял на коленях Иван Грозный. Каясь в грехах царь-деспот проливал слезы и обдумывал новые казни. Надеясь откупиться от адских мучений, Иван приказал изготовить новый оклад для иконы и даже сочинил стихиру в ее честь. Драгоценный оклад по праву считается чудом работы московских мастеров.
В пору Великой Отечественной войны вместе с другими сокровищами Третьяковской галереи икона была отправлена из Москвы в Новосибирск. Так далеко на Восток икона путешествовала впервые.
После сорок пятого года икона — в Третьяковской галерее, в Москве.
Ныне, как и века назад, перед великим творением останавливаются люди и пристально глядят в проникновенные глаза той, что столько вместила в своем скорбном и проницательном взоре. Перед глазами, точнее, как говорили в старину, перед нашими духовными очами возникают огни и пепелища, сечи, звон мечей которых донесся до нас; мы можем даже почувствовать, ощутить, осязать дым и гарь далеких пожарищ.
Любуясь невыразимо-прекрасным ликом, созданным гениальным творцом, припоминая бесчисленные события — трагические и возвышенные — истории, вспомним сказанное поэтом: «Образ твой, над Русью вознесенный в тьме веков указывал нам след».
Язык таинственных узоров
Мир вам, села, просыпающиеся на рассвете… Заря играет в окнах домов, на кружеве наличников, на резных волнистых карнизах крылец, на воротах, украшенных многочисленными и равномерно повторяющимися зарубками и надрезами. Первый свет встречает деревянный конек над крышей. Он напряг свои мускулы и, окунувшись в голубеющий простор, стремится вперед.
Куда скачет резной конь? Давний обычай украшать верха изб резными коньками полон символического смысла. Жилье, над которым возвышается конь, превращается в колесницу, мчащуюся навстречу дневному светилу.
Избяные украшения не досужий вымысел наших далеких предков.
Приглядимся внимательно к сложному переплетению деревянных кружев, опоясывающих окна, крышу, крыльцо. Вдумаемся в смысл узорчатых деталей наличников и причелин. Первое впечатление: мастера вырезали сказочное узорочье по прихоти, побуждаемые своей фантазией и стремлением к красоте. В действительности, как это нередко бывает, все обстояло сложнее.
Орнамент — язык тысячелетий. Слово это латинское. В буквальном переводе оно означает «украшение, узор». Академик Б. А. Рыбаков так сказал о содержательности орнамента: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем в орнаменте смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте, как в древних письменах, отложилась тысячелетняя мудрость народа, начатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы средствами искусства».
Наши далекие предки пользовались языком орнамента задолго до появления письменности. Человек вырезал на плоской доске дугу или просто вогнутую линию, и все понимали, что это символическое обозначение радуги. Холодная снежная зима представлялась пращуру владычеством сил, враждебных людям. Весна с ее разливами, туманами, внезапными заморозками, потеплением, дождями — это схватки между зимой и летом, добром и злом. И после долгих ожиданий как вестница победы на небе появлялась радуга. Она, по представлениям древних славян, означала союз, мост между матерью-землей и небом: от дружеского согласия последних зависела жизнь человека, урожай, благоденствие стад.
Вырезая на доске радугу в виде дуги или полотенца, древний славянин призывал на помощь себе добрые силы окружающего мира и отгонял злые.
Люди долго помнили язык орнамента, придавая магическое значение ритмическим плавным завиткам, кружкам-розеткам, цветам, травам, листьям, канавкам, зарубкам, причудливым животным, обитателям подводного царства. Постепенно символический смысл треугольника, звезд, кругов забывался, хотя значение многих наиболее понятных изображений помнилось еще долго. Деревенский мастер вырезал на оконных ставнях поющих петухов, и это было понятно каждому. Петухи, своим криком возвещавшие о начале утра, были деревенскими часами. Люди про петуха говорили так: не княжеской породы, а ходит с короной; не ратный ездок, а с ремнем на ноге; не сторожем стоит, а всех будит. Поутру открывались ставни, и люди видели на створах резных петухов — образное напоминание о том, что пришла пора потрудиться.
Орнамент старше почти всех произведений искусства, какие мы знаем.
На черепках глиняных сосудов, обнаруженных в курганах, мы видим ломаные прямые линии, маленькие кружки, пересекающиеся черточки. Это примитивный орнамент, созданный тогда, когда еще вся наша история была впереди. Человек на обструганной доске вырубил знаки, олицетворяющие солнце, луну, звезды, ветер, воду, лес, надеясь, что они принесут ему удачу на охоте, обильный урожай на ниве, здоровье членам семьи. В доисторическую пору орнамент был грамотой для всех.
Вы берете глиняный сосуд и видите, что узоры на нем расположены в три пояса. Вверху — волнистая линия, символизирующая воду. В середине — спирали, означающие как бы ход солнца по небу. Точки-капли или косые линии в этом же ряду — дождь, пересекающий путь солнцу. Внизу — две параллельные линии, между которыми размещены зерна, — это земля. Простой глиняный сосуд с нехитрыми узорами — а в них отразились представления наших далеких предков об устройстве Вселенной.
Ничто не может нам так убедительно рассказать о мире наших предков, как орнамент, узоры которого обладают поразительной устойчивостью.
В орнаменте — душа народа, его меткий наблюдательный глаз, неистощимая выдумка, его характерная символика. «Из поколения в поколение, — пишет Б. А. Рыбаков, — вышивали архангельские и вологодские крестьянки языческую богиню земли с поднятыми к небу руками, всадников, топчущих врагов, священные деревья и птиц; жертвенники и знаки огня, воды и солнца, давно забыв о первоначальном смысле этих знаков… Каждый ученый, который хочет разгадать загадки древних орнаментов, должен заглянуть в ту эпоху, когда впервые формировались основы смыслового значения орнамента, опуститься в глубь веков на 5–6 тысяч лет».
…Мир вам, села, проснувшиеся на рассвете.
В поморской избе с коньком вся мебель городская. Деревянные скамьи, поставцы и табуретки давным-давно отслужили свой век. Они пылятся на темном чердаке, забытые и ненужные. Я умывался утром не из обожженного глиняного рукомойника, что еще совсем недавно был в ходу, а из жестяного штампованного умывальника, сделанного в соседнем городке. Хотел вытереть лицо висящим махровым полотенцем, но хозяйка ласково и певуче сказала: «Погодите чуток, я вам чистенькое принесу».
Из сундука был быстро вынут белоснежный холст, расшитый красными нитями. Геометрические узоры равномерно устремились к центру края, где была изображена одинокая женская фигура со вздетыми кверху руками.
— Кто это? — спросил я хозяйку, указывая на вышитую фигурку.
— Просто так. Никто.
— А откуда узоры берете?
— Со старых полотенец.
Современная вышивальщица не вкладывает в узоры особого смысла; меж тем особа, вышитая на полотенце с поднятыми руками, имеет довольно почтенный возраст. Сегодня, как сотни лет назад, женщины вышивают на полотенцах праматерь-землю, вздымающую руки к солнцу, прося у него щедрот людям. От тех, видимо, времен дошла до нас и земледельческая поговорка о зависимости урожая от погоды: не земля хлеб родит, а небо.
…Днем я брожу по тихим деревенским улицам, любуясь резьбой. Особенно хороши наличники — на каждой избе свои. Одни окна окружают белоснежные деревянные кружева, на других — свисающая вниз пышная декоративная листва, третьи поддерживают летящие птицы, четвертые обведены волнистой линией, над пятыми плавает берегиня — русалка, окруженная сетью водорослей и стайкой рыб… В наличниках многое перекликалось с кружевами и вышитыми тканями. Недаром существовала загадка: «Круг гуменца, четыре полотенца».
Даже в одном селении резьба, как и орнамент, разнообразна по своему исполнению. Вот умелец резал узоры на гладкой доске вглубь, а вот мастер трудился над тем, чтобы на поверхности возникли рельефы, создающие игру света и тени. Есть наличники расписные, на которые красками нанесены узоры.
Дом Елизарова. Северо-Карельский заповедник.
* * *
Вдалеке от Москвы, среди раздолья полей, затерялся ее младший брат — город Юрьев-Польский, основанный, как и наша столица, Юрием Долгоруким. В центре города стоит Георгиевский собор, построенный в 1230–1234 годах из белокаменных плит.
— Этот собор, — воскликнул однажды ученый, — достоин того, чтобы стоять под стеклянным колпаком…
Восторг знатока понятен. Во всем сооружении нет ни одной плиты, которая не была бы украшена «хитрецами» (так летопись называет резчиков-мастеров): белокаменные рельефы зверей, птиц, фантастических существ, человеческие маски. Плиты собора, как ковром, покрыты рельефным растительным орнаментом, придающим собору праздничное великолепие. Рассматривая сложное переплетение листьев, стеблей и цветов, вспоминаешь слова Стасова о том, что ряды орнамента — это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и назначенная не для одних только глаз, а также и для ума, и для чувства.
Очень трудно, к сожалению, в настоящее время расшифровать общую идею, положенную в основу декоративного убранства Георгиевского собора. Дело в том, что к пятнадцатому веку верх здания разрушился, и в 1471 году собор восстановил из старых резных плит каменных дел мастер В. Д. Ермолин. При перестройке расположение плит было настолько изменено, что сооружение стало напоминать прочно сшитую книгу, в которой все страницы перепутаны. Не одно десятилетие ученые бьются над тем, чтобы представить себе первоначальный вид убранства… Первую реконструкцию недавно предложил московский ученый Г. К. Вагнер.
Я гляжу на плиту с выпуклым изображением птиц, заключенных в узоры причудливых орнаментов с задумчиво-прекрасными цветами, и чувствую себя так, словно попал в сад русской сказки.
Слава Георгиевского собора, его рельефов и орнаментов переходила из века в век. Создатели произведений декоративного искусства — резчики по камню, дереву и кости, изографы (переписчики книг), иконники — заимствовали мотивы украшений в Юрьеве-Польском, перерабатывали их в соответствии с требованиями современности. Даже сейчас, разглядывая палехскую или мстерскую шкатулку, нет-нет да и встретишь завиток или сплетение ветвей, напоминающие виденные на стенах Георгиевского собора.
Н. К. Рерих. Юрьев-Польский. Собор. Этюд.
Так от времен Юрия Долгорукого и доныне народное искусство ощущает притягательную силу старинного сооружения, покрытого каменным кружевным узором от подножия стен до сводов.
В Суздальском Ополье века наложили свой отпечаток и на пейзаж, и на убранство деревенских домов, и на названия селений, и на местные предания и легенды… Вот лес, где под пнем однажды юрьев-польской крестьянкой был найден богатырский шлем, украшенный чеканным изображением архангела Михаила, золотой выбитой пластинкой, на которой среди стилизованного растительного орнамента двенадцатого века видим грифонов и птиц. Шлем принадлежал князю Ярославу Всеволодовичу и был, очевидно, потерян им во время битвы у притока реки Колокши, что течет под Юрьевом-Польским. Вот деревня, где, по преданию, долго стояла орда кочевников, разгромивших Владимир и Старую Рязань. Улица выглядит как выставка наличников, украшенных сквозными и выемчатыми узорами. Среди вьющейся зелени проглядывают деревянные кружева и полотенца, а на них нанесены то простенькие волнистые линии, то причудливо извивающиеся сплетения, напоминающие рельефные украшения в Георгиевском соборе. Но не будем терять драгоценного времени: ведь вся владимирская земля — огромный заповедник народного искусства, уцелевшего в разнообразных проявлениях до наших дней. Если мы хотим увидеть орнамент — этот сверкающий красочный поток, искусство линий, форм и красок, то, конечно, не минуем Мстеру, где живут художники-миниатюристы, кружевницы, вышивальщицы, чеканщики. Здесь мы встретим узоры, передающие красоту солнечного дня, покрытого цветами луга, игру теней на лесной поляне.
Мстера — живописный поселок со старинной церковью (где ныне музей), с каменными торговыми рядами, с березовой рощей. Здешние жители — потомственные живописцы. Деды и прадеды современных миниатюристов цепко держались давних традиций, любили стиль «под старинный». За последние полвека, конечно, все изменилось. В Мстере делают лаковую миниатюру на папье-маше — так же, как в Палехе, Холуе и Федоскине. От старого письма Мстера сохранила любовь к цветистости и глубине изображения, к орнаментальному обрамлению рисунка. Не случайно в Мстере живут и работают блистательные и глубокие знатоки орнаментов.
Здешние художники могут не только по одному-двум завиткам определить происхождение «музыки для глаз», но и создать новые узоры, сверкающие золотом, доставляющие нам глубокое зрительно-художественное наслаждение.
Фрагмент вологодского кружевного подзора. XIX в.
Вологодские кружева. Фрагмент подзора (шов по письму). XIX в.
На современной мстерской миниатюре орнамент не только сдерживает буйство красок, разбросанных по фону, но и играет самостоятельную декоративную роль.
Искусство Мстеры в прошедшие десятилетия украсили такие народные умельцы, как Николай Клыков, Иван Морозов, Иван Фомичев. Живописали они на шкатулках и пластинах битвы, гуляния, проявляли неистощимую фантазию, создавая красочные сцены по былинным и сказочным сюжетам. И на каждой из их работ мы видим орнаментальное убранство, удивительные узоры: вариации на темы, взятые то с прадедовских икон, то с фресок церквей владимирской земли, то из летописей незапамятных времен… Но нигде не встретишь такого праздника линий, завитков, розеток, самых разнообразных и узорчатых построений, как в работах Евгения Васильевича Юрина, старейшего художника Мстеры. «Музыке для глаз» посвятил он всю жизнь, все его шкатулки и панно — это ковры, покрытые орнаментом. Я не знаю, есть ли еще в современном отечественном искусстве художник, для которого область орнамента стала единственной и всепоглощающей любовью.
Попав в дом Евгения Васильевича, сразу понимаешь, как много о человеке говорит окружающая его бытовая обстановка. Переступив порог, вы оказываетесь в царстве кружевного узорочья. Окна и двери украшены белоснежными занавесками, мстерскими кружевами. В поселке, про который говорят: «ни деревня, ни город», редкая женщина не занимается рукоделием. Мстерские кружева — «елочка», «травка», «цветы», ритмично повторяющиеся на занавесках, — славятся по всей стране. На полу горницы — разноцветные половики, с узорами симметричных сочетаний.
За плечами Евгения Васильевича — большая жизнь, но он по-молодому подвижен и строен. Это особенно удивительно, если вспомнить, что работа миниатюриста требует многих часов усидчивого уединения и адской терпеливости, постоянной тренировки рук и остроты глаз. И, конечно, полного напряжения зрительной памяти, воображения, всех духовных и физических сил.
Евгений Васильевич, общительный и словоохотливый, доверительно рассказывает о своей жизни и работе. Орнаментика с детства пленила его. Еще совсем ребенком он усердно срисовывал с икон, что писали его дед и отец: волнистые линии, кружочки, ореолы. Став художником, Юрин много лет посвятил изучению орнамента, старого и нового. Тысячи и тысячи зарисовок. Он сделал точные копии орнаментов, что встречаются во владимирских, суздальских, юрьев-польских, вязниковских, ярославских соборах. Срисовывал наличники и причелины.
Н. К. Рерих. Крестьянка из-под Пскова в праздничном наряде.
Побывал на Русском Севере. Очень полюбил растительный орнамент и поэтому днями пропадал в окрестностях Мстеры — среди полей, лугов, в тенистых лесах, на берегах рек и озер.
— Орнамент, — говорит Евгений Васильевич, — неисчерпаем, как прошлое и современное, как история и жизнь. Поэтому узор — мой главный и любимый герой.
Как чистый и неиссякаемый ручей, орнамент пробивается через века и тысячелетия, неся живительную влагу из подземных глубин столетий и отражая в своих прозрачных ключевых водах свет современности.
Орнамент — музыка, которую можно видеть… Цветочный хоровод, словно в танце, движется, соблюдая соразмерность математически точное и регулярное чередование. В бесконечных повторах, паузах, многообразных фигурах и арабесках сочетается прихотливая сложность и наглядность.
Орнамент — музыка. Иногда величавая, торжественная, полифоническая. Но орнамент может быть и мелодией пастушьего рожка, поющего в поле под одинокой березкой.
Нет возможности перечислить все предметы, которые украшает орнамент, выполненный средствами росписи, гравировки, вышивки.
Перед мысленным взором встают страницы древнерусских книг, сияющие нетускнеющими красками орнаментов и пышными заставками. Ведь книга уже тогда была не только средством познания, но и воспитателем художественного вкуса. Укрывшись за монастырскими стенами, художник украшал библейский текст своими миниатюрами и орнаментами, темы для которых он черпал из легенд и верований своего времени.
Встречается орнаментальный рисунок на величественном соборе и крестьянском берестяном лукошке, с которым девочки и теперь ходят в лес по малину. Орнамент покрывал донце прялки и стены Грановитой палаты в Московском Кремле.
Художник, занимающийся нанесением узора, должен был чувствовать вещь, знать ее особенности. Узор, что хорош для ювелирного украшения, не годился для чаши; одно дело — обрамление окна, другое — иконы.
Каждый предмет требует своего сложения в орнаменте, соответствующего ритма. У Юрина особое, я бы сказал, музыкальное зрение. Его работы можно увидеть во многих музеях страны, они не раз побывали и на зарубежных выставках.
Юрин изучает народный орнамент в резьбе по дереву и камню, в старых рукописях, на стенах соборов, на эмали, керамике, коврах, вышивках, кружевах. Не раз он отправлялся в поездки, чтобы увидеть затерянную где-нибудь в ветлужских лесах церковку или полюбоваться наличниками в деревне, находящейся вдалеке от больших дорог, за лесами, за озерами.
Мы идем с Евгением Васильевичем по утренней Мстере, улицей, где дома глядят на нас окнами в тонких деревянных кружевах. Мы выходим к березовой роще, откуда видны луга, речки, деревеньки на буграх и облака, уходящие к горизонту. Я спрашиваю художника: — Евгений Васильевич, что же вы не показали мне свой альбом, где, говорят, зарисованы тысячи орнаментальных узоров?
— А у меня его нет, — отвечает Юрин.
— Как же нет? Ведь вы из каждой поездки привозите множество рисунков…
— Альбом я свой подарил музею. Пусть молодые люди смотрят и учатся, — говорит Юрин. — Не хочу, как Кощей, над златом чахнуть.
Солнце все выше и выше поднимается над привольем, опуская на землю золотые лучи. Они напоминают мне нить, что распускается по дороге, от сказочного клубка, катящегося через поля широкие, горы высокие, леса дремучие.
Я думаю о том, что орнамент — это путеводная нить от прошлого к нашим дням.
Мстера, как и ее ближайшие соседи — Холуй и Палех, это живое и непосредственное припоминание былого. Предки завещали нам в наследие глубокие и чистые, никогда не иссякающие родники, к которым мы — новые и новые поколения — не можем не приобщаться с величайшей охотой, удовольствием и радостью. Более же всего этому способствуют орнаментальные письмена-грамоты, пришедшие к нам из глубин времен.
Эхо скифских пиров
В старых византийских хрониках, относящихся еще к шестому веку, рассказывается о славянах-гуслярах, жителях далекого Севера, куда дорога занимает пятнадцать месяцев. Во время сражения греков с врагами были взяты в плен чужеземцы, непохожие на воинственных обитателей причерноморских степей. Пленники отличались высоким ростом и крепостью. Вместо оружия чужеземцы-великаны носили с собой гусли. Оказывается, это были славянские послы, которых воинственный хан силой удерживал у себя. Когда греки спросили великанов, кто они и откуда, послы ответили: «С оружием обходиться не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране нашей; не зная войны и любя музыку, ведем жизнь мирную и спокойную».
Конечно, в этом эпизоде многое идет от поэтического вымысла. Жизнь северных славян не была столь идилличной. Но есть в рассказе и зерно истины. «Согласие византийских историков, — отмечал Η. М. Карамзин, — в описании сего происшествия доказывает, кажется, его истину, утверждаемую и самими тогдашними обстоятельствами Севера, где славяне могли наслаждаться тишиною, когда германцы (в конце шестого века) удалились на юг и когда разрушилось владычество гуннов».
Полулегендарная история с гуслярами-славянами открывает, наверное, первую страницу в музыкальной жизни страны.
На огромной территории, где селились наши предки, в курганах, археологи находят различные по виду и величине колокольчики и бубенчики. Отыскивали их и на побережье Черного моря, на Урале, в Сибири… Звон, по древнеславянским и иным поверьям, предохранял человека от действий враждебных магических сил.
Еще много веков после свержения идолов народу грезились языческие сны и, несмотря на запреты и наказания, по городам и весям с веселой музыкой бродили скоморохи, и даже аскетам-монахам, впадавшим в искушения, чудились звуки гуслей и сопелей. Поэтому все знали: кто привечает скоморохов, тот помогает дьяволу. Но любовь к музыке была неискоренима.
В Софийском храме в Киеве найдены фрески, изображающие играющих и поющих скоморохов. Молодой человек держит в руках струнный инструмент, два скомороха дудят в трубы, пляшущий музыкант поднес к губам свирель. Этот живописный и весьма наглядный документ говорит g том, что в Киеве одиннадцатого века были распространены струнные, смычковые и другие музыкальные инструменты. Без музыки и песен был невозможен ни праздник, ни пиршество, ни похороны.
Больше же всего наши предки любили гусли. Гусельки яровчатые награждались в сказках, легендах и былинах самыми ласковыми именами и определениями.
На шумных пирах князя Владимира, воспетых в былинах, бывал богатырь Добрыня, ловкий дипломат, храбрый воин и одновременно искусный музыкант. Одна из киевских былин рассказывает, что, когда Добрыня пришел на «почестей пир», Владимир Красное Солнышко тут же его попросил:
Ай же ты Добрынюшка Никитинич млад! А бери-ка ты гусёлышки яровчаты, Поподёрни-ка во струнки золоченые, По-уныльному сыграй нам, по-умильному, Во другой сыграй да по-веселому.И, конечно, Добрыня играет на гуслях так, что сначала все призадумались, закручинились, а потом весело ударил по струнам и «во пиру привел всех на весельице».
Русь помнит и другого гусляра, героя новгородских былин, — Садко, испытавшего со своими яровчатыми гуслями множество приключений. Запев былины новгородского цикла начинается словами:
Как во славном Новгороде Был Садко, веселый молодец; Не имел он золотой казны, А имел лишь гусельки яровчаты; По пирам ходил-играл Садко, Спотешал купцов, людей посадских.Если Добрыня Никитич играл на княжеских пирах, то Садко увеселял торговых и посадских людей. Былина рассказывает, как Садко даже побывал в подводном царстве и так потешил игрой на гуслях водяного царя, что от буйной пляски владыки морей начали тонуть корабли.
Кстати, далеко не все знают, что Садко, с именем которого связано столько музыкальных и волшебных легенд, действительно существовал. При раскопках церкви в новгородском Детинце выяснилось, что ее в 1167 году заложил Сотко Сытинич. Не он ли был тем, кто тешил своей игрой морского царя?
Во многих песнях, играх и обрядах, доживших чуть не до наших дней (в деревнях еще помнят), мы видим отзвуки далекой музыкальной старины, связанной с обожествлением природы, когда небо, солнце, лес, луга представлялись людям живыми существами. Языческие верования забывались, а песни, сопровождаемые игрой на бесхитростных инструментах, вроде рожка, долго еще оставались в памяти народной. В деревнях средней полосы, лишь начинали колоситься озимые, молодые люди собирались к околице, становились в два ряда и брали друг друга за руки. По их рукам шел украшенный лентами и цветами ребенок. В поле ребенка опускали на землю, он срывал несколько колосьев и бежал с ними в село, а юноши и девушки пели:
Пошел колос на ниву, На белую пшеницу… Родися, родися, Рожь с овсом; Живите богато Сын с отцом.Игра называлась «Водить колосок». В ней мы не можем не заметить отзвуков языческих игрищ, в которых музыка и пение составляли неотъемлемую сторону обряда.
И поныне существует в северных деревнях игра: парни и девицы сходятся ряд на ряд и поют:
А мы просо сеяли, сеяли! Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли!Мало кто, конечно, знает, что Лада — богиня любви древних славян, а Дид — ее сын, прекрасный, как Аполлон.
Народ веками шлифовал свои песни и манеру их исполнения, создал многоголосие, — оно появилось, потому что у нас любили пение «всем миром», т. е. хором. Полифонические приемы народной песни, ее своеобразие и задушевность были широко использованы русскими композиторами. О красоте и пользе народной музыкальной культуры одним из первых писал Михайло Ломоносов: «Сладостные звуки родимой песни и музыки в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства высокие воспитуют».
Чисто деревенский музыкальный инструмент, доживший до нас с незапамятных времен, — рожок. И в наши дни в некоторых районах, например в пастушьих владимирских селах Небылом, Никульском и Невежине, рожки звучат, как при вещем Олеге. В суздальском кинотеатре в предвоенную пору выступал оркестр рожечников.
…Летняя непоколебимая тишь. Изредка на березовый перелесок, чуть розоватый от малиновой зари, набежит легкий ветер, и опять все смолкнет. Но вот луговая тишина нарушается. На бугре, среди двух берез, сидит старик с рожком, напоминающий Велеса, древнеславянского бога домашнего скота. Пастух надувает красноватые щеки, выводя мелодию за мелодией. Старинные печальные звуки, проникающие своей протяжной тоской в сердце. Даже белесое облачко, стремглав мчавшееся на встречу с зарей, останавливается, чтобы послушать пастуха. Стадо пощипывает траву, а старик услаждает безлюдную окрестность мелодиями давних лет.
Игра на рожке не простое занятие. Кроме умения, которое дается не всем и не сразу, требуется и физическая тренировка, хорошие легкие. Пастух с рожком во владимирских селах издавна ценится выше, чем пастух, не имеющий рожка.
Я гляжу на заскорузлые руки деда Родиона и удивляюсь, как он ловко ими действует, передвигает пальцы, меняя мелодии. Поет рожок Велеса — дяди Родиона, и все лето тучнеет стадо. Недаром крестьянки никогда не жалеют для пастуха лакомого куска самого сладкого пирога.
— Дядя Родион, — спрашиваю, — давно на рожке играешь?
— У нас в роду все рожечники. Рожок мне дедушка подарил. Мастерил дуду прадедушка Пров Аршинов. В старое время все наше село на рожках играло. Деды помнят, как к нам композитор Бородин приезжал. Гудошники из Веси первыми пастухами были: уходили на лето пасти стадо не только по суздальским и владимирским деревням, но и дальше — на Оку, Каму, Волгу…
Села между Суздалем и Юрьевом-Польским — живые хранители рожечного музыкального искусства.
«Не брани меня, родная». Лубок. 1857.
По всей вероятности, на владимирскую землю рожок был принесен переселенцами с берегов Днепра. В народной загадке о рожке говорится так: в лесу вырос, на стене вывес, на руках плачет, кто слушает — скачет.
Рожечник был непременным участником свадьбы, крестин, рекрутских сборов, семейных встреч и проводов. На иконе семнадцатого века «Собор Богоматери», привезенной из Владимира в музей имени Андрея Рублева, изображены пастухи с рожками и трубами. В семнадцатом-восемнадцатом веках в помещичьих усадьбах держали рожковые оркестры.
В семидесятых годах прошлого столетия любитель народной музыки Николай Кондратьев собрал пастухов-музыкантов в оркестр, гастролировавший по России с неожиданным успехом. Два сезона Кондратьев со своими друзьями выступал в Париже, вызывая восхищение своеобразными наигрышами далекого Севера. Газеты писали, что в мелодиях рожка чудится «эхо скифских пиров». Максим Горький встречался с рожечниками на Нижегородской ярмарке. Он писал:
«Ребята в желтых азямах и в высоких поярковых шляпах собираются на эстраде.
И вот льется унылая, переливчатая, грустно вздыхающая русская песня. Кажется, что это поет хор теноров, — поет где-то далеко только одну мелодию без слов. Звуки плачут, вздыхают, стонут… и очень смешной контраст с грустной песней представляют надутые, красные лица.
Печальная песня оборвалась.
— Давно играете?
— Которы лет сорок дуют…»
Надо сказать, что и в наши дни рожечная музыка живет и совершенствуется. Весной 1967 года в прессе появилась заметка «Владимирский рожок в Бокс-Хилле». Рассказывая, что в Австралии с огромным успехом выступал Государственный народный русский оркестр имени Η. П. Осипова, корреспондент отмечал: «Когда в руках мастера Семена Хуторянского заговорил владимирский рожок, ликованию не было предела». В заметке приводились слова, сказанные австралийским учителем: «Ваши инструменты, конечно, необычайно поразительны. Но сила-то ваша в другом: в мелодичности, красоте, свежести ваших напевов. Какой-то неизбывной юностью веет от вас».
Гусли, рожок, свирель, воинские трубы, ударные медные тарелки — все это досталось нам в наследство от древних времен. После принятия христианства народ внес много нового в музыкальную культуру.
Культовое пение существовало еще на Руси языческой. В Киеве было немало ценителей музыки. Когда князь Владимир отправил своих послов в Византию для «испытания веры», их пленило царьградское богослужение, отличавшееся великолепием и пышностью, но больше всего им пришлось по душе пение. Они, по собственному их признанию, не знали, где находятся — на земле или на небесах.
В десятом-одиннадцатом веках в Киев стали часто приезжать греческие певцы, появились церковные хоры. Заимствовав византийское осьмогласие (восьмигласие) — мелодическую систему, служившую основой пения, — наши предки стали переводить греческие тексты на русский язык. Но при переводе надо было менять и ритм мелодий — и пение принимало новый, славянский характер. Мы знаем даже имена первых русских людей, наученных «певческой премудрости»: монах Киево-Печерской лавры Стефан, новгородец Кирик и владимирец Лука.
Научились русские люди записывать церковные мелодии своими певческими знаками (их называли знаменами), сохранив их для грядущих поколений. «Степенная книга» с гордостью отмечала, что в Русской земле существует «ангелоподобное пение изрядное».
С пятнадцатого века повсеместно распространилось, как тогда говорили, красное пение — старинный торжественный распев. В церквах его называли домественным пением, от греческого слова «доместик» — главный певчий. Порядок был такой: один доместик стоял на правом клиросе, другой — на левом вместе с хором, а между ними находился уставщик, выполнявший роль дирижера. Пение было стройным и благозвучным.
Любила Русь колокольный звон. Уже в первой половине четырнадцатого века (а возможно, много раньше, но сведений нет) колокола делали в Москве и Новгороде. Новгородская летопись в 1342 году отметила: «…архиепископ Василий велел слить колокол великий к святой Софии и привел мастера из Москвы, человека почтенного, по имени Борис». Этот же Борис, по словам летописца, отливал колокола для Москвы и других городов. Высказываются предположения, что именно Борис, освоив новое мастерство, положил начало литью колоколов в России. Церковные колокола, звучавшие на десятки верст, были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным инструментом. Колокола звучали «во дни торжеств и бед народных». Многие века колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность.
Радостным мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с Куликова поля. Под колокольный звон проходили по Москве ополчения Минина и Пожарского, изгнавшие интервентов из столицы. Колокол созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались судьбы города.
Колокола обычно изготовлялись в пушечных мастерских.
В. И. Суриков. «Взятие снежного городка».
Пушечных дел мастера лили преимущественно крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность), как правило, отливали мелкие звоны и била. Литье колоколов и бил считалось почетным делом. Летописец, желая похвалить итальянского мастера Аристотеля Фиораванти, нашедшего у нас вторую родину, писал о нем: «Пушечник нарочит лити их и бити ими; в колоколы и иное все лити хитр вельми». Когда отливался большой колокол, то летописец заносил это событие в свою хронику, не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела. Тверской летописец так отозвался о мастере-пушечнике Микуле Кречетникове: «Мастер, яко и среди немец не обрести такова». (Немцами тогда именовали обычно любого иноземца-европейца.)
На миниатюре пятнадцатого века запечатлена отливка колокола в Твери. Сначала мы видим колокол отливаемым в форме, а потом уже висящим на звоннице. Мы даже можем разглядеть на миниатюре и изображение специальных печей для плавки. В колокольный сплав, состоявший из меди и олова, добавляли серебро — для благозвучности. Отсюда и выражение «серебряный звон».
С колоколами были связаны самые различные поверья. Когда, например, приступали к литью крупного колокола, то нарочито распускали ложный слух. Надо было выдумать что-нибудь совершенно маловероятное, чтобы молва расходилась от села к селу, от города к городу. Считалось, что, чем дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол. Было дурной приметой, если колокол ночью позвонит сам по себе. Тот, кто услышит ночью звон, должен ждать для себя величайшего несчастья. Так, в Москве, в самом центре, висел набатный колокол, который в разговорной речи именовался всполошным. Все знали, что за колоколом числилась крамола: до 1478 года он был вечевым колоколом Великого Новгорода, затем его отобрали у новгородцев, перевезли в Москву и перелили. Но бывшему новгородцу мало пришлось послужить москвичам. В 1681 году глухой ночью царь Федор Алексеевич вскочил в испуге: ему показалось, что всполошный колокол сам по себе позвонил. Разгневанный царь утром созвал ближайших бояр и держал совет. Колокол отправили в ссылку за тридевять земель, в глухую и лесистую Карелию. Так новгородский «бунтовщик» и не прижился в Москве.
О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество остроумных притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток. Колокол был, например, для деревенских жителей своего рода часами, возвещавшими о начале дня. Поэтому в ходу была поговорка: первый звон — пропадай мой сон, другой звон — земной поклон, третий звон — из дому вон. Иногда звонница с колоколами представлялась селянину неким ревущим чудищем, поэтому и говорили: стоит бык на горах о семи головах, ребра стучат, бока горят. О колокольных звонах повествовали метафорично: сидит петух на воротах, косы до полу, голос до небу. Или еще так: на каменной горке воют волки; рыкнул вол на семь сел; живой мертвого бьет, мертвый благим матом кричит, на крик народ бежит. Эти загадки легко отгадывались.
…На берегах озера Неро, между Москвой и Ярославлем, стоит Ростов Великий, ныне небольшой город, которому перевалило за тысячу лет. В этом городе вы себя чувствуете так, словно перенеслись в эпоху былинных богатырей, хотя сохранившиеся до наших дней сооружения относятся в основном к семнадцатому веку. Здесь все поразительно: бесконечная гладь озера, высокие стены, башни и переходы, огромные купола, вздымающиеся в небо… Недаром К. С. Станиславский вместе со своими друзьями-артистами, перед тем как поставить на сцене Художественного театра трагедию «Царь Федор Иоаннович», приезжал сюда, чтобы почувствовать колорит старины, ощутить себя современником давно отшумевших дней.
Ростовский архитектурный ансамбль сложился в пору, когда здешним митрополитом стал энергичный деятель Иона Сысоевич, выходец из крестьян, одаренный могучей волей, честолюбивый, много повидавший на своем веку, начитанный, обладавший художественным вкусом. Удаленный из Москвы за приверженность к патриарху Никону, Иона Сысоевич затеял в Ростове огромное строительство. Опальному митрополиту хотелось, чтобы сооружения Ростова Великого напоминали Московский Кремль и не уступали ему в блеске и величии. Иона Сысоевич, конечно, хорошо знал о звонницах столицы, понимал, какую торжественность вносят колокола в жизнь.
Летняя звонница ростовского Успенского собора, построенная в 1682 году зодчим Петром Досаевым, обладала поразительными акустическими особенностями: звуки колокола распространялись не вверх, а по горизонтали. Сначала на трехпролетной звоннице разместились колокола — в тысячу пудов весом, в пятьсот и мельче. Совместное звучание колоколов первого ростовского звона создавало минорный лад; печальные звуки колоколов отвечали настроению опального Ионы, удаленного из Москвы. Но времена менялись, ростовского митрополита стали часто приглашать в столицу, его общественное положение упрочилось. Город на берегах озера Неро разрастался, мастера создали величественный архитектурный ансамбль. Приходившие и приезжавшие в Ростов попадали в атмосферу праздничного великолепия. Возникла необходимость в новом звоне, который настраивал бы слушателей на торжественный лад.
Трудное дело — отливка колокола весом в две тысячи пудов — было поручено редкостному умельцу-литейщику Фролу Терентьеву. Мастер создал гигантский музыкальный инструмент, отличавшийся бодрой, радостной звуковой окраской.
Иона Сысоевич был так доволен звучанием колокола в две тысячи пудов, что назвал его в честь своего отца, крестьянина Сысоя. Сохранилась запись, сделанная митрополитом: «На своем дворишке лью колоколишки, хвалят людишки». В этих словах — весь характер Ионы Сысоевича — размашистый, с хитрецой, горделивый.
Каждый заметный колокол в Ростове имеет свое имя: Большой Сысой, Полиелейный, Лебедь, Голодарь, Красный, Козел… Более мелкие колокола безымянны. Когда ударял Большой Сысой, весивший две тысячи пудов, то вся окрестность наполнялась гулом, звон его был слышен за двадцать пять верст. У каждого колокола — свои переливы, у каждого звона — свое назначение. Ионинский исполнялся в торжественных случаях, колязинский отличался плясовым ритмом, георгиевский — плавным, «малиновым звоном».
Народная музыка привлекала в Ростов людей со всей России. В середине прошлого века знаток акустики Аристарх Израилев сделал нотную запись ростовских звонов.
В наши дни звук каждого из колоколов в точности копируют миниатюрные камертоны, что находятся в местном музее; они не раз демонстрировались на международных выставках и всегда получали премии. Несколько лет назад ростовцы были свидетелями и слушателями необычайного праздника колоколов. На старую звонницу поднялись мастера редкой, почти исчезнувшей профессии — звонари А. Бутылин, М. Урановский, Н. Королев, В. Пушкин, П. Шумилов. Ударили ростовские колокола в полную силу. Воздух раскололся от гула. Стаи голубей взмыли в небо. Горожане собрались на площади. Что же происходило? Ростовские звоны. записывались на пластинки. Теперь, сидя дома, мы можем услышать, как мерно бьет Большой Сысой, как поет Лебедь…
В народных стихах, посвященных Егорию Храброму, о колокольных звонах упоминается в ряду самых дорогих для русских людей понятий:
Выходил Егорий на святую Русь, Завидел Егорий свету белого, Услышал звону колокольного, Обогрело его солнце красное.Композиторы-классики часто обращались к неисчерпаемым богатствам народной музыки. Глинка многократно использовал в своих операх и симфонических произведениях народные музыкальные мотивы. Вспомним хотя бы знаменитую «Камаринскую». Танеев был крупным знатоком «красного» пения. Рахманинов восхищенно писал о колоколах и вводил звоны в свои творения.
После многолетнего перерыва в Большом театре поставлена опера Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже и деве Февронии».
…Дирижер взмахнул палочкой, и мы услышали напевные мелодии былин, пастушьи и скоморошьи наигрыши. Мерные ритмы сменились напряженным, горестным раздумьем песни про монголо-татарский полон.
Разошелся занавес, и зрители увидели дремучий лес и мудрую деву Февронию, кормящую диких зверей. Кругом лесная благодать, тишина, угрюмость ели смягчена нежностью белостволой березы.
Феврония славит природу, родную ей с младенчества: «Ах ты, лес мой, пустыня прекрасная, ты дубравушка, царство зеленое, что родимая мати любезная, меня с детства растила и пестовала».
Об этом произведении, навеянном старорусскими легендами и давними музыкальными мотивами, Римский-Корсаков скромно сказал: «Это просто народные предания. А мое внимание вызвала их красота».
Весь зал дружно аплодировал, когда под колокольный звон град Китеж становился невидимым, скрываясь от захватчиков на дне озера Светлояр.
…Есть сказка о том, как Иван-царевич искал похищенную Вихрем свою матушку Настасью Золотую Косу. Отыскав родительницу, расправившись с Вихрем, Иван-царевич сел пировать. Тут и он, и Настасья Золотая Коса услышали «невидимую музыку»: звонят гусли, переливаются колокольчики, а где игроки — неведомо. Вот такая «невидимая музыка» в наши дни — музыка древней Руси. В наших архивах лежат нерасшифрованными, непрочитанными книги со старыми нотными знаками — «крюками». Никто не поручится за то, что в архивах нет музыкальных произведений, равных по ценности рублевским иконам в живописи, «Слову о полку Игореве» в литературе.
Деревянная сказка
В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака, и березка, шепчущаяся с травой, и суровая северная ель, и лишайник, карабкающийся вверх по склону каменистого откоса… Но что может по живости, прелести и очарованию сравниться с водой? Волнуемые ветром волны, отражающие в себе зеленое и голубое, — живая жизнь. Так думал я, когда на простом деревенском паруснике плыл по рябоватым просторам Онежского озера. Оно манило к себе прозрачностью и глубиной. Я вспоминал, что в старину считали воду плодотворящей, целебной, очистительной, вещей силой. Когда при гадании наши бабушки, бывшие еще молодицами, смотрелись в зеркало, надеясь увидеть в нем суженого, то это был модернизированный обычай испрашивать будущее у воды.
Озеро меняло свои краски. Сначала, когда рассвет едва вспыхнул над еловой кромкой, вода была темной-темной, холодной и неприветливой. Потом цвет озера стал оловянным; когда же лучи солнца заиграли на нашем парусе, вода повеяла свежестью, заколебалась, словно в танце, стала теплой по своим оттенкам, манящей к себе.
Куда я еду?
Мой путь в мир русской сказки — древние Кижи.
Те, кто не бывал на Онеге, думают, что Кижи — это островок, случайно затерявшийся среди водных просторов. Это мнение ошибочно. Знающие люди рассказывают, что на озере — ни много ни мало— 1650 островов! Глядя на ели и березы, отраженные в воде, на солнце, краснеющее в волнах, облака, проплывающие, словно невесомые корабли, я вспоминал пейзажи Рериха, Нестерова, Писахова. Последний, посвятивший свою жизнь Русскому Северу, был живописцем и сказочником. В одном из писем Писахов, приглашая меня в Архангельск, писал: «Приезжайте к нам на Север, своей красотой венчающий земной шар».
Едем час… третий. Неторопливая езда успокаивает. И когда вдали показалась ажурная башня Гарницкого маяка, мой знакомый лодочник Савелий Васильевич сказал:
— В Кижи теперь многие ездят.
— А раньше?
— Раньше было тихо.
Лодочник, пожилой морщинистый человек, немало побродивший на своем веку с топором и пилой, много поработавший (об этом свидетельствовали его сильные, корявые, избитые руки), помолчал и добавил:
— В войну до Кенигсберга дошел. Все видел. Такой красоты, как у нас, нигде нет.
Зримым подтверждением его словам на солнце заблестели золотистые главы Кижского погоста.
Потом все было как во сне. Я прыгнул на глинистый берег и бегом побежал на встречу с деревянной сказкой, с чудом, что сотворили плотники-зодчие.
Солнце умывалось за неровной кромкой бора…
Что такое Кижи?
Две многоглавые церкви, отделенные одна от другой колокольней. Все из дерева. Двадцать две главы Преображенского собора.
Здесь, берега во тьме раскинув,
Спит озеро, глаза смежив. Напевною загадкой линий, Как чудо светлое России, В Онеге плавают Кижи. Юрий АдриановМножество, множество куполов, покрытых лемехами — резными пластинками из осины, что, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами все здание устремляется вверх, в заоблачные выси.
Кто создал эту лесную и озерную сказку — Преображенский храм?
Лодочник говорил просто и трогательно, его слова гармонировали с тихой ласковостью заонежских далей.
— Долго плотники работали, — неторопливо пояснял Савелий Васильевич. — Щепу возами возили. Это глазом легко смотреть. Глаз-то он барин, а рука — работница. Главы были поставлены, и новехонькие стены закрасовались, как молодицы на гулянке; подошел к озеру мастер по имени Нестер. Плотники его окружили. Топор у Нестера был, дорогой ты мой миляга, загляденье. Во всем Заонежье такого топора не было. Люди говорили, что у Нестера топор-то заколдованный. Что же он, мастер, сделал? Поцеловал Нестер топор и бросил в озеро. Плотники зашумели, стали жалеть — можно ли такому орудию в воде пропадать? А Нестер им в ответ сказал: «Церковь поставили, какой не было, нет и больше не будет. И топору моему теперь место на дне». Прошлым летом ребятишки ныряли, хотели в озере топор отыскать, да где там…
Главки церкви разновелики, но в их многоярусном подъеме живет плавный ритм.
Савелий Васильевич неожиданно легко взбегает по ступенькам крыльца, отороченного резными подзорами. С возвышенного места открывается вид на озеро, испещренное белесыми всплесками и солнечными бликами. Представляю себе, как рослые и кряжистые северяне — переселенцы из Великого Новгорода — входили, сняв шапки, на гульбище и смотрели на эти бесконечные водные просторы, защищавшие их от врагов.
Преображенская церковь — памятник русской воинской славы. Она была построена в 1714 году, когда в Северной войне боевое счастье стало служить войскам Петра. Шведские захватчики постоянно опустошали озерный Русский Север. Избавление от всегдашней угрозы набегов было радостным событием для местного населения. Ликующий облик Преображенской церкви явился «эхом русского народа», воплотившимся в архитектуре. Впечатление усиливает и высота здания, составляющая около сорока метров.
В каменных храмах мы обычно видим стены, украшенные фресками, изображающими библейские сцены. Здесь нет фресок, простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя.
Кижи. Преображенская церковь. Фрагмент.
Покровская (1764) и Преображенская (1714) церкви в Кижах.
До войны «небо» собора было украшено иконами, среди которых находились и довольно большие, размером до восьми метров.
Савелий Васильевич, чувствуя себя в Кижах своим человеком, с удовольствием вспоминает:
— В эту церковь ходила еще моя бабка Олена. Она помнила, что стены и иконы прежде были украшены золотистыми полотенцами и вышивкой. Олена, бывало, помолится, а потом красные узоры разглядывает, чтобы дома платок или занавеску вышить.
Надо сказать, что в Заонежье женщины издавна прилежно и умело рукодельничают. В земском статистическом сборнике я вычитал, что в десятых годах здесь работало около пятисот вышивальщиц. На огненном кумаче крестьянки вышивали белым тамбуром сказочные цветы, зверей, птиц, условные фигуры людей. Или, наоборот, на белый холст наносилась красная вышивка. Любили также геометрические узоры: Иногда вышивали белым по белому. На ажурный фон сетки белой льняной нитью наносились пышные растения.
Место фрески в деревянном храме занимали иконы. Северные письма резко отличаются от суздальских или строгановских икон. Творения здешних художников простонародны, бесхитростны, голосисты по своим краскам.
— Взгляните-ка сюда, — советует лодочник.
С потемневшей от времени иконы глядят на меня суровые мужицкие лики старцев.
— Знаете, кто это?
Я смущенно молчу, перебирая в памяти имена библейских героев. Нет, видимо, это местные святые.
— У нас, — поясняет Савелий Васильевич, — каждый пожилой человек с ходу скажет, что это Зосима и Савватий. Они монастырь в Соловках основали. Богатое на Белом море было хозяйство. Даже персики в оранжереях росли.
По соседству с колокольней — Покровская церковь, опоясанная резным деревянным кружевом. Солнце уже высоко стоит над островом. Меняется освещение — меняются и Кижи. Мне трудно покидать этот сказочный мир. Но Савелий Васильевич торопит. Он знает, что поздно вечером туман, как саваном, прикроет местность. Мы должны засветло добраться до дому. И я, отплывая от берега, кричу во весь голос: «До свидания, Кижи! Я к вам непременно вернусь!»
Новая встреча с Кижами произошла неожиданно быстро. В Москве, в пользующемся широкой известностью Выставочном зале на Кузнецком мосту, была открыта своеобразная выставка «Памятники старины в живописи». Художники с трепетом и трогательным душевным подъемом изображают на полотнах Кижи.
Прялка. Деталь. Роспись В. М. Амосова. Северная Двина. 1890.
Прялка. Деталь росписи. Северная Двина. Нач. XIX в.
Я видел Кижи ночью, Кижи, залитые солнцем, выделяющиеся своим силуэтом на фоне вечернего неба. Ни один памятник архитектуры не был изображен живописцами столько раз, сколько Кижи. Видно, что Заонежье пленило мастеров кисти. Эту выставку можно было бы по праву назвать праздником Кижей.
Гоголь в свое время писал: «Архитектура — та же летопись. Она говорит миру, когда уже молчат и песни и предания». В самом деле, мы уже не поем песен тех, что пели петровские полки, отправляясь в поход на шведов. Мы не помним тех времен, когда прорубалось «окно в Европу». Но я смотрю на полотна, изображающие Кижи, и думаю о тех временах, когда Петр Первый «Россию поднял на дыбы».
Кижи — это величавая поступь петровских ратников.
Кижи — завещание потомкам, наказ любить свою страну.
Кижи — это бессмертная Древняя Русь, художественное прошлое, живущее в настоящем.
Мне как-то довелось по душам разговориться с Сергеем Тимофеевичем Коненковым, человеком, бесконечно влюбленным в дерево — материал, с которым работал всю жизнь. Он, помнится, сказал: «Многоглавую церковь в Кижах я считаю прекрасной. Она порождена народным гением. Часто думаю о строительных артелях, бродивших по Руси, создававших затейливые произведения архитектуры с помощью такого нехитрого инструмента, как простой топор…»
Дерево — постоянный спутник наших предков.
Лес и родина нераздельны, и в их судьбе много общего. Лес всегда был верным другом русских людей, их кормильцем, надежной защитой от многочисленных врагов. Прадеды охотились в дремучих чащобах, бортничали — добывали дикий мед — и, тесня непроходимые дебри, отвоевывали места под пахоту и пастбища.
Позднее, когда Русь украсилась избами, теремами и деревянными храмами и на нее стали зариться полчища восточных кочевников, густые леса надежно укрывали стариков, женщин и детей от угона в монголо-татарский полон, от рабства. Наученные годами тяжкого лихолетья, люди стали по границам государства Московского ставить постоянные сторожевые посты, создавать лесные завалы, непроходимые для конницы кочевников. Стоило на горизонте показаться вражеским лучникам, как на вершине тысячелетнего дуба вспыхивал костер, поднимая к облакам черные клубы дыма. Увидев дымное облако, зажигало свой костер следующее охранение, затем третье… Население Мурома, Касимова, Коломны заблаговременно предупреждалось об опасности.
Дары леса сопровождали человека на протяжении всего жизненного пути — от лубяной зыбки и резной игрушки в детстве — до смертной кончины — могильного креста да гробовой доски.
Самое насущное в крестьянском быту — изба, изгородь, сани, соха, прялка, лапти, ложка, кадка, ткацкий стан, веник, деготь, пряничная доска — все это щедрая дань, взимаемая народом с необъятного зеленого океана.
«Вряд ли какой другой народ вступал в историю со столь богатой хвойной шубой на плечах: именитым иностранным соглядатаям, ездившим сквозь нас транзитом повидать волшебные тайны Востока, Русь представлялась сплошной чащобой с редкими прогалинами лесных поселений… — пишет Леонид Леонов. — Лес стоит такой непролазной крепостью и такого сказочного ассортимента, что былины только богатырям вверяют прокладку лесных дорог».
Живя среди бескрайних лесных массивов, народ, естественно, много думал о деревьях, их свойствах, о применении дерева в быту — для хозяйственных нужд и украшений, складывал песни, сказки, загадки, пословицы и поговорки.
Сойдутся парни на посиделки, зажгут лучину (и свет давало дерево!) и спросит приятелей хозяин-бобыль:
— Ну-ка, отгадайте, ребята, что такое: стоит дерево, цветом зелено; в этом дереве четыре угодья: первое — больным на здоровье, другое — от тени свет, третье — дряхлых, вялых пеленание, а четвертое — людям колодец.
Загадка не из трудных. Кто же не узнает свое родимое дерево? Дружки в один голос отвечают:
— Береза! Первое угодье — банный веник, второе — лучина, третье — береста на горшки, четвертое — берестица!
А сколько в зимние вечера пелось задушевных песен про березу, липу, калину, дуб, рябину…
Народ различал дерево сошное (т. е. идущее на основу сохи), дерево мачтовое, кривое дерево (годное на вязь), матичное, семенное и т. д. Обилие древесины внушило горделивую поговорку: лес по дереву не плачет.
Мало дошло до нас замечательных старинных деревянных сооружений — они гибли от частых пожаров и довольно регулярных военных лихолетий. Народная память сохранила в фольклоре смутные воспоминания о некогда существовавших сказочных теремах и роскошных палатах. В сборнике «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова описывается, как воинская хоробрая дружина строит терема невесте Соловья Будимировича Забаве Путятишне:
Со вечера, поздным-поздно, Будто дятлы в дерево пощелкивали, Работала его дружина хоробрая, Ко полуночи и двор поспел: Три терема златоверхие, Да трои сени косящаты, Да трои сени решетчаты, Хорошо в теремах изукрашено: На небе солнце, в терему солнце, На небе месяц, в терему месяц, На небе звезды, в терему звезды, На небе заря, в терему заря — И вся красота поднебесная.Богато и разнообразно народное зодчество. В нем есть свои весьма устойчивые образы.
Исследователи подметили, что народное искусство нельзя уподоблять быстро летящему коню бурного и несдержанного индивидуального творчества. Народное искусство вернее сравнивать с медленным плотом на могучей реке, преодолевающим постепенно тысячеверстные пространства. При вечном неторопливом движении уходило на дно все лишнее, временное, наносное. Оставалось лишь насущно необходимое.
Очень интересны крестьянские избы и амбары.
Перенесемся мысленно на лесистые берега Северной Двины. Дом, поставленный здесь помором, напоминает неприступную крепость. Он двухэтажный, окна — их пять или шесть — прорублены высоко над землей. К строению примыкают сени, сарай, кладовая, составляющие с домом одно целое. Снаружи стены не принято обшивать досками. Во многих домах — три-четыре горницы.
Словом, северная изба производит впечатление вековечной прочности, она олицетворяет победу сильного, мужественного человека над суровой природой. Гордый и сильный северянин не жалел бревен на постройку и возводил не подслеповатую избенку, а крепость, в которой не страшны ни полярная ночь, ни хищный зверь, ни лихой человек. Всего дороже, говорилось в народе, честь сытая да изба крытая.
Совсем другое дело — изба на средней Волге: небольшая, обшитая тесом, нередко выкрашенная голубой или белой краской, украшенная деревянными кружевами, резными наличниками, часто с петухом-флюгером на крыше. Это строение напоминало сказочную избушку на курьих ножках, что «пирогом подперта, блином покрыта».
Есть единственное в своем роде волжское селение Вежи, родина дедушки Мазая. Это о Вежах писал Некрасов:
Летом ее убирая красиво, Исстари хмель в ней родится на диво, Вся она тонет в зеленых садах; Домики в ней на высоких столбах…В детстве, в Костроме, за несколько лет до войны, мне довелось побывать в Вежах и увидеть там много диковинного.
Здешние места — заливные луга, низины, изобилующие речками, болотами, озерками. Когда весной разливались Волга и Костромка, то вся эта местность на много десятков верст, за исключением наиболее возвышенных холмов, покрывалась водой. В воде стояли леса и рощи, звери спасались на островках-гривах; вода нередко заливала и деревенские улицы.
Жители костромских заречных деревень, расположенных вдоль извилистой речки, в особенности селений Ведерки и Спас-Вежи, не боялись по весне большой воды; хлебные амбары, рыбные склады, парные бани были поставлены на могучих дубовых сваях, благо за строительным лесом ходить далеко не приходилось. В бывалошное время крестьяне, отгороженные от остального мира болотными топями, озерами, непроходимыми лесными чащобами, чувствовали себя вольготно — начальство предпочитало избегать путешествий в эту сторону. Недаром один из некрасовских героев говорит:
«А нашу-το сторонушку черт три года искал».
Крепкий краснощекий малый лет тринадцати вызвался показать нам свою деревню. Когда мы спросили, как его зовут, он равнодушно ответил:
— Петькой.
— А фамилия?
— Мазайкин.
И чтобы избежать дальнейших расспросов, добавил:
— Дед Мазай наш прадед был. Многие интересуются, как Некрасов в нашей избе останавливался. Только об этом теперь никто не помнит. Как деда покойного не стало, так некому и рассказывать.
Мальчик держался с необыкновенным достоинством. Остановившись возле деревянной церкви на дубовых сваях, Петя сказал:
— Смотрите, без одного гвоздя построена.
Суровая красота была запечатлена в облике деревянного храма-терема, поблескивающего на солнце золотистой главкой, что венчала островерхую кровлю. Внешний вид церковки удивительно соответствовал всему, что нас окружало. Поставленная с помощью топора, она была родной этим лесам и озерам, неяркой, чуть приглушенной зелени окрестных лугов, она словно перекликалась с сероватыми облаками, что ветер уносит в сторону Костромы.
Храм Преображения, который мне довелось увидеть в Вежах, — один из самых редкостных. Дело даже не в том, что он на сваях, хотя, конечно, дубовая колоннада, держащая храм, придает ему совершенно неповторимый облик.
Поводырь с медведем. Богородская игрушка Вторая половина XIX в.
Щедры и размашисты контуры: в сооружении много веселой простоты в лестницах и переходах, гордо вздымается к небесам деревянная кровля. Мастера-древоделы поставили храм Преображения в 1628 году: Это было время возвращения к мирным заботам. Русь только что изгнала со своей земли польских интервентов, покончила с «тушинским вором» и другими недругами. Неподалеку от этих мест совершил свой бессмертный подвиг Иван Сусанин. После ратных лет люди с радостью сменили меч на орало. Охотно взялись за топоры древоделы. По тогдашнему обычаю, памятные события отмечались сооружением храмов. Конечно, мастера в Вежах не смогли взяться за работу сразу после войны. Видимо, не так-то просто было местным людям собраться с силами. Понадобилось пятнадцать лет, чтобы начать сооружение храма Преображения.
…Петя Мазайкин повел нас по широкой лестнице на высокое храмовое гульбище. Первозданная панорама предстала нашему взору; луговые просторы смотрели на нас глазами озер-чаш, можжевеловые кусты указывали путь к лесной опушке; возле деревни забавно возвышались домики на сваях, издали похожие на огромные пчелиные ульи.
Прошло много лет.
Мне, как и моим землякам из Заречья, пришлось побывать на новоселье деревни деда Мазая и Преображенского храма.
Я прохожу через массивные ворота за каменную крепостную стену Ипатьевского монастыря, и передо мной, как видение отроческих лет, как ожившая сказка предстали домики на сваях — амбары и баньки села Спас-Вежи.
Силой и народной жизнерадостностью веет от единственного в стране храма на сваях, помолодевшего и похорошевшего после переноса и реставрации. Однако здесь, в каменных стенах, храму-богатырю не хватает вековечного простора, зеленой и водной стихии, среди которой он возник и прожил столетия.
…Я мысленно прощаюсь с берегами Волги и приглашаю читателей совершить со мной прогулку в Коломенское, включенное ныне в городскую черту Москвы.
Коломенское издавна привлекало москвичей красотой, обширными заливными лугами, расположенными за рекой, и богатыми возможностями для соколиной охоты.
В 1532 году при отце Ивана Грозного — Василии Ивановиче была возведена при летних княжеских хоромах шатровая церковь, про которую летописец восхищенно писал, что «вельми чудна высотою и красотою и светлостью, такова не была на Руси». Желая подчеркнуть значение нового собора, летописец записал в свой рассказ любопытную деталь: пир по случаю освящения церкви длился три дня.
В семнадцатом веке был сооружен деревянный Коломенский дворец — летнее местопребывание царской семьи. Дворец воплотил в себе лучшие архитектурные традиции, навыки деревянного зодчества, выработанные веками.
История сооружения такова. Осенью 1666 года застучали топоры, запели пилы в непроходимых муромских и брянских лесах. Плотничьи старосты, приехавшие из Москвы, указывали, какое дерево следует валить. Не дожидаясь половодья на Оке, Угре и Жиздре, лучшую древесину лошадьми поволокли в столицу, на высокий коломенский берег. Весной, в первых числах мая, началось строительство летнего дворца. Работами руководили «плотничий староста Сенька Петров и стрелец плотник Ивашка Михайлов».
Терема с башенками, с сенями и переходами, светлицы, чуланы, оружейные и стряпущие избушки, рундуки стрелецких караулов, церковки, спальни с потаенными ходами, мыльни, кладовые, бесчисленные крыльца сооружались с невиданной быстротою. Полноводная Москва-река едва успевала уносить щепу и стружку. Государевы плотники старались вовсю. К осени дворец был готов. Но сложные отделочные работы были еще впереди.
Матрешки. Современная народная игрушка.
Дворец внутри и снаружи решено было украсить резьбой, точеными фигурками, позолотой и рисунками. Со всей земли были собраны искусные резчики и художники, в частности те, кто уже трудился над украшением монастыря на реке Истре. Резным делом занимался многоопытный мастер монах Арсений, умелец и художник, знаток разнообразных орнаментов. Нам известны имена и сотоварищей Арсения по работе — это Клим Михайлов, Давыд Павлов, Андрей Иванов, Герасим Окулов, Федор Микулаев. Обычно в книгах отмечались лишь имена заказчиков. Сооружение Коломенского дворца было таким почетным делом, что история сохранила фамилии тех, кто трудился топором и «всякой столярной снастью». До нас дошли (что большая редкость!) даже некоторые биографические сведения о строителях. Так, из документов мы узнаем данные о Климе Михайлове: «Климка Михайлов, родом из Шклова города, делает резное дело по дереву под золото, да столярное дело; в первую службу взял его добровольно в Шклове боярин князь Григорий Семенович Куракин и жил у него на Москве без крепости с год и женил его князь на дворовой своей русской девке Анютке и, женясь, прожил у князя зиму и отдал его бывшему Никону Патриарху на время, тому ныне четырнадцать лет, с тех мест жил он в Воскресенском монастыре восемь лет».
«Под лаской вкрадчивой резца» дерево, выросшее в окских просторах, превращалось то в легенду, то в песню. Карнизы, подзоры, наличники украшали дворец, словно кружево. В Москву спешили заморские корабли, они везли краски для росписи дворца и листовое золото для отделки стен.
Живописная артель во дворце трудилась под руководством Симона Ушакова, художника, сторонника «обмирщения» искусства.
Дворец радовал взор светлыми красками, узорчатой резьбой, позолотой, причудливыми цветными узорами. Один иноземец, посмотрев только что отделанные хоромы, в письме сравнил их с игрушкой, которую только что вынули из ящика. Польские послы, побывав на приеме в новом дворце, отправили на родину восторженное послание, где дотошно описывали все, что им пришлось увидеть. Вот строки из их послания: «На подворье пред хоромами врата толсты дубовые, так толсты, как дуб уродился, резные, хотя и не глубоко вырезаны, достаточно пригожи… Хоромы царского величества с лавками и печами довольно пригожи… Оных хором несметное число… Признать, что место зело весело и хорошо».
Любопытно простодушие послов, которые не забыли похвалиться в письме, что их угощали в столовой сахаром, пастилами, вишнями и пряниками. Гостей дворца приводили в восторг деревянные львы, которые рычали с помощью потайного механизма.
Церковь Вознесения в Коломенском. 1532 г.
Таков был пышный Коломенский дворец. Москвичи восторгались этим строением. Поэт-просветитель семнадцатого века Симеон Полоцкий, посещавший его, написал поэму, которая заканчивалась такими пышными словесами:
Нет лучшего, разве дом небесный, Семь дивных вещей древний мир чтише, Осьмий див сей дом время имеет наше.Роскошному дворцу, к сожалению, не суждена была долгая жизнь. Дерево не мрамор и не гранит — оно недолговечно. Сто лет спустя — после того как дворец потребовал значительного ремонта — его разобрали, и лишь кусты акаций, посаженные по линиям основания, еще долго напоминали людям о замечательном памятнике русского деревянного зодчества.
Теперь многочисленные посетители Коломенского судят об исчезнувшем сооружении по искусному макету дворца, воспроизводящему с большой точностью хоромы семнадцатого века. Впечатление такое, словно смотришь в перевернутый бинокль: большое выглядит малым, уменьшенным в пропорциях. По мере того как вы разглядываете макет, растет ваше изумление перед «осьмым чудом света» и вы искренне жалеете, что двери миниатюрного дворца слишком малы и вы не можете переступить их порога. Модель была выполнена в прошлом веке, спустя сто лет после разборки дворца. Некий умелец Д. Смирнов тщательно воспроизвел по чертежам и картинам общий план дворца и его резные украшения. Мы видим Коломенское в миниатюре, как бы с птичьего полета…
Бродя по коломенским холмам, любуясь отдельными резными золочеными деталями дворца (их уцелело очень немного), я думаю о той поре, когда мы, наконец, восстановим терема.
Я люблю тебя, Хохлома
Даже не знаю, когда я впервые увидел тебя. Думается, мы знакомы всю жизнь. Я помню груды черно-золотистых мисок, продаваемых на шумных базарных площадях возле волжских пристаней. Как искрились на солнце золотистые узоры посуды, ярче которой, наверное, ничего не было в маленьком, небогатом среднерусском городе!
Никогда не забуду, как в нашем гвардейском батальоне во время Великой Отечественной войны степенный и рассудительный ездовой Степан Иванович Рассохин напевал нескончаемую песенку:
Хохлома, Хохлома, Волжская сторона…Степан не взял у старшины алюминиевую ложку, смущенно пробормотал: «Своя есть. Запасливый солдат без своей ложки не ходит». Получив порцию аппетитной, вкусно пахнущей гречневой каши, ездовой неторопливо достал из темно-зеленого вещмешка деревянную ложку. Ах, что это была за ложка: ручка золотистая, по темному черенку рассыпаны цветы — лепестки золотые, венчики красные, по краям ободка нанесены алые рябиновые ягоды и чернозубчатые листочки.
Рассохинская ложка как-то сразу полюбилась всем. Глядя на нее, солдаты вспоминали о невероятно далеком доме, о родных местах, где такое неоскудевающее приволье, где цветы и радость, где их ждут самые близкие — матери, жены, дети. В минуты откровенности ездовой задушевно и неторопливо рассказывал: «Ложкарь я кержацкий. И батя, и дед, и прадед в семеновских местах ложкарили. Была у нас такая присказка: наша ложка узка, таскает по три куска, надо б ложку развести, чтоб таскала по шести…»
Когда окровавленного Рассохина рослые санитарки понесли на носилках к медицинской двуколке, ребята положили ему под голову вещмешок. Ездовой чуть приподнял русую курчавую голову и спросил:
— Ложку-то, ребята, не забыли?
Все по-доброму заулыбались и закричали:
— Нет, в мешке она…
Рассохин развязал узел мешка, достал ложку и сказал спокойно и серьезно:
— На память, ребята. Лихом не поминайте!
Несколько месяцев спустя мне писали из батальона в госпиталь побратимы, что рассохинской ложкой, сделанной в Семенове, в Заволжье, они ели гречневую кашу, сваренную в походном котле, стоявшем в мае сорок пятого года у стен рейхстага в Берлине. С Рассохиным мы больше не встречались.
В ожерелье народных ремесел современная Хохлома наш драгоценный бриллиант. Вы приходите на выставку, и первое, что бросается в глаза, — бочонок, чашка и поставец, ярко украшенные золотом и киноварью. Вы берете бочонок, такой массивный и тяжелый с виду, и рука вдруг чувствует, что он совсем легок. Ну, конечно, не как пух — ведь бочонок сделан из дерева, но тяжести ожидаешь потому, что он похож на металлический. На нем незатейливые золотистые узоры «травкой», «ягодкой», «листочками».
Мы едем песчаной лесной дорогой. Здешние места издавна считались глухоманью, и тысячи читателей хорошо их знают по популярным романам Мельникова (Печерского) «В лесах» и «На горах». Ныне росписью дерева занимаются в Горьковской области, в окрестностях города Семенова. Свое название роспись получила от крупного торгового селения Хохломы, где бывали ярмарки и куда привозили свои изделия ложкари из окрестных селений — Большие и Малые Хрящи, Семино, Кулыгино, Новопокровское.
Хохломская роспись.
Сразу после революции в Семенове открыли школу художественной обработки дерева, потом создалось творческое содружество, работающее и поныне. Есть в Семенове музей, собравший местные хохломские изделия.
Машина скачет на ухабах, а молодой шофер Михаил Иванович сердито цедит сквозь зубы: «Не машина, а гроб повапленный: сверху блестит, а внутри гниль…»
«Повапленный»— старое слово. Прежде чем липовые, осиновые или березовые баклуши будут расписывать, их подвергают тщательной обработке. Сначала их сушат, потом грунтуют — покрывают глиной («вапой»). Повапить — значит выкрасить.
На березах, ольхе, соснах дрожит предутренняя роса. Хороши здешние края!
Из книг и рассказов старожилов узнаем любопытные подробности о том, как зародилось здешнее полымя красок. В старину все население страны употребляло исключительно деревянные ложки и деревянную посуду. Поэтому ее производили во многих местах, в том числе в Кирилло-Белозерском монастыре, в Москве и Троице-Сергиевой лавре, в тверских и калужских местах. Художественной отделке посуды придавалось немалое значение. Недаром ее дарили послам и знатным иностранцам. Особенно любили украшенную утварь ярославские и костромские народные художники.
Мы не знаем в точности, когда ремесло появилось в Заволжье, куда в семнадцатом — начале восемнадцатого века потянулись раскольники, основывая в непроходимых лесах укромные скиты. Среди раскольников, наверное, было немало людей с художественным вкусом — керженская деревянная посуда широко славилась уже тогда. В музеях хранятся ковши и чаши, сделанные еще раньше. Несомненно, что знаменитое хохломское «золото» и орнамент «травка» возникли на основе уже существовавших многовековых художественных традиций.
Читатель спросит, почему же именно «золото» пришлось по душе кустарям? Разве мало других веселых, радующих глаз цветов?
Золото всегда было олицетворением счастливой, богатой жизни, довольства, красоты и чистоты. В народе говорили: «золото не горит, а чудеса творит»; «золото веско, а кверху тянет»; «живут — золото весят» (т. е. живут в полном достатке) и т. д.
Крестьянин собирал свадебный пир. Бедна была домашняя деревенская обстановка! Подумайте, как приятно было в семье хлебопашца поставить на стол отливающую золотом посуду, украшенную гроздьями рябины, травным орнаментом.
На реке Унже в Макарьеве устраивалась всероссийская ярмарка. На нее везли деревянные изделия из заволжских лесов: лопаты, лотки, совки, ложки, чашки, корыта, ведра, блюда, миски, дуги. Отсюда пошла слава местных изделий. Отсюда их отправляли не только по всей Руси, но и грузили этим ходовым товаром волжские суда, чтобы отправить его в Среднюю Азию и в далекую Персию.
В пушкинскую пору журнал «Северный архив» поместил очерк лейб-медика Г. Ремана о поездке на одну из макарьевских ярмарок. Почтенный лейб-медик с удивлением и восхищением описывал виденное: «…Длинный ряд возов с необходимой в домашнем быту деревянной посудой, из коей многие статьи могут почесться редкостями в своем роде… Почти вся посуда, служащая для сельской роскоши, весьма хорошо покрыта желтым или темным лаком и украшена снаружи позолоченным или посеребренным бортиком, большая часть ее делается в деревнях Семеновского уезда».
Ремана поразило то, что отдельные чаши были огромных размеров — около полутора аршин в диаметре!
Очень точная характеристика изделий местных умельцев дана в прошлом веке в «Землеописании Российской империи» Е. Зебловским, сказавшим, что «товар их легок, чист, крепок, светел». В девятнадцатом веке хохломские изделия — приятные по виду, дешевые по цене — охотно покупались и крестьянами и городским людом.
Знаток народного быта писатель С. Максимов также отмечал широкую популярность изделий волжских умельцев: «Они мастерят… ложку „межеумок“, которой вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и „бутызку“, какую носили бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Здесь же точат и те круглые расписные чаши, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или свежим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов».
Расширению промысла способствовало и то, что основное сырье — береза, липа, осина — было в изобилии под рукой. Местные умельцы опровергли мнение о том, что осина не древесина. Осина, желтовато-белая, мягкая, как воск, легко резалась и с успехом шла на поделки, изделия из нее не трескались и не коробились. Посуда ритмично украшалась диковинными узорами и растениями. Мастеру было важно найти красивое соотношение орнамента и фона. По золотистому фону круто завивались растительные побеги, черное чередовалось с красным. Мастера хорошо понимали, что узор, наносимый на вещь, должен соответствовать ее величине, форме и назначению. Иногда на посуде делались надписи. На огромной, чуть не метр в диаметре бурлацкой чаше по борту было выведено: «Сия чаша для бурлаков, приятно кушать им на здоровье».
Между тем история несла гибель огненной Хохломе. Деревянная посуда вытеснялась из обихода населения. Стекло и металл шли на смену дереву, в быт все больше проникала штампованная посуда. Да и запасы сырья, как ни были они в Заволжье огромны, стали ощутимо иссякать. Мастера в восьмидесятых и девяностых годах девятнадцатого века все больше и больше впадали в нужду. Нижегородское начальство едва ли обратило бы внимание на этот прискорбный факт, но выяснилась небольшая подробность: не с кого оказалось взыскивать установленный налог, так как в избах и карманах ложкарей было пусто.
Земство сделало попытку вызвать общественный интерес к чисто декоративной стороне искусства, зная горячий интерес к Хохломе коллекционеров и любителей. Заволжские изделия появлялись в продаже в модных магазинах. Видные художники стали присылать мастерам внешне привлекательные образцы. Конечно, все это несколько оживило промысел, но, к сожалению, художники не всегда учитывали традиции старинного ремесла, его столетиями сложившиеся особенности, истоки. И вот Хохлома начала делать вещи чересчур вычурные. Наш привычный милый ковшик, который так любили в Заволжье, нежданно-негаданно принял форму… головы свирепого дракона. Солонка вдруг стала напоминать змею, спинка кресла — лошадиный череп. Поклонникам моды это казалось «обновлением».
Конечно, выпускались и более привычные вещи, но бесхитростно-строгий, прозрачно-светлый хохломской почерк с его травами в орнаменте стал меркнуть.
Возрождение Хохломы началось уже в наше время, в тридцатые годы. Страстно выступил в защиту огненного, праздничного, жизнеутверждающего искусства журнал «Наши достижения», редактируемый Максимом Горьким. Государство оказало ремесленникам существенную помощь. Видный знаток народного искусства Анатолий Васильевич Бакушинский помог мастерам разобраться в старом художественном опыте, верно подметив, что успех дела зависит от восстановления истинных хохломских традиций.
Вот тут-то и пригодились знания и навыки старых мастеров, охотно взявшихся обучать молодежь. Подрастающее поколение художников сумело внести в старое искусство много нового, свежего. Юношество полюбило горячую цветовую гамму Хохломы. Богаче, разнообразнее, веселее стал орнамент, освеженный декоративно-сказочным изображением ягод и цветов заволжских лесов, фруктов, птиц, животных.
Возрождая добрые традиции старой Хохломы, молодежь искала и свои решения. В предвоенную пору в Третьяковской галерее была открыта большая выставка «Народное творчество».
Хохломские ложки.
Посетители ее обращали внимание на портал «Весна» братьев Подоговых. В этой работе мастера красочно изобразили цветущие черемуховые ветви, а среди буйного цветения — поющих птиц.
…Наша машина останавливается на краю деревни Новопокровское, которая в старину именовалась по-смешному — Бездели. В дороге я спросил у шофера:
— Вы знаете, почему раньше так называли — Бездели?
Михаил Иванович широко улыбается, напоминая своей улыбкой моего фронтового друга Рассохина, и отвечает:
— Дело у них исстари какое — ложки да миски. Кисточкой балуются. А прежде считали деды настоящим делом землепашество. Вот и прозвали — Бездели.
Этот исторический рассказ показался мне весьма убедительным.
Сначала мы зашли в первую попавшуюся избу, чтобы узнать, где мастерская, да заодно напиться воды. Охотно ответив на вопросы, старуха подала мне позолоченный деревянный ковш. На столе стояла хохломской росписи солонка. Вещи, которые мы привыкли видеть в музеях, здесь просто домашняя утварь. Я впервые наблюдал, как совершается хохломское чудо. Мастер сказал:
— Смотри: было дерево — стало золото.
— Так у вас на самом деле есть горшки и повапленные? — спросил шофер Михаил Иванович.
— Нет, — ответил старик. — Это раньше было. Теперь вместо глины нам присылают специальную грунтовку.
В Берендеевом царстве оказалось много молодежи — подростки и девушки. Когда мы вошли в комнату, где они расписывали посуду, то бойкая черноглазая девушка спросила:
— Вы не артисты?
И вся мастерская залилась веселым смехом. Но добрый Берендей сверкнул грозно очами, и снова юноши и девушки прилежно занялись своей работой…
Первое впечатление такое: попал в сказочное царство Берендея. Нежная зелень украшает палисадники и огороды. Избы, конечно, не такие, как на Печоре, но все же довольно вместительные. Многие из них украшены «глухой» резьбой. Знакомые нам образы: сирин-птица, лев, глядящий почти по-человечески осмысленно, и, конечно, полудева-полурыба — берегиня, праматерь русалок, которыми нас пугали в детстве и о которых городские дети не имеют понятия!
Путешествие по радуге
Вологда пленила меня сразу, как только я вступил на ее древнюю землю. Легкий, редеющий утренний туман висел над купами деревьев, над крышами строений; был он похож на полупрозрачное сетчатое кружево, обогащенное просветами, тянущееся рельефной нитью — сканью. Неторопливо, величественно катила сонные воды река, видавшая в глубокой древности легкие ладьи новгородцев-ушкуйников. Деревянные уютные дома с резными наличниками соседствуют на улицах столицы Северной Руси с особняками, облик которых выдержан в строгих формах классицизма. Зеленая улица привела меня к величественному Софийскому собору, возвышающемуся в центре города.
Когда туман рассеялся, я поднялся по крутой соборной лестнице, чтобы взглянуть на Вологду с высоты. Внизу, под ногами, устремлялось к облакам могучее пятиглавие. Гладкие белые стены сооружения производили впечатление суровой и величественной простоты.
Собор был построен по повелению Ивана Грозного, избравшего одно время Вологду своей северной резиденцией. В городе было затеяно строительство грандиозного кремля и собора, посвященного Софии, т. е. божественной премудрости. Но своевольный царь, как гласит историческое предание, внезапно прервал строительство и уехал в Москву. Памятный эпизод запечатлелся в народной песне, рассказывающей о том, как Грозный-царь решил поставить посреди града «церковь лепую соборную»:
А как стали после свод сводить, Туда царь сам не коснел ходить, Надзирал он над наемники, Чтобы божий крепче клали храм, Не жалели б плинфы красныя И той извести горючия.И далее песня-баллада повествует о драматическом происшествии:
Как царь о том кручинился, В храме новоем похаживал, Как из своду туповатова Упадала плинфа красная, Попадала ему в голову, Во головушку во буйную…Песня говорит о том, как у Ивана Грозного «ретиво сердце взъярилось» и он с гневными проклятиями покинул Вологду. Так народная поэтическая фантазия живописала запомнившийся вологжанам эпизод.
Спускаясь по лестнице с колокольни, я с опаской поглядывал на желтоватые своды. Но трещин на кирпичах не было, и я как-то успокоился, поняв, что повторения случая с падением плинфы не произойдет. Днем вологодские друзья-краеведы показали мне хорошо обожженные кирпичные плитки — плинфы, любимый строительный материал Древней Руси. На некоторых плинфах можно было разглядеть знаки, цифры, контуры мифических существ. Не эта ли плинфа с полустертым узором, которую я сейчас держу в руках, сорвалась с соборного свода, смертельно перепугав суеверного Ивана Грозного?
При облицовке наружных и внутренних стен зданий, печей и лежанок весьма охотно использовалась мастерами в городах и весях страны керамическая плитка. Средневековые керамисты-художники делали изразцы рельефные и живописные; по технике исполнения различались изразцы красные, муравленые, т. е. покрытые зеленой глазурью, и ценинные, т. е. украшенные цветными эмалями. Производя облицовку стен или печей, мастера составляли из изразцов фризы — декоративные горизонтальные полосы и панно, наличники, вставки. Иногда вся наружная или внутренняя стена покрывалась своеобразным изразцовым ковром, придавая сооружению радостный блеск, торжественное великолепие, праздничную нарядность. Изразцы можно было встретить в боярском тереме, на стенах храма, на въездных воротах воинской крепости. Ничто не придавало избе такого уюта, как печь-красавица, сверкавшая изразцами. О печи всегда говорили с ласковой улыбкой: у нас в печурке золотые чурки; полна коробочка золотых воробушков; стоит ларчик средь избы, в ларчике есть плат, а в плате — золото…
Мы мало знаем о керамистах Древней Руси, их фамилии, за редчайшим исключением, забыты. Кто создал сказочно-прекрасные изразцовые печи в княжеских теремах Ростова Великого, сиявшие зелеными поливными красками? Кто автор майоликового панно из восьми изразцов на сольвычегодском соборе? Что нам известно о тех, кто в суздальских архиерейских покоях выложил печи, украсив их фигурными изразцами с рисунком голубой поливы?
Знаток керамики, взяв в руки осколок кафеля, сразу скажет, в какое время он появился на свет. Вначале на Руси делали красноватые плитки, украшенные довольно бесхитростным узором — кружком, простенькой розеткой или волнистой линией. В этих обожженных глиняных изделиях чувствовалось влияние деревянной резьбы. Кстати говоря, гончары и много позднее заимствовали формы и мотивы украшений у своих содругов-древодельцев. Постепенно усложнялись формы плиток, узоры делались все более затейливыми, появлялись изображения растений, зверей, животных, птиц, людей и, наконец, сценки из жизни. Иногда рисунки тематически объединялись, и тогда на керамических плитках возникал иллюстрированный рассказ — печь превращалась в своеобразную книгу.
Первые русские изразцы были сделаны, видимо, еще в десятом веке. Археологи в щебне и мусоре, найденном на том месте, где стояла одна из первых каменных киевских церквей — Десятинная, обнаружили осколки цветной керамики. Алтарь Софии Киевской был украшен не только мозаикой, но и разноцветными изразцами. Цветные керамические плитки применяли для полов строители времен Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Монголо-татарское нашествие надолго приостановило работу умелых гончаров. Изразцы почти исчезли из обихода. Даже в городах, куда не докатились орды кочевников, гончарное дело было круто свернуто.
Приблизительно лишь в конце пятнадцатого — начале шестнадцатого века изразцы снова находят свое место в архитектурном убранстве зданий. Москва к концу шестнадцатого столетия полюбила их даже больше, чем Киев и Владимир. Семнадцатый век — век пышного цветения поливных, украшенных рисунками или узорами изразцов на фасадах зданий белокаменной столицы.
…Сегодня в Москве листопад. На асфальте лежат золотые, красные, желтые, черные листья. Паутиновые нити плывут над скверами. Пожухла трава на газонах. Если вам хочется попрощаться с московским летом и встретить надвигающуюся золотую осень, то садитесь на прогулочный катер, что отправляется от причалов Нескучного сада по Москве-реке к Краснохолмскому мосту. Быстро промелькнут зелено-пестрые лужайки и рощи парка, потом закроет небосвод арка Большого Каменного моста, взору предстанут вечные кремлевские стены, свечой в небе загорится купол Ивана Великого, заиграет красками заката Василий Блаженный… А потом — в конце путешествия — вы увидите в желто-зеленом кольце деревьев Крутицкое подворье, архитектурный островок боярской Москвы, почти затерявшийся среди улиц огромного современного города.
С речного катера видно, как в лучах заходящего солнца блестят синие, зеленые, желтые, белые поливные изразцы высокого терема, возведенного над въездными воротами. Зелень в облицовке сооружения преобладает над другими цветами, она перекликается с поредевшими кронами деревьев, с травой откосов. Сойдем на берег, чтобы рассмотреть диковинное сооружение старой Москвы, чудо керамического и архитектурного искусства. Пройдем по улицам, где некогда близ Таганки жили мастера Гончарной слободы — умелые керамисты.
Какова история Крутицкого подворья?
Епископы сарайские и подонские зависели от московских митрополитов и должны были время от времени приезжать в Москву. Князь Данила Александрович пожаловал епископам землю на высоком берегу Москвы-реки, где постепенно и возникла обширная монастырская усадьба, обнесенная высокой каменной стеной с четырьмя башнями по углам. Архитектурный ансамбль полностью сложился к последнему десятилетию семнадцатого века, когда над двухпролетными воротами был возведен терем (его обычно называют Крутицкий теремок), выложенный плоскими и рельефными изразцами. На всем фасаде не осталось ни одного места, которое не было бы украшено разноцветной керамикой. Причудливые цветы, травы, декоративные узоры, широкий пояс, наличники, колонки — все это создает ощущение праздника, веселья, напоминает о луговом раздолье, о богатых плодами садах, внушает мысль о счастье бытия. Если говорить в более широком смысле, то архитектурно-керамический памятник возле Москвы-реки праздничным обликом выразил духовное здоровье народа.
Изразцы печные. Середина XVIII в.
Семнадцатый век знал много изразцовых украшений, но Крутицкий терем превосходил по красоте и прелести все, что до этого создано было русскими мастерами. Трудно поверить, что вьющаяся виноградная лоза, символизирующая жизнь, создана умельцами из обожженной глины. Гончары внимательно присматривались к резьбе по дереву, заимствовали мотивы для воплощения их в глиняных узорах и красках-поливах. Подражание деревянной резьбе особенно очевидно в приставных наличниках окон. Старые мастера хорошо понимали особенности материала, пластичного и красочного, создавая керамический терем-сказку.
Я иду вдоль каменной галереи, ведущей от церкви Успения к парадным воротам. Над столбами галереи вделаны изразцы, перекликающиеся с многоцветным ковром терема, с его четырехугольными плитками, в середине которых желтеют розетки. Сказочное изразцовое узорочье гармонически объединено с чешуйчатой крышей и флюгерами.
Время не пощадило деревянных хором, воспетых в сказках и былинах, изображенных изографами на иконах и фресках, летописных миниатюрах; погибли терема, выразительно описанные иноземными путешественниками… Словно предчувствуя наступление новой эпохи, умельцы, работавшие в конце семнадцатого столетия, создали из долговечного материала сооружение, которому не страшны ни пожары, ни лютые морозы, ни бесконечные осенние дожди. Терем возле Москвы-реки воплотил в себе не только редкостное умение столичных керамистов, но и стал зримым воплощением народных традиций, выработанных на протяжении веков зодчими, резчиками по дереву, плотниками.
Стоя возле Крутицкого терема, легко и приятно думать о волшебных сказках, не утративших и ныне своих поэтических красок. Слышите, как засвистела стрела, пущенная из тугого лука? Упала стрела возле чудного дворца, вбежал во двор добрый молодец, закричал громким голосом: «Кто в тереме живет?» Выглянула из терема красна девица, что может за одну ночь ковер соткать, украсить его златом-серебром, хитрыми узорами… Я увидел терем таким, каким он был в семнадцатом столетии (его изобразил в первозданном виде на своей картине Васнецов, чья работа в настоящее время находится в Музее истории и реконструкции Москвы).
Но мои грезы о прошлом продолжались недолго. Нет, не упала на подворье стрела, не выглянула из окна девица в шитом жемчугом кокошнике… Подошел автобус, и из него высыпала толпа иностранных туристов, защелкали фотоаппараты и кинокамеры, раздался громкий голос расторопного гида.
Я уже писал о том, что мы редко знаем имена мастеров, создателей памятников Древней Руси. И, видимо, зодчие и керамисты, поставившие Крутицкий теремок, для нас навсегда остались бы безымянными гениями, если бы не случайность. В архивах московского Разрядного приказа найдены бумаги, относящиеся к судебной тяжбе между строителями теремка и заказчиками. Митрополиту показалось, как видно из документов, что строители получили деньги за изразцы, которые не пошли в дело. Ответчики-строители Осип и Иван Старцевы оправдывались тем, что им пришлось для заполнения облицовочного рисунка откалывать куски от целых изразцов. Нам неизвестно, чем окончилась тяжба. В истории искусств можно встретить немало эпизодов, когда создателей великих творений современники обвиняли в неблаговидных делах. Вспомним хотя бы Фидия, гениального древнегреческого скульптора, заподозренного в утайке золота. Один из создателей скульптурного убранства Парфенона умер в тюрьме, не дождавшись оправдания.
Как бы ни сложились судьбы Осипа и Ивана Старцевых, их создание пережило века и донесло до нас очарование праздничной красочности, которая всегда так ценилась в народном творчестве.
Теперь познакомимся со звездой первой величины — мастером-художником Степаном Ивановым, по прозвищу Полубес, выходцем из белорусских земель, создавшим, как и Старцевы, во второй половине семнадцатого столетия в Москве и ее окрестностях замечательные керамические произведения. Изразцовые барельефы Степана Полубеса отличаются точностью линий, богатством красок, живостью образов.
Работая в монастырях — Новом Иерусалиме и Иосифо-Волоколамском, — украшая московскую церковь Григория Неокесарийского, что на Большой Полянке, Степан Полубес показал себя непревзойденным мастером цвета. Недаром его изразцовые пояса, фризы, ковры сияют на наружных стенах зданий. Встреча с изразцами Полубеса — это всегда путешествие по радуге, соединяющей небо и землю, сияющей красками, сочетающей тона и полутона; чувствуется, что Степан Полубес внимательно присматривался к природе, творчески преображая ее в своих фантастических творениях, знал работы старых мастеров.
Совершим путешествие по Москве времен Степана Полубеса…
Сначала заглянем в Гончарную слободу, что между Таганкой и Яузой, где обычно работает знатный мастер. Здесь нет домов, что глядели бы окнами на улицу. Семьи ремесленников живут каждая своим двором. От улицы дворы отгорожены высоким частоколом. Усадьбы спускаются к реке, но воды требуется много и поэтому возле гончарных мастерских — колодцы-журавли. Под навесами — горны, здесь же сохнут глиняные изделия. Дома мастеров велики и добротны, для них не жалеют бревен.
Где же Степан Полубес? Может быть, у трех горнов, выходящих топками в одну яму? Нет, здесь лишь его ученики, его подмастерья, осваивающие хитрое ремесло, чтобы потом разбрестись по дорогам страны, украсить в городах и селах дома, церкви, палаты затейливыми плитками. Недаром говорят: мастерство за плечами не носят, да с ним добро.
Где же великий изразечник?
Наверное, его надо искать на Ополье, где среди полей (ставших позднее улицей Большой Полянкой), по соседству с дворами стрельцов, построена церковь Георгия Неокесарийского. Величественное, нарядное сооружение, возведенное зодчим-крестьянином Карпом Губой, видно издалека. Простые архитектурные формы сочетаются с богатством декоративного наряда. Хороши пышные наличники — белая каменная резь, выделяющаяся на красноватом кирпичном фоне. Но все другое убранство превосходят по сочности красок, широте и величавости изразцовые пояса, опоясывающие колокольню и собор.
Возле церкви толпятся живущие здесь, за Москвой-рекой, стрельцы, ткачи и бондари — и как узнаешь среди этой пестрой и шумной толпы ремесленников Степана Полубеса? Изразечник здесь свой среди своих. Недаром он так внимательно приглядывался к набойкам, к узорам на полотне, чтобы потом перенести завитки, цветы и линии на яркие глазурованные плитки, что теперь сияют под открытым небом.
Стоит в толпе упомянуть Степана Полубеса — как эхом отзовутся слова:, «павлинье око».
«Павлиньим оком» назвал народ изразцы, керамические пояса, которыми украсил Степан Полубес сооружения на Истре, в Иосифо-Волоколамском монастыре, в столице. Присмотримся к изразцовому фризу, что опоясывает церковь на Большой Полянке. Четырехугольные плитки составляют прихотливый орнаментальный рельефный узор, богатый по своим краскам. В центре — белая раскрывшаяся чашечка, окруженная желтоватым венком. Над венком поднимаются два голубоватых стебля, затем снова венок зеленых и желтых цветов. В промежутках между венками на темно-голубом фоне — ветви зеленые, желтые, белые. Сочные, мясистые узоры-растения полны радости, красоты.
Особенно хорош изразцовый пояс зимой, когда снег покрывает соборную кровлю и «павлинье око» сияет зеленью и желтизной, напоминая о мураве луговой, о кувшинках, раскрывающихся на рассвете…
Но откуда такое название — «павлинье око»?
Возможно, рельефный цветочный узор представлялся издали глазом фантастической птицы. Яркость красок заставляла зрителей вспоминать пышное оперение павлина — его изображение мастера могли видеть на рисунках-миниатюрах в старых рукописях.
Изразцы из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле. XVII в.
Керамические творения Степана Полубеса воплотили в себе лучшие черты декоративного искусства семнадцатого века: его народность, красочность, веселую сказочность. Перед нами своеобразная «народная казна», куда сложены на вечную память богатства народного художественного опыта, откуда благодарные потомки многое взяли и могут еще много почерпнуть. Изразцы Степана Полубеса близки цветным ростовским эмалям, торжественным и красочным, в них много общего и с фресковыми росписями Гурия Никитина, — этот костромской художник превращал храмы на Волге, в Ростове и Суздале в райские дворцы.
Изразцовые композиции Степана Полубеса напоминают вышивки на тканях. По чистоте и красочности тонов они должны быть поставлены рядом с миниатюрами, которыми славились рукописные книги Древней Руси. Смотри, например, богато украшенный миниатюрами, переписанный приблизительно в эпоху Степана Полубеса сборник нравоучительных рассказов для домашнего чтения «Лекарство душевное».
Как ни славны были московские изразечники, но и в ближних и дальних городах страны жили и работали гончары, создававшие изразцы, не уступавшие столичным. Они приносили много радости людям, давали, как тогда говорили, «сердцу и уму восхищение».
Поездки не раз сводили меня с крупнейшим знатоком культуры Владимиро-Суздальской Руси — Алексеем Дмитриевичем Варгановым. Много лет ученый прожил в Суздале, и про него в городе говорили, что он может, не заглядывая ни в какие книги, рассказать историю каждого камня. Это не преувеличение. Занимаясь восстановлением памятников зодчества, археологическими раскопками и историческими изысканиями, Варганов вдумчиво приглядывался ко всему, что сохранило на себе отпечаток времени. А приглядываться в Суздале есть к чему: многое в городе и его окрестностях дышит стариной, отшумевшими веками, оставившими свой след в названиях сел, в курганах, каменных и деревянных строениях. Недаром над торговыми рядами, столь характерными для старинных среднерусских городов, высоким шпилем возвышается золоченое изображение сокола — герб Суздаля. Некогда на торговой площади шла оживленная торговля в рядах — общем, мясном, рыбном, соленом, дегтярном. Здесь торговали калачами, пирогами, киселем, медом, луком, чесноком, хмелем. Здесь же вели бойкий торг ремесленники, продававшие шубы, лапти, кафтаны, шапки, крашенину… Особенно славились суздальские гончары; они обжигали горшки и всякую другую посуду, игрушки, искусно расписывали изразцы, украшавшие не только покои состоятельных горожан, но и крестьянские избы. Обо всем этом любовно, со знанием дела рассказывает Алексей Дмитриевич Варганов тем, кому выпадет удача пройтись с ним по древним улицам Суздаля или Владимира.
Н. К. Рерих. Ярославль. Церковь Николы Мокрого. Дверь придела.
Расскажу один эпизод из жизни краеведа-ученого. Поздней осенью Алексей Дмитриевич возвращался в Суздаль из очередной поездки. Колеса забуксовали, и Варганов вышел из машины, чтобы подтолкнуть ее на глинистом подъеме. Его внимание привлек обломок замшелого кирпича, с едва заметным желто-коричневым отливом. Взяв отмытый дождями обломок в руки, ученый увидел, что перед ним остаток керамической плитки, похожей на те, которыми в старину в Суздале облицовывали наружные стены храмов.
Почему же обломок оказался на изрядном расстоянии от города?
Выбрав первый погожий день, Варганов обследовал местность, и ему стало ясно, что суздальские керамические плитки обжигали из того сорта глины, какой оказалось много в районе находки. У подножия холма был сделан археологический раскоп. Ученые увидели обжигательные печи, отлично сохранившиеся, годные и ныне для керамического производства. Кто-то зажег в печи вязанку хвороста, и огонь запылал там, где он полыхал во времена строительства прославленных суздальских храмов и палат. Здесь закаливали огнем кирпич, шедший на постройку теремов, башен и соборов Суздаля, здесь обжигали известь, а также наносили рисунки на изразцы желто-коричневой цветовой гаммы.
Суздальские изразцы, как и керамические плитки, найденные в Киеве, Новгороде и Владимире, — старейшие в нашей стране. Суздальские гончарные изделия употреблялись не только для украшения боярских палат, храмов и теремов, но и для изб посадских людей, ремесленников, крестьян.
Наши представления о высочайших достижениях русских керамистов семнадцатого века будут неполными, если мы не познакомимся с храмом Иоанна Предтечи в Ярославле.
Грандиозный по своим размерам, поражающий зрителей фантастическим силуэтом своих пятнадцати глав, архитектурный облик церкви неразрывно связан с ее керамическим убранством. Внутри и снаружи храм был облицован рельефными поливными разноцветными изразцами.
На терракотовых кафелях — изображения растений, изящных ваз с цветами, птиц, зверей, затейливые орнаменты. Ярославские каменных дела мастера, как и знаменитые москвитяне Осип и Иван Старцевы, украсили кирпич, воспроизведя умело и тонко в долговечном материале художественные приемы, выработанные при резьбе по дереву. Колонки, пояса, квадратные углубления в наружной поверхности собора подчеркивают красоту кирпича, его декоративные качества. И всюду мы видим изразцы — они сияют в широких углублениях зеленью, желтизной, белыми и темно-лиловыми красками, нескончаемыми цветными лентами опоясывают стены.
Николай Рерих сравнивал убранство и роспись ярославских церквей с итальянскими соборами, украшенными мастерами Возрождения.
Древнерусская керамика была подлинно народным видом искусства, жизнерадостным, прекрасным; она не могла не пленять и поколения совсем других эпох.
В путешествиях по северной стороне несколько лет назад я попал в лесную вятскую деревню, находящуюся километрах в тридцати — сорока севернее поселка Белая Холуница. Бушевала немилосердная пурга, мы устали толкать машину по занесенной снегом дороге и были донельзя рады, когда шофер — свой человек в здешних местах — привел нас на ночлег в теплую избу. Нежданных гостей, спасающихся от непогоды, радушно встретил хозяин — бородатый человек лет шестидесяти, назвавшийся Степаном Петровичем. Он провел нас в переднюю половину и зажег висевшую под потолком линейную керосиновую лампу.
Когда чуть мерцающий свет озарил горницу, мы увидели печь, передняя стенка которой была выложена изразцами, старыми, потрескавшимися, местами закопченными; на некоторых рисунок был еле-еле различим. Время оставило на кафеле следы разрушений и порчи.
Я видел, что изразцы муравленые, покрытые прозрачной глазурью, четырехугольной формы, обведенные синими, красными и голубоватыми — каймами. Керамические картинки восемнадцатого века изображали зверей и животных, охотничьи сценки и потешные эпизоды: выпивохи черпают кружками вино из бочонка; кавалер-курильщик подает нюхательную табакерку даме; сиделец в лавке ест пряники; петух на крыше дома спасается от хозяина, держащего в руках длинную жердь. На некоторых изразцах, хотя и не без труда, можно было прочесть слова, написанные вязью. Под опрокинутым бочонком шутливое изречение: «Не потребен без рома». Змея обвила оголенный куст. Это символическое изображение верности сопровождалось словами: «С тобой засыхаю». Под кружкой с пенистой брагой написано: «Дурак на меня уповает».
Манера письма, полушутливые афоризмы, рисунки — все говорило о том, что изразцы расписаны мастером-художником, талантливым и опытным. Откуда в северной лесной глухомани взялись эти плитки с галантными сценами елизаветинского времени?
Пурга не позволила нам уехать на рассвете. Степан Петрович, оказавшийся учителем-пенсионером, принес охапку дров, и в печи весело запылал огонь.
— Дрожит свинка, острая щетинка, — улыбнувшись, заметил хозяин. Он оказался словоохотливым человеком и, заметив мой интерес к изразцам, рассказал семейное предание, переходящее из поколения в поколение.
В Москве, за Таганскими воротами, поблизости от дороги, ведущей в Гжель, был ценинный завод мастеров Гребенщиковых. Цениной называли изделия из цветной обожженной глины, покрытые непрозрачной эмалью. По сырой эмали белого цвета на изделия наносился рисунок. После этого кувшины, миски, чашки, изразцы закалялись огнем. Получались красивые и прочные изделия, которые благодаря сравнительно недорогой цене быстро раскупались по всей стране.
Один из Гребенщиковых — Иван — был умельцем и одаренным живописцем. Его изделия прославились настолько, что самые знатные люди заказывали ему фамильные, памятные сервизы.
За окнами гудела непогодь, в печи весело потрескивали дрова, а Степан Петрович, довольный внимательными слушателями, по-молодому поблескивая глазами, рассказывал о делах давно минувших дней:
— Помощником Ивана Гребенщикова, милый ты человек, материн прадедушка был — Антон, по прозвищу Глина. Он с малолетства при заводе Гребенщиковых вырос, так и укоренилась по всей Таганке за ним кличка — Глина. Антон на кличку не обижался, говаривал, что из глины и первый человек был вылеплен.
Стал со временем Антон Глина мастером. Сам Иван Гребенщиков заводом почти не занимался, а все дни бился над секретом производства фарфора. И поэтому делами ведал Глина. Вместе с подручными рабочими прадед по картинкам разрисовывал изразцы и посуду.
Однажды Иван Гребенщиков вызвал Антона Глину и сказал, что наиславнейший пиит Александр Петрович Сумароков просит срочно изготовить дорогой сервиз. Прадед, конечно, понятия не имел, что такое пиит. Думал, вроде генерал-аншефа. Гребенщиков потом Антону объяснил, что пиит Сумароков — стихотворец, чью трагедию во дворце на Яузе показывали. Сумароков заказал не простой сервиз, а «со значением». На всех столовых приборах — мисках, салатницах, супницах, тарелках — должен был быть обозначен личный сумароковский герб и изображение ордена Анны, полученного поэтом.
Антон Глина горячо взялся за дело, и через некоторое время сервиз был готов. Получились вещицы — одно загляденье! У нас, наверное, таких еще не делали. Выписывали парадные сервизы из Англии. У прадеда же получилось все на свой манер. Скажем, суповая миска — простой предмет, вроде бы ничего и не придумаешь.
Н. К. Рерих. Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи. XVII в. Живопись на паперти.
Микула Селянинович и Вольга. Камин. Выполнен в абрамцевской майоликовой мастерской по рисунку М. А. Врубеля. 90-е годы XIX в.
Но Антон сделал ее так, что сияет она снежной белизной, на ручках — лики дев-чародейниц, а в центре, на самом видном месте, в окружении цветущих лепестков — скрещенные мечи — герб Сумарокова.
Когда тщеславный пиит увидел выполненный по его просьбе заказ, то в восторге воскликнул: «Славная майолика — под стать моим стихам!»
Сервиз недешево стоил, и некоторую толику денег получил и мой прадед за умение и старание.
Иван Гребенщиков долго не хотел расставаться с мастером на все руки, но, видя, что Антон заскучал, посоветовал ему открыть собственное ценинное дело.
— На обзаведение, — сказал Степан Петрович, показывая на печь, — подарил Гребенщиков вот эти изразцы.
— Да как же они к вам, на Север, попали?
— Очень просто, милый человек. Прадед переехал в Гжель, известную цветными глинами. Выстроил дом, обзавелся семьей и хотел начать ценинное дело. Но гжельские воротилы, опасаясь, что им мастер дорогу перейдет, подожгли дом Антона. Весь пожиток в дым ушел. От былого одни гребенщиковские изразцы, что во дворе лежали, уцелели. Бежал из Гжели Антон в наш северный край…
Степан Петрович говорил с таким сердечным волнением, что можно было подумать, будто он сам все рассказанное видел. Я же думал о том, что в семейном предании, наверное, как нередко бывает, вымысел переплелся с правдой.
Вернувшись в Москву, я поинтересовался историей ценинного завода Гребенщикова. Велико было мое изумление, когда я узнал, что поэт Александр Петрович Сумароков действительно заказывал Гребенщикову орденский сервиз.
Вспоминаю красочный рассказ Степана Петровича, — поистине нет сказок лучше тех, что выдумала сама жизнь.
В начале восемнадцатого столетия, после того как войско Карла XII было разгромлено под Полтавой, в Москве появились пленные шведы, которые начали расписывать изразцы на свой лад: синие рисунки наносились на белый фон. Это нововведение понравилось, так как в ту пору всякого рода новшества были в моде, их поощрял Петр Первый. Еще в молодые годы царь был очарован Голландией, и нет ничего удивительного в том, что в богатой шереметевской усадьбе под Москвой, в Кускове, позднее был выстроен «Голландский домик», стены которого были украшены иноземными изразцами белого, синего и кофейного цвета… Орнамент изразцов отличался пышностью, на многих плитках были изображены пейзажи Голландии — корабельные бухты, уютные кирпичные домики, осенние деревья, рыбаки, беспечно удящие в каналах, и т. д. Русские керамисты, конечно, знали работы иноземных мастеров. Используя приемы голландских и иных художников, наши мастера переиначивали сюжеты на отечественный манер. Русские керамисты любили изображать юмористические сценки, снабжая их нравоучительными и шутливыми подписями. Так на Руси появились печи, которые было приятно и интересно разглядывать долгими осенними и зимними вечерами.
Среди тех, кто задумался над необходимостью воспользоваться в наш век опытом древнерусских керамистов, был гениальный Врубель. Его творчество, обращенное к вечным темам человеческого бытия, вошло в духовный обиход современности. Примечательная страница биографии художника — работа в абрамцевской майоликовой мастерской. Врубель постигал не только декоративную сторону народного искусства, но и самый строй древнего мифологического мышления, его сущность. В 1891 году он писал: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять… слышится мне та интимная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это — музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада».
До наших дней сохранилось несколько печей и каминов, созданных Врубелем. Москвичи могут их увидеть в Абрамцеве, Коломенском, Музее народного искусства на улице Станиславского… Врубелевские изразцовые композиции с первого взгляда поражают нас необычайными цветовыми сочетаниями, переливами красок, напоминающими игру драгоценных камней. На изразцах Врубеля живут своей таинственной жизнью прихотливые растительные узоры — белые, коричневые, желтые, синие. Зрители видят изображение героев былин и сказок, оригинальные орнаменты.
Одна из самых известных работ Врубеля — камин «Микула Селянинович и Вольга». Чистые, сильные краски, напоминающие драгоценные камни, создают впечатление ковра, украшающего стену. По форме камин напоминает лицевую сторону дома, на фронтоне которого изображены Алконост и Сирин — райские птицы с девичьими ликами. Образы Микулы Селяниновича (с сохой) и Вольги (верхом на коне) проникнуты уверенной силой и спокойствием, они сродни всему окружающему их миру. Когда глядишь на керамическую композицию издали, то в глаза сначала бросаются цветовые пятна в обеих частях камина. Приглядевшись, замечаешь солнце, выступающее из глубины, голову Вольги, линию горизонта. Врубелевские краски горят, переливаются, создают ощущение необычного, глубокого и таинственного.
Через два с лишним столетия после Степана Полубеса и ярославских изразечников их опыт был художественно переосмыслен, на творчество керамистов семнадцатого века взглянули новыми глазами. В этом — одна из заслуг Врубеля!
Врубелевской керамике, вобравшей в себя опыт веков и неожиданно новой, было тесно в помещении. Когда предоставилась возможность, Врубель охотно взялся за дело, позволявшее показать, как прекрасно выглядит монументальное керамическое произведение на улице большого современного города. В начале двадцатого столетия в центре Москвы выросло огромное здание — гостиница «Метрополь». Верхние этажи было решено украсить панно из кафелей. Темой для композиции Михаил Александрович избрал драматическую легенду о принцессе Грезе — «звезде небес», созерцание красоты которой покупается ценой смерти; мореходы преодолевают тягчайшие препятствия, переживают опаснейшие приключения во имя Прекрасной Дамы, олицетворяющей совершенную и законченную красоту. На керамическом панно мы видим принцессу Грезу, склонившуюся над умирающим юношей.
На врубелевское панно «Принцесса Греза» лучше всего смотреть издали, например с Неглинной улицы. В лучах солнца блестят изразцы, составляющие картину чего-то загадочного, тревожно-прекрасного, полного внутренней силы. Врубель не копировал старых мастеров. Он вдохнул жизнь в давнее искусство, насытив его современным пониманием действительности, далеким от классической ясности и покоя.
С годами начинаешь любить Врубеля все сильнее и сильнее.
Начинаешь глубже понимать подспудную и органическую связь Врубеля с древнерусским искусством, с лермонтовской традицией, с Кавказом и Москвой, хранящей и ныне на своих шумных улицах изразцы Степана Полубеса и композиции Михаила Врубеля, исполненные «духовною жаждою». Врубель сказал нам то, что до него никто еще не говорил. Но нельзя представлять, что творчество Врубеля возникло на голом месте. Истоки его глубоки, и неслучайно художник постоянно обращался к краскам и образам Древней Руси.
Злато и булат
Исстари булат и злато спорили между собой или шли одной дорогой. Недаром в нынешних музеях золотые украшения и драгоценности лежат рядом с холодным и огнепальным оружием; недаром с золотыми серьгами, в которых щеголяли киевские и новгородские модницы двенадцатого века, соседствуют в витринах кинжалы в золотой или серебряной оправе, сабли, чьи рукояти украшены драгоценными камнями. Каких сказок, легенд, преданий, поверий и примет не было связано с драгоценными металлами, жемчугами и таинственными кладами… Я до сих пор помню рассказы, слышанные в детстве, о золотых и серебряных кладах, зарытых в Святовской роще возле большака, ведущего от озера Святого в Кострому. Клады, по народной молве, были зарыты в незапамятные времена панами, пришедшими на Русь вместе с Мариной Мнишек.
Отыскать подземные сокровища было очень просто — пойти в ночь на Ивана Купала к берегам Святого озера и смотреть; где после первых петухов засветятся в папоротниках огоньки, там и копать. Я в детстве искренне дивился, что мои земляки не богатели за счет панских кладов…
Впрочем, по всей Волге, как и по другим местам, гуляли легенды о сокровищах Стеньки Разина, о пещерах, в которые сносил свои богатства Кудеяр-разбойник, о золотых мечах мурзы Чета, спрятанных на дне Каменец-озера…
Жизнь давала немало оснований для легенд о сокровищах, о приключениях, связанных с ними. Напомню эпизод из отечественной истории — дерзкую попытку похитить всю несметную казну Московского государства.
Кому из нас не приходилось блуждать по бесчисленным помещениям, лесенкам, переходам знаменитого храма Покрова-на-рву, известного всем под названием храма Василия Блаженного… Расположенный на Красной площади возле Кремля, он напоминает диковинный каменный цветок, привезенный из сказочных заморских стран. Храм, как это часто бывало в Древней Руси, долгое время использовался как хранилище государственных ценностей.
К последним годам шестнадцатого столетия относится такое сообщение летописца «о зажигальщиках московских»: «Того же году (1595) враг, ненавидя добро рода человеческого, вложил мысль в человецы в князя Василия Щепина, да Василия Лебедева и в их советники, чтоб зажечь град Москву во многих местах, а самем у Троицы, на рве у Василия Блаженного грабить казну: ибо в те поры была велия казна, советником же его в те поры Петру Байкову с товарищи решеток не отпирати… Их всех переимаху и пыташа. Они же все в том повинишася. Князя Василия и Петра Байкова с сыном на Москве казнили, на Пожаре, и главы их отсекоша, а иных перевешали, а достальных по тюрьмам разослаша».
Таков драматический эпизод, разыгравшийся в связи с сокровищами, спрятанными в знаменитом храме, на которые позарились «московские зажигальщики».
Много самых различных историй могут нам рассказать золотые и серебряные вещи, созданные русскими умельцами; мы часто не знаем фамилии творцов прекрасных предметов из драгоценных металлов, но история донесла до нас (хотя, разумеется, далеко не всегда) или имена владельцев, или рассказы о событиях, ради которых тратились серебро и золото.
В «Житии Бориса и Глеба» рассказывается, что по приказу Владимира Мономаха мастера за одну ночь расклепали и позолотили доски на гробах Бориса и Глеба.
Потир золотой. 1599. Вклад царя Бориса Федоровича.
Об этих досках летописец замечает: «Многие приходящие из Греции и других земель говорили: „Нигде такой красоты нет“». Сказанное, по всей вероятности, не риторическое летописное преувеличение. Киевская Русь знала толк в золотых изделиях и в неисчислимом множестве продавала их в страны Востока и Запада.
Жил в двенадцатом веке в Чернигове князь Владимир Давыдович, двоюродный дядя Игоря, героя знаменитой поэмы. В ту пору богатый и сильный город славился златокузнецами, чьи изделия охотно покупали не только в русских землях. Однажды искусный мастер сделал для Владимира большую серебряную чашу, украсив венец ее надписью-орнаментом. На пирах гости пили за здоровье хозяина из чаши, передавая ее вкруговую, по обычаю дедов. В междоусобной схватке Владимир Давыдович погиб. Прошли столетия. В середине прошлого века серебряную чашу нашли там, где некогда находилась столица Золотой Орды — в городе Сарае. Быть может, золотоордынцы захватили драгоценный сосуд во время набега на русские земли. Не исключено, что чаша попала в Сарай и другим путем: вдова Владимира Давыдовича после гибели мужа была взята в жены половецким ханом Баш-кордом.
Приходящие ныне в Оружейную палату Московского Кремля видят прекрасную серебряную чашу, отлитую восемь столетий назад и чуть потемневшую от времени. Для любознательных посетителей, любующихся старинной посудой, экскурсовод читает слова на венце: «А се чара кня Володимира Давыдовча, кто из нее пь, тому на здоровье, а хвала бога своего осподаря великого кня».
Ковш князя И. И. Кубенского. 1535.
Так из глубины столетий доносится голос неизвестного нам черниговского златокузнеца.
Некогда Юрий Долгорукий подарил Спасо-Преображенскому собору в Переславле-Залесском серебряную чашу для причастия — потир. Сосуд был сделан умелыми суздальскими мастерами. И ныне мы восхищаемся его изящной и благородной формой. На гладкой чаше — барельефы святых. Особенно привлекает внимание фигура отважного воителя Георгия — покровителя Юрия Долгорукого. Георгий изображен в образе возвышенно-прекрасного юноши с волнисто-курчавыми волосами, в одежде знатного человека.
В «Повести о московском взятьи от царя Тохтамыша», широко бытовавшей в средневековых списках, есть описание гибели драгоценных сокровищ во время очередного вражеского набега. По словам автора, «с чудесных икон сорвали золото и серебро, драгоценные каменья и жемчуг, разграбили напрестольные покровы, шитые золотом, саженные жемчугом, сорвали дорогое узорочье со святых икон, а иконы повергли и растоптали, расхитили бесценные церковные сосуды, кованные из золота и серебра, разорвали драгоценные священные ризы».
Как видим, и здесь происходил кровавый диалог золота и булата.
Ремесленники вплоть до семнадцатого века делали золотые и серебряные сосуды, указывая на изделиях имя владельца. Это вполне понятно.
Братины дворян Измайловых. XVII в.
Сосуд из благородного металла стоил слишком дорого, чтобы мастер мог делать его для продажи. Ювелиры сначала искали заказчиков (а ими были обычно знатные люди, монастыри, видные духовные лица, купцы), а потом уже принимались за работу. Желая выразить свои религиозные чувства, многие бояре и князья жертвовали золото и серебро для украшения окладов наиболее чтимых икон, дарили церквам и монастырям драгоценные сосуды, пелены, расшитые золотыми нитями. Понятно, что вещь из дорогого материала можно было заказывать только умелому мастеру.
Особенно большого искусства достигли ремесленники в украшении окладов церковных книг. Переплеты евангелий превращались в драгоценные произведения искусства, они сверкали филигранью, многоцветными эмалями, жемчугами… Древнерусские эмали отличала красочная гамма, в которую входили соединения белого и голубого, розового и синего, изумрудного и ярко-красного тонов.
До нас дошло имя одного из превосходных эмальеров древности. В 1161 году мастер Лазарь Богша по заказу полоцкой княгини Ефросиньи создал крест, украшенный многоцветной перегородчатой эмалью: отдельные участки, образованные тончайшими перегородками, были заполнены эмалевой массой различных тонов. В эмалях среди розеток и крестиков, обведенных травяным орнаментом, можно было увидеть изображения ликов и фигур. Этот крест еще могли видеть и наши современники. Он был похищен из полоцкого музея в военном сорок втором году. Увидим ли мы когда-нибудь замечательное изделие старых времен? Трудно сказать. Но жизнь показывает, что нередко обнаруживаются такие шедевры искусства, которые считаются безвозвратно утраченными.
Как высоко ценились русские эмали во всем мире, мы можем судить по средневековому трактату, написанному монахом Теофилом, который, обращаясь к своему «возлюбленному сыну», писал: «Если ты внимательно его (трактат. — Е. О.) изучишь, то найдешь там, что имеет Греция в разных видах и смешениях цветов, что изобрела Русь в искусстве эмали и разнообразии черни».
Археологи часто обнаруживают при раскопках золотые серьги, украшенные эмалями, изображающие сказочных птиц, женские подвески с финифтью красочной гаммы. Эмаль — родная сестра драгоценных камней, и прежде всего жемчуга, с которым она нередко соседствует в изделиях. В Оружейной палате в Кремле хранятся прекрасные работы эмальеров, выполненные в пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках.
Как зачарованные смотрят посетители на царский венец, изготовленный в 1627–1628 годах. Этот венец — одна из вершин искусства русских эмальеров — предназначался для торжественных выходов. На венце, покрытом белой, зеленой и голубой эмалью, сияют темно-синие сапфиры, густо-зеленые изумруды, жемчужины.
В семнадцатом столетии эмаль (сольвычегодская, а затем ростовская), жизнерадостная, праздничная, ликующая, стала достоянием многих. На окладах книг, чашах того времени часто встречались эмали, изображавшие светские сюжеты — сценки народной жизни, растительность, портреты, пейзажи.
Другой не менее известный вид искусства — чернение по серебру.
Народная молва, как известно, приписывала серебру — драгоценному металлу с мягким блеском — волшебные свойства. Уронить в воду серебряное колечко, дареное суженым, — к разлуке. В серебряном блюдце, по которому катается наливное яблочко, можно весь мир увидеть. Если любимый человек ушел в ратный поход, посмотри в серебряный ковш: увидишь черные крапинки — жди горестных вестей.
Древняя Русь искони знала тонкое искусство черненого серебра. На серебряной стенке старинного бокала — изображение головы оленя, увенчанной короной. Словно кто-то черной тушью аккуратно провел линии острым пером по серебряному фону. Собственно говоря, чернение по серебру — это своеобразная гравюра на металле, рассчитанная на долгую жизнь, на века.
Огромные коллекции русского и зарубежного художественного серебра собрались постепенно в Оружейной палате. Иностранные посольства, прибывая в Москву, привозили в подарки дорогие кубки, блюда, чаши, солонки, столовые и стенные подсвечники. Английские и немецкие ученые, изучающие искусство обработки серебра в своих странах, неоднократно приезжали в Оружейную палату, так как нигде в других местах нет таких богатейших собраний изделий западных мастеров-серебряников.
Вещественную историю древнерусского ювелирного искусства, да, пожалуй, и всей отечественной мелкой пластики — резьбы по дереву, кости и камню, медного литья, золотых и серебряных изделий— можно воочию увидеть, посетив музей в Троице-Сергиевой лавре. В течение веков в лавру знатные и богатые люди делали вклады-подарки, бывшие нередко великолепными образцами прикладного искусства. В монастырскую ризницу поступали работы наиболее прославленных мастеров страны. Постепенно и при самой лавре сложилась самостоятельная школа, созданные там миниатюрные шедевры имеют высокую эстетическую ценность. Особенно прославился резчик и ювелир Амвросий, который жил в середине пятнадцатого века и выполнял бесчисленные заказы монастыря, подобно тому как Микеланджело и Бенвенуто Челлини — заказы римских пап, Медичи и других меценатов.
До наших дней сохранилось много работ Амвросия и его круга. Исследователи обратили внимание на близость миниатюр троицкого мастера к живописи Андрея Рублева: тот же лиризм, возвышенность и обобщенность образов, мягкость, любовь к изяществу формы и цвета. Близость эта вполне понятна: живя там же, где несколькими десятилетиями раньше трудился гениальный художник, Амвросий не мог не испытать могучего влияния Андрея Рублева, его традиций.
С мастерством человека, влюбленного в свое дело, создавал Амвросий миниатюрные «иконостасы», обильно украшенные золотом; в этих миниатюрах и общая композиция, и изображения святых поразительно схожи с рублевскими фресками и иконами. Как ювелир Амвросий обладал характерным почерком, которому старались подражать позднее другие мастера. Золотые створки старинного складня Амвросий украсил затейливым и живописным филигранным узором. Перегородки в орнаменте были им заполнены разноцветной мастикой — вся сканая поверхность сверкала разнообразными красками. До наших дней, к сожалению, дошли лишь следы синего и красного цветов, остальную мастику смыло время. Но сам прием расцвечивания скани краской позднее, уже после смерти Амвросия, получил большое применение, хотя вместо мастики ювелиры семнадцатого века обычно применяли эмали.
Амвросий и его ученики трудились над украшениями не только для своей обители. В далеком Кирилло-Белозерском монастыре сохранилось Евангелие, композиция и скань на окладе которого напоминают то, что делал Амвросий. Есть основание предполагать, что над окладом этого Евангелия поработали троицкие ювелиры. Любопытно, что в монастырских делах упоминаются профессии крестечников, посошников, серебряников; называются имена, видимо, наиболее видных мастеров: Андрей Искусник, Леонид Златописец, Илья Резчик.
Среди бесчисленных сокровищ, хранящихся и поныне в Лавре, редкостный интерес представляют изделия из так называемой коробьи новгородской Ивана Грозного. Про эту коробью (т. е. сундук) Грозного в описи за 1641 год сказано: «…в ней дачи блаженные памяти государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси по царевиче по князе Иване Ивановиче и по апальных». Иными словами, царем были вложены ценности за упокой души казненных или отправленных в ссылку открытых, явных или мнимых недругов царя. Вот амулет-змеевик, сделанный из яшмы и обрамленный в золото. На лицевой стороне амулета умелец четырнадцатого века вырезал Спасителя, сидящего на престоле; на обороте резчик изобразил голову медузы с тянущимся из нее множеством змей. Дорогой старинный амулет, что должен был хранить человека от несчастий, не помог его последнему владельцу. А был им сын Грозного — Иван, которого, как известно, деспотичный царь убил в припадке гнева.
Но как бы ни были знамениты и прославлены люди, для которых трудились древнерусские мастера, как бы ни были величественны или трагичны судьбы владельцев драгоценностей, за любым изделием всегда стоит для нас образ мастера, творца, создателя красоты.
…В детстве почти каждое лето я проводил в Плесе, волжском городке (основанном еще Василием Темным), прославленном Левитаном, воспетом в стихах Дмитрия Семеновского и лирической прозе Николая Смирнова, автора книги «Золотой Плес». Со второго этажа, белого особняка на гористой улице была видна Волга, удивительно красивая по вечерам, когда пароходы светились огнями-звездами. В тихом и уютном городе дачники быстро знакомились между собой, часто становились друзьями.
Мне запомнилось, как однажды Николай Павлович Шлеин, тогда уже известный художник, любивший рисовать плесские пейзажи, повел меня в гости к местному ювелиру. Последний оказался словоохотливым стариком, пышная борода делала его похожим на оперного Ивана Сусанина.
Сухарница. Изделие красносельских мастеров. Филигрань.
Добродушный кустарь охотно показал нам свои изделия: золотые серьги-«калачи», ажурные серебряные подстаканники и миниатюрные серебряные рюмки, позолоченные внутри. Николай Павлович подержал серьги на ладони и, улыбнувшись 6 пышные усы, сказал:
— Хороша вещь, да ведь золотые «калачи» делали еще при Владимире Красном Солнышке…
Ювелир засуетился — он был, видимо, взволнован встречей с художником, близко знавшим Репина, ездившим недавно на Капри рисовать Максима Горького, — и робко возразил:
— Я все по старинке делаю. Надежней, знаете. Руку показывают мастера не у нас в Плесе, а в Красном…
И старик стал рассказывать жуткие красносельские бывалошные истории о лихих людях, что проникали по ночам в дома ювелиров, о лесных разбойниках, что подстерегали дедов, везших на ярмарки свои изделия. Истории были старые-престарые, но ювелир говорил так горячо и убедительно, что и впрямь думалось: жить в Красном страшновато.
Когда меня впервые повезли в Красное (а до него от Плеса рукой подать), я увидел, что дома в селе напоминают крепости. Кустари жили небогато, но изделия, которые они показали нам: браслеты, рамки, медальоны, кольца — вызвали восторг. Особенно мне понравился серебряный конь, впряженный в тарантас! Как, удивлялся я, можно отлить из серебра такого крохотного конька!
Впечатления детства всегда памятны, и Красное для меня навсегда стало олицетворением красоты, воплощенной в драгоценных изделиях.
Если тебе, друг-читатель, придется путешествовать по Верхней Волге, не пожалей несколько часов и остановись в селе Красном.
…О происхождении села Красного на Волге существует несколько легенд.
Одна из них гласит, что на волжских крутоярах, на дальних подступах к Костроме, произошла некогда жестокая сеча с ордынцами. Столько было убитых и раненых, что земля от пролитой крови покраснела. С той поры место и зовется Красным. Однако это слово имело в древнерусском языке и другой смысл. Оно употреблялось в народной речи для обозначения яркого, светлого, прекрасного. Трудно придумать более удачное название для этого живописного местечка на волжском берегу. Жители здесь с незапамятных времен занимаются художественными ремеслами: делают украшения из золота, серебра и других металлов, широко применяя чеканку, гравировку, эмаль, филигрань.
По местным преданиям, этим ремеслом вначале промышляли в селе Сидоровском, поблизости от Красного, и лишь позднее, во времена Бориса Годунова, обработкой серебра и золота как выгодным делом занялись и красноселы. В казанских переписных книгах шестнадцатого века упоминались серебряники, выходцы из Костромы. В конце семнадцатого столетия слава красноселов была так велика, что в Москву для работы в Серебряной палате был вызван здешний мастер. Умельцы села Красного не стремились к затейливой парадности, как, скажем, мастера Ярославля или Нижнего Новгорода; их чеканный орнамент отличался благородной простотой. Охотно применяли красноселы сквозное (ажурное) литье для украшения изделий, любили низкие растительные узоры. В 1665 году Никифор Гожев по московскому заказу сделал позолоченное кадило, хранящееся ныне в Оружейной палате.
Когда после долгого перерыва я снова приехал в Красное, то с трудом узнал поселок ювелиров и филигранщиков. Уютные, обшитые тесом дома составили несколько десятков новых улиц. Дома прасолов, напоминающие крепости, затерялись среди новых зданий. Порадовался я и тому, что восстановлена шатровая церковь годуновской поры, напоминающая в миниатюре знаменитый храм в Коломенском. На улицах, как и в далекие годы, много зелени. Хмель вьется по карнизам и подоконникам домов. Далеко внизу переливается под летним солнцем Волга.
Мой спутник Иван Петрович Смирнов, давний житель здешних мест, — живая летопись села Красного. Он превосходно помнит все события за последние пятьдесят — шестьдесят лет на родных волжских берегах. Пока мы шли песчаной улицей, Иван Петрович рассказывал мне о ювелире, которого в. старину считали колдуном, — он делал по семь — девять верст серебряной цепочки в год.
Навстречу нам попалась веселая стайка молодежи, идущей из ювелирного техникума.
— Смена, — сказал Иван Петрович и улыбнулся своей доброй, немного печальной улыбкой.
— Быть может, зайдем в клуб, посмотрим выставку?
Спутник охотно соглашается.
С удовольствием вспоминает старик, как в конце тридцатых годов мастера Шестерин и Серов создали забавный миниатюрный стол из серебра, на котором стояли самовар и чайный прибор.
— Тогдашние старики многое помнили, да и то приходили подивиться. Ныне таких работ и не слышно.
— А нужны ли такие игрушки из серебра?
— Как же, милый человек, непременно нужны. В них мастер свою руку показывает.
Услышав эти слова, я вспомнил Плес, старого ювелира и его слова о необходимости мастеру «руку показывать».
Деды наши определили свое отношение к работе, сложив пословицу: «Золото не золото, не побыв под молотом».
Овсень, Петрушка, потешные молодцы и ребячьи игрушки
Древняя Русь любила обрядовые игры, любила веселье, всевозможные зрелищные действа, ряженых, скоморохов — потешных молодцов, уличных акробатов, кулачные бои, катание в санях, хороводы, лапту. Многие обычаи ведут свое начало еще со времен Перуна.
Представьте нарядную толпу, собравшуюся в тот день, про который в народе говорят: солнце на лето, зима на мороз. Люди несут на руках соломенное чучело, изображающее молодца верхом на свинье. У доброго молодца есть имя — Овсень. Под радостные клики Овсеня носят вокруг села. Чучело олицетворяет новорожденное солнце, побеждающее холод и ночную тьму. Если Овсеня хорошенько попросить и почествовать, то он приведет на землю дружную весну и богатый урожай. Сидит Овсень на свинье, которая поставлена на носилки, обитые сукном. Участники игры поют:
Мосточек мостили, Сукном устилали, Гвоздьми убивали. Ой, Овсень, ой, Овсень!Громко и радостно величают соломенную куклу те, кто мастерил ее. Ведь к ним Овсень должен быть особенно благосклонен. К восторгу детей, да и взрослых, в мешке приносят живого, пронзительно визжащего поросенка. Начинается игра. Одни участники торжества задают вопросы, другие отвечают. Происходит песенный диалог:
— На чем ему ехати? — На сивенькой свинке. — Чем погоняти? — Живым поросенком.И все хором подхватывают припев: «Ой, Овсень, ой, Овсень!»
Чествование Овсеня происходило еще сравнительно недавно — полвека назад, хотя сам обряд восходит к глубокой старине.
Власти часто недоброжелательно относились к подобным затеям: в играх и обрядах слышались отзвуки язычества. Например, в царской грамоте семнадцатого века с осуждением говорилось о том, что в Москве многие люди по улицам, переулкам и ямским слободам «кликали Овсеня» и возглашали хвалебные песни плугу.
Как видим, чествование Овсеня было крамольным обрядом.
Столетиями на Руси в городах и весях потешали народ скоморохи. Несмотря на преследование со стороны властей, странствующие актеры были любимы, без них не обходился ни один праздник.
Гусляр являлся на пир один со своими гуслями. Скоморохи приходили на праздник шумной ватагой. Музыкальных инструментов у них обычно было множество: гудки, барабаны, тарелки, ложки, гусли, сопели, волынки. Гудком назывался струнный смычковый инструмент. Когда смычок касался верхней струны, то две нижние струны непрерывно звучали. Барабан служил для того, чтобы привлекать внимание слушателей мощными глухими звуками. Сопель напоминала дудку с особым свистковым устройством. Волынка состояла из нескольких трубок, вделанных в мешок из кожи или пузыря, и издавала однообразный тягучий звук, откуда и пошло выражение «тянуть волынку».
О том, как народ относился к странствующим музыкантам, мы можем судить по бывальщине, повествующей о приключениях скоморохов, что пришли в дом к честной крестьянской вдове Нениле. Бродячие актеры пригласили с собой скоморошить, т. е. потешать и развлекать людей, сына вдовы Вавилу, сказав, что им предстоит долгий и нелегкий путь:
Мы идем на Инишоё царство Переигрывать царя Собаку, Еще сына его да Перегуду, Еще зятя его да Пересвета, Еще дочь его да Перекрасу.Нелегко было матери расставаться с сыном, да знала Ненила, что охота пуще неволи. Вавила ушел странствовать со скоморохами. В селах встречные прохожие пугали скоморохов тем, что у царя Собаки двор окружен железным тыном-забором, а на каждой тычине (столбе) торчат человечьи головы.
Но разве могли вернуться с дороги веселые люди — скоморохи? Ведь им помогали не только селяне-пахари, но и птицы, животные, звери. Когда злой человек обидел скоморохов недобрым словом, его наказали голуби: они прилетели стаей и склевали горох, что молотил обидчик. Молодица, полоскавшая белье и пожелавшая скоморохам доброго пути, увидела, что ее грубые домотканые холсты стали шелковыми и атласными.
Царь Собака, заприметивший в своем царстве веселых скоморохов, тотчас замыслил их погубить. Со всех сторон к музыкантам стала подступать вода. Но скоморохи не растерялись:
Заиграл Вавила во гудочек И во звончатой во переладец, А Кузьма с Демьяном приспособил — И пошли быки не тут стадами, А стадами тут да табунами, Еще стали воду да упивати, Еще стала вода да убывати.Как ни старался царь Собака погубить пришельцев, ничего у него не вышло: вода нейдет, огонь не берет. В конце всех приключений Инишоё царство досталось гудошнику, крестьянскому сыну Вавиле.
Фанатически настроенные люди видели в скоморохах «дьяволовых слуг», старались, хотя и безуспешно, бороться с потешными молодцами. Так, в наказной грамоте патриарха Иосафа в 1636 году говорилось, что народу запрещается в праздники вместе со «скоморохами на улицах и на торжищах и на распутнях сотонинские игры творити и в бубны бити и в сурны ревети и руками плескати и плесати и иные неподобные деяти». Князь Курбский зло упрекал Ивана Грозного за то, что царь допускал на пирах игру скоморохов. Был в нашей истории случай, когда скоморошьи подворья в Москве были разгромлены теми, кто не мог мириться с народными увеселениями.
Несмотря ни на какие преследования, скоморохи толпой или в одиночку распевали веселые, разгульные песни то на площадях и базарах, то в стенах хором и даже во дворцах.
Но перенесемся в эпоху, более близкую нам. Представьте себе шумную ярмарку где-нибудь в приволжском Семенове, Красном на Волге, в Сергиевом Посаде или в самой белокаменной Москве. Среди кадок с брусникой и клюквой, плетеных корзин с вкусными пряниками, холстин и расписных дуг, самых разных товаров, заманчивых для покупателя, ярче солнца блестят, переливаются весенними красками игрушки — деревянные, глиняные, соломенные, тряпичные… Детям все хочется купить. Но, перекрывая ярмарочный торговый гул, разносится голос зазывалы-кукольника:
Ребятушки, праздник, праздник! У Петрушки праздник, праздник!Начинается представление бродячего кукольного театра, который покажет любимого героя народных сказок, анекдотов, бывальщин и потешных комедий — Петрушку; он поочередно обманывает и побеждает не только воеводу, купца и черта, но и злобную старуху Смерть. Кукольнику есть чем посмешить и взрослых и детей.
Петрушка — это народное праздничное веселье.
Петрушка — проявление народного оптимизма, насмешка бедноты над власть имущими и богатыми. Со своими врагами Петрушка расправляется беспощадно и весело, он развенчивает лицемерие, тщеславие и глупость. Его хмуро-серьезные недруги убегают со сцены под всеобщий смех. Петрушка в несчастье вызывает всеобщее сочувствие, все знают, что он в конце концов вывернется из любого положения. Петрушка сметлив, жизнелюбив и смел. Нормы общепринятой средневековой морали его мало смущают. Поэтому, мягко говоря, нескромные сценки — почти непременная принадлежность кукольной комедии.
Петрушка был неофициальной частью праздника. Вот почему его так любили крестьяне и ремесленники, «голь перекатная». Они видели в нем своего брата, самого демократичного из народных героев. Ведь даже сказочный Иван-дурак заканчивал свой путь тем, что получал в награду за подвиги руку государевой дочки и полцарства. Петрушке же доставались лишь толчки и затрещины, но он неизменно побеждал своих врагов, оставаясь до конца самим собой.
Во время всего кукольного действа на ярмарочной площади не умолкал хохот.
Голштинский дипломат Адам Олеарий, описывая Московию, так рассказывает о технике кукольного народного театра: «Они (комедианты-кукольники) обвязываются вокруг своего тела простынью, поднимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой своей таким образом нечто вроде сцены, с которой они ходят по улицам, показывая на ней из кукол разные представления».
Комедия обычно начиналась с классической сцены, во время которой Петрушка покупал у цыгана лошадь. Кукольник, потешая почтенную публику, говорил разными голосами. Петрушка произносил фразы хриплым фальцетом. Разговор велся «посредством машинки, приставляемой к нёбу, над языком». Цыган же говорил басом — машинка тут была ни к чему.
Петрушка, разумеется, с выгодой для себя покупает лошадь, садится на нее верхом, но оказывается незадачливым седоком. С жалобным воплем он падает на сцену, получая удары копытами. Все это довольно забавно, но настоящая потеха начиналась, когда на сцену суматошно выбегал доктор. Надо заметить, что по Руси скиталось множество шарлатанов-врачевателей и у народа были веские основания иронизировать над тогдашними эскулапами.
— Где у тебя болит?. — спрашивал доктор.
— Вот здесь, — отвечает Петрушка.
— И здесь?
— И тут.
Доктор грубо осматривает Петрушку, причиняет ему резкими движениями боль, после чего наш герой дает доктору затрещину. Завязывается драка. Появляется представитель власти и строго вопрошает:
— Ты зачем бил доктора?
— Затем, — жалобно поясняет Петрушка, — что науку свою худо знает: битого смотрит, во что бит, не видит, да его же еще и спрашивает.
Опять завязывается ссора. Сцена завершается тем, что Петрушка с палкой гонится за улепетывающими со всех ног приставом и доктором.
Надо ли говорить, как радовались этому зрители, сопровождавшие комические эпизоды смехом и радостными возгласами, всецело сочувствовавшие неунывающему и энергичному герою, которому сам черт не брат.
Максим Горький писал в свое время: «…наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее — доктор Фауст, Василиса Премудрая, иронический неудачник Иван-дурак и наконец — Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть, — все это образы, в создании которых гармонически сочетались рацио и интуицио, мысль и чувство».
Игрушечных дел мастера часто делали кукол, изображавших Петрушку. Особенно охотно кукольного Петрушку лепили из глины и раскрашивали, вырезали из дерева.
Петрушка. Современная дымковская игрушка.
Обожженную глину или дерево расцвечивали водяными красками, и Петрушка выходил весьма потешным: то верхом на коне, то (в игрушке с движением) избивающим палкой доктора-басурмана, то кланяющимся почтенной публике.
Помню, в Москву приехал композитор Игорь Стравинский, начинавший некогда свою музыкальную деятельность в России. Он создал в России, на заре своей юности, музыку, связанную с образами нашего фольклора и старины. В столице были показаны ранние одноактные балеты Стравинского, в том числе «Петрушка». Шумно аплодировали зрители композитору, создавшему выразительный музыкальный образ героя, столь любимого в давние годы на Руси.
…В кургане над Днепром, на месте древнего славянского поселения, археологи откопали крохотного глиняного конька. Этой игрушкой тешился наш далекий пращур. Младенцу предстояло вырасти, научиться ездить на лихом скакуне и стать воином богатырской заставы. Ему даже в детских и юношеских снах не виделись в немыслимой дали времен будущие походы в ладьях на Царьград, схватки с уграми, свержение деревянных идолов…
Игрушка — извечная спутница человечества. Возраст самой древней в мире игрушки, найденной на Ближнем Востоке, насчитывает около трех тысяч лет. Это простая случайность. Игрушке столько же лет, сколько человечеству.
Кто скажет, что расставание с детством всегда происходит безболезненно? Разве мало мы встречаем взрослых людей, оставшихся верными изначальным впечатлениям бытия, задорно-радостной стране, названной Детство?
В записях расходов, сделанных во время поездки царской семьи в Троице-Сергиевую лавру в 1635 году, встречаются такие пометы: «…для их государевых чад куплено всяких потех на 21 алтын», «…торговому человеку Микитке Павлову за потешный возок с кон-ми деревянные…», «…стрельцу Игнашке Маркову за потеху, за деревянные конки и шенданы и за птички 2 р… Потеха взята царевичу Алексею Михайловичу».
Сохранилась запись расходов жены Петра I Екатерины: «…куплено в Москве разных игрушек царевне Наталье Петровне и великому князю Петру Алексеевичу и княжне, которые посланы в Петербург, а именно: три коровы, два коня, два оленя, четыре барана, две пары лебедей, два петуха, одна утка, при ней трое детей, город с солдатами, три баула…»
Во всех этих записях речь идет об игрушках, сделанных в подмосковном Сергиевом Посаде.
Были ли именитые игрушечники в Древней Руси? Конечно, были, но летописи об этом молчат. Мы можем пользоваться лишь косвенными свидетельствами.
Один из выдающихся деятелей средневековой Руси Сергий Радонежский, живя в скиту, в келье, над которой «древеса… шумеше стояху», радовал детей тех, кто приходил к нему за советом, игрушками. Шли годы, и на месте скита вырос богатый монастырь, окруженный огромным посадом. В праздники в монастырь стекались люди со всей страны, на посадской площади шумел торг, где продавались изделия местных ремесленников и, конечно, деревянные игрушки.
Сергиевские игрушечники с помощью нехитрых инструментов — стамесок и ножа с заостренным на конце лезвием — вырезали фигурки людей и животных, раскрашивали их и продавали.
Помогали сергиевским мастерам окрестные селяне. Поначалу они поставляли в посад лишь черновые заготовки — «белье», как здесь говорят, но постепенно превратились в самостоятельно работающих игрушечников. Особенно выделялось село Богородское, где и поныне вырезают из дерева миниатюрную скульптуру. В Богородском исстари игрушку не раскрашивали — она оставалась в «белье»— и это сразу отличало ее от многоцветной посадской игрушки.
Е. Кошкина. Чаепитие.
Любимые герои богородских мастеров — персонажи сказок: звери и животные. На все лады изображался добродушный, смешной медведь — Михаил Потапович.
Есть в Богородском игрушка, которую вырезали прадеды, деды, отцы и теперь вырезают внуки. Она называется «Кузнецы» и изображает человека и медведя, ударяющих поочередно по наковальне. Движения производятся с помощью планки. По всей вероятности, «Кузнецы» имеют сказочно-литературное происхождение. В народных сказках издавна бытуют сюжеты, посвященные встречам медведя с человеком. Вспомним сказки, слышанные в детстве, о том, как крестьянин и медведь делили вершки и корешки, как они вместе дуги гнули, как медведь с мужика муху прогонял и т. д.
В конце прошлого века «Кузнецов» увидел в Париже на выставке Огюст Роден. Творец «Мыслителя» долго любовался работой богородских резчиков и назвал богородских «Кузнецов» гениальным произведением народного искусства.
Е. Косс-Деньшина. Тройка.
Сергиев Посад издавна знал, какие игрушки раскупались всего быстрее. Ремесленники мастерили скачущих во весь опор коней, лихих ямщиков и седоков, кутающихся в теплые шубы. Охотно вырезали фигуры дровосека, охотника, крестьянина, несущего вязанку дров, бондаря, надевающего обручи на кадушку.
Резчики воспроизводили жизнь такой, какой она им виделась, внося в свои создания фантазию, декоративность, добрую улыбку. Вот, например, сергиевская крашеная скульптура «Старик и старуха за прялкой». Перед нами правдиво схваченная сценка крестьянского быта. Или другая скульптура, изображающая толстого старика крестьянина и названная лаконично — «Пузан». Эти игрушки, конечно, не для детей.
Игрушки для взрослых иногда носили довольно забавный характер: вот тощий монах, молитвенно сложивший руки; расфуфыренная барыня; напыщенный офицер в мундире. Тайком возле монастырских стен продавалась окрашенная скульптура «Монах, несущий женщину в снопе». Известный в прошлом веке игрушечник Иван Рыжов, выпускавший в свет забавные, с «перцем» изображения монахов, был однажды арестован, отвезен в Москву, где ему пригрозили «прогулкой» в кандалах по Сибири.
Как в старину, так и ныне богородские резчики создают скульптуры-сценки. Перед зрителями постепенно развертывается сказочное действие, вырезанное из дерева. Например, удалый охотник с верным Кусаем идут в лес с ружьем, а за деревом прячется медведь Михаил Потапович. Такова первая сценка. Дальше мы видим связанного охотника, у которого Михаил Потапович отбирает ружье. Потом сцена на поляне, где идет медвежий пир и сидит связанный веревками плененный Михаилом Потаповичем охотник. Затем перед нами спящие медведи и Кусай, освобождающий охотника. В финале охотник ведет в село пойманного медведя.
На протяжении многих десятилетий любимым чтением на Руси была занимательная «Повесть о Еруслане Лазаревиче», о богатыре, переживавшем всевозможные приключения, битвы, любовные истории, поединки. Мастера из Богородского выбрали для своей скульптуры-композиции один из самых драматических эпизодов повести: Еруслан Лазаревич сражается с драконом о семи головах.
Миниатюрная деревянная скульптура воспроизводит разнообразные стороны жизни, от воспевания героического подвига до злой насмешки, от пафоса до гротеска.
Ныне в Загорске и Богородском есть семьи, что занимаются поделкой игрушки из поколения в поколение. В это полезное и благородное дело внесла вклад прославленная династия Рыжовых, полтораста лет вырезавших игрушки.
Самым крупным мастером-художником, выросшим в среде подмосковных резчиков, следует, пожалуй, считать И. К. Стулова.
Он обладает веселым и добрым талантом, унаследованным от «дедич и отич». Любит Стулов сказочные сюжеты. Вот две неподражаемо веселые сценки, глядя на которые нельзя не рассмеяться: «Как медведь дуги гнул», «Вершки и корешки». И в первой и во второй скульптурах любимые богородцами герои — мишка и крестьянин. В стуловских работах несколько больше подробностей, нежели в скульптурах мастеров прошлого века. У стуловских скульптур-сказок есть свое лицо. Преемственность же особенно ощущается в таких работах, как «Додон и звездочет» и «Медведь и Маша».
Совсем иной характер носит наша отечественная керамическая игрушка, не менее известная, чем ее сестра из дерева.
Есть на правом берегу Вятки Дымковская слобода. В ней исстари селились печники и игрушечники — мастера делать глиняные свистульки. Говорят, что слободу потому и назвали Дымковской, что в ней по утрам над каждой избой поднимались хвостатые клубы дыма. Слобода располагается в низине, напротив города Вятки. Посмотрят вятичи, бывало, на слободу за рекой и увидят, что над ней от дыма темным-темно.
Происхождение глиняного промысла народное предание связывает с местным праздником «Свистуньей», дожившим чуть ли не до наших дней. Писатель Всеволод Лебедев в своих «Вятских записках» так описывает запомнившуюся ему с юности «Свистунью»: «…когда попадаешь на площадь и идешь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, ценою в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят. Люди, идущие приложив к лицам этих разноцветных зверей, похожи все вместе на громадный пестрый маскарад»[4].
По всей вероятности, «Свистунья» в далекие годы была праздником, когда вятичи по весне встречали бога солнца Ярилу пением глиняных дудок. Но есть и другое объяснение того, откуда появилась «Свистунья». Однажды к Хлынову (старинное название Вятки), гласит легенда, подошли враги, несметное множество кочевых полчищ. Городу грозила неминуемая гибель. Тогда вятичи измыслили хитрость. Все жители города, даже малые дети, получили по глиняной свистульке. Подкравшись к вражескому стану ночью, они подняли отчаянный свист. Так, наверное, свистел сказочный Соловей-Разбойник, от свиста которого облетали маковки на теремах, шатались деревья и замертво падали кони. Кочевники решили, что их окружают подоспевшие на выручку Хлынову дружины, и в страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане свой особый праздник — «Свистунью»… Есть, конечно, и другие предания.
На вятскую глиняную расписную игрушку долгое время не обращали внимания. Интерес, а затем и мировое признание к дымковской игрушке пришли в наши дни.
Что изображают в своих изделиях дымковские мастерицы?
Нянек с детьми, водоносок, баранов с золотыми рогами, гусей, уточек, индюшек с индюшатами, петухов, оленей и, конечно, молодых людей, катающихся на лодке, скоморохов на конях, барынь с зонтиками. Дымковской игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Вся она — броская, яркая, горящая цветными пятнами.
Богородская миниатюрная скульптура.
Она напоминает рисунки, выполненные детьми. В дымковке — бьющая через край полнота ощущения радости жизни. В ней совершенно отсутствует сатирическая нотка, которая нередка в изделиях богородских мастеров.
Дымковка — добрая улыбка, а не резкий смех.
Серый волк никогда не появляется в Дымковской слободе: он слишком злобен. Мастерицы предпочитают ему доброго барана, покрытого шелковой шерстью. Дымковская собака — безобидная дворняга, которая если и решится полаять; так, верно, лишь от радости. Как добра и торжественна здешняя водоноска в пышном сарафане, идущая с ведрами! Всадник на пятнистом коне так забавен в своем величии! Уморительна пара катающихся в лодке: на нем матросский костюм, бескозырка, у нее густые кудри, румянец во всю щеку и букет цветов в руке. Так и кажется, что мастерица тихо посмеивалась, лепя и расписывая красками своих глиняных человечков.
Дымковская игрушка не любит одиночества. Она хороша даже не в паре, а в группе с другими, в близком соседстве со своими кровными братьями и сестрами из слободы на реке Вятке.
Замечательный художник и археолог, знаток старинного быта Аполлинарий Васнецов сравнивал дымковскую игрушку с античной скульптурой: «Удивительное дело! На далеком Севере, в лесной стороне, в древнем городе Хлынове, в с. Дымково каким-то далеким эхом отозвались терракоты Херсонеса и Древней Греции. Как там обожженные из глины статуэтки окрашивали водяными красками, так и здесь. Разница только в образах, вложенных в глину: там — классические туники дев, Амур и Диана, здесь… живые, близкие нам образы».
…Под звуки задорного перепляса на сцену выбегают парни и девушки, одетые в нарядные цветастые костюмы. Танцоры кружатся парами, водят хоровод и, словно подхваченные вихрем, плывут во все убыстряющемся темпе, в огненном танце. Но мелодия вдруг обрывается, и танцоры застывают. Зритель видит перед собой фигуры, словно вылепленные и ярко расписанные мастерицами из знаменитой слободы. Танец, созданный на берегах Вятки, так и называется — «Дымковская игрушка».
Никогда, пожалуй, в многовековой жизни игрушек не было такого праздника, как осенью 1965 года, когда в Москве была устроена обширная выставка.
Богородская миниатюрная скульптура.
В Манеже разместились куклы, игрушечные звери, сказочные персонажи, заводные детские железные дороги, автомобили, космические ракеты, синтетические корабли, парашютисты, говорящие человечки, веселые книги с картинками…
Это был праздник детей. Праздник кукол, праздник игрушек. Но среди этого забавного великолепия, рожденного новейшей изобретательской мыслью и техникой наших дней, выделялись куклы, вырезанные в селе Богородском и вылепленные из глины мастерицами на берегах Вятки. Они не только не затерялись среди других игрушек, но привлекали внимание живописностью и своеобразием.
Я, приехав однажды в Дымковскую слободу, спросил одну из здешних художниц — Зинаиду Федоровну Безденежных:
— Трудно научиться вашему ремеслу?
Безденежных улыбнулась и громко позвала:
— Таня, иди сюда.
Вошла девочка лет девяти-десяти, внучка Зинаиды Федоровны. Бабушка попросила:
— Покажи, Танюша, свои куклы.
Девочка принесла глиняные игрушки, раскрашенные забавным, ярким и по-детски беззаботным узором. Я спросил:
— Сама лепила?
— Сама, — ответила Таня.
— Бабушка помогала?
— Нет, — уверенно ответила девочка. — Я сама все умею.
Зинаида Федоровна так заключила беседу:
— Нетрудное дело, да не всякому дается.
Из нашей жизни ушли многие игрушки. Некоторые из них умерли своей смертью. Но нельзя не пожалеть о том, что мы предали забвению многие сельские игры, полные поэтической прелести.
Есть в Загорске музей игрушки. В его запасниках лежат большие коллекции русских народных кукол. Любопытно происхождение этого собрания. В конце прошлого века игрушечным промыслом в России заинтересовался молодой тогда и энергичный художник Николай Дмитриевич Бартрам, самозабвенно увлекавшийся народным творчеством. Он постоянно бывал в старых художественных гнездах, популяризовал русскую игрушку в отечественной и зарубежной печати, написал о ней отличную книгу. Энтузиаст уговорил подмосковных кустарей вернуться к вырезыванию из дерева игрушек, снабдил кустарей старинными лубочными картинками, создал музей игрушек. Недаром подмосковные мастера в 1923 году подарили Николаю Дмитриевичу в день его рождения короб с игрушками, сделав на нем выразительную надпись: «Королю игрушек — признательный народ».
Все мы — молодые, пожилые и старые — в прошлом были детьми, все любили игрушки. В современном бурном мире дети составляют большую и, смею думать, лучшую часть человечества. Будем же помнить народную заповедь: игрушка — не балушка.
Преданья старины глубокой
В этих тихих комнатах вспоминаешь о том, что в некогда известном всей Москве доме Пашкова помещался Румянцевский музей.
Отдел рукописей Ленинской библиотеки сохраняет до сих пор в своем облике музейные черты. В шкафах, в особых приспособлениях и на столах — старинные фолианты, пришедшие к нам из глубины веков.
Вот книга, которую мог держать в руках Владимир Мономах, воин и политик, охотник и философ, размышлявший на склоне лет своих: «Что такое человек, как подумаешь о нем? Как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет?..» Вот под стеклом лежит летопись, открытая на странице, где записан красочный рассказ о волхве, предсказавшем вещему Олегу смерть от любимого коня. Летописная легенда, как известно, воодушевила Пушкина на создание «Песни о вещем Олеге».
Я листаю страницы «Златой цепи» — сборника, содержащего грозные поучения Серапиона Владимирского, мрачного пророка русского средневековья. Нельзя не вздрогнуть от слов, тщательно начертанных в сборнике: «Друзья мои и ближние мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со мной, опуская руку со мной в солонку, а в несчастьи как враги обретаются и даже помогают поставить мне подножку; глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мной». Конечно же, это «Моление Даниила Заточника», представленное на постоянной выставке списком шестнадцатого века.
Здесь же, на выставке, находятся книги, знаменующие целые эпохи в народной жизни: «Киево-Печерский патерик», «Житие Александра Невского», «История Казанского царства», «Повесть о разорении Рязани Батыем»… Впечатление от встречи с древними рукописями усиливается живописными панно (рядом со стеллажами). Художники наших дней, оформляя выставку, воспроизвели в своих работах мотивы миниатюр летописей, орнаменты, буквицы, старинные заставки. Живое дыхание столетий ощущаешь и тогда, когда из футлярчика достается свиток семнадцатого века и звучат слова, раздававшиеся в приказных избах того времени. Мы, читатели, редко заглядываем в специальные издания, публикующие подлинные исторические документы. Между тем в грамотах, отписках, челобитных — голоса и интонации невыдуманных людей. Красивым бойким почерком дьяк записывал слова Ивана Грозного, адресованные воеводам Сабурову и Волынскому: «И вы то чините негораздо, что к нам из Юрьева о ваших делах пишут, и вы того не слушаете, о наших делах не радеете… И вашим нераденьем и оплошкою в том учиниться нашим новым немецким городам какая поруха, и вам в том от нас быти в великой опале и в казни». Представляю, как перепугались Сабуров и Волынский, получив столь недвусмысленное предупреждение от царя, не бросавшего слов на ветер. Всего несколько строк из грамоты, а перед нами лицо эпохи.
…Древняя Русь ценила книги как редчайшие сокровища. Иметь несколько книг — это означало обладать целым состоянием. «Повесть временных лет» называет книги реками, напояющими вселенную мудростью неизмеримой глубины. «Если прилежно поищешь в книгах мудрости, — замечал летописец, — то найдешь великую пользу душе своей».
Многие рукописи одевались в кожаные переплеты — оклады, украшались и драгоценными камнями, и многоцветными сияющими эмалями. Когда я вижу на темно-серебристом фоне оклада голубовато-зеленое пятно, излучающее неожиданно радостный, светлый и глубокий свет, то моему взору представляются образы и события прошлого, свидетелем которого был этот драгоценный камень. В глубине камня — и зарево пожаров, и праздничное полыханье свечей, и глаза воинов, и изнуренные лица подвижников…
Драгоценным камнем, ограненным великим мастером — Временем, можно назвать древнерусскую литературу, богатства которой мы еще только начинаем в полной мере осознавать. Год от года глубже мы проникаем в смысл словесности, складывавшейся столетиями, перечитываем забытые или полузабытые литературные памятники и все более убеждаемся в их художественной силе.
Двенадцатый век открыл и почувствовал русскую икону как явление искусства. Для этого потребовалось понять условный язык давней живописи, доступный всем в старину и забытый позднее.
Церковь Спаса Нередицы близ Новгорода. 1198.
Хождение по морю. Миниатюра XVI в.
Если изограф рисовал святого выше ростом, чем палаты или горки, если дерево изображалось крохотным по сравнению с библейским персонажем, то это вовсе не означает, что художник не знал, что такое пропорции. Иконник хотел рассказать о святом или о какой-то стороне его характера и рисовал, скажем, Фрола и Лавра — покровителей коней — значительно выше, чем пасущихся животных. Святые — на первом плане, все остальное подчинено, второстепенно — будь то люди, живописный или архитектурный пейзаж, орнамент.
Такого рода условности существовали и в древнерусской литературе. Писатель должен был сообщить о герое лишь важное, существенное. Введение в повествование, например, окружающих бытовых подробностей противоречило бы тогдашнему литературному этикету, снижало бы ореол святости героя, его духовность и величие.
Иным был и средневековый читатель.
«Каждое произведение Древней Руси рассчитано не на обычное, беглое чтение, а на прилежное „книжное почитание“ в поисках книжной мудрости и книжного наставления, — пишет Д. С. Лихачев. — Если бы можно было представить себе древнерусского читателя за чтением его любовно переписанных от руки книг, то, наверное, это чтение было особенно истовым, торжественным и благоговейным».
Не случайно на старых книгах встречаются записи: «Горе тому, кто черкает у книг по полям, на том свете бесы исчеркают ему лицо железом»; «Эту книгу ни продати, ни отдати нельзя»; «Аще где криво написал, то не кляните меня, грешного раба…» Читатель книг ощущал себя приобщенным к вечной мудрости мира; создателями сочинений, как правило анонимных, выступали люди большой художественной культуры, искренно заботившиеся о судьбах своей Родины, мыслившие во вселенских масштабах.
Выдающееся произведение — «Повесть временных лет», определившее на много веков исторические представления наших соотечественников, поражает своей грандиозностью, сплавом достоверных фактов с очаровательными народными легендами. Составленная из разножанровых отрывков, созданных в несхожие эпохи, она — единое художественное целое, включившее в себя сведения о жизни страны, войнах и разорениях, характеристики князей, похвалы героям, плачи о погибших, дипломатическую и придворную хронику, сказания о чудесах, назидания потомкам. И все это — в непринужденной форме, поразительно емкой и лаконичной.
В свое время друг Пушкина П. А. Вяземский писал с горечью: «Наш язык не приведен в систему, руды его не открыты, дорога к ним не прочищена. Не всякий имеет средство рыться в летописях, единственном хранилище богатства нашего языка, не всякий и одарен потребным терпением и сметливостью, чтобы отыскать в них то, что могло бы точно дополнить и украсить наш язык». Конечно, в словах Вяземского есть доля полемического преувеличения. Бесспорно одно, что и поныне летописи, сказания, жития, «хождения» остаются кладовыми словесных сокровищ, запасниками, в которых таятся сюжеты и образы большой художественной силы.
Древнерусский писатель мыслил государственно. «Нам Русская земля, что младенец для матери», — говорил летописец, высказывая свои самые заветные мысли и чувства. Нельзя без душевного трепета читать «Слово о погибели Русской земли», опубликованное сравнительно недавно — в конце прошлого века. За семьдесят лет после открытия «Слова о погибели…» напечатано свыше 150 научных работ, ему посвященных. Уже одно это говорит само за себя!
В научной печати есть сообщения не только о том, как оценивается «Слово о погибели…» в нашей стране, но и о том, как воспринимается это произведение за рубежом.
Радзивилловская летопись. Конец XV в.
Немецкий ученый Филипп Вернер написал, что для него «Слово о погибели…»— это солнечный гимн, в котором автор воспевает красоты своего Отечества, а затем оплакивает исчезнувшее могущество государства. Филиппу Вернеру «Слово о погибели…» представляется единственным в своем роде произведением европейской литературы, где объект поэтического вдохновения не индивидуальным герои, а само государство.
В комментариях к французскому переводу «Слова о погибели Русской земли» говорится, что этот «прекрасный фрагмент» замечателен своим ярко выраженным патриотическим чувством и нужно дойти до Петрарки, чтобы найти в западноевропейской литературе гимны идеальному отечеству, которые по силе выразительности можно было бы сравнить с русским памятником. В другой статье «Слово о погибели…» именуется «маленькой Илиадой».
…Я вхожу под своды Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря. Все в этом здании дышит мужеством и суровым величием — недаром собор был сооружен в честь освобождения старейшего русского города Смоленска из-под власти княжества Литовского. Архитектурный облик, настенные росписи, огромнейший иконостас, украшенный золоченой виноградной лозой, создают настроение триумфального величия. Я внимательно приглядываюсь к одной из старинных икон, изображающей прекрасных юношей, опирающихся на мечи. Читаю лаконичную музейную надпись: «Борис и Глеб. Работа русских мастеров конца шестнадцатого века. Вклад царя Бориса Годунова (1598–1605). Оклад 1605 года».
Радзивилловская летопись. Конец XV в.
Потемневшая икона, полузакрытая дорогим окладом, ее смысл и красота не сразу становятся доступными. Сначала в облике юношей бросается в глаза отрешенность от всего житейского, земного, готовность к самопожертвованию и аскетизм. Потом замечаешь, что один из юношей совсем еще отрок, в мягких чертах его, несмотря на внешний аскетизм, угадываются доброта, простодушие, доверчивость. В облике второго преобладают решимость, самоотречение и печаль. На юношах богатые княжеские одежды.
Борис и Глеб не только исторические личности. Первые русские святые, признанные византийской церковью благодаря энергичному настоянию Ярослава Мудрого, они стали литературными героями созданных в древнейшую пору житийных произведений. Еще в 1015 году была написана летописная хроника об убийстве их Святополком, затем появились «Сказания и страсть, и похвала святым мученикам Борису и Глебу» и, наконец, «Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба».
Я ничуть не удивился, увидав на иконе князей-мучеников в московском соборе. Мне приходилось встречаться с героями древнерусского сказания в забайкальских степях, на берегах Днепра и Северной Двины, в Киеве и Москве. В Третьяковской галерее есть две иконы, запечатлевшие юных русских князей. На одной из них, датируемой 1340 годом, Борис и Глеб изображены на фоне горок едущими на разномастных конях. Другая, написанная в четырнадцатом веке, особенно интересна клеймами, иллюстрирующими историю жизни и гибели Бориса и Глеба. Наконец, во Владимирском храме в Киеве М. В. Нестеров в конце прошлого века написал трогательные фигуры Бориса и Глеба на фоне мягкого русского пейзажа, подчеркнув в образах юношей красоту и одухотворенность. Борису и Глебу посвящены многие храмы, их именами названы селения, об их драматической судьбе пели стихи калики перехожие, заставляя слушателей плакать.
Мне вспоминается заснеженное село в приокской пойме под Муромом — Борис-Глеб. Лошадь, помнится, с трудом тогда тащила сани по рыхлому снегу, и на крутых подъемах мы с возницей подталкивали повозку, иногда приподнимая мокрые полозья.
Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде. 1119 г.
Η. Κ. Рерих. Никола.
Крестьянин говорил:
— Проедем Борис-Глеб, дорога там полегче пойдет.
Имена князей, живших в одиннадцатом веке, звучали в устах крестьянина привычно и по-домашнему просто. Я был тогда в возрасте Глеба и наивно спросил: «А кто они такие — Борис и Глеб?»
Возница удивился:
— Неужели не знаешь? Борис в Ростове княжил, а Глеб у нас в Муроме… Зарезал вьюношей Святополк Окаянный, ни дна ему, ни покрышки.
Так рассуждал муромский крестьянин, ходивший в детстве в церковноприходскую школу…
Борис и Глеб стали символом страдания за дело правое, вот почему так много церквей воздвигнуто в бескрайних русских просторах во имя этих святых.
Убогость соломенных крыш И полосы желтого хлеба! Со свистом проносится стриж Вкруг церкви Бориса и Глеба, —писал Валерий Брюсов.
Не должны ли мы задуматься, почему на протяжении столетий эти образы волнуют самых разных людей, находят отзвук в их сердцах?
Сказание о Борисе и Глебе, сохранившееся до наших дней в десятках списков, написано с большой художественной выразительностью. Когда неискушенный читатель пробивается сквозь известную условность формы, то он попадает в мир света и добра, олицетворением которого являются образы Бориса и Глеба; свету и добру резко противостоит мир тьмы и зла — князь Святополк и его слуги.
Древнерусский автор всем сердцем переживал события, положенные в основу повествования. Отсюда лиричность и напряженный драматизм сцен, им созданных. Подговоренные Святополком, убийцы подходят к шатру, где ждет их приготовившийся к смерти Борис: «И вот напали на него, как звери дикие, из-за шатра, и просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с ним пронзили и слугу его, который, защищая, прикрыл его своим телом. Ибо был он любимец Бориса. Был отрок этот родом угрин, по имени Георгий. Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь…»
История с золотой гривной не только усиливает драматизм повествования, но и придает полулегендарному сказанию оттенок достоверности.
Сказание изобилует страстно-публицистическими отступлениями: «Окаянные же те убийцы пришли к Святополку, точно хвалу возымев от людей, беззаконники. Вот имена законопреступников: Птуша, Талец, Еловат, Лешко, а отец им всем — сатана. Ибо такие слуги — бесы». Здесь каждое слово бьет в цель. Но далее накал авторского негодования еще более усиливается: «Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса, ибо бесы бога боятся, а злой человек ни бога не боится, ни людей не стыдится». Трудно представить себе большую эмоциональную выразительность публицистической речи — гневом напитано каждое слово. Но сказание, подчиняя частности общему, красочно рисует сцену, в которой Борис безропотно и бесстрашно принимает смерть.
По-иному рисуется гибель младшего брата — Глеба. На этот раз автор старается вызвать в слушателях («Сказание» предназначалось для чтения вслух) чувство щемящей сердце жалости, а не возмущения. В произведении умело использован прием народного плача — жанра устной поэзии, широко бытовавшего среди населения.
Н. К. Рерих. Ростов Великий. Теремки княжеских палат XVI в.
Η. К. Рерих. Ростов Великий.
Глеб в «Сказании», узнав о смерти отца и гибели любимого брата, произносит слова горечи, звучащие лирично и мягко: «О увы мнея господине мой! От двою плаче плачуся и стеню, двое сетованию сетую и тужю. Увы мне, увы мне! Плачу зело по отци, паче же плачося и отчаяхся по тебе, брате и господине Борисе…» Когда к Глебу приходят подосланные убийцы, он совсем по-детски, робко, хотя и безнадежно, молит не убивать его, ссылаясь на свою молодость: «Не порежьте лозы, не до конца возрасташа».
Не упущена и такая подробность: по приказу слуг Святополка Глеба зарезал его же собственный повар, «как безвинного ягненка». Когда слуги возвращаются к Святополку, чтобы доложить о содеянном, автор приводит мрачный библейский афоризм: «Да возвратятся грешники в ад».
В произведении дается характеристика поведения и прямая оценка действий двух сторон — убиенных и убийц. Борис и Глеб — вечные заступники за Русскую землю, «светильники сияющие». По мысли автора, каждый должен стремиться уподобиться в нравственном отношении Борису и Глебу. Святополк же, прозванный в народе Окаянным, разбитый Ярославом, бежал в «пустыню межю чехи и ляхи» и умер в муках: «И есть могила его и до сего дьне, и исходит от нея смрад зелий на показание человекам…»
Автор создал образы огромной эмоциональной силы, использовал разнообразные художественные приемы: внутренний монолог, плач и декламационно-ораторскую речь, публицистические и философские обобщения, акварельные словесные краски, цветистые метафоры.
Автор сказания о Борисе и Глебе был крупнейшим писателем времен Владимира Мономаха.
Если у истоков русской поэзии возвышается вечное «Слово о полку Игореве», то в числе начальных произведений отечественной прозы может быть названо и сказание о Борисе и Глебе. Конечно, такое разделение условно, ибо в эпоху Киевской Руси проза и поэзия не были еще так очевидно расчленены, как в новое время.
Отличительная черта нашей древней отечественной словесности — наставительность. Древнерусский писатель думал не о том, чтобы развлечь читателя, а стремился принести «пользу душе» его. Автор сказания о Борисе и Глебе охвачен состраданием к юношам, но утешается мыслью о том, что братья приняли мученический венец, став заступниками за Русскую землю.
Можно путем скрупулезного научного исследования доказать, что автор не знал подлинной исторической правды, что события на самом деле развертывались не совсем так, как говорится об этом в жизнеописании Бориса и Глеба. Но ведь исторический Гамлет — принц датский — тоже был весьма мало похож на шекспировского Гамлета. Борис и Глеб для слушателей и читателей таковы, какими их рисовала литература.
Для того чтобы почувствовать и понять все разнообразие и несхожесть словесных памятников давних времен, обратимся к творению, носящему сугубо светский характер. Одно из самых прекрасных произведений домонгольской Руси — «Моление Даниила Заточника». Мы не знаем в точности, к кому обратился Даниил, не знаем, был ли автор в самом деле заточником, т. е. заключенным, нам неизвестно, подлинное ли перед нами ходатайство о помощи и помиловании, облеченное в художественную форму, или остроумное использование литературного приема.
Есть легенда о том, что невинно осужденный княжеский дружинник Даниил был посажен в тюрьму, стены которой выходили на Белоозеро. Находясь в заключении, Даниил написал свое обращение к князю и господину и, запечатав его в сосуд, кинул в озеро. Сосуд проглотила рыба, которую потом выловили и подали к пиршественному столу. Моление дошло до князя. После этого Даниил был выпущен на свободу и обласкан господином.
Автор «Моления Даниила Заточника» был начитанным человеком, владевшим книжной мудростью, великолепно знавшим стихию народной речи, песни, легенды, предания старины, лексику горожан-ремесленников.
Н. К. Рерих. Ростов Великий. Церковь Спаса на Сенях. XVII в.
Η. Κ. Рерих. Ростов Великий. Церковь Спаса на Сенях. XVII в.
Свои просьбы Даниил высказывает в метафорично-декларативном стиле, обильно украшая речь сравнениями, книжными и народными: «Княже мой, господине! Избавь меня от нищеты этой, как серну из сетей, как птицу из западни, как утенка из когтей ястреба, как овцу из пасти львиной».
Устами Даниила Заточника говорила Русь угнетенная, служивая, страдавшая от боярских раздоров, зависевшая от господских милостей, остро чувствовавшая социальную несправедливость. Автор восхваляет сильную княжескую власть, но требует от нее доброты и снисхождения к «меньшим людям». Обращаясь к князю, Даниил пишет: «…когда же лежишь на мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под единственным платком лежащего и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого».
Высокая патетика, жалобы и сетования соседствуют в «Молении» со скоморошьими шутками, остротами, бытовыми примерами, народными анекдотами. Автор старается не только умилостивить, но и рассмешить его. Сатирической солью насыщены строки произведения, где речь идет о глупости, воровстве, скаредности и особенно в соответствии со средневековой традицией — о злых женах. Приведу несколько афоризмов: «Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь»; «Глупых не сеют, не жнут, не в житницы собирают, но сами себя родят»; «Лучше камень колотить, нежели злую жену учить; железо переплавишь, а злой жены не научишь».
«Кто бы ни был Даниил Заточник, — писал в свое время В. Г. Белинский, — можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей свое превосходство, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить; словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и холят, потом сживают ее со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить».
Пожалуй, образ Даниила Заточника для нас — образ первого интеллигента в русской литературе, искателя правды, размышляющего о своем положении в обществе.
Как видим, древнерусская литература создала разнообразные произведения, служившие потребностям времени и сохранившие в лучших своих образах значение для нас, отдаленных потомков, живущих на земле, «украсно украшенной» предками. Слова, написанные гусиным пером Нестора-летописца или Даниила Заточника, и ныне влекут нас к себе, зовут приобщиться к старой мудрости книжной, что еще далеко не исчерпала себя, не открылась полностью в незатемненной красоте.
Η. Κ. Рерих. Ярославль. Церковь Богоявления. XVII в.
Н. К. Рерих. Ростов. Церковь св. Власия. XVIII в.
Есть ли основание рассчитывать на то, что будут найдены неизвестные нам старые словесные сокровища? Или великие поэмы, сказания, повести, исторические песни и легенды навсегда исчезли и недоступны нашему взору, как Китеж-град, погрузившийся на дно озера Светояр? Обратимся к событиям последнего времени.
Еще в начале нынешнего столетия в научных кругах бытовало мнение о том, что Крайний Север России «не имеет ничего выдающегося в смысле рукописей». Первая же поездка научного сотрудника Института русской литературы в Ленинграде (Пушкинский дом) В. И. Малышева в 1949 году дала поразительный результат: ученый привез из Усть-Цилемы свыше тридцати рукописей. А на следующий год он собрал в Мезенском районе пятьдесят рукописных сборников. Оказалось, что Русский Север — сокровищница древнерусских памятников письменности. Это вполне понятно. Старообрядцы и раскольники, спасаясь от преследований, бежали в северные лесные скиты, основывали в глуши новые поселения. Северяне жили замкнуто, и еще в девятнадцатом столетии они воспринимали рукописные сведения как вполне современные. Знатоки старославянской грамоты были высокоуважаемыми людьми в северных селах — почиталось за честь принять «начетчика» в доме.
Вот что рассказывает В. И. Малышев о том, как удается разыскивать рукописи:
«Приходишь в избу, спрашиваешь хозяйку о рукописях, поясняешь ей, как они выглядят и что могут содержать. Для большей ясности употребляешь все названия, какие ты слышал про эти книги: „письменные и досельные“, „славянские“, „староверские“. Это особенно важно для того, чтобы не принесли, как нередко случалось с ними, старые школьные учебники и современные печатные книги. Хозяйка отвечает, что были такие у деда или бабки, но давно уже их нет в доме: розданы давно „на помин души“ покойников грамотным старушкам. На помощь приходят дети хозяйки. Они недавно бегали по чердаку и высмотрели все.
„Мамка! А в бочке какие-то книги славянские лежат“, — говорят ребятишки. Мать посылает за книгами, начинает припоминать другие. На чердаке, в чулане слышится шум отодвигаемых ящиков, сундуков, бочек; в поиски включается весь дом. Тут выясняется, что одну книгу „в лицах“ три года назад взяла тетка Дарья. Обычно самый младший из семьи посылается к тетке и приносит оттуда эту рукопись…
Часто случалось и так. Зайдешь в дом к пижемцу — книг нет; придешь к нему же через два дня — показывает несколько рукописей. Оказывается, на семейном совете установили, что у одного из братьев есть такие книги, и вот принесли их в дом, где мы были».
Н. К. Рерих. Кострома. Терем царя Михаила Федоровича.
Так во время одной из поездок в 1955 году Малышев обнаружил и привез в Пушкинский дом рукопись «Александрия» — список второй половины семнадцатого века, куда вошли такие произведения, как «Повесть о царе Ираклии», апокриф о хождении Иоанна Предтечи в ад, слова и поучения Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Кирилла Философа и др. Словом, каждая северная экспедиция привозила в город на Неву библиотеку рукописей. В переплетах старообрядческих книг Малышев многократно обнаруживал куски светских произведений, к которым начетчики нередко относились пренебрежительно и поэтому употребляли «на переплетное дело».
Работа Малышева, как и других собирателей и ученых, принесла обильную жатву.
В начале пятидесятых годов в Москву из Вологды привезли древние рукописи. В числе тех, кто стал настойчиво изучать вологодское собрание, был И. М. Кудрявцев — филолог, сотрудник библиотеки имени В. И. Ленина, влюбленный в старину (в разговорной речи таких ученых именуют «древниками»).
Рассматривая бумаги и рукописи, привезенные из Вологды, Илья Михайлович Кудрявцев сразу обратил внимание на роскошную книгу в сафьяновом переплете с золотым тиснением на крышках и на корешке, с золотым обрезом. Книга содержала в себе пьесу, переписанную разными почерками, но тщательно и красиво.
Драматическому произведению было предпослано предисловие — обращение к царю Алексею Михайловичу. В книге отсутствовал заглавный лист, но Кудрявцев быстро установил, что перед ним «Артаксерксово действо» — первая пьеса русского театра семнадцатого века, текст которой считался утраченным. По счастливому стечению обстоятельств почти одновременно появилось сообщение о том, что во Франции, в Лионской библиотеке, также обнаружили «Артаксерксово действо». Правда, сведения о том, что существует за рубежом список «Артаксерксова действа», появлялись в научной печати и раньше, но они как-то проходили мимо внимания исследователей. Вологодский и лионский списки удачно дополняли друг друга, и с опубликованием найденного Кудрявцевым произведения была заполнена еще одна доселе белая страница в истории отечественной культуры.
Самое поразительное заключалось в том, что вологодский список пьесы не скрывался среди других текстов в пухлых сборниках, как нередко случается, а составлял отдельную, очень заметную книгу. До Кудрявцева ее держали в руках десятки людей, но лишь он задумался над рукописью, а затем стал ее изучать.
И. М. Кудрявцев проследил биографию списка, высказав обоснованное предположение, что история рукописи связана с деятельностью Артамона Сергеевича Матвеева, дипломата и просветителя, ведавшего во времена царя Алексея Михайловича Посольским приказом, увлекавшегося литературой и искусством, любившего театр. При Матвееве Посольский приказ превратился в своеобразный художественный центр Москвы, где переписывались светские рукописи, а затем возникла мысль о создании придворного театра. В 1672 году был издан царский указ о постройке «комедийной хоромины» в подмосковном селе Преображенском. В этом же указе было записано: «Учинити комедию, а на комедию действовати из Библии „Книгу Есфирь“». Так была выбрана тема для пьесы, сюжет для «Артаксерксова действа».
Комедия была поставлена с успехом. Сочинители добавили много вымышленных эпизодов, сделали различные заимствования из литературных источников, что позволило отразить на сцене московскую жизнь, страсти того времени, дворцовую обстановку. Зрители не могли не сопоставлять образ юной царицы Эсфири с молодой московской царицей Натальей Кирилловной. Первый спектакль продолжался довольно долго — десять часов подряд.
Театральные и иные культурные затеи Матвеева закончились драматично. После смерти Алексея Михайловича Матвеев был обвинен в чернокнижии и отправлен воеводой в Верхотурье, т. е. фактически сослан. Поехал Матвеев не налегке: вместе с опальным боярином на Север потянулся огромный обоз, в котором были даже пушки. Матвеев захватил с собой и наиболее дорогие ему книги. Путь до Пустозерска был нелегким, и, видимо, большая часть библиотеки Матвеева была растеряна в пути… После долгих лет скитаний роскошный список «Артаксерксова действа» обрел приют в Вологде и лишь в наши дни возвратился в Москву.
Встречи с Андреем Рублевым
В пятидесятых годах я жил во Владимире. По журналистским делам мне постоянно приходилось ездить по городам и весям старой Владимирской земли, о которой академик Η. П. Кондаков писал в свое время, что нигде в России искусство не внедрилось столь глубоко в народную жизнь, как здесь. Даже названия городов междуречья Оки и Клязьмы звучат как напоминания о поэзии исторического прошлого: Владимир, Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров, Юрьев-Польский… Каждый город, чуть ли не любое селение имеют свое неповторимое лицо, свой силуэт, редкостные архитектурные памятники, памятные места, упоминаются в летописи, народной песне, в былине или в жизнеописаниях выдающихся личностей.
Стоит ли говорить, что чуть не каждая моя поездка была путешествием в прошлое, встречей с временем ушедшим, но оставившим свои неизгладимые следы в памяти народной: в преданиях, в архитектуре и живописи.
Я полюбил тихую извилистую Клязьму, ее омуты и песчаные берега, приречные дубравы и ивняки, полюбил воспетый поэтами владимирский откос, откуда открывается вид на муромские леса, Козлов вал, покрывающийся весной белым вишневым цветом, белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Княгинин монастырь…
К нам во Владимир постоянно приезжали экспедиции археологов, художники, реставраторы, историки, просто любители путешествий. Людей интересовало разное, но все — непременно! — желали увидеть фрески Андрея Рублева, гениального русского художника пятнадцатого века. Его живопись, расчищенная реставраторами на стенах Успенского собора, — часть истории самого Отечества нашего. Без него нет Древней Руси, как нет ее без Московского Кремля, храма Василия Блаженного, Куликова поля.
Лучше всего фрески Андрея Рублева было смотреть в часы малолюдья, когда под сводами Успенского собора царила тишина и мои неторопливые шаги по плитам не могли нарушить покой.
Здесь исчезали представления о временном пространстве, и я начинал ощущать себя современником Рублева. Я думал о том, как, поднявшись на леса, Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным расписывал эти стены, и множество событий далекого прошлого, происходивших в этих стенах, отступали для меня на второй план. Именно здесь звучали его шаги, раздавалась его речь, здесь перед взором изумленных современников засверкали его краски.
В старом Успенском соборе Андрей Рублев работал вместе со своими содругами, составлявшими своеобразную живописную артель. До нас дошли лишь некоторые фрагменты росписи, созданной художниками, украшавшими обветшавшее сооружение летом 1408 года.
Едва работа была закончена, как зимой, «аки злые волки», на Русскую землю напали кочевники. Летописец так повествует об этом: «И бысть тогда по всей Русской земле всем христианам туга велика и плач неутешим и рыдание и кричание… вси бо подвизошася и вси смутишася, многи бо напасти и убытки всем человекам здеяшася и большим и меньшим и ближним и дальним». Татарский царевич Талыча со своим войском незаметно подкрался к Владимиру, разгромил и разграбил город.
Трагедия Владимира, украшенного великолепными памятниками искусства, в создании которых соревновались зодчие, живописцы и скульпторы нескольких поколений, не могла не стать и трагедией Андрея Рублева, хотя мы ничего не знаем о том, как отнесся великий художник к разрушению любимейшего храма Древней Руси.
Конечно, Владимир с годами оправился от урона, нанесенного врагами. Опять засияли Золотые ворота, отстроились Гончарная, Кожевенная и другие слободы, выросли боярские терема на детинце, исчезли гарь и копоть с белокаменных соборов, зашумели торги на площадях… Но века не пощадили грандиозных рублевских фресок на сводах Успенского собора. Побелки и неумелые реставрации фресок скрыли рублевские композиции на много столетий. Живопись великого мастера была расчищена лишь в 1918 году. Фрески пятнадцатого века в наши дни можно увидеть лишь на арках и столпах и на своде западной части храма.
Когда я гляжу на трубящего ангела, написанного на западной арке продольной части храма, когда думаю об этом прекрасном образе, рожденном чувством гармонии, ясностью духа, плавной чистотой линий и красок, то невольно воспринимаю встречу с чудом искусства как встречу с самим творцом художественного совершенства. Рублевский ангел — возвышенная мечта об идеальном человеке, позволяющая глубоко заглянуть в народную душу, понять мироощущение и духовное богатство наших далеких соотечественников.
Работая в Успенском соборе, гениальный изограф не мог не знать о трагических событиях, которые видели стены, украшаемые им. Достаточно было ему вспомнить, как в храме во время нашествия погибли в огне женщины и дети, спрятавшиеся на хорах, или, как их тогда называли, на восходных палатах. Геенна огненная разливалась там, где Андрей Рублев создавал образы, исполненные пленительной грации, проникнутые чувством добра и дружеского согласия.
Конечно, во времена Рублева нашествие Батыя было уже далеко позади; более того, уже отзвенели мечи на Куликовом поле и русские люди уверовали в возможность полного освобождения своей земли от губительных нашествий вражеских орд. Но действительность, окружавшая Андрея Рублева, была еще довольно мрачной, полной жестокости, раздоров, предательства, междоусобиц и набегов кочевников. Что же давало великому иконнику силы для изображения в своих творениях героев одухотворенных, чьи черты исполнены покоя, чьи ясные взоры устремлены в необозримую даль?
«Страшный суд», ведущий свое начало еще от давней византийской традиции, можно было увидеть почти в любом русском храме. Люди могли лицезреть, какое страшное возмездие ждет их за земные грехи. На сводах старинных соборов корчились грешники, призванные к ответу в день страшного суда! Не было мук, какие бы не выпали на долю тех, кто совершил проступки. Храмовая живопись внушала скорбь, бесконечный пессимизм, проповедовала мысль о том, что мир «во зле лежит».
А. Рублев. Троица. Начало XV в.
А. Рублев. Троица. Фрагмент.
А. Рублев. Архангел Михаил из Звенигорода.
Ненависти и отчаянию Андрей Рублев противопоставлял любовь, добро, дружеское согласие. Когда всматриваешься в группу «праведных жен», идущих в рай, нарисованную на южном столпе, то особенно глубоко ощущаешь замысел изографа, верившего в то, что зло исчезнет, уступив в мире место добру.
Не надо думать, что идеальные образы Андрея Рублева были своеобразным бегством от действительности. Нет, наоборот, надо было глубоко погрузиться в жизнь, почувствовать духовную красоту человека своего времени, чтобы изобразить, например, апостола Петра, черты лица которого исполнены кротости и доброты. Особенно обращает на себя внимание выражение глаз рублевских героев, умиротворенных, располагающих к себе, проникнутых сочувствием к людям, готовых помочь им. Как мирно беседуют между собой рублевские апостолы Симон и Иоанн, напоминающие своим обликом людей много поживших, много испытавших на своем веку и прекрасно понимающих, что человек достоин любви!
Андрей Рублев выразил в своем творчестве народный оптимизм, запечатлел время, когда начало падения чужеземного ига, предощущение радости освобождения привело в искусстве к редкостному раскрытию человеческой личности, к выявлению тех сторон характера, которые не могли проявиться в иной обстановке.
…Приходилось ли тебе, читатель, видеть поле, покрытое цветущим льном? Нежная голубизна льняного раздолья сливается у далекого окоема с прозрачной теплой синью предлетнего неба, неяркого и манящего к себе. В далеком березняке, уходящем в сторону Владимира, кричит кукушка. Когда неторопливый низинный ветер шествует полями, над ними загорается голубое пламя. Самые ласковые эпитеты и сравнения употребляются в народных песнях, сказках, загадках, припевках, когда речь заходит о льне. В среднерусских местах народные умельцы издавна любят изображать голубой распустившийся цветок льна на туесах и коромыслах; женщины вышивают его нитями на полотенцах и занавесках. Если предлетний среднерусский пейзаж неотделим от голубых, синих и зеленых тонов, то предосенняя пора здесь всегда выступает в венке поспевающей, слегка побуревшей ржи, в которую вплетены васильки.
Сияние голубизны и золота вызывает в памяти имя иконописца прозванием Рублев.
Голубыми и золотыми тонами исключительной чистоты и звучности вошла в наше сознание рублевская «Троица». Конечно, цвет в «Троице» символичен — с ним были связаны представления о рае, о человеке гармоничного душевного совершенства. «Не давая прямого подобия русской природы, Рублев извлек мед ее благоуханной, светлой красоты и отразил в „Троице“ все покоряющее обаяние ее родной задушевности и тишины», — пишет Н. А. Демина.
Говоря об Андрее Рублеве, нельзя не сказать и о другом великом художнике Древней Руси — Феофане Греке. Если позволительно сопоставить краски Андрея Рублева с ровным, излучающим мягкий свет предлетним днем, то совершенно иного сравнения требуют произведения Феофана Грека. Века не сохранили для нас портрета выходца из Византии, нашедшего на Руси вторую родину. Но мы можем судить о его облике по произведениям, исполненным трагизма, напоминающим величественные пророчества Апокалипсиса.
Феофан Грек был человеком совсем иного склада, другого темперамента. Его взгляды на жизнь и искусство были противоположны миросозерцанию Андрея Рублева. Убежденный, что «мир во зле лежит», Феофан Грек создавал образы, исполненные трагической напряженности и клокочущих страстей. Его героям представляется адом греховная земля, на которой безраздельно царит зло. Муки и сомнения делают и душу человеческую адом, от которого некуда спрятаться.
Андрей Рублев и Даниил Черный. Праведные жены. Фреска Успенского собора во Владимире. 1408 г.
Живописные герои Феофана Грека могли бы свое отношение к миру выразить блоковскими словами: «Над нами сумрак неминучий и ясность божьего лица…»
Нет, творчество византийского изографа никак не уподобишь ясному рублевскому искусству. Представь себе, дорогой читатель, темную ночь, когда на землю налетает ураган, низвергая с небес потоки воды, когда слышны раскаты грома, а молнии на мгновение озаряют мир. Огненные росчерки на небесной тверди рождают в нашем воображении причудливые сопоставления. Феофан Грек, самый трагический художник русского средневековья, воплотил в фресках мир, пронзенный стрелами молний. Вглядись в облик библейского Мельхиседека. Его глаза, выражающие непреклонную волю, суровы и беспощадны. Пряди волос, сбегающие с головы на плечи, подобны горным потокам. Если рублевская «Троица» полна свободы и покоя, то ангелы фрески «Троица» Феофана Грека полны сумрачного напряжения. Они напоминают воинов, которые присели на минуту перед смертельной битвой. Борение духа с земной плотью, нечеловеческие усилия в устремлении к небу выражают образы старцев — столпников, созданных Феофаном Греком с предельной экспрессией, внутренним содроганием и трепетом.
Таковы два гения Древней Руси. Один — старший по возрасту — был выходцем из оскудевшей Византии, шедшей к трагическому финалу. Другой — сын земли русской — воплотил в себе дух эпохи, несшей освобождение. Они противостоят друг другу. Стремительная молния и ясное солнце. Скорбь и радость. Страсти ада и умиротворенная гармония.
Противоположности нередко сходятся. Мы не знаем, как Феофан Грек и Андрей Рублев относились друг к другу, нам известно лишь, что им приходилось работать вместе. Роспись Благовещенского собора в Московском Кремле была, вероятно, последней страницей творческой биографии Феофана Грека. Вместе с ним работал Андрей Рублев. Видимо, к 1405 году Рублев снискал себе славу известного изографа. Иначе трудно объяснить, почему именно ему поручили работать рядом с Феофаном. Был и третий участник росписи Благовещенского собора — Прохор с Городца. Несомненно, что и старец Прохор был звездой первой величины.
В работе над огромным иконостасом прославленные мастера нашли общий язык.
Трое неповторимых слились в одного. Конечно, руку каждого из художников можно различить. Но, видимо, великому Феофану пришлось несколько смирить свой пыл. На смену патетике пришло строгое величие. Святые глядят без византийской суровости — в них больше человечности и доброты. Весь иконостас воспринимается как законченное произведение, единое в своем замысле.
Андрей Рублев и Даниил Черный. Шествие святых в рай. Фрагмент фрески Успенского собора во Владимире. 1408 г.
Феофан Грек. Авель. Фреска церкви Спаса-Преображения на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
Феофан Грек. Троица. Фреска церкви Спаса-Преображения на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
На страницах истории отечественного искусства имена Феофана Грека и Андрея Рублева стоят рядом.
Знакомство с владимирскими фресками, конечно, побудило меня стремиться как можно чаще видеть во время поездок в Москву самое знаменитое произведение Андрея Рублева — находящуюся в Третьяковской галерее «Троицу».
Стоя в малолюдном зале галереи перед «Троицей», я всегда с благодарностью думал о тех, кто укрывал это живописное чудо во время Великой Отчественной войны в Сибири. Я не мог не исполниться чувством признательности к тем, кто в начале нынешнего века расчистил от наслоений и копоти рублевский шедевр. Мы не знали бы, каких высот в изобразительном искусстве достигли наши предки, если бы художники-реставраторы, среди которых надо назвать имя В. П. Гурьянова, не приложили усилий и тончайшего мастерства, для того чтобы «Троица» предстала перед нами в первозданной красоте.
Первоначально «Троица» украшала иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Свое произведение, как говорят старые источники, Андрей Рублев написал «в похвалу святому Сергию». Переводя на язык современных понятий эту формулу, можно сказать, что Рублев посвятил картину Сергию Радонежскому.
Сюжет картины восходит к библейскому первоисточнику. К старцу Аврааму явилось божество в облике трех прекрасных юношей, предрекших ему рождение сына; трапеза происходила за столом под дубом. Юноши печальны, задумчивы. Все дышит миром, любовью, красотой.
Главная идея картины — идея мира и согласия, о чем страстно мечтали и чего не находили в жизни люди пятнадцатого века. Самой композицией, плавностью и неуловимостью переходов нежной гаммы цветов Рублев добился ощущения гармонии. Особенно большое впечатление производит средний юноша, чуть склонивший голову набок и приготовившийся испить смертную чашу. Это Христос, а смертная чаша символизирует его подвижническую судьбу. Дерево над его головой плавно склонилось в печали, словно сочувствуя.
В забытом трактате Е. Трубецкого есть любопытное наблюдение над связью древней живописи с русской природой: «Смысловая гамма иконописных красок необозрима, как и передаваемая ею природная гамма небесных цветов. Прежде всего, иконописец знает великое многообразие оттенков голубого: и темно-синий цвет звездной ночи, и яркое дневное сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых. Нам, жителям севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона после захода солнца.
Феофан Грек. Ной. Фреска церкви Спаса-Преображения на Ильине улице в Новгороде. 1378.
Но голубым представляется лишь тот общий фон неба, на котором развертывается бесконечное разнообразие небесных красок, — и ночное звездное блистание, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы, пурпуровое зарево пожара, и многоцветная радуга, и, наконец, яркое золото полуденного, достигшего зенита солнца».
Владимирские и московские встречи с Андреем Рублевым привели меня в конце концов к знакомству с теми, кто изучал и популяризировал творчество великого изографа. Как-то в печати промелькнуло сообщение о Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, что на площади Прямикова в Москве. Выбрав первый свободный день, я отправился в музей.
…Высокий холм опоясан цепочкой белокаменных стен. Когда я впервые приехал на Яузский холм, то еще только создававшийся музей помещался лишь в Андрониковом соборе, окрест же царило запустение, кругом стояли бараки и сараи.
Первый директор рублевского музея Давид Ильич Арсенишвили оказался, как я вскоре смог убедиться, энергичным человеком, умелым и предприимчивым. Буквально захлебываясь от восторга, показывал мне Давид Ильич огромные фотокопии икон и старинных фресок.
— Посмотрите, — говорил Давид Ильич, — на белого коня, на котором вихрем несется Георгий Победоносец. Посмотрите на эту развевающуюся мантию всадника, а как изящны эти руки… О-о, — Давид Ильич даже схватился за голову, — теперь так не умеют писать! Вы понимаете, конечно, как нужен наш музей. Когда мы получим возможность работать, мы станем лучшим художественным заповедником Москвы.
Вся речь его была восторженным гимном древнерусскому искусству, а об Андрее Рублеве Арсенишвили говорил так, как будто он только вчера расстался со знаменитым иконником.
Через несколько месяцев Арсенишвили появился во Владимире. В телефонной трубке загудел его голос: «Помогайте… Нужны строительные леса, нужны рабочие, нужны всякие бумаги».
Оказывается, Давид Ильич приехал, чтобы художники сняли копии с рублевских фресок в Успенском соборе. Так началась моя дружба с музеем на Яузе… Вскоре я узнал, что если Арсенишвили — это воля и энергия будущего заповедника, то душой музея была Наталья Алексеевна Демина, тонкий ценитель живописи былых времен, пожалуй, лучший в стране знаток искусства Андрея Рублева. Будущее музея тогда олицетворяла Ирина Александровна Иванова, еще студенткой открывшая для себя красоту икон и фресок. И эта «троица» совершила научный и гражданский подвиг, создав в Москве крупный центр по изучению и популяризации древнерусской художественной культуры.
Чудо Георгия о змии. Нач. XIV в. Новгородская школа.
Над Яузой, как в старину, снова засияли белокаменные стены, был построен выставочный зал, из запасников музеев Суздаля, Владимира, Дмитрова были привезены иконы. Над возрождением старых шедевров, найденных научными экспедициями, а иногда и просто любителями, неутомимо и вдохновенно работали художники-реставраторы — потомственные иконописцы Василий и Александр Кириковы, Евгений и Ирина Брягины — уроженцы прославленной Мстеры.
Н. А. Демина много лет подряд бывала в древних городах. Однажды, работая в Дмитрове, она обнаружила в старинном соборе заброшенные иконы. Они были привезены в Москву, и над ними кропотливо потрудились музейные реставраторы. Когда с одной из досок были сняты чернота и поздние записи, то перед взором зрителей предстала икона Иоанна Предтечи. Образ был словно озарен мягким светом — нежно и проникновенно была передана духовная красота мыслителя. Плавные, неуловимые переходы тонов, все краски связывают образ пустынника с лесной стихией Древней Руси. По общему и единодушному мнению знатоков, найден шедевр огромной художественной силы, возможно, принадлежащий кисти Андрея Рублева или его содруга Даниила Черного.
Многие исследователи называют конец четырнадцатого и пятнадцатый век периодом русского Ренессанса. Находки последнего времени убедительно говорят о том, что в средневековой Руси были живописцы, не уступавшие по своему мастерству самым прославленным художникам мира. Найдена в подмосковном городе Дмитрове «Богоматерь Одигитрия». Рука реставратора вернула к жизни первоклассное живописное произведение, исполненное прозрачными, чистыми красками. Икона была создана в пятнадцатом веке неизвестным мастером, унаследовавшим в своем творчестве рублевские традиции — одухотворенную человечность, гармоничность, необычайную высоту идеалов.
Пишущему эти строки довелось несколько лет назад любоваться в Муроме уникальными иконами, изображающими Петра и Февронию — русских Тристана и Изольду, как их называют, — героев средневековой повести из знаменитого муромского цикла. Вполне возможно, что муромский мастер в какой-то мере сохранил в своей работе черты сходства с образами народной поэтической легенды, не раз вдовновлявшей впоследствии своим проникновенным лиризмом художников и композиторов.
В настоящее время редчайшие иконы привезены в Москву, и их тоже можно увидеть в рублевском музее.
Год от года совершенствуется тончайшее искусство копирования фресок и икон.
Чудо Георгия о змии. Последняя чете. XIV в. Новгородская школа. Фрагмент.
Изумительную по своей верности и точности копию рублевской «Троицы» создал Василий Кириков, даже специалисты не сразу отличают ее от оригинала.
На торжественном заседании в честь Рублева, которое проходило в Кремле, я сидел рядом с Давидом Ильичом Арсенишвили, и всякий раз, когда кто-нибудь из зарубежных гостей отдавал должное великому художнику и говорил похвальные слова, Арсенишвили улыбался так, словно хвалили его самого. Впрочем, основателю музея было чем гордиться… Большую речь на рублевском вечере произнес Михаил Владимирович Алпатов. Сравнивая Андрея Рублева с великими мастерами Возрождения, он говорил: «Рублев пошел своим путем, путем художника, которому были близки думы, горести и мечты русского народа. Главным в этом мире для Андрея Рублева был добрый, деятельный человек, готовый прийти на помощь своим ближним. Этого доброго, деятельного человека он изображал в виде ангела, святого, подвижника. Они были для него носителями высоких нравственных идей. На них художник переносил все свои самые сокровенные чувства. Рублев сумел воплотить в этих образах и чистую красоту юности, и непоколебимую силу зрелого мужа, и величавую мудрость старости, он сумел выразить в них лучшие черты древнерусского народного идеала».
…Прошло много лет. Имя Андрея Рублева, как и его содругов, приобрело за последние годы неслыханную известность.
Мы никак не можем примириться с мыслью, что нам так ничтожно мало известно о жизни автора «Троицы». Но ученые продолжают поиски, и их работы обогащают наше представление о былом. Долгое время шел спор о том, где провел последние годы жизни Рублев — в Троице-Сергиевой лавре или в Андрониковом монастыре. Единственный вещественный след Рублева в Андрониковом монастыре — обнаруженные в проемах окон центрального алтаря остатки растительных орнаментов: их плавность и цвет позволяют угадать руку великого мастера.
Искусствовед П. Д. Барановский в конце сороковых годов выступил с сообщением о том, что могила Андрея Рублева находится в Андрониковом монастыре. В подтверждение этого он сослался на надпись на могильной плите, которая находилась на Яузском холме два века назад. В 1967 году в Ярославле, в городе, где некогда нашли «Слово о полку Игореве», в рукописи «постриженика Ионы» искусствовед В. Г. Брюсова нашла упоминание о «чудных и пресловущих иконописцах Данииле и Андрее», т. е. о Данииле Черном и Андрее Рублеве. Как о само собой разумеющемся факте автор рукописи сообщает об изографах: «Святые же их мощи погребены и почивают в том Андроникове монастыре под старою колокольнею, которая в недавнее время разорена…»
Сказание о Кремле
Немало городов встречал я на жизненном пути — больших и малых, шумных и тихих, многоязычных и одноязычных, прекрасных и заурядных, утопающих в соловьиных садах и напоминающих выжженные солнцем асфальтовые пустыни… Есть города-младенцы, города-подростки, города-юноши, города, убеленные каменными сединами… Иногда ночами мне видятся их резко очерченные или, наоборот, примелькавшиеся лица; вспоминаются характерные здания; слышатся звуки, голоса, примечательные словечки. Есть города вечной жизни, подобные древним пергаментным свиткам; их улицы, площади, переулки развертываются, словно главы нескончаемой книги. Что ни дом в этой книге — то новелла, баллада, афоризм, элегия…
Москва больше чем город. Это центр, сердце страны. Москва — столица первого на земле социалистического государства. Кремль — место пребывания правительства. Здесь жил и работал В. И. Ленин, здесь находится его кабинет…
Москва — целый мир. Москва — прошлое и настоящее, история и современность. С высоты столетий город, начавшийся некогда на речном Боровицком холме, смотрит в будущее.
В нераздельном и неотрывном единстве живут Москва и Кремль. Думая о Москве, всегда вспоминают Кремль. Говоря о Кремле, люди имеют в виду Москву. В разговорно-газетной речи эти слова-понятия выглядят почти как синонимы. Столетия назад было положено начало крохотному дубовому городу на холме, при впадении быстрой и чистой Неглинной в Москву-реку, а сегодня зубчатые краснокирпичные стены и башни с рубиновыми звездами служат олицетворением столицы страны, раскинувшейся от Тихого океана до Балтики.
Люблю смотреть на потемневший от времени, величественнопрекрасный Кремль рано утром, когда солнце еще только-только всходит над столицей. Кругом мглистый туман и громады мостов едва-едва различимы над Москвой-рекой, а лучи уже играют-переливаются на глади краснокирпичных стен и башен, на кровлях дворцов и теремов, вспыхивают червонным золотом на шапке каменного великана Ивана Великого и, наконец, падают на зелень холмов, покрытых белым вишневым облаком… А разве не заставляет учащенно биться сердце панорама Кремля ночью, придающей всему архитектурному пейзажу эпическую торжественность? М. Н. Загоскин, автор знаменитого в пушкинскую пору «Юрия Милославского», писал: «Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую лунную ночь… Поглядите вокруг себя: как стройно и величаво поднимаются перед вами эти древние соборы… Высокие стены, древние башни и царские терема небезмолвны: они говорят нам о былом, они воскрешают в душе память о веках давно прошедших. Здесь все напоминает вам — и бедствия и славу ваших предков…».
Перенесемся же мысленно в те далекие времена, память о которых сохранилась в скудных летописных хрониках да в исторических песнях.
«Кто думал-гадал, что Москве царством быти, и кто же знал, что Москве государством слыти?..» Так начинался народный сказ-речитатив, записанный поздно — в семнадцатом веке, — повествующий о возвышении «града на семи холмах» среди прочих русских городов, среди которых были куда более древние и знатные. Вспомним для примера хотя бы про дивно украшенный Владимир, про Тверь, которая в былине именовалась «богатою», про сказочно манящий, как Китеж-град, озерный Переславль-Залесский, про известные на Западе Смоленск и Псков или про великий и богатый, славившийся во всем мире Господин Великий Новгород.
Спасская башня Московского Кремля. Конец XV — начало XVII в.
Вопрос: «Кто думал-гадал..?»— запечатлел народное удивление перед необычностью судьбы Москвы, малой крепости, затерявшейся в лесах. Долгое время участь Москвы, ее необыкновенное место в истории представлялись совершенно загадочными. Живую действительность и воспроизводил сказ семнадцатого века, в основе которого лежит давнее предание о месте, где пересекались дороги Новгородско-Рязанская и Смоленско-Владимирская, о полях, принадлежавших боярам Кучковичам, враждовавшим с Андреем Боголюбским, владимирским самовластием.
По-разному истолковывалась в девятнадцатом веке, да и позднее, причина изначальных успехов сначала деревянной, а потом — в эпоху Дмитрия Донского — белокаменной Москвы, объединявшей мало-помалу, но постоянно и неотступно русские земли. Историки и философы давали различные объяснения, есть истолкования географические, экономические, военные, этнографические… Вернее, разумеется, разглядеть явление многосторонне, войти в круг разнообразных обстоятельств — исторических, политических, духовных, во всю атмосферу сложной эпохи, породившей и возвысившей Москву.
«Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!», — писал Пушкин. Лермонтов создал универсальную поэтическую формулу, вошедшую в сердца поколений: «Москва… люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Уже в нашем веке Маяковский, не склонный, как известно, по своей натуре к сентиментальным излияниям, сказал: «Я желал бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Подобных высказываний можно было бы привести гораздо больше, ибо признания в любви Москве делали многие — и в прошлом, и в настоящем. Напомню только о хрестоматийных стихах Федора Глинки. Люди старшего поколения обычно знают их на память. Стоит только произнести слова: «Город чудный, город древний…», как бабушки и дедушки в один голос подхватывают строфу: «…Ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы!» Наиболее памятливые добавляют: «Опоясан лентой пашен, весь пестреешь ты в садах: сколько храмов, сколько башен на семи твоих холмах!..» И всем врезались в сознание горделивые вопросы: «Кто, силач, возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? Кто собьет златую шапку у Ивана-звонаря?..» Нынче, как и вчера, любовью отзываются в наших душах проникновенные строки, заключающие стихи Глинки: «Процветай же славой вечной, город храмов и палат! Град срединный, град сердечный, коренной России град!»
Образ великого города и его центра — Кремля — воспроизведен в различных родах и видах искусства — в поэзии, живописи, музыке, пластике. Ни об одном другом городе России не сложено столько былей, преданий, легенд, пословиц, поговорок, песен. В прошлом веке народная мудрость так определяла положение первейших городов страны: «Новгород — отец, Киев — мать, Москва — сердце, Петербург — голова». Думая о величавых строениях на кремлевском холме, о событиях, с которыми они связаны, люди сложили афоризм: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». Говорил народ и о том, что от копеечной свечи Москва сгорела; что Москва людна и хлебна, славится невестами, что в Москву брести — последнюю копейку снести, что в стольном граде каждый день праздник…
Откуда бы вы ни взглянули на центр столицы — в упор, лицом к лицу, со стороны Красной площади — или с птичьего (и выше!) полета, скажем, с Останкинской телебашни — панорама Кремля непередаваемо восхитительна. Он всегда торжественно величав, являя собой недвижимый архитектурный остров среди бурного бега современности; а колорит… — густые и глубокие цвета: белый камень, небесная синь, зелень холмов, винно-красные стены… Особенно прекрасен вид на Кремль с Большого Каменного моста; кто, глядя отсюда, и теперь не вспомнит, адресуя себе, пушкинские слова: «Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава».
А. М. Васнецов. Основание Москвы Юрием Долгоруким.
Юрий Долгорукий, неутомимый строитель городов в Северо-Восточной Руси, написал (не думая, что его слова откликнутся в веках!) другу и военному союзнику князю Святославу Олеговичу Северскому грамоту-приглашение: «Приди ко мне, брате, в Москов». С этих слов, занесенных в летопись, и началась Москва, хотя город существовал, как показывают новейшие археологические находки, задолго до 1147 года. Князья пировали на славу. Недаром летописец, писавший только о самых важных событиях, многомысленно заметил в своей хронике: «Был обед силен».
Москва не сразу строилась… В народном изречении не только градостроительная мудрость. Люди постепенно привыкали считать город средоточием политической, духовной и материальной жизни всех русских земель. Одновременно с ростом крепости разрастался шумный торгово-деловой посад, город расширялся во все стороны без предварительного замысла; отсюда неправильность плана и разнохарактерность застройки. Но это-то и делало Москву — привольную, широкую, утопавшую в зелени — необычайно живописным и совершенно неповторимым городом. Ее полихромный облик естествен, в ней не было ничего повторяющегося, скованного, предумышленного. «В силуэте русского города большое значение имели отдельно стоявшие приходские церкви, но решающую роль играли монастыри и кремли. Действительно, Кремль, подобно средневековым бургам и древним акрополям, вмещал в себя все лучшие и наиболее высокие здания; в Кремле группировалось множество церквей; стены Кремля окружали их со всех сторон, скрывали незатейливые плоские постройки и тем самым создавали для церковных ансамблей выгодную архитектурную оправу…Нагорное расположение Кремля еще более усиливало их силуэтный эффект», — говорится в современной книге о городском зодчестве.
Москва поражала приезжих разнообразием архитектурных одежд. Ее были и предания напоминали причудливые и лукаво насмешливые сказки, которые долгими осенними вечерами сказывали неутомимые и мудрые бахари.
Рассказывают, что князь Иван Данилович, славившийся богатством и часто ходивший с калитой — кошелем (не столько для раздачи милостыни, сколько для сбора денег), получил от современников прозвище Ивана Калиты. Над ним посмеивались, но уважали. По имеющимся у историков сведениям он завышал собираемую для Орды дань, а разницу отправлял в казну собственного Московского княжества. Это позволило ему укрепить Москву и объединить раздробленные русские земли.
При Иване Калите часто и звонко в лесной тишине стучали топоры на Боровицком холме, а по Москве-реке вереницами тянулись плоты и баржи с белым камнем, добывавшимся в подземных каменоломнях в ближнем селе Дорогомилове. Владимирские каменщики возвели в детинце первые каменные храмы. Московские плотники — сильные и умелые люди — обнесли крепость стенами из дубов-колоссов, над стенами возвышались мощные, далеко видные стрельницы — предтечи современных кремлевских башен. Именно в ту пору крепость (детинец) стала именоваться в народе Кремлем.
О происхождении слова спорят ученые-этимологи, давая различные объяснения и толкования. Некоторые лингвисты сближают его с понятием «кремль», — так называли часть засеки, где растет лучший строевой лес. Издавна в народе крепкий и прочный строительный лес именуется кремлевым. Была попытка вывести происхождение слова из понятия «кремень», т. е. крепкий. По другой версии детинец Ивана Калиты прозвали Кремлем часто гостившие в Москве константинопольские греки. По-гречески «кримнос» — крутизна, крутая гора над рекой или морем… Трудно сказать, какому варианту надо отдать предпочтение, ибо мир слов — один из самых загадочных и тайн в нем, пожалуй, не меньше, чем в космосе…
На полотне Николая Рериха «Город строят», находящемся в Третьяковской галерее, — крепостные стены, мощные башни, крутая дорога; плотники в белых холщовых рубахах дружно и энергично работают. Квадратные мазки — белые, синие, светло-коричневые, — набросанные по полотну, придают картине Рериха динамизм. Поэтическая фантазия, зиждящаяся на научных изысканиях, на редкость удачна в сюите московских картин Аполлинария Васнецова. Его работы дают нам возможность увидеть Кремль таким, каким его видели наши далекие предки — современники Ивана Калиты, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича.
Стольный град, быстро оправляясь от набегов, строился, хорошел. Вслед за дубовым Кремлем Ивана Калиты возник при Дмитрии Донском Кремль белокаменный… Как сообщал летописец, весной 1367 года князь Дмитрий «заложи Москву камен и начаша делати беспристани». Этот новый, каменный Кремль по размерам был близок к современному. Башни и ворота стояли почти на тех же местах, что и нынешние. По владимирскому образцу на сооружение шел, как и при Калите, — только в большем количестве — белый камень, который добывали в Подмосковье. Именно в ту пору и получила Москва свое вечное прозвание — «белокаменная».
Примечательно, что творец белокаменной Москвы и победитель иноземных поработителей на Куликовом поле — одно лицо: Дмитрий Донской. Прославленный внук Ивана Калиты, возведший чуть не за полгода «град камен», и герой, ведший полки на берегах Непрядвы, навсегда пленил народное сердце.
Возникновение исполинской крепости из камня в Москве явилось событием величайшего исторического значения. Не только потому, что Русь не знала сооружений подобного масштаба.
А. М. Васнецов. В осадное сидение.
Каменные стены Кремля, возвышавшиеся над глубоким рвом, свидетельствовали о силе и мощи Москвы. Недаром летописец горделиво писал о великом князе Дмитрии: «Что задумал, то и сделал». Медленно, но неуклонно готовила Москва полное освобождение русских земель от монголо-татарского ига. Очень точно’ о свершившемся написал историк Иван Забелин: «…каменные стены Москвы явились тою славною опорою, которая тотчас обозначила крутой и прямой поворот к идеям государственного единения, так что через десяток лет это единение достославно выразилось сборищем в каменной Москве всенародных полков для похода на Куликово поле».
До нас не дошли белые стены, воздвигнутые при Дмитрии Донском, и только остатки их иногда встречают археологи, докапываясь до основания нынешних краснокирпичных сооружений. Немногое сохранили века от единственного сооружения той поры, которое пощадило неумолимое время, церковки Воскрешения Лазаря (входившей в состав деревянных хором княгини Евдокии — вдовы Дмитрия Донского). Теперь она обстроена частями Большого Кремлевского дворца. Этот уникальный памятник заставляет вспомнить о безымянных, но, несомненно, гениальных зодчих, создававших московскую архитектурную школу. Всматриваясь в белый камень сохранившихся остатков стен храма — чудом уцелевший островок былого, — представим себе тех, кто отправил нам через столетья это архитектурное послание, как весть о том, что несомненно было: «Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века».
По мере того как московские князья приобретали город за городом, землю за землей, вырастали и собственно московские каменных дел мастера — искусные градостроители, сооружавшие крепостные стены, храмы, палаты, дворцы, искавшие новые формы в зодчестве. Время безымянного творчества оставалось позади; на московском горизонте стали появляться художники, их чтили современники и помнили потомки. В шестидесятых — семидесятых годах пятнадцатого века одну из основных строительных артелей возглавил Василий Ермолин, инженер, скульптор, знаток древностей, просвещенный человек, много потрудившийся над украшением Кремля. Среди москвитян Ермолин слыл книжником — он имел прямое касательство к летописи, получившей впоследствии название Ермолинской. Московская художественная школа впитывала в себя, как это видно и на примере многообразного творчества Ермолина, течения и традиции ближних и дальних земель — владимирские, новгородские, псковские, ростовские, тверские и т. д.
Ермолин был влюблен в возвышенное и утонченное искусство владимиро-суздальской земли. Выполняя поручения великого князя, он перекладывал обветшалые камни знаменитого Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, украшенного резными изображениями. Владимирская каменная скульптура произвела на Ермолина неизгладимое впечатление. Постоянно работая в Московском Кремле, Ермолин не только перестраивал стены и ворота, но и украшал их каменными рельефами. Так, с внутренней стороны Фроловской (позднее — Спасской) башни были поставлены большие каменные изображения Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, — это было своеобразное напоминание о Дмитрии Донском, или, как мы бы теперь сказали, памятник победителю на Куликовом поле.
Москва становится настолько богатой, что приглашает к себе — таков был средневековый обычай — звезд первой величины: итальянских архитекторов и греческих живописцев. Итальянские зодчие внесли много ценного в московское зодчество, хотя и не создали отдельной художественной школы. Бережно подходя к русским национальным традициям, чужеземные мастера принесли на Север пропорции и формы, навеянные итальянским Возрождением. Под северным небом поднялись здания, заставлявшие вспоминать церкви на пути во Флоренцию, замки Венеции, палаццо Тосканы… В последующих столетиях основные сооружения Кремля времен Дмитрия Донского были повторены, хотя они отличались от предыдущих архитектурным обликом. При Иване III, неутомимом и великом строителе, были возведены современные грандиозные стены Кремля; башни отстояли одна от другой на расстоянии ружейного выстрела. Их возведено было восемнадцать, а общая протяженность стен — территория Кремля — была увеличена — достигала двух километров с четвертью. Высота крепостных стен, в зависимости от рельефа местности и назначения, колебалась от восьми до восемнадцати метров. Толщина составляла четыре с половиной метра. Двурогие зубцы с бойницами — с окончаниями в виде ласточкиных хвостов — придавали стенам суровую воинственную красоту. Москвичи считали Кремль неприступным. Действительно, первоклассная крепость многократно выдерживала вражеские нападения. Иван III, женатый на Софье Палеолог (племяннице последнего византийского императора), установивший сношения со многими государствами Европы и Азии, ведший успешные войны с Ливонским орденом за воссоединение русских земель, понимал, как много значит для страны мощь и красота главного города.
При Иване III и сложился окончательно привычный нам краснокирпичный кремлевский треугольник, занявший площадь около тридцати гектаров, т. е. такую, как и ныне. Ремесленники тогда уже научились делать кирпич, который был прочнее и надежнее природного белого камня.
А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III.
Мощью кремлевских стен восхищались другие русские города, по московскому примеру они стали возводить крепости из кирпича, да и в архитектуре часто стремились подражать стольному граду. Величественны и несомненно прекрасны были крепости в Нижнем Новгороде, Туле, Смоленске, но с Москвою они тягаться, конечно, не могли. Современный москвич, взглянув на Кремль конца пятнадцатого столетия, не сразу бы узнал привычные стены, связанные так неразрывно с окружающей местностью, с ее холмами и низинами. Не было теперешних нарядных шатров на башнях — они выглядели более сурово и воинственно, на их вершинах находились боевые площадки, прикрытые деревянными навесами.
Вокруг Кремля, на живописных семи холмах (летописцы любили вспоминать о том, что «вечный город» Рим также был «семихолмным»), вразброс, нараспашку, на широком пространстве — жалеть земли не приходилось! — выросли ремесленные и торговые посады, многочисленные мастерские, богатые боярские и купеческие усадьбы, необычайно живописные, утопавшие в зелени. Существовали водоотводные сооружения и мостовые. На месте дорог, ведущих в другие города, постепенно сложились радиальные магистрали — улицы, сходившиеся в Кремле.
Н. К. Рерих. Нижний Новгород. Кремлевская стена.
Для защиты населения от набегов были построены высокие стены Китай-города длиной более двух с половиной километров; затем основательно укрепили еще более обширный Белый город, а всю эту территорию опоясывал нескончаемый земельный город. Строительство велось под руководством «хитрецов», снискавших славу умелых градодельцев. Зубчатая кремлевская стена, грандиозные фортификационные сооружения Китай-города и Белого города придали Москве величественный облик, заметно и неоспоримо выделявший ее из числа других городов. В названиях нынешних московских улиц мы улавливаем отголоски далекого прошлого: Земляной вал, Крымский вал, Валовая улица и т. д. Окруженный тремя стенами, Кремль, по выражению одного из иностранцев, являл сердце великого города.
Вот, например, какое впечатление произвела Москва на константинопольского патриарха Иеремию II, посетившего ее в восьмидесятых годах шестнадцатого века: «Это был не город, а скорее громадный, раскинувшийся вплоть до самых пределов горизонта, монастырь. Глаз разбегался, желая пересчитать колокольни и вызолоченные, посеребренные или лазурные, звездами испещренные, главы церквей, поднимающиеся к небу. На каждой из бесчисленных церквей сверкали пять металлических куполов. Между церквами виднелось множество кровель, выкрашенных по большей части в зеленую краску, что придавало городу вид медной зелено-серой шахматной доски. Здесь можно было различать несколько концентрических, мелкозубчатых оград, с возвышающимися на них через известные расстояния башенками, совершенно как в городах отдаленной Азии. Та из этих оград, которая составляла центр остальных, заключала в себе треугольную площадь Кремля, господствующего над Москвою, наподобие акрополя греческих городов. На этой площади привлекали взор выкрашенные в белую краску храмы со множеством раззолоченных глав и крестов; тут же виднелись, между прочим, постройки теремного дворца, с их совершенно еще свежею эмалированною штукатуркою. Затем, несколько вправо от Кремля и книзу от его ограды, глаз невольно переносился на церковь Василия Блаженного, — этот монумент, представляющий собою кучу поставленных одна на другую церквей, поднимался наподобие фантастического животного, со своими разноцветными чешуйчатыми кровлями, со своими двенадцатью разубранными множеством привесок главами, которые могли напоминать нашим грекам каук, огромный парадный тюрбан пашей и янычарских офицеров. Между церковью Василия Блаженного и святыми воротами Кремля виднелась Красная площадь, с виселицами Ивана Грозного. Переходя от центра города к его окружности, взор за второй каменной оградою уже не различал ничего более, как только лабиринт переулков и беспорядочно наставленных домов, да деревянные, ярко раскрашенные избы, терявшиеся в садах, изрезанных прудами. На краю горизонта и на крутых берегах реки этот благочестивый и воинственный город опоясывался рядом больших, защищенных валами монастырей, представлявших собой крепости, служившие для молитвы и для войны. Монахи этих монастырей посвящали свое время храму и воинским упражнениям в ожидании татарских полчищ. И над всею этою необъятною панорамой носился гул сотен колоколов, так что и на ухо, как на глаз, город производил впечатление скорее гигантского монастыря, чем столицы, с ее кипучею человеческою деятельностью».
После Смуты, когда в Московском государстве воцарилось, пусть и весьма относительное, спокойствие, наступила пора нарядной полихромной архитектуры — веселой, сияющей, праздничной. Московский стиль — в зодчестве, живописи, литературе — уверенно становится общерусским, что, конечно, не исключало существования областных, во многом самостоятельных гнезд. Примечательно, что к этому времени «строенья в каменной Москве» Кремль, его многочисленные терема, площади, стены, башни, храмы обрастают легендами, былями, преданиями, входят в фольклор и письменную литературу.
Благовещенский собор в Москве. Вид с северо-востока. 1484–1489.
Историческая песня, например, запечатлела и крупнейшие государственные события, и частные эпизоды, свидетелем которых был Боровицкий холм. Народ вспоминал, как «Москва основалась» и с тех пор повелась на Руси «великая слава», любил петь о том, что «у нас в Москве учинилось», т. е. вслух вспоминал об эпизодах, делах, происшествиях… Недаром Петр Киреевский — выдающийся знаток и собиратель фольклора — считал, что по песням можно восстановить подлинную историю народа. В Кремле же каждый камень не только запечатленный шаг истории, но и поэтическое предание, баллада, пословица. Идешь и думаешь: не у этой ли стены роняла слезы-жемчуга всеми покинутая Ксения Годунова? Не по этой ли дорожке шел отважный Иван Кольцо? Не положил ли этот камень сам Аристотель Фиораванти?
Москва, ее священный Кремль, ее ближние и дальние пригороды украшаются в семнадцатом веке зданиями, в которых с большой силой проявилась архитектурная одаренность русского народа: в чутье пропорций, понимании силуэта, декоративном инстинкте, бесконечной изобретательности форм. Совершенно необычайно выглядела, например, знаменитая московская церковь Покрова в Филях — величественное, патетическое, даже несколько вычурное здание. Раскидистые лестницы связали сооружение с окружающим пейзажем — Москвой-рекой и лугами, — имелось много крылец, переходов, галерей. Церковь создавалась зодчими бояр Нарышкиных, испытавшими сильное влияние модного тогда на Западе, в польских и украинских землях, барокко, и этот затейливый, несколько вычурный стиль, пришедший в Москву через Украину, получил условное наименование — «нарышкинское барокко».
Кремль стал еще более красочным и прекрасным (а ведь он повидал в годину Смуты Москву, выгоревшую до Белого города и пригородов!). Было предпринято сооружение верхов башен, заканчивавшихся теперь изящными шатрами; были построены каменные «зело пречудные палаты», которые стали называть Теремным дворцом. Три этажа Теремного дворца были неслыханной новинкой в московском быту. Чарующее впечатление производило на москвитян Золотое крыльцо дворца, закрывавшееся причудливой орнаментальной решеткой, украшенной висячей гирькой; на широких площадках лестницы стояли вырубленные из камня позолоченные львы. По соседству с Золотым крыльцом находилась Боярская площадь, откуда народу объявлялись государственные указы и важнейшие новости. О внутренних помещениях Теремного дворца в народе говорили: «Ни в сказке сказать, ни пером описать…» Каждый член государевой семьи имел в ту пору в Кремле собственный дворец с многочисленными службами.
Портал Благовещенского собора.
Рядом со старыми боярскими теремами были построены также обширные Патриаршие палаты, Потешный дворец и т. д. Архитектурной осью Кремля, как и всей неоглядной Москвы, оставалась колокольня Ивана Великого, напоминавшая воина в золотом шлеме.
«Кремль в семнадцатом веке был средоточием всей дворцовой и правительственной жизни Москвы, — писал историк С. В. Бахрушин. — С раннего утра через главные Спасские ворота верхами или в тяжелых колымагах бояре и другие придворные съезжались в Кремль, где происходило заседание боярской думы. Здесь же, в Кремле, находились все правительственные учреждения — приказы; у дверей приказов целыми днями толпились челобитчики, тщетно добиваясь правды у возглавлявших приказы бояр. Среди них пробирались площадные дьяки с чернильницами, висящими на шее, и с гусиным пером за ухом, деятельно предлагая свои услуги для написания прошений. Тут же бирючи (глашатаи) выкрикивали „на всю Ивановскую“ (площадь) царские указы, совершались наказания кнутом и батогами, стояли на „правеже“ несчастные должники…».
Подражая кремлевским строениям, бояре и наиболее богатые купцы возводили в Москве храмы и терема (некоторые из них так хороши, что вошли в историю русского искусства). До наших дней, например, сохранился боярский дом семнадцатого века в Москве — палаты думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве, что за рекой, наискосок от Кремля. Глухое предание, правда, гласит, что дом был возведен еще при Иване Грозном и принадлежал Малюте Скуратову, но до нас дошло здание, чьи формы относятся явно к красочному семнадцатому веку. Располагались палаты в густом саду, где особенно было много зарослей крыжовника — «берсеня», отсюда и название местности — Берсеневка. Здания соединялись переходами с домовой церковью, — дьяк, ведавший царскими садами, любил удобство и красоту. И жилые покои, и церковь были в одинаковой степени нарядны, украшены наличниками-кокошниками, столбами-кубышками. Каменные трехэтажные палаты Аверкия Кириллова, как и палаты князя Голицына (о последних французский посланник писал, что они являются «одним из великолепнейших домов в Европе»), были гордостью всей Москвы. Теперь, глядя на дом Кириллова, мы можем догадываться, как выглядели палаты тех, кто жил на Боровицком холме. Но с Кремлем, конечно, ничто не могло сравниться.
* * *
Много в Москве площадей, но всех их старше Соборная площадь в Кремле. Она существовала в крепости уже в самом начале четырнадцатого века, когда на Самотечной площади шумел дремучий лес, а на далекой Пресне мужики, слушая песни жаворонка, деревянными сохами пахали землю и косили траву.
Площадь окружают три величавых собора — Благовещенский, Успенский и Архангельский. Здесь же красуется Грановитая палата — парадный зал московских князей и государей. На площади же находится колокольня Ивана Великого. У каждого собора — свой облик и назначение. Строились они в пору Москвы людной и богатой. Создатель одного из них — Успенского — великий Фиораванти.
…Укутав в собольи меха плечи, стоит на полуобтаявшем кремлевском холме высокий, стройный, седой человек. Вместе с ним изумленно глядят на загадочный северный город два черноволосых молодых человека. Из Италии в Москву прибыл прославленный архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти, прихватив своего сына Андрея, начинающего зодчего-строителя, а также любимого ученика Петра. Князь дал Аристотелю Фиораванти почетный заказ — соорудить главный храм государства — Успенский. В Москву Фиораванти приехал именитым человеком, чья слава гремела далеко за пределами его родины.
Грановитая палата в Кремле. 1487–1491. Фасад.
Грановитая палата в Кремле. Интерьер.
Был он мастером на все руки — умел сооружать мосты и крепости, подъемные механизмы, лить пушки и колокола, резать по металлу, чеканить монету. Окружающие относились к нему с особой почтительностью, отсюда и прозвище — Аристотель, напоминавшее о великом философе античности. Фиораванти строил в крупнейших городах Италии, его удалось на короткое время заполучить могущественному венгерскому королю Митиашу Корвину, присвоившему зодчему звание придворного кавалера. Турецкий султан Магомет II, возводивший гарем в Царьграде, сулил златые горы Фиораванти, приглашая его к себе. Посол Ивана III отыскал Фиораванти в Венеции, где он жил в собственном великолепном палаццо и строил дворцы знатным людям. Дож Венеции согласился отпустить Фиораванти в далекий край только потому, что не желал портить отношения с московским князем. Заказав кирпичи несколько более продолговатые, чем те, к которым привыкли в Москве, и сделав самые первые строительные распоряжения, Аристотель Фиораванти со своими спутниками — дело было поздней осенью — выехал в древний Владимир. Что увидел прославленный мастер на берегах Клязьмы?
Окруженный вишневыми садами, на высокой горе, над извилистой рекой, горделиво высился Успенский собор. В давние времена его поставили на горе так удачно, что он в утренние туманные часы кажется плывущим в воздухе.
Выполняя наказ князя, Фиораванти поставил в Москве храм, похожий на владимирский, но еще более торжественный и величавый. Вся Москва дивилась тому, как шла работа. Кирпичи не носили на леса, а поднимали машиной, которую прозвали «векшею», т. е. белкой. С Аристотелем Фиораванти пришла на Русь европейская строительная техника. Летописец, восторгаясь сооружением, написал: «Была же та церковь весьма удивительна величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством». Именно этому времени приписывает легенда событие, о котором потом долго говорили на Руси. Однажды, гласит предание, в Кремль явились посланцы Золотой Орды и вручили великому князю Ивану III грамоту с требованием собрать, как всегда, с русских земель дань для хана. Иван III у всех на глазах разорвал ханскую грамоту. Этот поступок не был дерзким своеволием, вспышкой гнева. Ведь не случайно, не по прихоти требовал Иван III, чтобы иноземцы именовали его «государем всея Руси». Все поняли, что Москва сильна, самостоятельна, независима.
Что касается Фиораванти, то его ждало много дел и злоключений. Зодчий и военный инженер, он то строил, то начальствовал над артиллерией в боевых походах, попадал то в милость, то в опалу. В искусстве у него — счастливая судьба. Все последующие иноземные мастера, строившие в Кремле, чувствовали себя лишь учениками и последователями великого зодчего, сооружавшего на века. Со славой Фиораванти можно сравнить только громкую и почетную известность, которую много веков спустя приобрел тоже итальянец по происхождению Растрелли, чье пленительное зодчество — великая страница в истории русской архитектуры. Если предания Древней Руси связывали разнообразные строения с именем Фиораванти, то послепетровская Россия приписывала Растрелли многочисленные дворцы, построенные чаще всего его последователями.
Русский язык не боялся принимать в свое неоглядное лексическое море иностранные слова — он обкатывал их, шлифовал и постепенно делал своими, неотличимыми от родных. Отечественное искусство не боялось принимать в свои объятия иноземные таланты. И Фиораванти и Растрелли органично вошли в русское искусство.
* * *
В древние времена Москва, точнее ее Белый город, заканчивался у теперешнего Садового кольца. Золотую шапку колокольни Ивана Великого путники видели приблизительно за десять верст от Москвы. Бело-золотую кремлевскую звонницу знал в русских землях каждый, и про рослого человека в народе говорили: «Вырос детинушка с Ивана Великого».
Радостно смотреть, как каменный столп отражает то ясное солнце, то звезды и месяц, как он весело встречает и мартовскую голубизну воздуха, и снежную февральскую метель, и грозовой майский ливень.
Возвышавшихся московских князей из года в год называли Иванами — Иван I Калита, Иван II Красный (красивый), Иван III, Иван IV Грозный. Среди их детей и внуков также бывали Иваны, некоторые из них сыграли довольно видную роль в истории. Простое, легко произносимое и запоминающееся имя полюбилось в Москве, да и по всей Руси. Родители охотно нарекали им своих детей. Как, бывало, только не кликали бесчисленных Иванов! Никакое другое имя в городах и весях не произносилось в столь нескончаемых вариантах — Иванка, Иваня, Иванюха, Иванюша, Ваня, Ванюра, Ива, Ивасик, Иваша… У Иванов рождались дети, которых по отчеству величали Ивановичами или попросту Иванычами. Иванов столп, возвышавшийся над Москвой, постепенно стал восприниматься как богатырь-воин, олицетворение московской силы, как Иван, стоящий на защите интересов всех русских земель.
Еще при Калите была в центре Кремля сравнительно небольшая Ивановская колоколенка. Потом она обветшала, ее разобрали, и на этом месте приказал Иван III возвести каменную башню. Высоко в небе над Москвой ярусами поднималась дозорная вышка. На самой выси, на боевой площадке сидели караульщики и зорко смотрели вдаль — не покажутся ли за рекой враги-кочевники. Как только появлялась опасность, начинали звонить колокола, стража разводила подъемные мосты над рвом, заполненным водой, наглухо запирали кремлевские ворота. Предупрежденные об опасности, московские люди укрывали детей и женщин в надежных местах, часто за кремлевской стеной, а сами отважно выходили навстречу врагу. И тогда уж ни конному, ни пешему в крепость хода не было. Если нельзя было остановить врага на дальних подступах, то москвичи уходили держать оборону за кремлевские стены, бросая посады.
При царе Борисе Годунове столп надстроили на два яруса и позолотили макушку, он поднялся над землею более чем на восемьдесят метров! Это было чудо из чудес. От сказочной высоты кружилась голова. Москва не знала еще таких высоких сооружений. Ничего подобного никогда не знала и вся московская земля. Верхний ствол Ивановской колокольни тогда же опоясали тройной золоченой вязью-надписью, прославляющей Бориса и его сына.
А. М. Васнецов. Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле.
В «Пискаревском летописце» было записано: «Лета 7108 (1599–1600) царь и великий князь велел прибавить у церкви Ивана Великого высоты 12 сажен и верх позлатить, и имя свое царское велел написати». Надпись и ныне опоясывает верхний ярус. Но не надо думать, что мы видим вязь годуновских времен. Когда в Кремль вошел Лжедмитрий, то он приказал немедленно уничтожить слова, сиявшие на столпе. Век Лжедмитрия был короток, он вскоре бесславно кончил дни, но каменный кремлевский столп простоял без надписи до Петра Первого, который и восстановил годуновскую вязь.
Итак, поднимемся по ступенькам звонницы, которые помнят и своего первого строителя Бона Фрязина, и Ивана III, и пышные свиты иноземных путешественников, и монахов, и стрельцов…
Нелегко пересчитать ступени лестницы, ведущей до купола. На первом ярусе еще, наверное, не собьешься, восемьдесят три раза став на каменные ступени. На втором же ярусе — прежде чем начать восхождение, отдохни и в пути не споткнись — ведь здесь — без одной! — полторы сотни выступов. А когда доберешься до вершины, сделаешь 329 шагов по каменным уступам. Трудно, но вскарабкаться все-таки можно. А вот опуститься вглубь… Археологи говорят, что основание башни уходит под землю на десятки метров и находится чуть ли не на уровне дна Москвы-реки.
Полюбился столп-великан, и пристроили к нему позднее две нарядные звонницы — Петровскую и Филаретовскую, завершающуюся шатром с башенками по углам. Почти четыреста лет красуется над всем Кремлем Иван Великий, олицетворяя государственную мощь России.
Смотришь на массивное здание и невольно поражаешься его стройности, его неудержимому, я бы сказал, ракетному устремлению в небеса, ввысь, в космос. Чем объяснить эту «взлетную» архитектуру, рожденную средневековьем? Инженерный секрет не так-то уж и сложен. Высота каждого последующего яруса уменьшается, хотя эта особенность почти незаметна стоящим на земле. От белокаменного цоколя, от нижних ярусов-восьмигранников столп «летит» к цилиндрическому верхнему ряду, увенчанному медной золоченой луковицей.
Когда лихие и умелые звонари-музыканты ударяли в двадцать с лишним колоколов Ивана Великого, то вся Москва наполнялась праздничным гулом. Самый большой колокол на звоннице весит ни много ни мало — четыре тысячи пудов. Он не трезвонил, как другие, более мелкие била, а издавал таинственный глуховатый гул. Недаром поэт написал: «Гудит, гудит Иван Великий, как бы из глубины веков идущий зов!». Эти московские колокола отличались особо мелодичным звуком; отлиты они были знаменитыми литейщиками — пушечных и иных дел мастерами.
Большое помещение внутри звонницы использовалось по-разному. В семнадцатом веке в нижнем зале стоял огромный медный глобус, привезенный в Москву нидерландским посольством.
При царе Алексее Михайловиче глобус, ярко раскрашенный, изображающий растительный и животный мир, служил пособием на уроках географии. Его с живым интересом рассматривал царевич Петр. Когда в Москве открыли первую навигационную школу, т. е. школу, где готовили мореплавателей, Петр Первый распорядился перенести глобус в навигационные классы, что в Сухаревой башне.
В Петровскую же эпоху один из любимцев Петра — Меншиков, светлейший князь, обладавший одно время почти монаршей властью, «счастья баловень безродный, полудержавный властелин», — решил поставить сооружение в Москве, которое было бы выше Ивана Великого. Так была сооружена башня, получившая название Меншиковой. Шпиль башни — пусть и деревянный — поднимался выше знаменитого столпа. Меншикову башню стали в народе называть сестрой Ивана Великого. Но главенствовала в небе Москвы она недолго. Дерево не камень — ударила молния и срубила ее огромный шпиль. Гибель шпиля как бы символизировала и судьбу Меншикова, кончившего свои дни в Березове, в сибирской ссылке. Опять колокольня Ивана Великого стала самым высоким зданием в Москве. Многое повидал златоглавый великан. Например, в пору подавления одного из многочисленных в те времена мятежей возле колокольни солдаты Преображенского полка громкими голосами «кликали клич», чтобы «всяких чинов люди ехали бы в Преображенское, кто хочет смотреть разных казней, как станут казнить стрельцов и казаков яицких, а ехали б без опасения». Запомнила старая Москва, как безвестный изобретатель-самоучка пытался демонстрировать у Ивана Великого свой летающий аппарат, но потерпел неудачу и был беспощадно «бит батогами, сняв рубашку». В совсем иное время, когда «шумел-горел пожар московский» и когда вражеские полчища покидали Белокаменную, Наполеон приказал взорвать Ивана Великого. Французам удалось подорвать звонницы-пристройки, но столп был сооружен так прочно, что выдержал взрыв и устоял. Разрушенные части восстановил архитектор Д. Жилярди, много и удачно строивший в послепожарной Москве.
С колокольней Ивана Великого связаны памятные эпизоды в жизни писателей, художников, зодчих. Курчавый и быстроглазый мальчик, стремглав преодолев ступени, взобрался на колокольню и глядит восхищенно на город внизу, под ногами. Маленький Пушкин, будущий великий поэт, страстно любил смотреть на Москву с огромной высоты.
Колокольня Ивана Великого. 1505–1600.
Теремной дворец в Москве. 1635–1636.
Юный Лермонтов, родившийся в Москве, восторженно писал:
«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у нее есть своя душа, своя жизнь.
О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотись на узкое, мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая_ лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!»
В нашу эпоху, в дни Великой Отечественной войны на врагов шел танк, на броне его были написаны горделивые слова: «Иван Великий».
* * *
Картины былого — оно, если вдуматься, не менее реально, чем настоящее, — встают, оживают, материализуются в этом месте, где все пронизано историей. Ведь даже сиюминутное утекает в сито времени и мало-помалу, незаметно для нас становится ушедшим…
С большим трудом можем мы себе представить, как, скажем, выглядел Кремль в эпоху Ивана Грозного. Изображения, которые мы можем сегодня видеть в Никоновской летописи или в так называемой Царственной книге, носят во многом стилизованно-условный характер. Свидетельства иностранных путешественников говорят о том, что государев двор в ту пору был нарядным, торжественным, живописным. Непередаваемую прелесть являл возобновленный после пожара кремлевский дворец, где стенопись Золотой палаты была сделана с неслыханными новшествами. Среди привычных образов и аллегорий, среди знакомых средневековому зрителю сюжетов, как, скажем, притча об индийском царевиче, были и такие, которые воспринимались как нечто небывало-дерзостное, основанное на «человеческом мудровании». Так кремлевские живописцы написали изображения олимпийцев — Феба и Дианы, что вызвало резкое осуждение у ревнителей старины. Необычайные украшения Золотой палаты, да и других помещений, — сложное явление художественной жизни шестнадцатого века.
Загадочные переплетения традиционной символики и античных мотивов, аллегорические и символические изображения отражали представления москвитян о мироустройстве — то новое, что появилось в их мировоззрении.
Необычно выглядел дворец и снаружи. Путешественник Барберини отметил в своих записках, что кровли дворца Ивана Грозного были покрыты золотом. Михалон Литвин, посетив Москву, любовался каменными изваяниями, установленными во дворце, как заметил иноземец, «по образцу Фидиевых». Историки считают, что Грозный, будучи «мужем чудного рассуждения и всякой словесной премудрости ритором», мог знать о Фидиевых горельефах Парфенона и приказать украсить карнизы дворцовых приемных палат, кроме обычных для Москвы подзоров и цветных поясов, также и резными фигурами. Любили в ту пору также цветные стекла, которые явились новинкой для Москвы. Иван Грозный посылал в Новгород оконничника купить там «сколько можно… стекол оконничных разных цветов» и прислать их в Москву.
Таким образом, перед глазами встает Кремль, сияющий золотом кровли и цветными окнами, белыми камнями и многоцветными узорчатыми кирпичными поясами. По сравнению с наружным великолепием домашний быт в покоях был довольно скромен. Лавки вдоль стен, липовые крашеные столы, деревянная посуда… Но во время торжеств дворец преображался. Парадные покои, обычно пустовавшие, становились центром жизни — их украшали с неслыханной и невиданной роскошью. Когда иноземные гости проходили по украсно-украшенным комнатам, то им казалось, что они попали в царство волшебных сказок.
У Московской заставы на Камер-коллежском валу. XVIII в.
Прекрасные и диковинные изделия Запада и Востока, расшитые шелка, драгоценные камни-самоцветы, серебряные бочки, ендовы и братины — работы суздальских, новгородских, тверских, ростовских мастеров; соболя, золотые пояса, яхонтовые ожерелья, жемчужины, добываемые на северных реках, — все это составляло праздничное убранство кремлевских покоев. В дневнике Марины Мнишек сохранилось описание царского места: «Весь трон был из чистого золота, вышиною в три локтя, под балдахином из четырех щитов, крестообразно составленных, с круглым шаром, на коем стоял орел. От щитов над колоннами висели две кисти из жемчуга и драгоценных камней, в числе коих находился топаз величиною более грецкого ореха. Колонны утверждались на двух лежащих серебряных львах величиною с волка. На двух золотых подсвечниках стояли грифы, касаясь колонн. К трону вели три ступени, покрытые золотой парчой».
…За дубовыми столами, уставленными золотой и серебряной посудой, на широких скамьях сидят чинно и спокойно бородатые люди — молодые и старые. Взоры всех устремлены на человека, сидящего отдельно, в атласном облачении, в золотой на горностаях мантии, унизанной жемчугами, в пурпурных сафьяновых сапогах. Обычно на пирах он появлялся в кафтане, но к нынешнему торжеству облачился в парадную мантию. В руке его — серебряный кубок, украшенный разными травами, царь зорко всматривается в лица сидящих. Разом собравшиеся отпивают вино из золотых ковцов и начинают смело, а потом и весело звучать голоса. Чаще других доносится слово «Казань»…
Иван Васильевич Грозный пирует в парадном зале — в Грановитой палате. Веселится не только царь и его приближенные. За кремлевскими стенами пьет и гуляет простой народ, пляшет и на площади, и на зеленых лужайках возле реки. Москва празднует взятие Казани, радуется возвращению войска из похода на опасного врага. Много десятилетий казанские ханы жгли и разоряли русские города, уводили в плен жителей волжских сел и деревень, обращали их в рабство, продавали на азиатских торжищах русских ремесленников-умельцев, которые ценились высоко. Не давала покоя Казань и другим народам — мордве, марийцам, чувашам… Теперь опасность позади, Москва празднует победу. Волжские дороги, по которым еще вчера было не проехать, не пройти — все держала в своих цепких руках Казань, — теперь открыты. Скоро полетят, быстрые, как птицы, струги по волжской воде к далекому теплому морю, а отважный Ермак соберет дружины удальцов-храбрецов и отправится за Урал-Камень, в Сибирь, где нетронутыми лежат золотые россыпи, где столько мехов, что их не вместят и обширные кремлевские кладовые. Веселье царит п<. всей Москве, а в Грановитой палате получают золотые ковши, серебряные ендовы и собольи шубы те, кто вел воинов во время штурма города на Волге. Москва навсегда запомнила этот пир, и по всей Руси народные сказители столетиями пели о Казанском походе, о том, как на Волгу пришла «от сильного московского царства» грозная туча, как «догорела в земле свеча воску ярого до той-то бочки с черным порохом, подымало высокую гору, разбросало белокаменные палаты…», т. е. взята была волжская твердыня. Народная память приравнивала успешный штурм Казани к такому великому историческому эпизоду, как основание Москвы. Пир Грозного в Грановитой палате венчал историческое дело, говорил о «великой славе» Москвы.
Другая и тоже памятная картина. Запорожский казак-полковник обнимается со стрелецким головой, звучат под звон гуслей и бандур слова:
— Москва и Киев — вместе навсегда!
Москва протянула руку помощи Украине, помогла ей избавиться от врагов — два народа-брата воссоединились. Как же не звучать весело в Грановитой палате голосам! Как было не вспомнить, что Киев златоглавый — «мати русских городов», что над могучим Днепром возвышается София Киевская, украшенная дивными мозаиками, которым не страшны года, — они вечно сияют на стенах древнего здания, сооруженного во времена Ярослава Мудрого. После долгого лихолетья Москва и Киев снова вместе — сбылось то, о чем мечтали многие поколения. Пир горой в Грановитой палате и поют во всех землях славу Богдану Хмельницкому и московские сказители, и киевские кобзари…
Перевернем еще одну страницу истории.
…В камзоле, шитом золотом, за столом сидит Петр. Большой кубок, имеющий форму орла, передается из рук в руки. И слышится радостный возглас:
— За Полтаву!
В Грановитой палате слышится родившаяся среди солдат и пошедшая гулять в народе фраза-поговорка: «погиб, как швед под Полтавой». Полтава была наиболее выдающимся эпизодом в долголетней Северной войне, которая завершилась закреплением за Россией части побережья Балтийского моря. Об этом мечтали многие поколения русских людей…
По старым обычаям женщины и дети не могли участвовать в приемах и пирах, которые устраивались в Грановитой палате. Но женщинам, конечно, хотелось посмотреть, как проходят праздничные церемонии. Для них в одной из верхних стен соорудили окно-тайник. Когда Петр Великий был еще ребенком, мать часто водила его в комнату над палатой и любознательный мальчик с интересом наблюдал, как проходят приемы. Когда же Петр стал взрослым, он покончил со старым обычаем и приказал, следуя западным обычаям, женщинам являться на все праздники и пиры.
…Внутри палата велика и вместительна — площадь ее чуть ли не пятьсот метров. Стены расписаны народными мастерами в конце прошлого века и напоминают палехскую многоцветную шкатулку. Работая в палате, палехские умельцы воспользовались описью сюжетов, составленной Симоном Ушаковым. Снаружи, украшенная гранеными белыми плитками известняка, она похожа на драгоценный ларчик. От граненых камней и получил парадный зал древнего Кремля название Грановитой палаты.
Когда выпадает удобный случай, я люблю побродить в одиночестве по Грановитой. Неяркое московское солнце играет на палехских фресках и заставляет оживать образы давних лет. Миражи минувшего встают перед глазами, начинают звучать голоса, которые некогда раздавались под этими сводами. Иллюзии одеваются в плоть, и я вижу, как сюда гордо входит Марина Мнишек, старающаяся уверить себя, что она здесь хозяйка, что эта палата принадлежит ей. Но блеск бриллиантов на ее одежде стоит немного… От Москвы не так уж далека Коломна, она ближе, чем от Варшавы старый Краков, где Мнишек решила стать женой человека, назвавшего себя сыном Ивана Грозного. В Коломне же есть башня, которая в совсем недалеком будущем будет нераздельна от Марины Мнишек. Народная легенда гласит, что в высокую кирпичную башню была заключена вдова Лжедмитрия, но еретичка-волшебница и тут обманула доверчивых москвитян: она обернулась птицей и вылетела через стрельницу на волю…
Я слышу сильный и чистый голос, произносящий сначала латинские, а затем и славянские вирши, звучащие несколько непривычно и неуклюже. Когда человек с умными и пронзительными глазами перестает читать, его окружают иностранные гости, стремящиеся побеседовать на своих родных языках с ученым москвитянином, слава об образованности которого дошла до далеких стран. Симеон Полоцкий, приглашенный вместе с самыми знатными людьми на прием в Грановитую палату, рассказывает иноземцам, какие построены палаты в селе Коломенском московскими мастерами; трудно на земле сыскать такую красоту — эти дворцовые сооружения напоминают «дом небесный». С удивлением слушают ритора, чувствующего себя своим человеком в Кремле, знающего всех собравшихся в Грановитой палате, напоминающего своим обликом европейского придворного поэта.
Грановитая палата помнит бесчисленные имена людей, переступивших ее порог, запечатлевших свои имена в истории…
* * *
Весь мир, принимая радиоволны, каждый день слушает бой часов на Спасской башне. С давних пор звучат в Москве кремлевские куранты, прожившие многовековую жизнь, заполненную бесчисленными событиями.
Все мы считаем часы простой, пожалуй, малоинтересной, обычной вещью. Мы и вспоминаем-то о них только тогда, когда надо узнать время. Но так было не всегда. Перенесемся мысленно в глубокую старину. Столетиями ритм жизни определялся сменой дня и ночи, зимы и лета, полевыми работами, привычным аграрным календарем. Время исчислялось по солнцу, звездам, по перекличке петухов, по бесчисленным приметам, которые позднее были забыты.
Песочные или солнечные часы были скорее забавой, чем приборами для измерения времени. Рождение механических часов, в начале второго тысячелетия, явилось революцией в представлениях средневековья. Когда механические часы появились на Руси, их восприняли как удивительное и небывалое чудо, которое все — и взрослые и дети — сбегались смотреть и слушать. Сам великий князь Василий Дмитриевич приходил на площадь любоваться диковинкой. Древнерусские летописцы, как я уже говорил, отмечали только самые важные события, которые случались в жизни. Московский летописец уделил в хронике часам, установленным на Соборной площади, много места. Слушая звон часов, доносившийся даже в уединенную монашескую келью, писатель восхищенно отмечал: «Сей же часник наречется часомерье… не бо человек ударяше, но человековидно, самозванно и самодвижно, страннолепно». И добавил летописец с неподдельным восторгом, что это диво сотворено «человеческой хитростью», а также «преизмечтано и преухищрено». Новинка стоила, конечно, недешево, а деньги в ту пору на ветер не бросали, тратили расчетливо, скупо. Поэтому в летописи было также сказано, что заплатили мастеру «полтораста рублев». На эти деньги тогда можно было не только построить большой каменный дом, но и много лет жить безбедно.
Москва отыскала в Италии искусного архитектора Пьетро Антонио Солари. Под его присмотром и сложили русские мастера на старом основании Спасскую башню. Башня получилась на славу, и поэтому на каменных досках по-латыни и славянской вязью была сделана горделивая надпись над воротами: «Иоанн Васильевич, божьей милостью великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Тверской, Псковский, Вятский, Угорский, Пермский, Болгарский и иных и всея России Государь, в лето 30 государствования своего сии башни повелел построить, а делал Петр Антоний Солярий, медиоланец, в лето от воплощения Господня 1491…» В 1636 году московский каменщик Бажен Огурцов и его содруги возвели многоярусный верх с нарядным шатром. В Москву пригласили затем «аглицкой земли мастера часового и водяного взвода» Христофора Головея. Под началом Головея московские кузнецы собрали далеко видные башенные часы с колокольным боем. Время тогда делили не по суткам, а на дневное и ночное.
Московский Кремль. Общий вид со стороны Москвы-реки.
Дневное время начиналось тогда, когда первый луч солнца падал на Спасскую башню, ночное же — с темнотою.
Сказочно красиво выглядел циферблат. Средняя часть, символизировавшая космос, была покрашена голубой краской и словно по небу располагались светлые жестяные звезды и золоченые изображения солнца и планет. Рядом с привычными нам арабскими или римскими цифрами стояли славянские буквы, обозначавшие числа. Стоит ли говорить о том, что эти часы составляли предмет гордости Москвы? Знатный путешественник Павел Алеппский, наслышавшись о кремлевской диковине, записал в дневнике, что незадолго до его приезда в Москве имелись «чудесные городские часы, знаменитые во всем свете по своей красоте и громкому звуку своего большого колокола, который был слышен не только во всем городе, но и в окрестных деревнях, более чем на 10 верст».
Год за годом, десятилетия за десятилетиями отсчитывал время маятник, менялись часовщики, — механизм требовал постоянного наблюдения, опытного глаза, умелых рук. Случались и всевозможные происшествия. Поэтому, получая назначение, часовщик давал слово, как было сказано в старинном документе: «У дела на Спасской башне в часовниках не пить, не бражничать, зернью и карты не играть, и табаком не торговать, воровским людям стану и приезду не держать и с воровскими людьми не знаться». В этих словах мы слышим живую московскую приказную речь, звучавшую некогда у кремлевских стен.
Когда я гляжу на Спасскую башню, ставшую олицетворением столицы, то я всегда думаю, что она сродни среднерусскому небу, неторопливо плывущим облакам, туману, ползущему на рассвете с Москвы-реки, елям и березам, выращенным в наши дни у кремлевской стены. Без нее, как и без Ивана Великого, нельзя представить и старый, и новый московский пейзаж. Мало кто знает, что нижний главный массив башни имеет двойные стены, между ними находится каменная лестница.
Руку, читатель! Поднимемся по уступам, пройдем по кирпичам, на которые ступало не одно поколение. Башня имеет десять этажей. Когда вы поднимаетесь на самый верх, то перед вами открывается — вместе с хлынувшими потоками света — панорама Кремля, Красной площади, окружающих улиц, просторы реки, струящейся неизменно, как и в дни Юрия Долгорукого… Все изменили века, невозможно разглядеть семь знаменитых холмов, нет лесной и полевой дали, как при Иване Калите, но небо и вода — все те же. Они воплощают в себе вечность.
Народ всегда любил и почитал Спасскую башню, как святыню. Когда старинные куранты еще в прошлом веке начинали играть «Коль славен» и «Марш Преображенского петровского полка», все на площади снимали шапки. Через ворота было принято проходить в Кремль без шапки. Нарушителей народ незамедлительно наказывал. Через Спасские ворота отправлялись в поход полки, проходили торжественные народные процессии, триумфальные шествия, встречались знатные иноземные гости и послы. В особых случаях проход устилали дорогим красным сукном, украшали ветками вербы.
Много событий повидала Спасская башня, запомнившая и Петра Первого, и знаменитого архитектора Василия Баженова, Наполеона и его маршалов — в войну двенадцатого года она только по счастливой случайности избежала гибели. Менялись часовщики, ремонтировались и заменялись механизмы, но стрелки упрямо двигались. В Октябре семнадцатого года в Кремле шли бои. Была повреждена и Спасская башня. Второго ноября стрелка часов замерла на циферблате, умолк башенный бой.
По указанию В. И. Ленина кремлевский слесарь Н. В. Беренс отремонтировал часы. Ленин был этим очень доволен и назвал кремлевские куранты «главными часами государства». Московское время снова начало свой бесконечный бег, — в этом простом эпизоде было нечто, имеющее глубокое символическое значение.
Теперь, когда ты, читатель, услышишь, как звенят часы в Кремле, ты подумаешь, верно, о том, что это непросто сигналы точного времени. Нет, голос башни — голос минувших веков — заставляет нас думать и о грядущем.
Находясь в Кремле, нельзя не испытать особого волнующего чувства, которое мне хочется назвать чувством Москвы. Оно с трудом поддается определению, и истоки его кроются в очаровании Кремля, в гениальной полихромии его разновременных памятников, столько говорящих открытому душевному взору. Кремль строила вся страна, и теперь откуда бы вы ни приехали — из костромских или вятских лесов, из Киева или с Волги, Оки, Клязьмы, — вы почувствуете в нем родное и близкое. Вот фризовый поясок, охвативший белокаменное строение; он пришел сюда, конечно, из Владимирского Ополья, из суздальской полевой стороны. В умелой кладке другого строения чувствуется рука псковитян, которые были прирожденными каменщиками и умели строить так, что их стены могут смело соперничать с вечностью. Этот колокол привезен из Ростова Великого, чтобы напомнить Москве о звонах, несущихся на просторах озера Неро. А вот пушка, отлитая умельцами из Мурома на Оке.
Лев Толстой однажды заметил: «Глядя на Москву, каждый русский понимает, что она мать». Москва началась с Кремля, и поныне без кремлевских сооружений великий город даже нельзя представить. В обширной Москве много прекрасного, величественного, трогательного, удивительного, но Кремль, как говорят в народе, — всему голова. Стены его подобны магниту, тянущему к себе с неодолимой силой; удивительное волнение пробуждают в сердце башни — у каждой из них своя особая слава.
Кто из нас не любовался в Москве старыми ампирными особняками с колоннами и мезонинами, построенными в минувшем веке, отличающимися какой-то домашностью облика? Эти дома очень хороши и напоминают в современном городе случайно появившиеся на улице декорации к «Евгению Онегину»: вот-вот выйдет оперный герой, пройдет семейство Лариных. Знаменитые московские усадьбы в городе, Сивцев Вражек и Собачья площадка — невозвратимая архаика… Кремль же непостижимым чудом органично вошел в современный урбанистический пейзаж, придав ему единственный и неповторимый облик. Все мы любим художественные гнезда — Кусково, Архангельское, Останкино… Чувство радостного и всепоглощающего волнения вызывают в нас давние стражи Москвы — монастыри-крепости Донской, Новодевичий, Симонов, Новоспасский… Но все это островки былого, напоминающего далекие и недостижимые миражи. Смотрильная же башенка Теремного дворца и нынче глядит далеко вперед, груз былого не мешает ей быть по-детски наивной и веселой. Кремль живет, он — настоящее, он — не видение, а явь. Его «зело пречудные палаты», как говорили в старину, и сегодня овеваются воздухом современности.
* * *
Есть несколько олицетворений Москвы, таких, как, скажем, бронзовая четверка несущихся коней и правящий ею Аполлон, — знаменитая квадрига, украшающая Большой театр, или появившаяся недавно Останкинская башня, пронзающая облака телевизионной иглой. Но, пожалуй, не менее известны такие столичные долгожители, как Царь-колокол и Царь-пушка. Без их изображения не обходится ни один пyтeвoдитeль по Москве, их всегда увидишь на открытках, марках, виньетках. Их любят поэты, живописцы, графики, мастера-прикладники да и всевозможные путешественники.
У коренных москвичей отношение к ним домашнее, связанное с детскими впечатлениями: «А помните, как меня незнакомый дядя верхом на пушку посадил?», «А я первоклассницей снималась у колокола…».
Кремлевские ветераны не только свидетели многосотлетних событий на холме. У них богатая родословная, с ними связаны имена государственных деятелей, умельцев, дипломатов.
Постоим же минуту-другую возле Царь-пушки. Ее недавно очистили — сияет она новенькая, «как с иголочки». Пушка водружена на лафет, украшенный львиной головой. Рядом — чугунные ядра неимоверной тяжести. Среди тех, кто приходит в Кремль, часто разгораются споры: сколько силачей нужно, чтобы поднять ядро?
Им, конечно, невдомек, что ядра — дело позднее, ведь для пушки предполагалась картечь.
Царь-колокол. 1736.
Некоторые горячие головы бьются об заклад, что они, спорщики, поднимут впятером. И напрасно. Если перевести на современную меру, станет ясно — ядро не поднять и десятку богатырей.
Почему длинноствольное орудие прозвали Царь-пушкой? Есть разные истолкования. В народной речи, в разговоре, необыкновенное, заметно выделяющееся величиной, весом, значением принято именовать: царь-рыба, царь-дерево, царь-девица… Последняя, кстати говоря, в русских сказках считалась сестрой Солнца, и ее добывал Иван-царевич вместе с Жар-птицей. В свое время была в ходу драма Леонида Андреева, озаглавленная «Царь-голод». Не удивительно, что и крупнейшее артиллерийское чудо Древней Руси именовали Царь-пушкой. Историки иногда доказывают, что прозвание пушка получила-де потому, что на ней, на правой стороне дульной части, изображен царь Федор Иванович, едущий на коне. Одно не исключает другое.
На орудии имеется надпись, гласящая: «Делал пушку пушечный литец Ондрей Чохов…» Случилось это в 1586 году. Таким образом, ей вот-вот четыреста лет. Андрей Чохов был знаменитым мастером, вызванным в Москву из Мурома на Оке. Кстати говоря, высказывается предположение, что мастеровые Чоховы — предки-родичи Чеховых, давших миру автора «Степи» и «Чайки».
Долгое время считали, что Царь-пушка всего лишь декорация, отлитая для устрашения. Подробное изучение показало, что орудие предназначалось для стрельбы. Стояла Царь-пушка не в Кремле, а в Китай-городе, защищая переправу через Москву-реку и Спасские ворота. Стрелять можно было только с особого лафета. Ныне пушка покоится на новом станке, и ядра, лежащие возле нее, декоративные, отлитые в прошлом столетии.
Андрей Чохов мастер был отменный. Крепость и раньше видела богатырские орудия, но никогда еще на холме не стояла пушка весом 2400 пудов — около сорока тонн, — длиною почти пят# с половиной метров, а диаметр дула, то есть калибр, составлял чуть ли не метр… По своему устройству мортира предназначена для стрельбы каменной картечью.
Немногие знают, что у Царь-пушки есть младший брат — пушка «Царь Ахиллес», отлитая также Андреем Чоховым. Название примечательно — Москва знала издавна быстроногого и непобедимого героя, как и других гомеровских героев Троянской войны. «Ахиллес» в настоящее время находится в артиллерийском музее города на Неве. Отливал ее Андрей Чохов со своими учениками также на Московском пушечном дворе позднее, чем Царь-пушку, которой «Ахиллес» немного уступает по размеру и весу.
Царь-пушка — знаменитейшее, но не единственное древнее орудие холма над Москвой-рекой. И поныне стоят на Троицкой площади медные «боги войны». Их ревностно почитали в старину, давая им причудливые наименования. Есть отлитые Андреем Чоховым «Троил» и «Аспид». Троил — троянский царь, Аспид — крылатый змей с двумя хоботами и клювом. Есть «Единорог», отлитый в семнадцатом веке и украшенный затейливыми медными травами. Наши пращуры называли единорогом фантастического однорогого коня, в честь которого сияло и небесное созвездие. Единорогами именовали и другие орудия с коническим казенником. Отсюда пошла солдатская присказка: «Пушка сама по себе, а единорог сам по себе». Есть пищаль, которую назвали именем легендарной птицы Гамаюн, чье сладостное и звучное пение означало близость смерти, хлад, мор. Нравилось ратным людям называть пушки именами хищных зверей и птиц. — Отсюда «Лев», «Орел», «Волк».
Мирно дремлют пушки возле Арсенала, давным-давно никто не палил из них. Орудийное молчание красноречиво. Не слышим ли мы в нем хвалу неутомимому Чохову, что шестьдесят лет трудился на Пушечном дворе? Чоховские пушки были долговечными, некоторые из них участвовали в Северной войне, и Петр I распорядился орудия великого литейщика — мудрая предусмотрительность — хранить вечно, в назидание потомкам. Все же некоторые чоховские пушки разбрелись по свету. Стоят они и возле сурового замка под Стокгольмом со времен Ливонской войны.
Орудия хочется посмотреть каждому, и возле них всегда полным-полно народу, бывает, что к ним и не проберешься. Посетители в сердцах говорят, что нынче на холме народа — «пушкой не прошибешь».
По соседству с Иваном Великим, на Ивановской площади, на пьедестале стоит Царь-колокол.
Он не менее знаменит, чем Царь-пушка. Глядя на него, вспоминают самые прославленные била Древней Руси: вечевой колокол Господина Великого Новгорода, Большой Сысой — творение XVII века на звоннице Ростова Великого, угличский колокол-бунтарь, отправленный Борисом Годуновым в ссылку, колокол Ивана Великого, первым начинавший трезвон в праздничные дни по всей Москве. Про столицу говорили: «Звонят сорок колоколов» — так обозначалось количество церквей в белокаменной.
Отливал Царь-колокол знаменитый московский литейщик Иван Моторин с сыном Михаилом в 1733–1735 годах. В отливку пошел «дедовский» и «отцовский» металл, и колокол — такого нигде еще не бывало — весил двести тонн.
В мире нет колокола, который превосходил бы Царь-колокол по весу. Самые знаменитые колокола Японии и Китая не более трех тысяч пудов, европейские — не более тысячи. В Царь-колоколе, как я сказал, свыше 12 000 пудов. И сегодня эта цифра производит на нас впечатление. Что и говорить о только что начинавшейся послепетровской эпохе, когда все делалось вручную.
Было это в 1737 году. Отлитый колокол-гигант находился в яме на строительных лесах, напоминая быка, готового издать рев. Приключился пожар, объявший кремлевский холм. Пылающие головни летели в Москву-реку. В этой огненной суматохе была сделана попытка спасти музыкального титана. Воду лили усердно, раскаленный металл треснул, и выпал кусок двухметровой высоты. Даже этот осколок вытащить из ямы нелегко — как-никак одиннадцать с половиной тонн веса. Лежали колокол и его отколовшаяся часть в земле без малого сто лет. В 1836 году подъем близнецов-братьев поручили архитектору Августу Монферрану, строжившему в Петербурге Исаакиевский собор и основательно наторевшему в переносе тяжелейших гранитных и мраморных глыб. Долго велись подготовительные работы. Когда на поверхность извлекли (на это потребовалось 42 минуты 33 секунды) толстостенный колпак, то все увидели, что его поверхность украшена поясами рельефов, изображениями в рост Алексея Михайловича и Анны Иоанновны, иконами и надписями.
Конечно, в наши дни можно бы водрузить Царь-колокол на Ивановскую колокольню, но все так привыкли к тому, что «молчаливый бык» стоит внизу на привязи. Было бы жаль с ним расстаться. Пусть он — раз уж не попал на небо — пасется возле зеленой московской травы…
Безмерно было восхищение современников колокольщиками и пушечниками Моториными — Иваном и его сыном Михаилом. Недаром их имена отливались на певучей бронзе. Отец и сын принадлежали к числу «хитрецов», как тогда говорили, каких и в немцах (то есть у иностранцев) не отыщешь. Десятки пушек отлили Моторины, а их колокола звонили не только в Москве, но и в Петербурге, Киеве, Старой Руссе… Беззвучный Царь-колокол красноречиво повествует о том, какие дива дивные могли творить московские мастера.
Совсем недавно литая шапка была одета лесами. Двухсоттонного великана «прослушивали» и лечили. Сняли краску, позолотили венчающую часть, отчистили певучую бронзу, которой был возвращен естественный цвет. Впервые мы увидели колокол таким, каким он был при Моториных, — серебристо-серым, и только зеленоватый налет говорит о прошедших годах. В газетном отчете говорилось: «После расчистки стало особенно очевидно, что изображения на колоколе довольно искусны, орнаменты изящны». Комната, в которой работали ученые и мастера, помещалась под колоколом — целая мастерская!
Колокола — грандиозный оркестр под открытым небом, концерт для всех.
Успенский собор Московского Кремля. 1475–1479.
Древняя Русь складывала песни, поговорки, изречения о колокольном звоне. Стозвучные голоса колоколен встречали воинов из походов и провожали их в дальний путь. На звон колокола шли в ночи путники и возвращавшиеся с охоты. Искусство звонаря ценилось необыкновенно высоко. В наши дни оно основательно забыто, и есть прямая опасность исчезновения знатоков старейшего вида народной музыки.
И Царь-пушка и Царь-колокол напоминают нам о старинных умельцах, чьи золотые руки вызывают восхищение.
Владимир Маяковский, обращаясь к юному читателю, заметил: «Начинается земля, как известно, у Кремля». Уральский писатель Павел Бажов в одном из своих знаменитых сказов нарисовал картину того, как из самых отдаленных уголков земли приходят на Красную площадь в Москве люди, чтобы поклониться священным сединам Кремля. От древности до наших дней Кремль — олицетворение государственной мощи страны, раскинувшейся на необъятных просторах Европы и Азии. Придя на Красную площадь, мы невольно произносим поэтические строки: «Словно молоты огневые или волны грозных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей».
Лучами разбегаются от Кремля улицы, во все стороны расходятся от Москвы дороги — к Волге, Днепру, Уралу, Сибири, к полярному кругу и знойным азиатским пустыням… Смысл и непреходящее значение Кремля в том, что он — вечное олицетворение государственности, символ страны, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана.
* * *
В срединной Москве, на травяном холме, возле старой, но не обветшалой Китайгородской стены, напротив магазина «Книжная лавка» стоит памятник с надписью: «Друкарь книг пред тем невиданных…» Друкарь — так с давних времен у нас, а в Киеве и теперь, называют типографа, печатника. Иван Федоров, а именно ему стоит памятник неподалеку от Третьяковского проезда, был первым московским печатником, своего рода русским Гутенбергом. Ему-то свыше семидесяти лет назад и отлит был прекрасный (один из самых лучших в столице) бронзовый памятник. Автор сооружения Сергей Михайлович Волнухин — скульптор, близкий к передвижникам, академик, воспитавший таких мастеров, как Андреев, Голубкина, Коненков… История памятника, открытого в 1909 году, примечательна. Рождению монумента предшествовали годы — от замысла до исполнения срок оказался довольно большим.
Крутицкий теремок. 1694.
Еще в конце семидесятых годов прошлого столетия Московское археологическое общество составило ходатайство, строки из которого приведу: «…Иван Федоров был уроженец Москвы или Московской округи, как сам свидетельствует, называя себя москвитином, и первоначально служил в Никологостунской придворной церкви в Московском Кремле. Здесь же в Москве в 1553–1563 годах он по воле Иоанна IV устроил первую в Великой Руси типографию, доныне существующую, под именем Синодальной, на Никольской улице, издал в ней первую печатную книгу „Апостол“ (1564).
Приведенные здесь факты указывают прямо — предполагаемый памятник русскому первопечатнику должен быть сооружен здесь, в Москве… Для всякого москвича, для всякого русского было бы в высшей степени желательно почтить сооружением такого монумента… память выдающегося русского просветителя XVI столетия…»
Начался общенародный сбор пожертвований. Особенно охотно откликнулась на него Москва. В начале нынешнего века был объявлен конкурс на памятник, причем в состав жюри вошли такие видные люди, как историк Василий Ключевский, художник Аполлинарий Васнецов, знаток скульптуры Михаил Чижов. Победил Сергей Волнухин. На граните тыльной стороны памятника Федорову была вырублена надпись: «Ради братий моих и ближних моих».
Москва не забыла первопечатника. В последние десятилетия интерес к нему возрос многократно. Современность богата находками, помогающими увидеть друкаря не просто как умельца-типографа, а как великого просветителя, писателя, ученого, инженера, литейщика, политика, дипломата, воина, знатока богословских, гуманитарных и технических наук, воспитателя целой плеяды книжников, чьи издания составили эпоху в русских и западных землях. Когда думаешь о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, то перед глазами возникает исполненный мощи образ человека, равного по своим деяниям титанам Возрождения.
География его дорог-скитаний поразительна для времени Ивана Грозного: от Москвы до Вены, от Львова и Кракова до Валахии. Пути его книг еще полностью не прослежены. Достаточно сказать, что одно из его изданий было подарено Иваном IV английской королеве и поныне находится в Лондоне; первая печатная отечественная азбука, выпущенная Федоровым вместе со страстным воззванием «К возлюбленному русскому народу» находится за океаном, в библиотеке одного из американских университетов.
К середине шестнадцатого века Москва — многолюдный город. Сложилась и славится живописная школа. Кипит напряженный литературный труд, которому было придано государственное значение. Появились начитаннейшие книжники, группировавшиеся вокруг митрополита Макария, по почину которого были воедино сведены духовные и исторические сочинения для чтения на каждый день, составившие великие Чтения или, как тогда писали, Четьи Минеи — чтение на каждый день месяца. Это было грандиознейшее книжное предприятие века, рукописная традиция не знала еще такого размаха. Из-под рук московских писцов вышла целая библиотека, включившая в свой состав и такие сборники, как «Златая цепь», «Хождение» Даниила-игумена… Иноземные послы, купцы, монахи привозили в белокаменную всевозможные книги, были среди них, хотя редко, и печатные. Образованные люди, разумеется, понимали, что Москве надо осваивать типографское дело, распространившееся в Европе. Ученый-монах Максим Грек любил рассказывать, как он в юности дружил со знаменитым типографом — издателем книг в Венеции Альдом Мануцием, чьи издания малого формата расходились по всему миру. В Венеции, рассказывал Максим Грек, печатались книги на многих языках, иногда и на славянском. Почему бы Москве не попытаться наладить новое дело? Первоначально несколько книг было выпущено безымянно, это была, видимо, проба сил — что получится. Когда же надумали, — наверное, по совету Макария, — завести в Москве Печатную избу, то новое и трудное дело поручили Ивану Федорову. Никто не удивился такому выбору, ибо про людей, подобных первопечатнику, в Москве говорили, что они своей жизнью и работой украшают стольный град. Был Иван Федоров дьяконом церкви Николы Гостунского в Кремле, то есть принадлежал к наиболее просвещенной части тогдашнего общества. Ему-то и суждено было стать основателем книгопечатания в Москве, а потом сделать это же и на далекой «окраинной», то есть украинской, стороне. Правда, не будем забывать — первые опыты печати были в Москве произведены в так называемой Анонимной типографии.
Много лет ждал Иван этого дня. О нем мечтал, когда при свете лучины срисовывал долгими зимними ночами затейливые буквы — одна краше другой — со старых рукописных книг. Каких только книг он не насмотрелся! Недаром деды любили говорить, что книжное слово в жемчугах ходит. День этот виделся, когда резал Иван гравюры на доске, отливал литеры — буквы из металла, мастерил из дерева печатный станок самого простого устройства: давило да выдвижная доска, на которой помещалась рама с набором — текстом. Когда нажимали рычаг, то давило опускалось на раму с набором, покрытым краской. На влажной бумаге, положенной между давилом и набором, получался оттиск. Бери его в руки и любуйся — не хуже, чем у печатников далекой Черногории, где давно уже наладили выпуск славянских книг.
В голубизне весеннего неба сияли маковки кремлевских соборов и теремов. За Неглинной, над проталинами, звенели жаворонки. В избе пахло оловом и свинцом — много недель пришлось потрудиться над отливкой литер. Когда их оттискивали на бумаге, то они не отличались от тех, что писались рукой. Много труда ушло на изготовление разнообразнейших заставок, рисунков. Рисунки изображали и кедровые шишки, и виноградную листву, маковые головки, стручки, диковинные плоды ананасы.
Взял Иван Федоров чистый лист, оттиснул на нем узор, вырезанный на доске и смазанный черной краской. Оттиснул все, что надо было напечатать для красоты красной краской. Дальше шли буквы. Вот и готова первая страница! Иван Федоров внимательно просмотрел и прочел ее сам, дал прочитать лист Петру Мстиславцу, потом остальным помощникам, собравшимся в избе. Не успел первопечатник налюбоваться делом рук своих, как во дворе раздался шум. Все бросились к окну и увидели возле ворот всадника в собольей шапке, соскочившего с коня. Двор заполнили повозки, и в Печатную избу вошли митрополит и царь Иван Васильевич, опиравшийся на костяной посох. Остановились возле печатного станка. Иван Васильевич взял в руки свежий, еще пахнущий краской оттиск, долго держал его перед глазами и передал молча митрополиту.
Книга называлась «Апостол». Выглядела она внушительно и красиво, напоминала рукописную — по буквам, рисункам, заставкам, концовкам. Но она была уже не одна. Стопы книг, тщательно сложенные на столах, говорили о том, что «Апостол» отпечатан на станке. Каждая книга ничем не отличалась от другой. Будто сотня старательнейших писцов трудилась несколько лет. Примечательно и то, что во всем «Апостоле» еще никому не удалось найти ни одной опечатки. Думаю, что и впредь не отыщется ни одной ошибки — пример всем нам, как надо работать.
1564 год почитается началом московского книгопечатания, хотя, как уже говорилось, «Апостол» не был самым первым московским изданием. Но едва ли и анонимные московские книги были выпущены без участия Ивана Федорова.
Среди первопечатников, кроме Ивана Федорова и Петра Мстиславца, самым способным грамотеем и знающим дело человеком был Андроник Тимофеев. Его все уважали за быстроту, острый взгляд и смышленость. Прозвали же в шутку Невежей. Всем было известно о больших знаниях Андроника, и когда называли его Невежей, то все улыбались — шутка есть шутка. Пройдет несколько лет, и Андроник станет самостоятельным мастером, продолжит в Александровой слободе дело Ивана Федорова. Нелегко было, наверное, Андронику заниматься кропотливым набором — рядом сновали опричники, от которых добра ждать не приходилось. Но Андроник недаром был завзятым книгочеем. Он знал давнее изречение, которое печаталось на многих изданиях: «После мрака на свет уповают».
После выхода «Апостола» стал Иван Федоров со своими подручными готовить к изданию новую книгу. Но неспокойно было в Москве. Простой люд волновался, терпя притеснения со всех сторон.
Покровский собор в Москве. XVI в.
Печатная же изба стояла возле Кремля, и все, что происходило в Москве, касалось первопечатника и его помощников. Иван Федоров, наделенный умом, талантом и трудолюбием великим, верил, что книги его подобны золотым трубам. И возвестят они на четыре стороны света необходимость согласия и добра.
Работа первопечатника — дело совершенно новое. Когда был жив Макарий, лукавые языки помалкивали, зная, что митрополит не даст в обиду Ивана Федорова. А как умер он так и пошел гулять шепоток, что-де Печатная изба — дело не московское и к добру не приведет. Недруги давно бы к печатне подобрались, да боязно им было. А тут еще одно событие — царь повздорил с боярами и уехал из Москвы в Александрову слободу. Темными ночами жуткие мысли овладевали Иваном Федоровым. Казалось ему, что костром вспыхивают книги, а ведь ими одними он только и жив. Вспомнилось первопечатнику: читал он в древней повести, что в тяжкую пору надо быть мудрым, как змий, сильным, как лев, быстрым, как птица.
Стараясь не обращать внимания на то, что творилось в Кремле и на посаде, Иван Федоров продолжал свое дело, торопился. Друзьям же говорил: «Будь грамотен да памятен». Когда напечатали «Часовник», мастер даже поцеловал книгу и сказал: «Думал, не успеем закончить…».
Выглядел «Часовник» беднее, чем «Апостол», но все равно печатные буквы с гордостью сообщали: «Окончена эта книга подвигами и тщанием, трудами и снисканием…» Если «Апостол» выпускали год, то на «Часовник» ушло всего два месяца. По «Часовнику» учили тогда детей грамоте — буквари были только рукописными и достать их, купить было трудно и дорого. «Часовник» стал книгой для многих. Если раньше книга перемещалась по московским землям, как усталый путник-пешеход, то теперь она помчалась по городам и весям быстрым конем.
Помощники Ивана Федорова волновались. Да и было из-за чего! За новое дело боялись больше, чем за собственную жизнь: ведь если погибнут литеры, то прощай, печатня, ни одной страницы, ни одной строки не наберешь…
Молодой и дерзкий Андроник Невежа предлагал идти в Александрову слободу и искать защиты у царя. Но до слободы от Москвы почти пять дней пешего пути, да и какой прием там будет? И решил Иван Федоров с Петром Мстиславцем ехать в Литву, где жило много русских, украинцев, белорусов — все они нуждались в книжном свете. Там и спокойнее, и дело можно лучше наладить. Да и польза «всему будет великая».
На рассвете обошел Иван Федоров Кремль, постоял на Печатном дворе, простился с ним, как с родным домом. Не мог знать первопечатник, что видит кремлевские соборы, Никольскую улицу да и Москву-реку последний раз. В путь собирались тщательно. Уложили литеры, резные доски — все, что для дела необходимо.
Андроник Невежа решил все же переждать лихую годину в Москве, а там попытать счастье-удачу — пойти в Александрову слободу. Многое из своего типографского хозяйства Иван Федоров оставил Андронику.
В последние годы найдены интересные документы, проливающие свет на жизнь и работу Ивана Федорова в западных землях, где он с гордостью называл себя москвитином. «Друкарь книг, перед тем невиденных» пережил много приключений, но ему удалось и многое сделать. Иван Федоров, умерев на чужбине, вернулся в Москву двадцатого столетия, приняв образ бронзового памятника. Вот он стоит на пьедестале, внимательно рассматривая только что оттиснутый лист. Люди часто приносят к памятнику цветы. Ночью же тень скульптурного изображения, освещаемого прожектором, падает на окружающие стены, и Иван Федоров представляется живым, занятым своим вечным делом.
Дело, начатое первопечатником, не заглохло. Каждая третья книга, издаваемая в мире, выпускается в нашей стране. Москва — крупнейший книжный город. Днем и ночью работают линотипы, отливая строки книг.
Москва — столица СССР.
Издания друкаря — московские и украинские — ценятся, как величайшие сокровища. Наибольшим собранием федоровских книг обладает Государственная библиотека имени Ленина, Исторический музей, Музей Москвы, Государственный архив древних актов, а также некоторые коллекционеры. Недаром стремился Иван, как он сам говорил, «рассеивать духовные семена и всем по чину давать духовную пищу».
Если тебе, дорогой читатель, придется любоваться книгами первопечатника, обрати внимание на толстый фолиант — жемчужину в наследии Федорова. Наибольший успех выпал на долю этой книги, которая получила наименование Острожской библии. Она, появившаяся на свет в городе-замке Остроге, — самая знаменитая среди других первопечатных славянских книг. Лучшие библиотеки мира гордятся ею и ныне как чудом типографского искусства.
Вот лежит она на столе передо мной, напоминая парусник, переплывший океан. Волны времени оставили свои пометы на страницах, еще помнящих прикосновение рук друкаря. Чем же отличается от других федоровских книг Острожская библия? В нее первопечатник вложил все умение и мастерство. Всем взяла эта книга — и толщиной (в ней свыше шестисот листов!), и шрифтами, и заставками, и концовками, и разнообразными орнаментами-узорами… Книжник-англичанин, посмотрев Острожскую библию, воскликнул в восторге, что за один лист этой книги он бы отдал всю Англию! Книга действительно хороша. Недаром ее так прославляют в разных странах. Восторг современников понятен — никогда еще славянские книги не печатались с таким художественным мастерством. Только шрифтов было использовано шесть! Литеры красивые, мелкие, убористые.
Часть книг из Острога была послана в Москву, и, видимо, понравились они Ивану Грозному. Царь охотно дарил Острожскую библию знатным иностранцам. В течение последних нескольких лет Острожская библия попала в многочисленные славянские города-монастыри, а также в Рим, Париж и Гамбург.
Владельцы берегли ее как зеницу ока. Поэтому большое число книг дошло и до наших дней. И ныне великая книга своим внушительным видом славит дело друкаря — типографа.
Эпилог, повествующий об истоках
Словенский язык и русский едино есть.
Из летописи.Вместе с читателем мы совершили путешествие по векам и пространствам отечественной культуры и письменности. Это путешествие не было бы возможно без известных условий, обстоятельств, средств. Какое же из них самое первое? Конечно же, слово, речь, те тридцать три заучиваемые каждым первоклассником буквы славянской азбуки, которые стоят в начале почти каждого человеческого общения, в том числе и книжного. Из тридцати с лишним крошечных семян родной речи произрастают неизмеримые леса и рощи, поля и луга русской письменности. Этим семенам обязано своим существованием наше Родословное Древо.
Великое чудо: тридцать три маленьких начертания — и громада многовековой культуры.
Не с подобным ли чудом знакомит нас древняя притча о горчичном зерне, из которого, несмотря на его малость, вырастает целое древо, так что и птицы небесные поселяются в его ветвях?..
Сколько существует рассказов о найденных кладах, чей блеск ослеплял, как золото в пещере Аладдина! В детстве я сам искал сокровища, спрятанные под Костромой во время Смуты на берегу озера Святого, под старым дубом. Бывают находки, которые заставляют мир волноваться. Всегда любопытно узнать, что найден клад золотых да серебряных монет, что лопата ударилась о драгоценные браслеты.
Глиняный горшок — что в нем? Надо ли радоваться, что извлекли его из земли? Почему же горят взоры и люди осторожно прикасаются к глиняной поверхности, словно это невесть какая драгоценность?
Расскажу по порядку. Есть под старым Смоленском, стоящим у Днепра на давнем водном пути «из варяг в греки», вереница курганов, насыпанных в X–XI столетиях. Долго считали, что в Гнездове хоронили воинов варяги — воинственные пришельцы из Скандинавии. Когда же заступ ученого разбросал исторический слой, то стало очевидно — жили и погребали в Гнездове кривичи — многочисленное славянское племя. Кольца, шлемы, серебряные оковки питьевых рогов, посуда — все сделано умелыми руками кривичей…
Среди мечей, стрел и топоров попадались и варяжские, но полновластными хозяевами бывали тут и восточные славяне.
В послевоенную пору извлекли из земли корчагу — глиняный сосуд с двумя ручками, неплохо сохранившийся, хотя и надтреснутый в нескольких местах. Возраст корчаги был почтенный — без малого тысяча лет. Находились в курганах вещи старее. Но кувшин оказался небезгласным — было из-за чего разволноваться ученым! Их зоркий глаз вмиг прочел четкую надпись, гласящую: «Гороухша» или (было и такое прочтение) «Горушна». Старое славянское слово, означающее горчичное семя или зерна, горькую пряность. По начертанию букв и по возрасту горшка видно, что перед нами древнейшая славянская надпись. Старше ее еще найти не удавалось…
Гнездовская корчага для всех нас дороже золотой. Она была сделана в начале X века. Знаменитая славянская надпись в Добрудже относится к 40-м годам, а надпись болгарского царя Самуила — конец X столетия.
Откуда научился горшечник буквам — письму?
«Письмо» и «книга» звучат одинаково и теперь на любом славянском языке. Общими же бывают наиболее старые слова. Сотни лет письмо и книга сопутствуют человеку, как хлеб и вода.
Рождение славянской азбуки неотделимо от имен Константина (Кирилла) и Мефодия, братьев из Солуни, как славяне называли греческий город Фессалоники, входивший в состав Византийской империи. В Фессалониках в X веке, да и позднее преобладало славянское население. Солунский говор — веточка древнеболгарского языка. «Ведь вы оба — солуняне, — говорил византийский император, обращаясь к братьям, — а солуняне все хорошо говорят по-славянски». Есть споры о национальности братьев, но Древняя Русь, как и Болгария, всегда их считала болгарами. Кирилл — имя позднее, принятое перед смертью — был такой обычай. Родная Солунь, а затем и Царьград знали его как Константина. Семья была знатного происхождения, отец Кирилла и Мефодия — Лев, «друнгарий под стратигом», помощник военачальника Солуни, второго по величине города Византии.
Мефодий был старшим и с нежным уважением и редкостной любовью относился к младшему по возрасту Константину, отличавшемуся с детства способностями, прилежанием, скромностью, терпением. Для продолжения образования Константин приехал в Царьград, где изучал грамматику, философские науки, богословие, геометрию, риторику, арифметику… Он, имея приятный голос, обладал певческими способностями, умел убедительно и красноречиво вести научный спор. Кроме родного славянского языка, он знал греческий, читал Гомера и античных философов в подлиннике. Свободно владел латинским, арабским, еврейским, знал книги на этих языках. Перед молодым человеком в роскошной византийской столице лежало множество дорог, но он предпочел скромную должность библиотекаря и преподавателя философии. В ту пору, очевидно, и возникло прозвище, ставшее фамилией, — Философ.
Царьград был многолюдным, многоязычным городом, украшенным прекрасными зданиями, площадями, садами. На праздничные торжества-церемонии, отличавшиеся пышностью, приезжали послы со всего мира. Но Кирилл Философ сладостные часы проводил в библиотечной тиши, изучая бесчисленные рукописи, имевшиеся в его распоряжении. С юных лет книжная мудрость влекла его к себе, как магнит. Мудрость Кирилла, знание, душевный такт привлекали к себе многих. Для бесед приглашали его к себе и византийский император Михаил III, и патриарх Фотий, в чьих руках сосредотачивалась светская и духовная власть.
Изредка корабли, прибывающие в бухту Золотой Рог, привозили вести от Мефодия, который сначала занимал высокий пост в Македонии, а затем удалился в монастырь в Малой Азии, посвятив себя полностью изучению книг. Но братьям недолго пришлось вести тихую жизнь, общаясь со старыми рукописями.
Царьград (Константинополь) был столицей огромной страны, терзаемой жестокими распрями, внешними и внутренними недругами. Религиозные споры перерастали даже в вооруженные столкновения, когда в ход шли мечи. Кирилл Философ — наиболее проницательный ум Византии — не мог стоять в стороне от клокочущего мира. Философ хотел словом вразумить людей. Ездил по поручению патриарха в Сирию, где спорил с арабскими мудрецами. А потом ему выпало на долю путешествие в Херсонес. Стены этого города заставляли вспомнить легендарную Трою или библейский город Иерихон. Более всего поразили Кирилла Философа надписи на памятниках, посвященных ушедшим. В них красота греческой речи состязалась с добросердечием и певучестью речи славянской.
Пришел однажды человек, «глаголющий русским языком». Убедившись, что Философ его понимает, человек показал посланцу Царьграда книги, написанные «русскими письменами». Никто не может до сих пор сказать, что это были за письмена. Догадки строятся самые различные. Чаще всего полагают, что, наверное, русские слова были написаны греческими буквами.
В 862 году из Великой Моравии и княжества Паннонии прибыло посольство. Славяне, жившие в селениях по травянистым берегам Эльбы (славянская Лаба), Влтавы и Моравы, слезно просили Константинополь прислать им проповедников, которые знали бы славянский язык. Им тягостны и докучны были назидательные речи на немецком или латинском — ведь простые люди их не понимали. Приехавшие из Моравии говорили от имени тех, чьими посланниками они были:
— Мы, славяне, простая чадь…
В старом жизнеописании с гордостью рассказывается, что царь Михаил торжественно пригласил ученого мужа Кирилла и, подчеркнув, что в нем заключены «дары мнози», сказал ему:
— Слышишь ли, Философ, речь сию, никто, кроме тебя, славянам не может помочь.
Кирилл потребовал, чтобы вместе с ним в славянские земли, не просвещенные учением, послали и его брата Мефодия. Знал Философ, что многие тяготы и трудности ждут их на пути. И не скрыл ученый своей заветной мечты — создать азбуку для славян, чтобы каждый мог ее понимать. В ушах Кирилла звучали болгарские песни, которые в детстве слышал он в Солуни. Подобные им потом он слышал только тогда, когда ехал через скифские степи.
В староболгарском книжном памятнике, написанном, правда, спустя много лет после событий, рассказывается, как Кирилл Философ со своими содругами приехал в окрестности на реке Брегальнице, где жило славянское, по преимуществу болгарское, население. Здесь Кирилл не только начал свои проповеди, но совершал основное: «И создадим буквы на славянском языке».
На создание славянской азбуки, построенной с использованием греческого алфавита, несомненно, надо было потратить многие годы. Некоторые буквы Кирилл взял из греческого и других алфавитов, некоторые придумал сам.
Азбука — великий шаг, но первый.
Каждый народ нуждается в своей письменности, литературе.
Кирилл и Мефодий начали переводить рукописи на славянский язык, основывая тем самым новую книжность. Об этом в старину повествовалось с нескрываемым восторгом: «И отверзлись уши глухих для услышания слов книжных и ясен стал язык». Перевод — новое и неожиданное дело. Сохранилось предание, что первая фраза, переведенная Кириллом, гласила: «В начале было слово…» Еще долго в Европе богослужебные книги читались преимущественно на латыни и греческом. Во Франции и Германии стали переводить Библию в XVI столетии.
Во всех славянских землях появились книги, переписанные старательными учениками Кирилла и Мефодия. Каждая буква напоминала людям о братьях из Солуни.
Малолетний ученик чертил первые в своей жизни аз и буки и этим продолжал дело, начатое Первоучителями.
В средние века, когда хотели воздать высшую хвалу человеку, то его канонизировали, то есть объявляли святым. Первыми из славян этой чести удостоились Кирилл и Мефодий. О них было сложено множество песнопений, сказаний, легенд.
Древняя Русь чтила подвиг просветителей Кирилла и Мефодия. О них подробно рассказывала начальная русская летопись «Повесть временных лет».
Когда в XVI веке в Москве составлялись Четьи-Минеи — чтения на каждый день, то в эту «библиотеку для всех» было включено жизнеописание солунских братьев. Если тебе, читатель, доведется побывать в Праге и ты, конечно, перейдешь Влтаву через знаменитый Карлов мост, то увидишь скульптурные изображения Кирилла и Мефодия — этих славянских Прометеев, принесших на нашу землю огонь просвещения.
Каждый год 24 мая София и другие города Болгарии отмечают День болгарского просвещения и культуры, славянской письменности и печати.
С особой силой звучат в сияющий день мая пророческие слова, сказанные на заре словесности Кириллом Философом:
— Разве не светит солнце одинаково для всех!
От Адриатического моря до Карпат, от Карпат до Урала, от Урала до берегов Тихого океана распространились буквы, начертанные солунскими братьями. Славянское слово можно услышать в апельсиновых рощах возле Дубровника, на острове в Ледовитом океане, на Дунае, Днепре, Припяти, на берегах Байкала. Не перечислить богатств славянской речи, поэтическую ниву которой возделывали Пушкин и Вазов, Толстой и Иво Андрич, Шевченко и Якуб Колас, Гоголь и Каравелов, Рыльский и Твардовский, Леонов и Шолохов… А песни Черногории, болгарские исторические предания, украинские думы, белорусские предания, сибирские сказки — все это наше общее славянское письменное богатство.
* * *
Многое можно увидеть в исторических далях, если посмотреть на живую древнюю Русь из-под ладони, неторопливо и внимательно. Путешествие наше будет еще продолжаться и продолжаться, как с каждым новым поколением продолжается жизнь.
В путь, дорогой мой читатель.
Примечания
1
Примеры текста «Слова» приводятся в разных переводах, в том числе авторском.
(обратно)2
Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. М., 1963, т. 1, с. 59.
(обратно)3
Грабарь И. О древнерусском искусстве. М., 1966, с. 196–198.
(обратно)4
Лебедев В. Вятские записки. Л., 1933. с. 33.
(обратно)


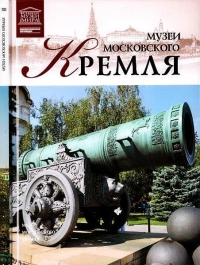
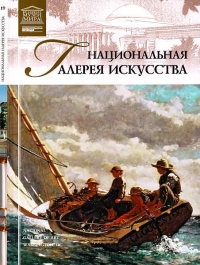

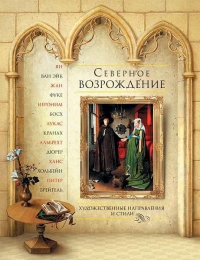


Комментарии к книге «Живая древняя Русь. Книга для учащихся», Евгений Иванович Осетров
Всего 0 комментариев