Уильям Моррис Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма
Редакционная коллегия
Председатель М. Ф. Овсянников
В. Ф. Асмус, А. Ф. Лосев, М. А. Лифшиц, А. А. Аникст, К. М. Долгов, А. Я. Зись, В. П. Шестаков
Составитель: А. А. Аникст
Перевод: В. А. Смирнова, Е. В. Корниловой
Комментарии: Р. Ф. Усмановой
У. Моррис и проблемы художественной культуры
...Помимо желания создавать красивые вещи основной страстью моей жизни была я есть ненависть к современной цивилизации.
Уильям Моррис, Как я стал социалистомМоррису было уже за сорок, когда он прочел первую из своих лекций об искусстве. К тому времени он был известным поэтом, главой знаменитой фирмы прикладных искусств и ремесел, непревзойденным знатоком готической архитектуры и древностей, ученым переводчиком исландских саг, автором манифеста против англо-русской войны, обнаружившего в нем темперамент политического трибуна.
Говоря строго, он не был теоретиком и — еще менее того — философом искусства. Систематическое, усидчивое оперирование абстракциями, остраненное рассечение предмета исследования, выводы, от которых ничего не убавишь, ибо они верны и корректны, — все эти атрибуты «строгой научности», эти профессиональные границы ученых — чужды и тесны гению Морриса. Он писал: «Такие мысли были явно мрачны, и если говорить обо мне, как о личности, а не как о некоем типе, то они были особенно тягостны для человека моего склада, равнодушного к метафизике и религии и к научному анализу, но испытывающего глубокую любовь к земле и земной жизни и страстный интерес к былой истории человечества».
Чувство, страсть в нем — натуре художнической — преобладают. Он был прежде всего на редкость удачливым мастером, его одухотворенная воля рождала естественные сцепления с любым материалом, соответствующим в данный момент ее намерениям, — будь то слово, краски, дерево, камень, шерсть, глина или металл. «Неосознанное мастерство» (термин самого Морриса), почти инстинктивное умение простого кустаря, сросшееся с умом, памятью, воображением, которое — в руках, в пальцах, — всегда были для него ценнее, изначальнее как в искусстве, так и в жизни, чем додуманность отвлеченного знания. В труде человека продолжают жить и развиваться силы природы. Материальное созидание — и именно собственными руками — вот, согласно непреложному убеждению Морриса, счастливая судьба каждого человека на земле.
На склоне лет, в лекции о живописи прерафаэлитов, которой он отдал дань в юности, Моррис четко обозначил хорошо знакомую ему парадоксальную ситуацию: «...когда люди больше всего рассуждают о произведениях искусства, то, вообще говоря, в этот период они меньше всего создают в искусстве». Собственная эпоха, викторианская Англия, представлялась Моррису крайне неблагоприятной для художеств. И вот именно отчуждение людей цивилизации от красоты, оскорблявшее его ежедневно и ежечасно, невероятные трудности, которые возникают перед художником, если он жаждет творить не музейные шедевры, а самое жизнь сделать под стать искусству, вынудили Морриса выступить с проповедью о необходимости сближения искусства и жизни.
Когда вспоминаешь почти невероятную многогранность деятельности Морриса, неисчерпаемость его духовной энергии, непосредственность его эмоциональных реакций на дела мира сего, открытость души миру, природе, истории, сразу приходит на ум сравнение с титанами Возрождения. И, разумеется, такие аналогии достаточно часто встречаются в обширной литературе о нём. Но, в сущности, они — не более чем фраза. И, как всякая поверхностная фраза, не столько обнаруживают глубинную природу явления, а затемняют ее. Многогранность деятельности Морриса явилась результатом не гармонии, а разлада с окружающей социальной реальностью. Не радостный и самоутверждающий дух художников Возрождения, а меланхолия и туманность романтизма XIX века — атмосфера, в которую погружен Моррис. Не случайно Возрождение оказалось эпохой в искусстве, менее всего ему близкой.
Универсальность замыслов и желаний Морриса, своего рода пантеизм его душевного настроя не находили удовлетворяющего выхода ни в одном из избиравшихся им родов деятельности. Буржуазная цивилизация представлялась ему крепостной стеной, о которую разбиваются самые светлые надежды. Чем бы он ни занялся, результат оказывался гораздо уже поставленной задачи. При этом не поражение, а именно успех особенно обескураживал. Чем более модной фигурой он становился, тем он был несчастнее. Ему недоставало людского понимания. И именно понимания хотел он добиться своими теоретическими работами.
Поэтому они мало схожи с трактатами и монографиями по эстетике. Если читатель подойдет к ним с привычными мерками подобного жанра, его постигнет разочарование. Ибо они, скорее, напоминают финал Девятой симфонии Бетховена, где драматическое противоборство музыкальных мотивов на точке своего высшего напряжения переходит в слово. Как и там, отчетливо артикулированное слово восхваляет радость и взывает к единению человечества в радости. Как и там, этот зов производит в нас скорее эстетическое волнение, чем уверенность в возможности его жизненной реализации.
Лекции Морриса об искусстве, как и статьи, — в сущности, и не лекции и не статьи вовсе, а проповеди. Он не ведет своих терпеливых слушателей по каменистому пути познания с тем, чтобы в конце вознаградить их сиянием объективной истины. Для этого он сам слишком нетерпелив. Истина для него как бы дана заранее. Она самоочевидна, как гармоничный ландшафт, радостна, как свежий воздух, и потому не нуждается в дискурсивных доказательствах. Мудрость, которую он хочет сделать достоянием людей, — не самоцель. Это скорее мудрость чувства, чем саморефлектирующего разума. Люди должны всей глубиной своего существа почувствовать, какой дрянной, безобразной, унизительной жизнью они живут. Ведь кажется, так легко это почувствовать, если вспомнить, в чем состоят подлинные удовольствия бытия человека на земле. «Сам я так тяжко страдаю из-за того, что труд перестал быть наслаждением, что не нахожу никакого иного средства, кроме возбуждения недовольства». «Нам следует превратить страну из прокопченного задворья мастерской в цветущий сад. Если некоторым это покажется трудным или даже невозможным, я ничего не могу с этим поделать. Я знаю только, что это необходимо».
Не как ученый, а как художник, как поэт Моррис постоянно остается в интимной близости со своей аудиторией. Он должен быть уверен, что хотя бы отчасти, хотя бы смутно она родственна ему по духу. Ибо он щедро выплескивает в нее свой темперамент, веру и энтузиазм. Главный, сильнейший аргумент его — искренность. Он говорит то вежливо и мягко, то бросает резкости, то извиняется за них. Местоимения «я» и «вы», непривычные для теоретических работ, пестрят на страницах его лекций и статей.
Постоянно Моррис силится предугадать различные токи умонастроений своей аудитории. Как глыбу холодного камня, раскалывает он ее на куски, стараясь до предела воспользоваться ее естественной структурой. И каждая выделенная часть выявляется в своей характерности, жаждой сообщается стимул дальнейшего движения: тут друзья и единомышленники, которых надо поддержать, тут сомневающиеся и «попутчики», которых нужно воодушевить, тут заведомо не сочувствующие и потому враги, которых надо оставить хотя бы с нечистой совестью. Иными словами, и при своем выходе в сферы теории Моррис остается все тем же прекрасным мастером, чувствующим свой материал, наслаждающимся своей слитностью с ним, одолевающим его сопротивление.
Но на сей раз мастерской оказывается широкий мир буржуазной цивилизации, а непосредственным материалом — умы и сердца современников. Поэтому Моррис — в духе своих романтических стихов — ощущает себя еще и капитаном, поднимающим солдат на последний, решительный штурм вражеского редута цивилизации. Не только собственная жизнь, но и счастье потомков постоянно ставятся на карту в теоретических сочинениях Морриса. Он предупреждает, что есть только один путь — отчаянная борьба и победа. Иначе все человечество окажется загнанным в рабство, погрузится на веки вечные в бездну убожества, уродства, бесчестия, невежества и духовной деградации. И тогда одежда людей лишится украшений, «хотя моль, которая будет ее разъедать, будет все так же сиять краской серебра и перламутра».
Напрасно искать логической последовательности в рассуждениях Морриса. Напрасно ожидать, что каждая работа своим заголовком четко определяет предмет, который будет подлежать разбору. Мысль тоже движется чувством, прорывается верой, надеждой, гневом, опасениями, перемежается лирическими картинами природы, гротескными изображениями уродства современных городов, мастерски нарисованными историческими эпизодами, воспоминаниями собственных житейских впечатлений. Иногда высказанная идея поражает почти откровенной ясностью, иногда ошарашивает произвольностью и неубедительностью. Одни и те же темы, тезисы, примеры переходят из работы в работу. И все же в разном контексте, при разной эмоциональной окраске они обретают новые грани смысла.
Вероятно, многое в суждениях Морриса покажется современному читателю, насыщенному жестким опытом XX столетия, излишне наивным и даже простодушным. Но зато он по-новому сможет оценить человеческую последовательность этого писателя, деятельностью своей утверждающего нерасторжимость мысли и чувства, чувства и действия. Он, современный читатель, хорошо осведомлен о том, что это значит и чего это стоит, когда слово есть непосредственно поступок.
Судьбы многообразного духовного наследия Морриса парадоксальны. Его поэзия, живопись, графика и произведения декоративно-прикладные представляются старомодными не только в смысле принадлежности к отошедшим вкусам XIX столетия, но еще и архаизированными нарочитыми реминисценциями античности, средневековья и Востока. Но даже в самоновейших роскошно иллюстрированных наставлениях, как обставить интерьер современной квартиры, сугубые практики этого дела не могут обойтись без ссылок на Морриса. В какой-то мере это относится и к его теоретическим работам, которые как в фокусе собрали драматические коллизии его жизни, творчества и борьбы. Но можно согласиться с историком архитектуры Николаем Певзнером: «Моррис-художник в конечном счете не был в силах выйти за границы своего столетия; Моррис — человек и мыслитель это сделал»[1]. Певзнер подразумевал, в сущности, лишь значение личного примера Морриса как дизайнера и роль его идей в развитии современного дизайна и архитектуры. Но, думается, наследие Морриса — человека и мыслителя далеко перехлестывает эти профессиональные границы.
Издатель переписки Морриса Филип Гендерсон писал о нем: «Как и у многих реформаторов, возмущение страданием и несправедливостью было у Морриса не столько личным переживанием, сколько идеологической и социальной реакцией. Страдание индивидов иногда вызывало в нем бессилие, тогда как вид распиливаемого дерева или плохо реставрированной готической церкви он воспринимал как оскорбление человечества»[2]. Надо бы добавить, что в основе этих «идеологических и социальных реакций» лежало обостренное, почти болезненное — ибо было постоянно оскорбляемо — чувство красоты. Через неуклонное стремление к прекрасному дух Морриса во всех его движениях поднимался до универсальности, всечеловечности. В этом была его сила, но и практическая уязвимость. Его деятельность постоянно сплетается из элементов эстетической утопии, которые, кажется, в каждый момент готовы быть воплощены а жизнь. Эстетическая утопия стала как бы его натурой, срослась с его личностью, пробудила в нем неисчерпаемую жизненную активность и не позволяла делать никаких уступок практическим препонам, пасовать перед реальными неудачами.
Вот этот-то разрыв между гармонической завершенностью эстетических идеалов Морриса и трудностями их конечной практической реализации и послужил, вероятно, причиной того, что именно теоретические выступления остались самой живой частью его наследия. Его стихи и художественные произведения показывают, что он смог; а его лекции и статьи — чего хотел.
Ключ к пониманию его теоретического наследия — в нем как человеке и художнике.
В апреле 1859 года, на двадцать пятом году жизни, Моррис женился на девятнадцатилетней Джейн Барден. Казалось бы, это, как говорится, факт его личной биографии. Но для Морриса, как и все почти в его личной жизни, это было нечто значительно большее. Во-первых, Джейн Барден была любимой моделью для женских персонажей картин прерафаэлитов, а живая человеческая модель имела для живописца этой школы гораздо более насыщенный смысл, чем обычно. Джейн не могла не представляться Моррису прямым и полным воплощением его поэтических грез, именно прямым и полным — примерно так, как готовое произведение соответствует замыслу гениальнейшего художника. Кроме того, женитьба стала для Морриса поводом, чтобы заняться постройкой дома для себя, семьи и друзей — знаменитого «Ред Хауза», оказавшегося поворотным пунктом в истории европейской архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Добиться полного тождества собственной реальной жизни, ее человеческих связей и предметного окружения с идеальным художественным замыслом, сделать искусство жизнью, а жизнь — искусством и этим бросить вызов своему веку — вот что, собственно, замыслил Моррис. Женитьбой своей он намеревался реализовать глубоко выношенную мировоззренческую и эстетическую программу.
«Ред Хауз», выстроенный в графстве Кент, был делом рук братства друзей-художников, соединившихся под лозунгом прерафаэлитской программы. Архитектором был Филип Уэбб, для которого с этой его работы началась слава. Школьный друг Морриса художник Бёрн-Джонс сделал изразцы для камина. Сам Моррис украсил стены деревянной резьбой. Тот же Филип Уэбб изготовил модели столового Стекла, металлических подсвечников и мебели. На помощь были призваны Данте Габриэль Россетти, Мэдокс Браун и другие. Бёрн-Джонс писал впоследствии, что Моррису удалось сделать свой дом «прекраснейшим местом на земле».
Дом этот действительно был для современников неожиданностью. Один из них вспоминал: «Глубокий красный цвет, резко покатые черепичные кровли, низкое широкое крыльцо с массивной дверью, сад вокруг, разделенный на множество газонов живыми изгородями из роз-эгатерий, диких роз и других видов цветов; с одной стороны зеленая аллея с лужайками для игры в мяч, с другой — фруктовый сад со старыми суковатыми фруктовыми деревьями, — все поразило меня своей живописностью и неповторимой оригинальностью»[3].
Тут многое оказалось победой искусства, но многое и трудно оценить сегодня по достоинству, так как с тех пор успело стать общезначимым и как бы само собою разумеющимся. Например, кирпичная кладка, не спрятанная под штукатуркой и лепниной, обнаружила и утвердила вновь первозданную простую красоту материала, что в век эпигонов ампира выглядело дерзкой выходкой против господствующего вкуса. Не случайно именно кирпич дал имя дому — «Ред Хауз» — «Красный Дом». Само здание своими пропорциями и планом напоминало обыкновенный английский дом времен королевы Анны, но в то же время отнюдь не было мертвой рабской копией. В нем сочетались изящество, легкость с незамысловатой простотой и тяжеловесностью основных членений. Тяжелое, поддерживаемое столбами крыльцо с массивной дверью (скорее — порталом) умерялось ажурностью оконных проемов. В нем была новая, творчески освоенная идея простоты и целесообразности, приуроченной к потребностям делового уклада жизни хозяев. Гостиные, столовая, буфетная и т. д. — комнаты, предназначенные для общения и досуга, — соседствовали с мастерскими. Здание неожиданно легко входило в окружающий пейзаж, составляя с ним одно целое. В интерьере было убрано все лишнее, показное, «роскошное». Естественная красота материалов, ясная конструкция предметных форм утверждались в каждой вещи, входившей в обстановку этого прекрасного жилища. В нем была найдена та согласованность изощренной поэтической мечты с практицизмом и здравостью, которая не раз отстаивалась Моррисом в его теоретических выступлениях.
Довольно скоро Моррис навсегда покинул «Ред Хауз». Да и отношения его с Джейн Барден сложились в дальнейшем, судя по всему, не идеально. Для него достигнутый успех выглядел почти поражением. Ибо ему удалось создать лишь замкнутый мирок красоты, а такой миниатюрный масштаб не мог его удовлетворить, успокоить. Не отделиться от мира, а слиться с миром он хотел. Впоследствии он скажет: «... человек, создающий красивые вещи, должен жить в красивом окружении». Увы, за стенами «Ред Хауза» окружение оставляло желать много Лучшего. Идея красивого окружения с непреложной последовательностью влекла Морриса на арену широкой общественной деятельности. Вместе с тем его творчество вступало в новую, высшую фазу.
Но прежде чем говорить об этом, надо вспомнить пройденный им к моменту постройки «Ред Хауза» житейский и духовный путь. Достигнутый результат, который нам теперь известен, будет способствовать верной оценке ступеней, ведших к нему.
Биографы обычно начинают повествование о его жизни с того, что рассказывал он сам в 1883 году (год вступления его в Социалистическую федерацию) в письме к австрийскому социалисту Андреасу Шою. Родился он 24 марта 1834 года в пригороде Лондона Уолтемстоу на опушке Эппингского леса. Впоследствии он оказался свидетелем, как это, по его словам, «привлекательное место» было урбанизировано и «заглушено строителями-спекулянтами». Теперь Уолтемстоу — просто один из районов Лондона. Но тогда, в дни детства Морриса, это был прекрасный уголок старой сельской Англии.
Страсть к чтению пробудилась у мальчика очень рано, и он сразу погрузился в атмосферу романтической литературы, которая к тому времени прошла уже в Англии кульминационную точку своего развития (Байрон, Шелли, Китс умерли примерно за десять лет до рождения Морриса). Разумеется, его кумиром стал Вальтер Скотт. Разумеется, он, как и многие его сверстники последующих времен, отдал дань играм в храбрых и добродетельных рыцарей с их будоражащими фантазию латами, оружием и турнирами.
Но у Морриса эта детская непосредственная привязанность к окутанному романтикой прошлому осталась навсегда. Его друг Бёрн-Джонс вспоминает забавную сценку, которую он случайно подглядел, когда в 1857 году братство художников-прерафаэлитов было занято фресковыми росписями здания Оксфордского союза. (Друзья вообще любили подшучивать над Моррисом — «Топси», как они его прозвали. Энтузиазм его, особенно в юные годы, действительно, часто был забавен.) Сюжеты росписей были взята из средневековой истории и легенд. И художникам приходилось подбирать, а иногда я делать заново для своих персонажей одежду и другие аксессуары соответствующих времен. Моррис — непревзойденный знаток такого реквизита — специализировался по этой части. В сотрудничестве со знакомым кузнецом он с увлечением изготовлял оружие, латы, шлемы. Однажды он надел на себя только что сделанный шлем и, думая, что его никто не видит, предался невероятным телодвижениям, напоминавшим дикий танец, производя при этом ужасный шум гремящего железа. В этом же наряде он с удовольствием отобедал.
Природа и история с детства стали неизменной страстью Морриса. Годы, когда он в игрушечных латах скакал на своем пони по зарослям Эппингского леса, воспитали в нем не только единодушие с природой, но и ощущение природы как арены исторической жизни людей. Сознание, что вот под этим же небом, среди этих же деревьев жили, трудились люди, которых уже нет, но которые близки и любимы, — важнейший составной элемент миросозерцания Морриса. Он воспринимал природу через призму истории. Ее неизменный ход — смена времен года, дня и ночи — преисполнялся для него волнующим смыслом, сочетался с движением человеческих поколений. Через природу ощущал он свою органическую связь с историей. История становилась чувственно зримой, осязаемой, родной.
Впоследствии к этому нерасторжимому союзу природы и истории прибавился третий компонент — архитектура. В лекции «Цели искусства» он вспоминал: «Около тридцати лет назад я впервые увидел город Руан, который в то время по своему внешнему облику все еще оставался фрагментом средних веков. Нельзя выразить словами, как заворожили меня красота, романтика и носившийся над ним дух былых времен. Оглядываясь на свою прошлую жизнь, я могу оказать, что видеть этот город было для меня самым большим наслаждением, какое я когда-либо испытал». Архитектура сливалась с природой. Она виделась Моррису как плод коллективных людских усилий, дополнявших и развивавших далее первозданную красоту земли. Выветренные, потемневшие от времени камни готических соборов говорили его сердцу столь же много, как долины, леса, реки и небо.
Архитектура сообщала истории наглядность чувственно воспринимаемого материала. Она влекла Морриса к самозабвенному изучению вообще всяких древностей, материальной культуры, прошлого, — как сказали бы мы сейчас. Дерево, медь, стекло, керамика, каллиграфия и графика средневековых рукописных книг — все то, что сохранило следы увлеченного и мастерского человеческого труда, — становятся миром, в который целиком погружены годы юности Морриса. Его сознание не только накапливает невероятное количество сведений по данному предмету, но и обретает ту интуицию, которая одухотворяет любую созерцаемую материальную вещь, для которой внятен язык формы, конструкции, цвета, фактуры.
Школа, по словам самого Морриса, ему «почти ничего не дала и почти ничему не научила». «Но она находилась в на редкость живописной местности, где было множество исторических памятников, и я с жадностью набросился на их изучение, а вместе и на все, что имело хоть некоторое отношение к истории; таким образом я узнал немало хорошего особенно потому, что в школе была хорошая библиотека». В Оксфорде, куда он прибыл в 1853 году для продолжения учебы, его тоже привлекает прежде всего средневековый облик города и библиотека с богатым собранием средневековых манускриптов.
Через много лет, когда Моррис приехал в Оксфорд вместе с социалистическим лидером Гайндманом, он поразил последнего широтой и непререкаемостью своей эрудиции в области медиевистики. Смотритель оксфордской библиотеки «Бодлиэн лайбрери» воспользовался присутствием Морриса, чтобы попросить его атрибутировать несколько средневековых рукописей. «Моррис... — рассказывает Гайндман, — беря их одну за другой, очень быстро, но тщательно рассматривал, поворачивал со всех сторон и, ставя на место, произносил: „такой-то и такой-то монастырь, дата такая-то и такая-то“, „такое-то аббатство, такого-то года“, пока не перебрал их все. Его решения тотчас же записывались. Казалось, что в сознании библиотекаря не возникает хотя бы малейшего сомнения, что суждение Морриса точно и окончательно. И хотя Моррис в том или ином случае колебался... в конечном счете его приговор звучал с крайней определенностью»[4]. Едва ли можно лучше охарактеризовать то богатство знания средневековый предметов, которое переросло у Морриса в безупречную интуицию.
Но, с другой стороны, если Моррис с ранних лет стал обладателем обостренного и взволнованного чутья относительно исторической одухотворенной, очеловеченной сущности вещей, то он был особенно незащищен и раним тем безобразием и хаосом предметного окружения, которые особенно характеризовали его время и его страну, Англию эпохи королевы Виктории. Ведь именно тогда, после десятилетий ожесточенной политической возни, безраздельную власть получил так называемый «средний класс», буржуазия. Англия вошла в период бурного промышленного развития, утвердившего ее приоритет во всем, что касалось (производства, торговли и прибыли. Англия стала «мастерской мира». Но это была грязная, неприбранная мастерская. «Средний класс» невиданно быстро богател, но при этом буквально пожирал те ценности, которые были столь дороги сердцу Морриса. На дорожающей земле английских городов целыми кварталами разрушались старинные здания— немые свидетели творческого гения прошлых поколений, — чтобы уступить место безобразным, но дешевым постройкам. Природа беспощадно расхищалась, вырубались леса, загрязнялись реки, воздух терял прозрачность, в нем носились клочья копоти. Не выдержав конкуренции с машинной индустрией, гибли последние остатки средневековых ремесел. Некогда искусные мастера, хранившие изощренные секреты ремесел, унаследованные ими от отцов и дедов, превращались в неквалифицированных рабочих, труд которых был до того примитивен, что их с успехом заменяли, едва обученные дети и женщины... Нуворишам из «среднего класса» было наплевать на народные традиции, на историю и природу. Вытаптывая и ломая все духовно ценное, они все подчиняли соображениям выгоды, жажде наживы.
Но к тому же викторианский «средний класс» был чванлив, самодоволен. Свою философию жизни он считал не только самой прибыльной, но и самой здравой, соответствующей истинной сущности человека и его назначению; на земле. Сделав из стремления к богатству и власти над себе Подобны ми религию, он религией и оправдывал свои жизненные принципы. Поэтому не было в истории Англии и, более ханжеской эпохи. Жестокость выдавалась за справедливость, хищничество — за ум, эксплуатация — за благодеяние. Безраздельно воцарявшиеся уродство и пошлость норовили выдать себя за новую, высшую красоту. В сущности, пренебрегая культурными и художественными ценностями прошлого, викторианская Англия рядом с кричащей нищетой своих рабочих кварталов выстраивала чопорные здания богачей, для которых заимствовались обеспложенные и обездуховленные мотивы самых разных эпох истории искусства. Наряду с беспощадным уничтожением старины Моррис вынужден был ежедневно созерцать гротескно холодные и вычурные пародии на свою самозабвенно любимую готику. Художественные принципы романтизма утвердились пока что лишь в литературе и поэзии, да и там то и дело опошлялись. Что касается архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства, то в них в годы юности Морриса господствовал выморочный академизм, выдававший себя за прямого наследника античной классики.
Когда Моррис был еще школьником, в 1851 году в Лондоне открылась Всемирная выставка, которую ее организаторы тотчас же нарекли Великой. «Средний класс» с пышностью и помпой демонстрировал перед всем миром свои достижения и гордился тем, что выставка подтверждала значение Лондона как столицы мировой промышленности. В предисловии к официальному каталогу выставки без излишней скромности было заявлено, что «такое событие, как эта выставка, не могло иметь места в иной период и, вероятно, у другого народа, кроме нашего»[5]. Супруг буржуазной королевы Виктории, не менее буржуазный принц-консорт Альберт, деятельно участвовавший в организации этого гала-спектакля, писал в специальном адресе: «Никто, уделявший хоть какое-нибудь внимание характерным чертам современной эпохи, не усомнился бы хоть на минуту, что мы живем в эпоху самого стремительного движения к осуществлению великой цели всей истории, к достижению единства человечества». В том же адресе принц-консорт Альберт с апломбом, едва ли вяжущимся с особой королевского дома, восхвалял «великий принцип разделения труда, который можно назвать движущей силой цивилизации»[6].
Конечно, Всемирная выставка 1851 года засвидетельствовала действительные достижения как английской, так и мировой индустрии. Но для эстетически развитого глаза она с разящей наглядностью показала и другое: головокружительное падение культуры производства, чувства формы, материала, конструкции, утрату естественной целесообразности изделий, утрату мудрой человеческой простоты. Аляповатые, вычурные экспонаты выставки буквально теряли облик и форму под тяжестью украшений. Изделия машинного производства, изготовленные по совершенно новой технологии, незаконно заимствовали свой декор от предметов старинного ручного ремесла. Изделия из одного материала заимствовали форму, присущую структуре другого материала. Иначе говоря, Всемирная выставка 1851 года неожиданно оказалась чудовищной коллекцией всего того, чего в сфере декоративно-прикладного искусства не должно быть. И нет лучшего способа проиллюстрировать величие Морриса, чем сопоставив предметы обстановки и архитектуру того же «Ред Хауза» с предметами и изделиями, которые так превозносились на выставке.
Но дело, разумеется, не в самой выставке, — она лишь собрала вместе и интенсивнейшим образом показала все уродства предметного облика цивилизации XIX века. Можно себе представить, учитывая сложившиеся вкусы Морриса, как он должен был страдать и как ненавидеть эту цивилизацию. Пока еще, в школьные и студенческие годы, он был далек от социальной и политической критики современного общества. Его энергическая реакция, его протест, его неприятие непосредственно вырастали из развитого художественного чутья, из столкновения с вещными ликами окружающей жизни.
И это тем более что сам Моррис по рождению и социальному статуту принадлежал к «среднему классу». Его отец был удачливым биржевым спекулянтом, оставившим семье внушительное состояние. Кстати сказать, это обстоятельство сыграло немаловажную роль во всей последующей деятельности Морриса, ибо позволяло ему не задумываться по поводу материальных средств каждый раз, когда он задевал какое-нибудь новое предприятие. Но, с другой стороны, богатство и не могло не претить ему, не могло не нести с собою драм и разочарований. И не только потому, что его мучили угрызения совести — жить за счет эксплуатации чужого труда чем дальше, тем больше было ему противно. И не только потому, что его ближайшие друзья оказывались иногда не столько искренни, сколько корыстолюбивы. Ему была чужда сама среда викторианских богатых людей, ее привычки, нравы, вкусы и верования. Не случайно сам Моррис замечал, что религию своих родителей — государственное пуританство — он «не принимал даже мальчиком».
Из сказанного можно было бы предположить, что Моррис уже в ранней юности сложился как человек, которому была уготована судьба выдающегося мастера декоративно-прикладного искусства или архитектора. На деле его духовное и творческое развитие пошло гораздо более кружным путем. Способность тонко чувствовать и понимать природное, предметное и архитектурное окружение человека, откликаться на красоту его и страдать от его безобразия на первых порах вскормило не стремление работать в этой области, а ненависть к викторианской цивилизации, жажду противопоставить ей иные духовные ценности.
Оксфорд во времена студенчества Морриса был центром аристократического по своей социальной природе движения за возрождение английского католичества. Мотивы его, в сущности, очень близки молодому Моррису. Это — напряженная привязанность к средневековью и болезненное неприятие новых общественных условий с их бескрылостью, практицизмом и вопиющей безвкусицей. И вот Моррис, натура явно атеистическая, увлекается католицизмом и готовит себя в священники. Сам он, вспоминая об этом, ставит в конце фразы три восклицательных знака. Но тогда, в Оксфорде, он мечтал употребить доставшийся ему но наследству капитал на основание нового монастыря.
В чем же дело? — Прежде всего, очевидно, его манит обрядово-ритуальная сторона католической церковной службы, сохранившая живые связи со средневековой традицией. Но не только это. Вселенская католическая церковь, и особенно католический монастырь, должна была представляться молодому Моррису братством людей, объединенных духовно, братством, опирающимся на народную в своей основе традицию, причем опять-таки уходящую своими корнями в историю, в средневековье. В сущности, увлечение Морриса католичеством свидетельствовало о том, что его интересы отнюдь не замыкались в профессиональных и специальных рамках задач художника или историка, а имели тенденцию перелиться в жизнь, в реальную социальную практику.
Но так или иначе увлечение Морриса религией было временным. Ибо после упоминавшейся уже поездки во Францию, когда Моррис и Бёрн-Джонс были потрясены готикой Руана, Амьена, Шартра, оба они решают посвятить свою жизнь искусству — и именно архитектуре. Здесь, между прочим, ярко обнаруживается еще одна существенная черта характера Морриса: он не следует призванию и таланту, которые у него сложились стихийно, а избирает то, что считает наиболее важным и решающим для разрешения актуальных задач времени. Принятое им радикальное решение было в данном случае особенно резким не только потому, что он отказался от предполагавшейся духовной карьеры, но и потому еще, что он был к тому времени и признанным — во всяком случае, среди друзей — поэтом.
Поэтический талант проявился в Моррисе сразу и энергически. Вот что рассказывает по этому поводу его тогдашний друг Кенон Диксон: «Однажды вечером пришли мы с Кромом Прайсом в Эксетер и нашли там Бёрн-Джонса. Не успели мы войти в комнату, как Бёрн-Джонс воскликнул: „Он большой поэт“. „Кто?“ — спросили мы. „Кто, Топси...“. Мы уселись и стали слушать Морриса, который читал свое первое стихотворение... Когда он его читал, я почувствовал, что это нечто такое, чего я никогда не слышал. Это была вещь совершенно новая... Когда я высказал свое восхищение, помню его замечание: „Прекрасно, если это поэзия, ее писать очень легко“. И с тех пор он приходил ко мне каждый день с новыми стихами»[7].
В 1858 году выходит первая книга Морриса «Защита Геневры», названная так по небольшой поэме, открывающей сборник стихов. Сюжеты этой первой книги Морриса-поэта были традиционно романтические — о рыцарях, их дамах и подвигах. В стихах Морриса исследователи единодушно признают влияние Китса. Но они звучали свежо и были оригинальны потому, что сочетали в себе вообще присущую Моррису изысканную декоративность с реализмом и здоровой свежестью деталей. Именно предметность, материальность изобразительной манеры отличают Морриса от его современника Теннисона, вместе с которым он представляет новый этап развития английской романтической поэзии.
В своем поэтическом творчестве — особенно раннем — Моррис опять-таки протягивает живую нить традиции. На сей раз — это живая, а не историческая традиция, вобравшая в себя самое денное, что создала художественная культура Англии в первую половину XIX века. Как уже говорилось, литература намного обогнала тогда изобразительные и пространственные искусства. Через нее Моррис накопил и сконденсировал запас художественного содержания и смысла, который затем перенес в иные сферы творчества.
Но мы видели уже, что сама по себе поэзия вскоре перестала удовлетворять Морриса. Стихия романтической лирики, в которую он погрузился, была слишком замкнута в себе. Она никак не была способна побороть вещественное уродство современной цивилизации. Скорее, наоборот, она так или иначе замыкалась в тесном кружке посвященной читающей публики, для ее воображения творила свои образы-грезы. Универсальный темперамент Морриса примириться с этим не мог. Собственно, сама поэзия его как бы стремилась отлиться в более вещные, зримые, осязаемые формы.
Окончательный выбор был сделан под влиянием встречи Бёрн-Джонса, а затем и Морриса с Данте Габриэлем Россетти и другими прерафаэлитами. Произошло это в январе 1856 года. Россетти, сам поэт и живописец, убедил оксфордских друзей, что есть одно достойное художника занятие — живопись. И вот снова Моррис с поразительной решительностью и безоглядностью принялся учиться искусству, которым никогда прежде не занимался.
Ко времени этой знаменательной встречи первоначальное содружество прерафаэлитов фактически распалось, их отчаянные бои с викторианской публикой за революцию вкуса окончились полупобедой, полупоражением. «Братство» образовалось еще в 1848 году. Его главным намерением была борьба против засилия академического искусства. Само название труппы, — «прерафаэлиты», — принятое молодыми художниками отчасти в шутку, отчасти всерьез, а отчасти чтобы подразнить публику, свидетельствовало о их стремлении возродить традиции живописи средневековых и ранних ренессансных художников, которые были затерты последующими веками маньеризма и академизма, видевшими своего предтечу и мэтра в Рафаэле. Напомним попутно, что неприязнь прерафаэлитов к искусству Высокого Ренессанса и последующих школ разделял на протяжении всей своей жизни и Моррис.
Родной брат Россетти — Майкл, который, за неумением писать картины, стал теоретиком «братства», так характеризовал его требования: «1) иметь гениальные идеи и выражать их; 2) изучать внимательно природу, чтобы уметь затем изображать ее; 3) сочувствовать всему и любить все, что ясно, точно, серьезно и глубоко прочувствовано в предшествовавшем искусстве, и отрицать все, что может быть в нем условного, самодовольного, напыщенного и рутинно-заученного; 4) наконец, и самое главное, — производить только вполне хорошие картины и статуи»[8].
Как и в других странах Европы, прерафаэлиты — тогда еще совсем молодые художники, вышедшие из Академии, — хотели в живописи естественности, простоты, ясности, верности природе. Однако на английской почве это движение получило несколько иной характер, чем, скажем, импрессионизм во Франции или передвижничество в России. Прерафаэлиты оставались романтиками. Идея простоты и верности природе воспринималась ими через призму истории, отдавала ностальгией по безвозвратно ушедшему прошлому. Они хотели писать так, как писали Фра Анджелико, Мантенья, ван Эйк. Ратуя за естественность живописи, они отнюдь не намеревались вводить в свою сюжетику современную им действительность в какой бы то ни было форме. Они, как типичные представители викторианской художественной элиты, ненавидели свою современность и считали ее во всех отношениях крайне далекой от природы, которую искали. Восстановить в правах красоту они считали возможным лишь через обращение к художественным и идейным традициям средневековья.
Во всех этих пунктах нетрудно видеть принципиальную близость позиции Морриса и прерафаэлитов еще до встречи его с Россетти. Точно так же у Морриса и Бёрн-Джонса совершенно независимо от прерафаэлитов сложилась идея организовать «братство» художников. Это родство и вместе с тем независимость особенно важно подчеркнуть, ибо вопрос о влиянии, оказанном на Морриса встречей с Россетти, является самым запутанным в литературе о нем. (В частности, в немногочисленных работах о Моррисе, вышедших в нашей стране, имеется тенденция отрицать всякую идейную связь Морриса с прерафаэлитами и резко противопоставлять его особенно Россетти, представляя последнего в самом неприглядном свете. В итоге многое утрачивается для понимания всей сложности творческих исканий самого Морриса, ибо он разделял не только убеждения прерафаэлитов, но и их заблуждения.
Прежде всего необходимо отметить явную литературность живописи прерафаэлитов, ибо их стремление к простоте и естественности, с одной стороны, и ориентация на средневековье, с другой стороны, не могли быть согласованы иначе как через пересказ в красках легенд и историй далекого прошлого. Собственно говоря, сама идея примата живописи по отношению к поэзии возникла у Россетти именно потому, что он не был удовлетворен изобразительными средствами романтической поэзии. Хотелось придать полюбившимся легендарным образам больше реальности, чтобы они не только витали в возбужденном стихами воображении, но и были видимы глазу, представали во всей достоверности естественного изображения. Художники этой школы старательно переводят на язык живописи образы Китса, Данте, Библии и т. д. В их исканиях остро переживается разрыв между идеальным миром романтики и миром реальным. Это, собственно, тот самый разрыв, от которого страдал и разрешения которого искал Моррис.
Но как этого добиться? — Выработавшиеся приемы прерафаэлитской живописной техники страдали несчастными несовместимостями. Легенду и романтику они пытались писать с натуры. Они позировали друг для друга, старательно и скрупулезно наряжаясь в различные исторические костюмы, подбирая и составляя вместе предметы исторической обстановки. Получался суховатый натурализм в сочетании с некоторой выспренностью и экзальтацией. «Это выглядело так, — очень точно пишет Томпсон, — будто человеческий дух увлекался во все более отдаленные области, но все еще боролся, чтобы остаться живым»[9].
Разумеется, лишь в очень приблизительных пределах можно говорить о единстве художников этого направления. Каждый был индивидуален, на каждом драматически противоречивая природа общих эстетических устремлений отразилась по-своему. Но, вероятно, именно Моррис и Россетти наиболее полно выражали несовместимые крайности прерафаэлитов. Россетти был индивидуалистом и мечтателем. Его живопись почти бесплотна и больше всего напоминает грезу, сон. Она преисполнена неизбывной тоски но утраченному миру идеального. В поздние годы своего творчества Россетти не случайно переходит от масла к акварели. Он более силен в цвете, нежели в форме и рисунке. Наоборот, в живописи Морриса всегда наличествует известный элемент брутальности. Его мечтательная «Геневра» помещена в интерьер, до отказа набитый полновесными вещными деталями. «Моя работа — воплощение снов», — упрямо заявлял Моррис в бытность свою живописцем-прерафаэлитом. Но акцент здесь все же явственно падает именно на «воплощение». Для Морриса прерафаэлитская живопись оказалась лишь необходимой промежуточной ступенью, переходом от поэзии к прикладному, предметному творчеству. Наоборот, Россетти суждено было стать провозвестником символизма и декаданса. «Моррис, таким образом, придал прерафаэлитизму новое направление — романтический медиевизм, который отличался от Россетти своим практическим, а не духовным акцентом... его задача состояла в переводе абстрактного идеала на язык жизненной обстановки... Россетти и Моррис представляют собою две стороны единого целого: интроспекция — против действия, чистый идеализм — против прикладного (или практического) идеализма, юность — против зрелости»[10].
Но все же в чем-то очень сокровенном и основополагающем в Моррисе навсегда сохранилось нечто роднящее его с Россетти, как и наоборот. Ведь не случайно Россетти, как и другие художники «братства», приняли деятельное участие в затее Морриса с постройкой «Ред Хауза». Эта попытка отнюдь не была чужда исходным устремлениям всех прерафаэлитов вместе. Напротив, она выявила самое здоровое и жизнеспособное в нем: желание совместить идеальное и реальное. Но специфическая — и счастливая — гениальность Морриса помогла ему выбраться из тупика прерафаэлитской живописи на широчайшие просторы декоративно-прикладного творчества, тогда как его товарищи — и то не все — смогли это сделать лишь отчасти.
Творческий путь Морриса впервые продемонстрировал плодотворность в иных художественных ситуациях выхода из рамок изобразительного творчества — в творчество прикладное. Впоследствии, например, аналогичный решительный шаг сделал Корбюзье относительно кубистической живописи. Постройка «Ред Хауза» открыла новую — и самую важную — главу творческой биографии Уильяма Морриса, реформатора современного ему искусства.
С одной стороны, убедительный художественный успех, достигнутый в «Ред Хаузе», а с другой — недовольство узостью этого успеха побудили Морриса придать делу новый размах. Он организует в 1861 году большое предприятие, которое именовалось «Фирма Моррис, Маршалл и Фокнер, художественные работы по живописи, резьбе, мебели и металлу». Он задался целью «реформировать все это», превратить всю страну в нечто подобное и достойное «Ред Хауза». Первый проспект фирмы (написанный, скорее всего, Россетти) самоуверенно предполагал предпринять работы «в любом виде декора, стенного и всякого другого, начиная с картин в собственном смысле до мельчайших изделий, восприимчивых к красоте»[11]. Мебель, керамика, металл, обои, ковры, витражи, цветные изразцы, набойка, декоративные ткани, вышивка, полиграфия — таков был масштаб задуманного предприятия.
Однако при всей грандиозности технических и художественных трудностей, которые должны были возникнуть при реализации такого замысла, здесь Моррису предстояло впервые столкнуться с препонами и совершенно иного порядка. Фактически он дерзнул на то, на что дотоле не осмеливался ни один художник: впрямую вторгнуться в практическую сферу жизни, иметь дело с производством, с конкуренцией, с торговлей. Он не только проклюнул ту эфемерную скорлупку, которая обычно отделяла художников — поэтов и живописцев — от чуждой им среды, в которой царили утилитарные и эгоистические интересы, но и решился предпринять наступательные действия против этой среды. Теперь не только эстетическое отвращение должно было стать результатом его контактов с ненавистной цивилизацией XIX века, но и знание ее собственных нравов и законов.
Первые шаги фирмы не радовали. Конкурирующие предприниматели и торговцы мешали ей вступить в контакты с потребителем. Не было заказов. Поэтому долгое время приходилось ограничиваться лишь изготовлением витражей в церквах, ибо и в этой области, которая вовсе не соответствовала провозглашенной широковещательной программе, нашлись люди, которые пытались строить против фирмы козни и придумывать коварные подвохи. Когда в 1862 году витражи фирмы были экспонированы на выставке, было заявлено, будто эти витражи — подделка. Лишь в 1867 году, то есть на шестом году своего существования, фирме удалось получить первый заказ на декорирование светского здания.
Но Моррис, на плечи которого легли обязанности администратора и директора, не отступил. Он упорно работал, обнаруживая неистощимый запас практической энергии. И к 1870 году грандиозный размах первоначального замысла был фактически реализован хотя бы в одном отношении: фирма имела мастерские, в которых осуществлялись все намеченные первоначально виды декоративно-прикладной работы. Разнообразные изделия фирмы не только получили опрос, но и стали оказывать существенное влияние на работу конкурирующих предприятий, которые старались подладиться под ее стиль. Пропагандируемые ею эстетические принципы входили в моду. Производство приносило все возраставшую прибыль.
Однако тут-то именно и обнаружилась принципиальная невыполнимость задачи.
Моррис был убежден, что возрождение декоративно-прикладных искусств может быть связано только с ручным трудом, обогащенным всеми навыками ремесленной традиции, восходящей к средневековью. Поскольку многие отрасли некогда процветавших ремесел почти или вовсе исчезли к его времени, он проделывал гигантскую работу по их изучению и восстановлению. В мастерских фирмы бок о бок с ним самим работали старые народные мастера, у которых он стремился перенять опыт. Иногда он отправлялся в дальние поездки, чтобы найти остатки какого-нибудь интересовавшего его производства. Например, он ездил в Лидс, чтобы разыскать там стариков, еще помнивших способы добычи натуральных красителей. Но в иных случаях опыт перенять было не у кого. И тогда Моррис собственными усилиями и экспериментами пытался открыть вновь секреты утраченного умения. Так было с тканьем ковров. Моррис поставил ручной ткацкий станок у себя в спальне и упражнялся до тех пор, пока не овладел этим сложнейшим и красивейшим из ремесел. Реконструкция навыков ручного труда в самом разгаре машинного века предполагала также разыскание и тщательное изучение старинных изделий и образцов. И Моррис был инициатором работы нескольких художественных музеев в этом направлении. Он стал величайшим ученым специалистом по декоративно-прикладным искусствам. Но, кроме того, он был и величайшим мастером. Необозримость этой стороны его деятельности едва ли поддается самому энергическому воображению. Не только теоретически, но и практически Моррис сам изучал данный материал, данную технологию, пока не овладевал одним ремеслом за другим. Томпсон приводит внушительный перечень производств, которыми Моррис в большей или меньшей мере владел как мастер. Это были обжиг стекла, глазировка черепицы, вышивка, резьба по дереву и граверное дело, гончарное и переплетное ремесла, ткачество и ковроткачество, иллюстрация книг.
Но вся сложность задачи возрождения ручного художественного труда даже этим не ограничивалась. В своей фирме Моррис работал как художник-дизайнер. Иначе говоря, он разрабатывал модели изделий, которые затем рабочие ручным способом переводили в материал и тиражировали. За все время этого рода работы Моррис собственноручно создал около шестисот таких моделей. Причем он не признавал практиковавшегося в его время разделения труда между художником и дизайнером. Поскольку художники не знали производства, а мастера, даже самые квалифицированные, не были способны к самостоятельному творчеству, то дело моделирования изделий сводилось к тому, что одни — художники — делали чертеж или набросок, а другие — мастера или дизайнеры — подгоняли его к материалу и технологии. Моррис стал первым дизайнером, который работал творчески, как художник. Богатейший духовный и художественный опыт он сочетал с умением рук. Это, считал он, необходимо, чтобы изделие получилось простым и естественным, чтобы оно избежало трафаретности, сухости и условности.
И все же организация работ в мастерских фирмы не была и не могла, конечно, быть простым слепком творческого труда средневекового мастера. Тот от начала до конца изготовлял изделие сам. Он не только безусловно сочетал в себе навыки художника и дизайнера, но был одновременно и рабочим, окончательно отделывавшим изделие. В мастерских фирмы функции художника-дизайнера и рабочего с неизбежностью должны были разделяться, ибо каждая модель воспроизводилась в достаточно большом количестве экземпляров. Иначе бы фирма оказалась попросту нежизнеспособной в условиях массового производства XIX века. Кроме того, при иной постановке дела удавалось бы создавать лишь уникальные экспонаты для выставок и музеев, наподобие картин и статуй, а не практические предметы быта. Тут было самое слабое место всей дизайнерской концепции Морриса.
Но даже и здесь он не отступал перед силою обстоятельств. Он настаивал на том, чтобы каждый рабочий в мастерских получил возможность проявить свою инициативу и индивидуальность. Позаботиться об этом должен был прежде всего сам дизайнер. Создаваемая им модель как бы сама собою подразумевала не механическое копирование, а развитие ее идеи через индивидуальное умение рабочего. Лишь при соблюдении этого условия можно было рассчитывать на определенный художественный выигрыш применения ручного труда вместо машинного. Ибо что толку было бы применять ручной труд, если бы он оказался столь же слепым, бездушным и механическим, как работа машины?
В этом и без того тяжелейшем пункте с особой силой проявилась поразительная, упрямая принципиальность Морриса. Ибо он был убежден, что к творческому труду способен каждый человек, подобно тому как прерафаэлиты считали, что каждый человек может стать живописцем. И вот было установлено при наборе учеников в мастерские не отбирать более способных.
В конечном счете, казалось бы, все трудности были одолены и дело жизни Морриса увенчалось победой. И действительно, он добился возрождения декоративно-прикладных искусств. Импульс, сообщенный его усилиями, постепенно нарастал. Он восстановил в правах основополагающие принципы декоративно-прикладного творчества — уважение к природе материала, соответствие формы изделия технологии его производства, целесообразность — и научил этим принципам многих. Моррис стал первым художником декоративно-прикладного искусства, дизайнером в современном смысле слова. Он принес с собою в это заброшенное и пренебрегаемое тогда искусство свою широкую эстетическую культуру, свое универсальное знание истории, свои передовые взгляды. В этом именно заключалась и оказалась признанной его роль новатора, пионера дизайна.
Правда, на современный вкус изделия его и его фирмы выглядят излишне орнаментированными и слишком близко повторяющими декоративные мотивы средневековья. Но, в сущности, это вовсе и не недостаток, а, скорее, достоинство. Стоя в самом начале новой традиции, будучи одним из первых больших художников XIX века, посвятивших себя декоративно-прикладному искусству после многих лет, когда оно считалось искусством второго или даже третьего сорта, видя вокруг себя целое море безвкусицы, грубых, вульгарных вещей, Моррис, естественно, должен был стремиться глубоко и творчески освоить то, что было уже достигнуто человечеством в художественной культуре бытовой вещи. И он это совершил. Кроме того, надо думать, что, по мере того как будут развеиваться пристрастия и наслоения нынешней моды, вообще несправедливой к орнаменту, отчетливее выступит огромное мастерство Морриса именно как орнаменталиста. Его декоративная фантазия неисчерпаема. Орнаменты его вьются, изгибаются, растут как живые. В них воплощено ощущение радости, богатства, здоровья жизни на земле. Они как бы приобщают предмет, на поверхности которого расположены, к этой жизни и в то же время придают ему видимость намертво зафиксированной прочности, ибо развиты с неуклонной логичностью и конструктивны. Ни один мастер декоративно-прикладного искусства не может поспорить с Моррисом в совершенстве декоративного видения материала и понимания его особой красоты.
Казалось бы, чего же еще? — Но разве этого хотел Моррис? Не свои произведения только, не изделия своей фирмы, а мир, человеческий мир хотел он сделать прекрасным.
Практически получилось так, что продукты фирмы Моррис и К° были слишком немногочисленны и дороги, так как громоздкая и тщательная ручная работа поглощает много времени и сил. Получилось так, что единственными потребителями его произведений оказались все те же ханжи и снобы «среднего класса», которых Моррис так ненавидел и презирал. Искомого единения идеала и реальности снова не получилось, снова, несмотря на все усилия, море безобразия обступает едва отвоеванный островок красоты и накатывается на него, грозя потопить, и ненавистная прозаическая и грубо утилитарная буржуазная цивилизация XIX века одерживает верх над красотой.
В самый разгар своей дизайнерской и административной работы в фирме, на пороге ее общественного признания, которое так долго не приходило, в 1868—1870 годах Моррис создает новый цикл стихов под общим названием «Земной рай», пронизанный разочарованием. В то время как в его декоративно-прикладном творчестве прокладывает себе дорогу чувство реального и земного, — поэзия становится расплывчатой, характеры героев утрачивают определенность, изображаемый мир становится зыбким, лексика архаизируется. Чисто формальное мастерство стиха выросло, но только для того, чтобы воспроизвести мир, в котором движутся лишенные плоти тени тоскующего воображения. Поэзия 50-х годов обнажает перед нами душу художника, показывает, насколько нелегко давалось ему творчество в условиях общества, чуждого эстетическим стремлениям.
Но Моррис не сдается. Он не прекращает дело фирмы, а, наоборот, расширяет поле своей деятельности. Теперь он готов схватиться с викторианством впрямую, непосредственно. Он напряженно думает о судьбах искусства в условиях современности, об отношениях между искусством и обществом, о спасении человечества, которое он мыслит в неразрывной связи со спасением искусства и красоты. Он выступает со своими лекциями и статьями, становится инициатором организации Обществ защиты красоты, защиты старинных зданий, школ, в которых обучают искусствам и ремеслам, музеев, где собираются исчезающие художественные ценности. К началу 80-х годов — он крупнейший в Англии общественный и культурный деятель, с 1883 года — он социалист.
«Его конечное обращение к политике было почти неизбежно, и оно может быть объяснено его желанием восстановить в Англии XIX века не жизнь средних веков, а то, что он понимал как животворящий дух искусства, который расцветал в то время»[12]. Безусловно, к социализму Моррис пришел через искусство, через стремление воплотить в жизнь и утвердить на земле свои эстетические идеалы. Долепим путем мучительных исканий он пришел к неизбежному выводу, что со злом, лицемерием, тупостью и жестокостью надо бороться не только творчеством, не только словом, но я прямым политическим действием. Искусство, которое не замыкается собственными проблемами, которое ищет слиться с миром и преобразовать мир, неизбежно выходит на поле политики. Можно сказать, что эстетический максимализм и нравственная цельность его жизненной позиции сделали Морриса социалистом. Кроме того, он умел ценить труд и людей труда, он мечтал об искусстве народа и для народа, он ненавидел праздность и праздных людей, и поэтому естественно для него было оказаться в стане рабочих, в их партии.
Войдя в организованную Гайндманом Социал-демократическую федерацию, Моррис отдается политической работе. Можно сказать, что он был не только социалистом, но и одним из лидеров социал-демократического движения Англии 80-х и 90-х годов. Он ездил по стране, выступая перед рабочими с лекциями, участвовал в митингах. Он был одним из организаторов демонстрации 13 ноября 1887 года, жестоко подавленной полицией. Активно участвуя во внутрипартийной борьбе, он вместе с Эдуардом Эвелингом и его женой Элеонорой, дочерью Маркса, выступил в 1884 году против Гайндмана, который обнаружил авантюристические тенденции. Вместе с ними он организовал Социалистическую лигу и как орган ее стал издавать на собственные средства журнал «Коммонуил», в котором работал как редактор. Однако ему, выходцу из далеких от социализма слоев и к тому же человеку немолодому, трудно было разобраться в сложных перипетиях партийной полешки. Поэтому, как писал Энгельс в 1886 году, Моррис «споткнулся на фразах о революции и стал жертвой анархистов»[13]. Энгельс, который очень хорошо знал Морриса, иронически, но очень верно назвал его «социалистом чувства»[14].
Но все эти ошибки и политические зигзаги не лишили Морриса веры в рабочий класс, в неизбежность и справедливость его победы. До последних дней своей жизни он остается горячим проповедником социализма. В сущности, и его лекции об искусстве неразрывно связаны с его коммунистическими убеждениями.
Эти убеждения ярко проявились и в позднем литературном творчестве Морриса. На протяжении ряда лет он пишет цикл «Песен для социалистов», которые и сейчас еще поют английские рабочие. Коммунистическим духом пронизаны также его прозаические произведения «Урок короля», «Сон про Джона Болла», посвященный восстанию Уота Тайлера, и, наконец, утопический роман «Вести ниоткуда».
Непосредственными предтечами Морриса на поприще теории были Томас Карлейль и Джон Рёскин. Книги обоих с энтузиазмом читались Моррисом и Бёрн-Джонсом еще в Оксфорде. Они дали четкие словесные формулы тем умонастроениям, которые бродили в двух романтически настроенных молодых людях. Именно в этом смысле можно говорить в данном случае о духовном влиянии. Моррис был слишком непосредственной и эмоциональной натурой, чтобы оказаться способным пассивно подпасть под чье-либо влияние, сдаться перед силой и убедительностью доводов, подчиниться чужой логике. С теми, кто оказал на него влияние, он как бы встречался на той дороге, по которой уже шел самостоятельно. То, что он узнавал от других, сам он по крайней мере предчувствовал. Так было при встрече с Россетти и прерафаэлитами. Так немного ранее было с Карлейлем и Рёскиным. Так оказалось впоследствии при прочтении Моррисом «Капитала» Маркса.
В книге Карлейля «Прошлое и настоящее» мы находим четкое выражение того хода мысли, который всегда, на всех этапах сложной духовной эволюции Морриса был для него очень характерен. Прошлое, средневековье сопоставляется с настоящим, с состоянием цивилизации XIX века. В своей книге Карлейль рисует идеализированный быт монастыря св. Эдмундсбери в XII веке. Но эта идеализация нужна ему для того, чтобы измерить всю глубину нравственного падения человечества в капиталистическую эру. История здесь оказывается полезной для того, чтобы получить возможность обозреть свое время в более широкой перспективе, найти точку опоры для критического взгляда на него. Пафос Карлейля прежде всего критический. Он обвиняет капитализм в том, что тот подчинил все человеческие отношения выгоде, власти денег. Наоборот, средневековье знало людские отношения, которые строились на взаимных обстоятельствах. Там моральные принципы имели реальный смысл и составляли самую суть человеческого существования. В капиталистическом же обществе мораль бессильна что-либо решать в жизни. В средневековье в стенах монастыря люди могли быть братьями, сейчас же они — вольные или невольные враги.
Как увидим, Моррис в гораздо меньшей степени идеализировал средневековье, чем Карлейль, или, может быть, идеализировал его иначе. Но, во всяком случае, когда ему нужно по ходу своих рассуждений доказать читателям или слушателям, что жизнь не всегда была столь безобразна, как сейчас, и что, стало быть, и в будущем она может стать иной, Моррис неизменно ссылается на средневековье. Его роднит также с Карлейлем моральный пафос исторических оценок.
У Рёскина — тоже моральный пафос. Но в духовном развитии Морриса Рёскин занял гораздо более значительное место потому, что ареной его моралистической проповеди было искусство, и прежде всего самое дорогое для Морриса искусство — архитектура. Со всей энергией и даже с известными преувеличениями Рёскин настаивал на единстве красоты и добра. В жертву этому принципу он — прекрасный критики знаток искусства — приносил самостоятельное значение художественного творчества. Но для Морриса здесь было важно и близко то, что тем самым искусство ставилось в более широкую социальную перспективу. А во-вторых, — и это самое важное — Рёскин не был сторонником пошлой дидактики средствами искусства. Занимаясь архитектурой и ища морального значения прежде всего для нее, Рёскин сделал большое и действительное открытие. Он показал, что в творениях рук своих человек запечатлевается как он есть и что, в свою очередь, облик человека, как он выражается в его архитектуре и предметном окружении, является прямым свидетельством морального состояния общества. Рёскин, как и Карлейль, противопоставлял тогдашнюю современность средневековью. Он тоже был критиком капиталистического общества. Но сам ход его мысли, угол критического подхода целиком и полностью совпадали с умонастроением Морриса. Рёскин бичевал современную цивилизацию за то, что она безобразна, а это безобразие было в его глазах лучшим доказательством того, что она безнравственна. Он тем самым перевел на язык мысли то, что с самого детства испытывал и из-за чего страдал Моррис.
Более того, у Рёскина Моррис нашел в готовом виде центральную идею своих эстетических воззрений — убеждение, что труд является творческой силой человека. В каждом человеке, считал Рёскин, заложена определенная творческая энергия, которую он должен стремиться реализовать в труде. Творческий труд — это, по Рёскину, единственно подлинное человеческое счастье. И как раз творческий труд есть субстанция человеческой нравственности. Если труд свободный и творческий, то он неизбежно создаст прекрасные произведения. Наоборот, если произведения людей безобразны, то это непосредственно свидетельствует о том, что они лишены счастья творческого труда, а стало быть, общество, в котором они живут, аморально.
Огромное, неизгладимое впечатление произвела на Морриса книга Рёскина «Камни Венеции», где не только раскрыта природа готики, но и показано, что готическое искусство было возможно лишь благодаря свободному творческому труду средневековых ремесленников. Рёскин подчеркивал, что труд должен быть одухотворен, что он должен активизировать человеческую фантазию и дать ей применение. Он обвиняет капиталистическую организацию производственного процесса в том, что она повлекла за собой разделение физического и умственного труда, раскалывая таким образом надвое естественную целостность человеческой натуры. Он провозгласил, что разделение физического и умственного труда пагубно как для того, так и для другого.
Средневековье выступает в изображении Рёскина, а затем и Морриса как эпоха целостного труда, а стало быть, и целостного человека. И в этом своем качестве оно противопоставляется цивилизации XIX века, в которой способности и умения людей расколоты, а сами люди изуродованы. Рёскин, как впоследствии и Моррис, яростно осуждал новую машинную технику за то, что она выхолащивает творческое содержание труда, делая его механическим и однообразным. Оба они видели единственный выход, единственный путь спасения человечества в том, чтобы по возможности ограничить сферу применения машин и восстановить в правах ручной труд.
Едва ли можно в этих исходных установках искать что-либо существенно различное между Рёскиным и Моррисом. Новое, что принес в этом отношении Моррис, — не новые идеи, а развитие мыслей Рёскина, их применение, но с индивидуальной моррисовской окраской. Моррис обогатил их своей жизнью, попыткой практически осуществить их. Он воспринял идеи Рёскина как художник. Прежде чем выступить с пропагандой их перед публикой, он долго носил их в сердце, принимался за один род искусства за другим, увлекался, впадал в противоречия, падал и снова искал. Более пятнадцати лет прошло с тех пор, как Моррис прочитал «Камни Венеции», прежде чем он повторил идеи этой книги с кафедры — и какие то были годы!
Радость труда, воссоединение умственного труда с физическим, красота ручных изделий были для него не просто подспорьем для понимания прошлого или основой для критики настоящего. Его усилия направлялись в будущее, а вследствие этого он менее идеализировал прошлое, менее скептически воспринимал настоящее. Он не только критик, но прежде всего — созидатель, не только проповедник и моралист, но прежде всего — деятель, причем созидатель и деятель с самыми универсальными устремлениями: «Я выступаю не за то, чтобы творить в мире немного больше красоты, хотя я и очень люблю ее и готов многим для нее пожертвовать; я выступаю во имя жизни людей или, если хотите, (...) во имя целей жизни». Пожалуй, не противоречило бы истине заметить, что Моррис превосходил Карлейля и Рёскина масштабом и действенностью своего гуманизма.
Средневековье не представляется Моррису идиллией, как это получалось у Карлейля и Рёскина. Он не опускал глаза перед правдой и умел признать, что тогда царили невежество, жестокость, насилие, что те же великолепные мастера средневековых художественных ремесел не были ограждены от гнета и унижения, что, наконец, прекрасные их изделия часто оказывались связанными с деспотизмом и предрассудками. Он достаточно много занимался историей, чтобы не знать этого, или делать вид, что не знает. Но, с другой стороны, он настаивал на том, что подлинная история творилась не в династических дворцовых интригах, не в распрях феодалов, не грабежами, убийствами и насилиями, а скромным и неприметным трудом «простых парней», которые, занимаясь в своих мастерских любимым делом, могли обрести в творческом труде некоторую свободу и удовлетворение.
Многократно повторяя излюбленный прием Карлейля — критиковать «настоящее», сравнивая его с прошлым, — Моррис постоянно подчеркивает: «Не поймите меня превратно: я не склонен к простому восхвалению прошлых времен. Я знаю, что в те времена, о которых я говорю, жизнь часто была наполнена грубостью и злом, она была пронизана насилием, предрассудками, невежеством и рабством, и все же я должен признать, что хотя бедный люд нуждался в утешении, он не совсем был лишен его, и таким утешением служило удовольствие от его труда».
Взгляд Морриса на средневековье историчен. В его основе — представление о живой традиции человеческих поколений, воплощенной в меняющихся и все более совершенствующихся изделиях труда и в накоплении умения, опыта и знаний. История выступает для него как бы предметно, конкретно-чувственно, воплощенной в вещах, зданиях, в материальных и художественных ценностях. Такая история читается не только по книгам и даже менее всего по книгам. Она — предмет прямого эстетического сопереживания, интимно духовной близости с памятниками культуры прошлого.
Согласно этой концепции, невозможно не только историческое знание, невозможна сама история, если в основе ее нет единой субстанции человеческого гения и творчества, если она резко делится на «хорошее» и «плохое». Современный человек способен понять прошлое, ибо в нем самом сохраняется нечто от этого прошлого. И только по этой причине он способен продолжить прошлое своей деятельностью.
«Вы все знаете, — говорил Моррис, — что теперь историю оживотворил иной дух, отличный от того, который возбуждал интерес у людей думающих. Было время, и не такое уж далекое, когда историю писал некий умный эссеист (но менее всего историк), окруженный книгами, в которых он больше ценил соответствие общепринятому критерию литературного совершенства, чем насыщенность сведениями, позволяющими заглянуть в прошлое». История, согласно этой, как утверждал Моррис, отжившей концепции, представлялась так, будто было всего «два периода устойчивости, организованности упорядоченной жизни: и один из них — классическая история Греции и Рима, второй — эпоха, начавшаяся со времени пробуждения интереса к античности и продолжающаяся еще сейчас. Все остальное виделось им нагромождением случайностей, бессмысленными междоусобицами племен и народов, до которых им не было никакого дела и которые напоминали сражения бизоньих стад. Целые тысячелетия были, по их мнению, лишены творческого духа и загромождены всякого рода препятствиями».
Моррис не мог себе представить, чтобы на какой-то период из истории вообще исчез творческий дух. Поэтому он и не мог противопоставить критиковавшейся им в данном случае классицистической концепции истории такую же односторонность в виде романтической концепции. Его романтизм состоял в том, чтобы на всем протяжении исторического пути человечества, у разных народов и в различные эпохи уметь видеть проявление творческого духа и сопереживать ему.
Однажды Моррис сказал замечательные слова, которые лучше всего характеризуют особенности его мировоззрения и объясняют, что делает его живым сегодня: «Я слышал многих людей, которых неправильно называли романтиками... Романтика означает способность к правильному восприятию истории, умение делать прошлое частью современности». Стало быть, правильно воспринимать историю, согласно его убеждению, — значит делать ее частью современности, то есть воспринимать живую связь между современностью и прошлым, видеть в прошлом мудрый отклик на проблемы, которыми сегодня живут люди. И это, по Моррису, и есть романтика.
Очевидно, самая сущность исторических воззрений Морриса не допускала, чтобы односторонности классицистического взгляда противопоставить такую же односторонность: Грецию, Рим и современную цивилизацию объявить историческим провалом, чтобы возвеличить средневековье. Надо было лишь воздать средневековью должное. И особенно потому, что современная цивилизация — прямая наследница средних веков, и памятники той эпохи еще у всех перед глазами, а ее традиция — именно та, которую необходимо подхватить и продолжить. Подобно тому как средневековые здания еще вкраплены в городские ансамбли современной Европы и должны составлять с ними нерасторжимое целое, достижения средневековой культуры должны войти в сознание цивилизованного человека и в этом смысле стать «частью современности».
Нельзя сказать, чтобы Моррис всегда последовательно придерживался этой точки зрения и никогда не сварачивал с этой угаданной им дороги, но суть его взгляда на историю в его отличительных и наиболее ценных особенностях по сравнении с Рёскиным и Карлейлем нужно искать, думается, именно здесь. Иногда, например, он с большой неприязнью отзывался о классической архитектуре с ее геометрическими формами. Причиной было его пристрастие к готике. Но мотивировал он свою нелюбовь к античной архитектуре тем, что в основе ее лежало угнетение рабов. Явная непоследовательность! Если античная архитектура дурна по причине своего рабского происхождения, то почему же хороша готика, которая все же выросла на труде крепостных? Но тщетно выдвигать подобные возражения и недоумевать. Ведь в своем восприятии истории Моррис был, пользуясь его собственными словами, не «эссеистом», а «художником». И поэтому рисуемая им картина менее всего выигрывает там, где он с холодным умом подыскивает аргументы.
По Моррису, для нашего исторического знания существуют два источника: языковые памятники и археология, вещественные памятники старины. Эти последние ему всегда были ближе. Именно поэтому декоративные искусства, то есть те формы творчества, которые создают имеющие художественную ценность предметы быта, изучаемые археологией, важны, по мнению Морриса, для восстановления связи времен. «Люди, прилежно и с удовольствием занимавшиеся исследованием этих искусств, приобретают способность смотреть на прошлую жизнь, словно бы сквозь окна, — на самые первые истоки мысли у народов, которых мы даже не можем назвать». Вещественные памятники для Морриса — это та же наша живая память о прошлом. А потому главный исторический поток, как его воспринимал Моррис, течет не через королевскую власть и церковь, а через кузни, красильни, ткацкие, столярные, ювелирные и всякие прочие мастерские ремесленников. Именно они, люди с умелыми руками и творческой фантазией, являются носителями человеческого творческого духа. А средние века особенно близки Моррису еще и потому, что это была эпоха необыкновенного расцвета художественного ремесла. Большую роль в обеспечении этого исключительного расцвета, поясняет Моррис, играли гильдии и цехи ремесленников.
Но как бы там ни было, как бы ни восхищался Моррис средневековым ремеслом и искусством, как бы их ни любил, он, в отличие от Рёскина, не помышлял о простой их реставрации. «Былое искусство стран, образовавших европейскую цивилизацию, во времена упадка древних классических народов, — говорил Моррис, — рождено инстинктом, который сложился в непрерывную цепь традиции. Это искусство питалось не знанием, но надеждой, и, хотя с этой надеждой мешались многие странные и дикие иллюзии, оно оставалось всегда человеческим и плодоносным. Оно утешало многих людей, раскрепощая духовно тех, кто был телом раб». Однако Моррис не сбрасывал со счетов последующего развития. Он ненавидел пороки современной цивилизации, но не был склонен отказываться от ее достижений. Он ни в коей мере и ни в каком смысле не был реакционером. «Искусство инстинктивного умения», в сущности, мертво. «Весьма малая часть его, — говорил Моррис, — влачит еще жалкое существование среди полуцивилизованных народов и год от года делается слабее, грубее...». Древнее искусство должно уступить место новому, «искусству сознательного умения», которое связано с рождением «более мудрых, более простых, более свободных путей жизни, чем те, по которым ведет жизнь теперь, по которым она вела прежде». Это новое искусство, по словам Морриса, «уже не будет более плодом инстинкта, продуктом невежества, которое обуреваемо желанием учиться, знать и видеть, ибо невежество в наши дни уже не рождает надежды». В сущности, не реставрации средневекового ремесла хотел Моррис, а создания новых основ предметного творчества, опирающегося на традиции прошлого путем их разумного анализа и знания. Только такое искусство могло соответствовать вкусам и нуждам цивилизованного человека.
«Старинное искусство исчезло и может быть „восстановлено“ в своих прежних чертах ничуть не более, чем средневековое здание». Моррис обладал слишком развитым чутьем истории, чтобы пренебречь происшедшими переменами. Традиция в его глазах отнюдь не была статикой, бесконечным повторением одного и того же, единожды достигнутого. Историческое духовное творчество осуществляет связь с прошлым, не повторяя его, а преобразуя. Не следует забывать, что для Морриса, как для последователя Рёскина, искусство — особенно архитектура и декоративно-прикладные искусства — воспроизводит облик человека таким, каков он есть. Поэтому, коль скоро человек изменился, должно измениться и искусство. Копирование прошлых образцов, пусть самых лучших, было бы пустым формализмом, неоправданной претензией — не более того. «Либо мы создадим свое собственное искусство, либо у нас не будет никакого», — так альтернативно ставил вопрос Моррис. И именно такой подход помог ему быть не эпигоном, а открывателем новой перспективы, пионером современного дизайна.
Воззрение Морриса на отношение современной художественной культуры к прошлому ярче всего отразилось в его борьбе против модных во второй половине XIX века попыток «обновления» старинных зданий. Моррис высмеивал «реставраторов», которым кажется, что «если вещи, скажем, XIII века дошли до нас в измененном виде, то искусство не изменилось и что наш рабочий может создать изделие, тождественное с изделием XIII века». Как человеку, знающему толк в ремеслах, Моррису было ясно, что даже манера класть кирпич у каменщика обусловлена целым комплексом особенностей, которые у каждой эпохи свои. Ведь в ручной работе всегда скажется индивидуальность человека, а на индивидуальности всегда скажется время. На протяжении столетий меняются не только некогда созданные вещи, но и само мастерство, манера их создания. Поэтому из попыток восстановить архитектурные памятники, вновь придав им тот вид, который они имели, вышедши из рук строителей, ничего не выйдет, это во всех отношениях невозможно, да и не нужно. Так в действительности смотрит на дело Моррис, хотя его до сих пор часто представляют чуть ли ни обскурантом, предпринимавшим бесплодные усилия насадить в индустриальной Англии технологию какого-нибудь XII или XIII века.
Не следует забывать, что эклектика викторианской архитектуры и декоративно-прикладного искусства, выражавшаяся в стремлении заимствовать стилистические характеристики любого народа и любой эпохи, если это угодно заказчику или покупателю, — едва ли не главное, что Морриса возмущало.
После того как здание или вещь закончены, они начинают свою жизнь с людьми, в человеческом коллективе. И эта историческая жизнь их не менее важна для исторического романтизма Морриса, чем их первоначальный вид. Следы времени на здании — такое же его украшение, как патина на бронзе древней статуи. Поэтому Морриса особенно возмущало именно то, что в нелепых реставрационных попытках уничтожалась как бы сама история, стирались ее письмена, жизнь многих поколений зачеркивалась неумными деятелями, которые не ведали, что творили. В том, как Моррис боролся против реставрации архитектурных памятников, какую программу для организованного им Общества по охране старинных зданий он составил, сказался его величайший исторический такт.
«Идея реставрации, — писал он, — странная и в высшей степени роковая идея, согласно которой возможно уничтожить в здании те или иные следы истории, иными словами, жизни самого этого здания, а затем остановить руку в какой-то произвольный момент и еще предполагать, что после этого в здании будто бы сохраняется жизнь, историческая значимость и будто бы, более того, оно остается таким, каким оно было некогда». Как видим, предметная среда представляется Моррису не как скопление предметов, сделанных в особое время каждый. Она, эта среда, меняется вместе с человеком. Исторический человек придает ей жизнь и смысл. И из этой жизни, как из биографии человека, нельзя вынуть ни одного важного эпизода, чтобы не деформировать целого.
Связь современного искусства с прошлым, по Моррису, должна состоять в том, чтобы включиться в дальнейшее развитие и изменение предметной среды, но не уничтожая уже сотворенного, а продолжая его традицию в применении к новым условиям. В этом современное искусство ответственно не только перед прошлым, но и перед будущим, — прежде всего перед будущим. Потому-то Моррису и представлялось столь трагическим положение искусства его времени, что, по его убеждению, в истории, как в песне, — слова не выкинешь.
Моррис понимал, что увлечение реставрациями отражает рост интереса к истории искусства и представляет собою своеобразный результат возросшего богатства сведений по истории, и он считал, что и этот интерес и эти знания должны быть направлены вовсе в другую сторону: «...по моим понятиям, весьма странно пользоваться знанием истории для успеха наших рискованных путешествий в прошлое с целью отыскать там собственные следы, вместо того чтобы воспользоваться всеми этими знаниями как хотя бы слабым светом, указывающим будущее».
Ни один художник, каким бы гениальным он ни был, не может, по убеждению Морриса, работать без знания и освоения исторической традиции. Но такое знание играет все же подчиненную роль. Главное же — понимать, что нужно современному человеку и чего хочешь сам. В этом отношении советы Морриса художникам просты и определенны: «Твердо держитесь выразительных форм искусства. Не думайте чересчур много о стиле, но настройтесь создать то, что считаете красивым, выражайте свое понимание красоты со всей тщательностью, на какую способны, но, повторяю, выполняйте свою работу четко и без всякой туманности». Простота — вот главный завет, который извлекает Моррис из опыта прошлого. Симптомы упадка искусства видятся ему в том, что представления о красоте отделяются от представлений о целесообразности. Чтобы сделать вещь «красивой», ее специально с этой целью декорируют. Возник даже обычай требовать «дополнительной платы» за украшение. Стало быть, красота мыслится не как нечто совершенно необходимое, а как приятное приложение к необходимости, как забава и развлечение для праздных умов. Вот такая-то «красота» оказывается неизбежно противопоставлена простоте. С другой стороны, простота начинает восприниматься почти как синоним безобразия.
Корни этого трагического для подлинного искусства недоразумения Моррис видит в тех все более тяжелых обстоятельствах, в которых оказывается человеческий труд на протяжении последних столетий. Между прочим, понять подлинное существо процесса деградации и роста несвободы труда в капиталистическом обществе, пагубного воздействия разделения труда на человеческую, личность и культуру помогло Моррису изучение «Капитала». В «Капитале» Маркс, как известно, проследил, в частности, историю превращения средневекового ремесленника в наемного рабочего капиталистической фабрики. Представления Морриса об этой истории отчасти восходят к Марксу.
Усложнение культуры при переходе от средневековья к новому времени привело в конечном счете к тому, думал Моррис, что простому ремесленнику все труднее было через свой труд выражать волнующие общество идеи. «Тем не менее различие между художником и ремесленником не было очевидным, хотя несомненно дело шло к тому». Раскол между искусством и ремеслом происходит, по Моррису, в эпоху Возрождения, когда выделяются мощные художественные индивидуальности, противопоставляющие свою деятельность и свои заслуги делам и заслугам остальных людей. Отныне искусство превращается в замкнутую в себе область, связь которой с началами творческого труда вообще утрачивается и перестает быть очевидной.
«Было время, когда каждый, кто что-нибудь создавал, — пишет Моррис, — создавал не только полезную вещь, но и художественное произведение, человеку доставляло удовольствие создавать его». Когда труд был радостью и нес в себе художественный смысл, это выражалось непосредственно в том, что каждому мастеру было приятно сделать свое изделие не только добротным, но прилично для него украшенным. Мастер наслаждался сознанием, что его изделие хорошо, полезно и должно угодить будущему потребителю. Он заботился, чтобы полезный предмет, им созданный, был привлекателен на вид. На этих естественных началах возникало единство красоты и целесообразности.
Когда же в эпоху Возрождения и.позже искусство отделилось от простого производственного труда, когда из него ушла радость, естественная привязанность человека к красоте исчезла. Никто не думает теперь о ней как о неотъемлемом качестве любого изделия. Промышленному рабочему нет дела до того, что и как он делает, ибо труд для него — обуза и вынужден он им заниматься лишь под угрозой голода. Украшают теперь вещи не с целью удовлетворить истинную потребность людей в красоте, а чтобы выманить у потребителя больше денег. Но возникший таким путем декор — это обман. Предметный мир, создаваемый современной промышленностью, либо откровенно безобразен, либо прячет свое безобразие под маской роскоши и моды, которые, по Моррису, чужды всему подлинно художественному.
В мире воцаряется безобразие в двух различных его ликах; либо это неприкрытое убожество для угнетенных классов, либо грубая роскошь классов богатых. С одной стороны, масса народа лишается всякого представления о красоте и совершенно не приобщена к искусству. С другой стороны, «избранные», «высшие» классы начинают смотреть на искусство как на забаву, как на наилучший из пустяков. И даже какой-нибудь «знаток», который путешествовал по Италии и может порассуждать о Рафаэле, мирится в своем доме с бездарной роскошью, свидетельствующей о богатстве, но не о вкусе.
Что касается художников, которые, отделившись от производительного труда и образовав «аристократию интеллекта», ведут теперь замкнутое существование, то их судьба еще более плачевна. Это — единственные люди современной цивилизации, которые сохранили понимание того, что такое радость труда. Но они окружены стеной непонимания. Цивилизация душит их в своих уродливых объятиях. С тоской взирают они на то, как гибнут последние остатки ремесел, как красота окончательно вытесняется из жизни. В таком свете представляется Моррису наследие Возрождения. «Мы видим, в какую цену обошлась нам наша аристократия духа, и даже сама эта аристократия весьма сожалеет об этой сделке и была бы рада сохранить свои преимущества, но не платить за них сполна. Отсюда возникает не только пустое ворчание по поводу неослабного наступления машин на ремесленное производство, но также и всевозможные маленькие планы, содержащие попытки отвести нас, некоторых из нас, в сторону от всего того, куда ведут нас последствия обретенного нами положения». Похоже на то, что Моррис и себя не щадит, рисуя эту неприглядную картину. Он даже сказал однажды, что радуется неуютному положению художников: оно понудит их искать выхода из своей замкнутости, то есть, по убеждению Морриса, — выхода в жизнь, в производство.
Безусловно, Морриса нельзя признать полностью правым ни в его оценке Возрождения, ни в его оценке положения современного ему искусства. Тут негативно сказывается его все же идеализирующий взгляд на средневековье. Все дело в том, что, исходя из идеи Рёскина о «радости труда», лежащей в основе всякой художественности, Моррис представляет всякое искусство вообще по образцу средневекового ремесла. Отсюда его убеждение, что только искусства, связанные с производством, то есть архитектура и декоративно-прикладное искусство, подлинно жизнеспособны и народны. Это сужает эстетические горизонты работ Морриса об искусстве. Дабы расширить размах художественной деятельности, добиться ее универсальности и слияния с жизнью, Моррис фактически вынужден отбросить все наиболее духовно насыщенные виды этой деятельности. Он прямо говорит: «...совокупный талант народа, проявляющийся в свободном, но гармоническом сотрудничестве, обладает гораздо большей силой для создания декоративного искусства, чем напряженные усилия величайшего индивидуального гения...» Правда, речь здесь идет как будто бы о декоративном искусстве, но ведь фактически Моррис только прикладное искусство и признает, если не считать архитектуры, которая для него часто — то же самое.
Роль, отводимая Моррисом декоративно-прикладному искусству, действительно грандиозна: «...предоставьте только искусствам, о которых мы говорим, сделать наш труд прекрасным, дайте им широко развернуться, стать широко понятными как творцу, так и потребителю, дайте, одним словом, дорасти ему до народности, и тогда будет много сделано для уничтожения тупой работы и изнуряющего рабства, и ни один человек не простит более разговоров о проклятии труда, ни один человек не простит более уклонения от труда. Я убежден, ничто иное не поможет мировому прогрессу, как достижение этого; торжественно заявляю: нет в мире ничего, чего бы я так страстно желал, связывая это с политическими и социальными изменениями, о которых так или иначе мечтает каждый из нас».
Моррис видел, что осуществление поставленной им задачи требует «политических и социальных изменений». Более того, почти с первых шагов своих на стезе теории он уже ясно понимал необходимость установления «равенства условий», то есть социализма.
Моррису казалось, как и многим другим утопистам, что для установления подлинного равенства достаточно просветить людей, эстетически воспитать их, показать им, насколько уродливо и нелепо они живут. И он запутывался в неразрешимых противоречиях: с одной стороны, он прекрасно видел, что бесполезно воспитывать людей, которых совокупность условий их жизни толкает к уродству и безвкусице; с другой, — что не мог найти иного средства, кроме воспитания, а это у Морриса — приобщение к искусству.
Вот одно из самых характерных в этом отношении мест: «Теперь общепризнано, что образование не завершается окончанием школы. Однако можно ли по-настоящему просвещать людей, которые по своему образу жизни походят на машины и имеют возможность думать только в короткие часы отдыха, которые, иначе говоря, тратят большую часть своей жизни на труд, не способный развивать их тело и душу каким-нибудь достойным способом? Вы не сможете ни воспитывать людей, ни делать их культурными, если не сумеете приобщить их к искусству.
Да, при теперешнем положении дел приобщить к искусству большинство людей поистине трудно. Они не тоскуют без него, не рвутся к нему, и пока невозможно ожидать, чтобы они к нему потянулись. Тем не менее, все имеет начало, и многие великие дела начинались с малого».
«Следовательно, — заключает Моррис, — давайте работать и не терять мужества...».
Здесь хорошо видно, чем могут быть ценны теоретические выступления Морриса сегодня. Ведь фактически приведенное выше рассуждение представляет собою то, что ныне называют социологией искусства. Как бы невзначай Моррис выдвигает такую постановку вопроса, которой суждено будущее. И, несмотря на крайности суждений, на наивность высказываемых им надежд и упований, в его рассуждениях есть многое, что тревожит XX век больше, чем XIX. Грандиозная попытка Морриса — вернуть искусство в жизнь, воссоединить идеал с реальностью, а художника слить с народом — как будто бы закончилась неудачей. Но даже и неудачи имеют значение в истории, ибо по дороге к намеченной цели открываются новые земли.
А. Аникст
Как я стал социалистом
Редактор попросил меня рассказать, как я стал социалистом, и я чувствую, что сделать это небесполезно, если только читатели отнесутся ко мне как к представителю людей определенного мировоззрения. Рассказать об этом понятно, коротко и правдиво не так-то легко, но тем не менее позвольте попробовать.
Прежде всего я хочу уточнить, что, по-моему, значит быть социалистом, так как мне говорят, что это слово больше не означает того, что определенно и точно означало десятилетие назад. Так вот, с моей точки зрения, социализм — это такой общественный строй, при котором не должно быть ни бедных, ни богатых, ни хозяев, ни подвластных им слуг, ни бездельников, ни неврастеников-интеллигентов, ни удрученных рабочих, — одним словом, такой строй, при котором условия жизни будут равны для всех и каждый сможет плодотворно заниматься своими делами, глубоко сознавая, что ущерб для одного означает ущерб для всех; в конечном счете социализм — это воплощение мечты о «всеобщем благосостоянии».
У меня не было переходного периода, разве что краткий период моего политического радикализма, когда я мыслил свой идеал достаточно ясно, но не надеялся на его осуществление. Этот период закончился за несколько месяцев до моего вступления в тогдашнюю Демократическую федерацию, а этот шаг означал, что у меня явилась надежда на осуществление идеала.
Если вы спросите, какую долю моих надежд или мыслей мы, жившие и работавшие в ту пору социалисты претворили в жизнь или когда же свершится долгожданная перемена в облике общества, то я вынужден буду признаться, что не знаю. Могу только сказать, что не измерял ни своей надежды, ни той радости, которую она в то время мне приносила.
К тому же, когда я предпринял этот шаг, я ничего не понимал в экономике. Мне даже никогда не приходило в голову открыть Адама Смита{1}, я не слышал ни о Рикардо{2}, ни о Карле Марксе. Случайно я прочитал Милля{3}, в частности те его посмертные статьи (напечатанные то ли в «Вестминстер Ревью», то ли в «Форт-найтли»), в которых он нападает на социализм в его фурьеристском обличье. В этих статьях он излагает свои доводы серьезно и четко, и в результате, коль скоро речь идет обо мне, я убедился, что социализм стал насущной проблемой и что возможно претворить его в жизнь уже в наше время. Эти статьи явились последним штрихом в моем обращении. Итак, вступив в социалистическую организацию (ибо Федерация вскоре стала полностью социалистической), я попытался серьезно вникнуть в экономическое учение социализма, даже принимался за Маркса{4}, хотя и должен признаться, что, получив громадное удовольствие от исторической части «Капитала», я был близок к умопомешательству, знакомясь с экономическими концепциями этого великого труда. Как бы то ни было, я прочитал то, что оказалось мне по силам, и, надеюсь, это чтение обогатило меня кое-какими познаниями, но, думаю, еще больше я получил от продолжительных бесед с такими моими друзьями, как Бэкс{5}, Гайндман{6}, Шой{7} и в ходе тех оживленных пропагандистских митингов, которые проводились в ту пору и в которых я принимал участие. Мое образование в практическом социализме, которое я способен был приобрести, позднее было завершено благодаря некоторым моим друзьям-анархистам, в беседах с которыми я понял, совершенно вопреки их намерениям, что анархизм не имеет надежд на будущее, точно так же как, читая Милля, я понял, вопреки его намерениям, что социализм необходим.
Но рассказ о том, как я на деле стал приверженцем социализма, я, видимо, начал с середины, ибо, будучи состоятельным человеком и не страдая от лишений, угнетающих рабочих на каждом шагу, я чувствую, что никогда, может быть, не втянулся бы в практическую деятельность социалистов, если бы к этому не побудил меня мой идеал. Ибо политика как таковая, то есть и не рассматриваемая как необходимое, хотя и тягостное и неприглядное средство достижения цели, никогда бы не привлекла меня. Равным образом, после того как я осознал пороки современного общества и увидел, как угнетают бедняков, я никогда не смог бы поверить в возможность частичного исправления этих пороков. Другими словами, я никогда не был столь глуп, чтобы поверить в счастливого и «благопристойного» бедняка.
И если мой идеал побудил меня искать пути практического служения социализму, то какая сила привела меня к какому-то идеалу? Вот теперь вспомним сказанное мною в начале этой статьи — о том, что я типичный представитель людей определенного умонастроения.
До возникновения современного социализма почти все мыслящие люди либо были удовлетворены, либо мнили себя удовлетворенными цивилизацией нашего столетия. Почти все они и на самом деле были удовлетворены и считали, что нужно только совершенствовать эту самую цивилизацию путем уничтожения немногих смехотворных пережитков варварства. Короче говоря, таково было умонастроение вигов, естественное для современной процветающей буржуазии, представителям которой, коль скоро дело касалось развития промышленности, действительно нечего было желать, только бы социалисты оставили их в покое и дали бы им наслаждаться блеском их богатств.
Но кроме этих довольных были и такие, которые на самом деле не были удовлетворены торжеством цивилизации и испытывали к ней чувство отвращения, однако вынуждены были молчать, подавленные безграничной властью вигизма. И, наконец, появились немногие, открыто восставшие против пресловутых вигов, — немногие, а точнее — двое: Карлейль{8} и Рёскин{9}. Последний, до того как я на деле стал социалистом, был моим учителем: он-то и помог мне обрести идеал, о котором я говорил. Оглядываясь на прошлое, я не могу, кстати, не признать, что мир был бы убийственно скучен двадцать лет назад, если бы в нем не было Рёскина.
Именно благодаря ему мое недовольство, которое, должен сказать, отнюдь не было смутным, приняло определенные формы. Помимо желания создавать красивые вещи основной страстью моей жизни была и есть ненависть к современной цивилизации. Что, найдя, наконец, нужные слова, — скажу я о ней теперь, когда меня воодушевляет надежда на ее разрушение? Что скажу я о замене этой цивилизации социализмом?
Что сказать мне о владычестве этой цивилизации над механической мощью и о бесплодной растрате этой мощи, о столь низком уровне благосостояния, о столь богатых врагах этого благосостояния, о ее громоздкой организации — как оправдать мне убожество этой жизни? Что сказать о презрении этой цивилизации к простым радостям, которым, если б не ее глупость, мог предаваться каждый? О ее слепой вульгарности, которая уничтожила искусство — это единственное надежное утешение труда? Все это я ощущал и тогда, как теперь, но не понимал причин этого. Надежда былых времен исчезла, многовековые усилия человечества не принесли иных плодов, кроме жалкой, бессмысленной и безобразной анархии. Мне казалось, что в недалеком будущем, когда исчезнут последние остатки тех времен, которые предшествовали воцарению унылого убожества цивилизации, нынешние пороки общества еще более возрастут. Такие мысли были явно мрачны, и если говорить обо мне как о личности, а не просто как о некоем типе, то они были особенно тягостны для человека моего склада, равнодушного к метафизике, и религии, и к научному анализу, но испытывающего глубокую любовь к земле и земной жизни и страстный интерес к былой истории человечества. Подумайте! Должен ли я был закончить меняльной конторой на горе шлака, или гостиной Подснэпа{10} на взморье, или комитетом вигов, угощающим богачей шампанским, а бедняков — маргарином в таких удобных пропорциях, что все люди сразу преисполняются довольством, хотя из мира исчезает все радующее глаз, а место Гомера занимает Хаксли{11}? И все же, поверьте, именно это виделось мне, когда я вынуждал себя заглядывать в будущее: как мне казалось тогда, едва ли кто считал стоящим бороться против подобного конца цивилизации. Итак, я неизбежно должен был бы стать пессимистом, если бы каким-то образом меня не осенило, что среди этой грязи начинают появляться зародыши той великой силы, которую мы зовем социальной революцией. Благодаря этому открытию я увидел мир в ином свете, и, чтобы стать социалистом, мне оставалось лишь одно — окончательно связать себя с практическим движением, что, как я сказал раньше, я и постарался сделать в меру своих сил.
Таким образом, изучение истории, любовь к искусству и занятия ими возбудили во мне ненависть к цивилизации, которая, если бы все застыло на месте, превратила бы историю в бессвязную несуразицу, а искусство — в коллекцию любопытных безделушек прошлого, утративших всякую реальную связь с настоящим.
Но предвидение революции, созревающей в нашем ненавистном современном обществе, помешало мне, большему счастливцу в сравнении с другими художниками, стать, с одной стороны, просто хулителем «прогресса», а с другой — не позволило попусту растрачивать время и энергию на какие-либо бесчисленные проекты, с помощью которых мнимохудожественные натуры из средних классов надеются развивать искусство в условиях, когда оно вовсе лишилось корней. Так я стал социалистом.
Еще несколько слов. Возможно, кое-кто из наших друзей спросит, а какое мы имеем отношение к истории и искусству? Мы хотим с помощью социал-демократических преобразований добиться благопристойной жизни, — мы хотим как-то жить, и жить теперь же. Разумеется, кто считает проблему искусства и образования более важной в сравнении с проблемой желудка (а некоторые придерживаются именно такого мнения), тот не понимает существа искусств, не понимает, что искусство должно уходить своими корнями в почву безмятежной процветающей жизни. Но все-таки нужно помнить, что цивилизация обрекла труженика на такое жалкое и худосочное существование, что он едва может представить себе жизнь лучшую, чем та, которую он вынужден теперь вести. Искусство должно нарисовать для него правдивый идеал полнокровной и разумной жизни, жизни, в которой восприятие и создание красоты — иными словами, подлинные наслаждения и радость — будут для человека такой же потребностью, как и хлеб насущный. И ни один человек, ни одна группа людей не могут быть лишены этих радостей иначе, как путем насилия, против которого необходимо всеми силами бороться.
Цели искусства
Раздумывая о целях искусства, иными словами, решая вопрос, почему люди любят искусство, усердно стараясь развивать его, я вынужден обратиться к опыту единственного представителя человечества, о котором я кое-что знаю, а именно к самому себе. Когда я размышляю о том, к чему стремлюсь, то нахожу только одно слово — счастье. Я хочу быть счастлив, пока живу, ибо что касается смерти, то, никогда не испытав ее, я и не представляю, что она значит, и потому мой ум не может даже примириться с ней. Я знаю, что значит жить, но не могу догадаться, что значит умереть. Итак, я хочу быть счастливым, а иногда, говоря по правде, даже веселым, и мне трудно поверить, чтобы такое желание не было всеобщим. И все, что стремится к счастью, я стараюсь взрастить, насколько это в моих силах. Помимо того, когда я, далее, задумываюсь над своей жизнью, то обнаруживаю, что она, как мне кажется, находится под влиянием двух преобладающих стремлений, которые, за неимением лучших слов, я должен назвать стремлением к деятельности и стремлением к праздности. То одно, то другое, но всегда они дают о себе знать, требуя удовлетворения. Когда мною владеет стремление к деятельности, я должен что-то делать, иначе мною овладевает хандра и мне становится не по себе. Когда же на меня нисходит стремление к праздности, то мне становится тяжело, если я не могу отдохнуть и предоставить своему уму поблуждать среди всевозможных картин, приятных или ужасных, которые подсказаны либо моим личным опытом, либо общением с мыслями других людей, живых или умерших. И если обстоятельства не позволяют отдаться этой праздности, то в лучшем случае я должен пройти сковозь терзания, пока мне не удастся возбудить энергию, чтобы она заняла место праздности и снова меня осчастливила. И если у меня нет способа возбудить энергию, чтобы она выполнила свой долг, вернув мне радость, и если я должен трудиться вопреки желанию ничего не делать, то я в самом деле чувствую себя несчастным и почти хотел бы умереть, хотя мне и неизвестно, что такое смерть.
Кроме того, я вижу, что если в праздности меня развлекают воспоминания, то, когда я отдаюсь стремлению к деятельности, меня радует надежда. Эта надежда бывает порой большой и серьезной, а иногда и пустой, но без нее не может возникнуть благотворная энергия. И снова я понимаю, что если иногда я могу дать выход желанию действовать, просто применяя его в работе, результат которой длится не более текущего часа — в игре, говоря короче, — то это желание быстро истощается, сменяется вялостью из-за того, что надежда, связанная с работой, была ничтожна, а то и вовсе едва ощущалась. В целом же, чтобы удовлетворить овладевшее мною стремление, я должен либо что-то делать, либо заставить себя поверить, что я что-то делаю.
Так вот я считаю, что в жизни всех людей в различных пропорциях преобладают эти два стремления и что это объясняет, почему люди всегда любили искусство и более или менее усердно занимались им, а иначе зачем же им нужно было прикасаться к искусству и таким образом увеличивать труд, которым, хотели они того или нет, им приходилось заниматься, чтобы жить? Вероятно, это доставляло им наслаждение, ведь только в очень развитых цивилизациях человек в силах заставлять других работать на себя, чтобы сам он мог создавать художественные произведения, в то время как к народному творчеству были причастны все люди, оставившие по себе какой-либо след.
Никто, полагаю, не склонен отрицать, что цель искусства — доставлять радость человеку, чьи чувства созрели для его восприятия. Произведение искусства создается, чтобы делать человека счастливее, развлекать его в часы досуга или покоя, чтобы пустота, это неизбежное зло таких часов, уступила место приятному созерцанию, мечтам или чему угодно. И в этом случае не так-то быстро вернутся к человеку энергия и желание работать: ему захочется еще новых и более тонких наслаждений.
Умиротворять беспокойство — вот, очевидно, одна из главных целей искусства. Насколько я знаю, среди ныне живущих есть одаренные люди, единственный порок которых — неуравновешенность, и это, по-видимому, единственное, что мешает им быть счастливыми. Но и этого достаточно. Неуравновешенность — это изъян в их душевном мире. Она превращает их в несчастных людей и плохих граждан.
Но, согласившись, что привести человека в душевное равновесие — это и есть важнейшая задача искусства, спросим, какой ценой мы ее добиваемся. Я признал, что занятие искусством обременило человечество дополнительным трудом, хотя убежден, что так будет не всегда. Да и кроме того, увеличив труд человека, увеличило ли оно к тому же и его страдания? Всегда находятся люди, готовые тотчас же ответить на этот вопрос утвердительно. Существовали и существуют два типа людей, не любящих и презирающих искусство как постыдную глупость. Помимо набожных отшельников, которые считают его мирским наваждением, мешающим людям сосредоточиться на мыслях о спасении или о гибели души в другом мире, отшельников, которые ненавидят искусство, ибо думают, что оно способствует земному счастью человека, — помимо них, существуют также люди, которые, рассматривая жизненную борьбу с самой, по их мнению, разумной точки зрения, презирают искусство, полагая, что оно усугубляет рабство человека тем, что увеличивает бремя его труда. Если бы дело было в этом, то, на мой взгляд, оставался бы нерешенным вопрос: разве не стоит перенести новую тяжесть труда ради новых дополнительных радостей в отдыхе, — признавая, разумеется, всеобщее равенство. Но дело вовсе не в том, по-моему, что занятия искусством усугубляют наш и без того обременительный труд. Нет, напротив, я считаю, что если бы это было так, искусство вовсе никогда бы не возникло и, разумеется, мы никогда бы его не находили у народов, среди которых цивилизация существовала только в зачатке. Говоря другими словами, я убежден, что искусство никогда не может быть плодом внешнего принуждения. Труд, создающий его, доброволен и частично предпринимается ради самого труда, а частично — в надежде создать нечто, что, появившись, доставит наслаждение потребителю. Или опять-таки этот дополнительный труд — когда он на самом деле дополнительный — предпринимается, чтобы дать выход энергии, направив ее на создание чего-либо достойного и потому способного пробудить в труженике, когда он работает, живую надежду. Вероятно, трудно объяснить людям, лишенным художественного чутья, что работа искусному ремесленнику всегда доставляет известное чувственное наслаждение, когда он выполняет ее успешно, и оно усиливается пропорционально независимости и индивидуальности его труда. Вы должны также понять, что такого рода творчество и получаемое от него наслаждение не ограничиваются возданием только художественных произведений вроде картин, статуй и прочего, но в той или иной форме сопровождает и должно сопровождать всякий труд. Только на этом пути найдет себе выход наша энергия.
Поэтому цель искусства — увеличивать счастье людей, наполняя их досуг красотой и интересом к жизни, не давая им уставать даже от отдыха, утверждая в них надежду и вызывая физическое наслаждение от самого труда. Короче говоря, цель искусства — сделать труд человека счастливым, а отдых плодотворным. И, следовательно, подлинное искусство — неомраченное благо для рода человеческого.
Но так как у слова «подлинный» множество значений, я должен испросить разрешения попытаться извлечь из своего рассуждения о целях искусства кое-какие практические выводы, которые, как я предполагаю и даже надеюсь, вызовут спор, ибо только поверхностный разговор об искусстве не затрагивает социальных проблем, побуждающих задумываться всех серьезных людей. Ведь искусство — богато ли оно или бесплодно, искренне или бессодержательно — является и должно являться выражением общества, в котором оно существует.
Прежде всего мне ясно, что в настоящее время люди, наиболее широко и глубоко воспринимающие положение дел, совершенно не удовлетворены современным состоянием искусств, точно так же как и современным состоянием общества. И это я утверждаю, вопреки тому мнимому оживлению искусства, которое имело место в последние годы. Действительно, весь этот шум вокруг искусства среди части образованной публики наших дней показывает только, насколько обоснована вышеупомянутая неудовлетворенность. Сорок лет назад было намного меньше разговоров об искусстве, намного меньше им занимались, чем теперь. И это особенно верно в отношении архитектурного искусства, о котором по преимуществу мне и предстоит теперь говорить. Люди с тех пор сознательно стремились воскресить в искусстве дух прошлого, и внешне дело обстояло благополучно. Тем не менее я должен сказать, что, несмотря на эти сознательные усилия, сорок лет назад жить в Англии для человека, способного чувствовать и понимать красоту, было не столь мучительно, как теперь. И мы, понимающие значение искусства, хорошо знаем, хотя и не часто осмеливаемся об этом говорить, что через сорок лет жить здесь будет еще грустнее, если мы по-прежнему будем следовать дорогой, по которой идем теперь. Около тридцати лет назад я впервые увидел город Руан{1}, который в то время по своему внешнему облику все еще оставался фрагментом средних веков. Нельзя выразить словами, как заворожили меня красота, романтика и носившийся над ним дух былых времен. Оглядываясь на свою прошлую жизнь, я могу только сказать, что видеть этот город было для меня самым большим наслаждением, какое я когда-либо испытал. А теперь и впредь такого наслаждения уже никому не испытать: для мира оно утрачено навсегда.
В то время я заканчивал Оксфорд. Хотя и не столь удивительный, не столь романтичный и на первый взгляд не столь средневековый, как тот нормандский город, Оксфорд все еще сохранял в ту пору большую часть своего былого очарования, и облик его тогдашних сумрачных улиц на всю жизнь остался для меня источником вдохновения и радости, которая была бы еще глубже, если бы я только мог забыть, что эти улицы представляют собой теперь. Все это могло бы иметь для меня гораздо большее значение, чем так называемое обучение, хотя тому, о чем я говорил, никто не пытался меня обучать, а сам я и не стремился учиться. С тех пор блюстители красоты и романтики, столь благодатных для образования, якобы занятые «высшим образованием» (так называется та бесплодная система компромиссов, которой они следуют), полностью игнорировали эту красоту и романтику и, вместо того чтобы их охранять, отдали их во власть коммерческих людей и явно намерены уничтожить их полностью. Словно дым исчезла еще одна радость мира. Без малейшей пользы, без причины, самым глупым образом красота и романтика снова отброшены прочь.
Я привожу эти два примера просто потому, что они запали мне в память. Они типичны для того, что происходит в цивилизованном мире повсюду, Мир везде становится более безобразным и более шаблонным, невзирая на сознательные и весьма энергичные усилия небольшой кучки людей, усилия, направленные на возрождение искусства и так явно не совпадающие с тенденцией века, что, в то время как необразованные ничего об этих усилиях не слышали, масса образованных воспринимает их просто как шутку, которая, однако, теперь начинает даже приедаться.
Если правда, как я утверждал, что подлинное искусство — это неомраченное благо для мира, то все это очень серьезно, ибо на первый взгляд создается впечатление, что скоро вообще не останется искусства в мире, который таким образом утратит свое неомраченное благо. Думаю, что мир не очень-то может себе позволить это.
Ибо искусство, если ему суждено погибнуть, уже выдохлось и цель его вскоре окажется забытой, а цель эта — сделать труд отрадным и отдых плодотворным. Что же, тогда любой труд должен стать безотрадным, а любой отдых — бесплодным? Действительно, если искусству суждено погибнуть, то дело примет именно такой оборот, ежели только что-нибудь другое не придет искусству на смену — нечто такое, чему в настоящее время нет имени и о чем мы еще даже и не мечтаем.
Я не думаю, что вместо искусства придет что-нибудь другое, и не потому, что сомневаюсь в изобретательности человека, которая, видимо, безгранична в отношении возможности делать самого себя несчастным, но потому, что я верю в неиссякаемость родников искусства в человеческой душе, а также потому, что вовсе не трудно увидеть причины нынешнего упадка искусства.
Ибо мы, культурные люди, отвернулись от искусства не сознательно и ire по доброй воле: нас вынудили отвернуться от него. В качестве иллюстрации я, вероятно, могу указать на применение машин для производства предметов, в которых возможны элементы художественной формы. Для чего нужна разумному человеку машина? Несомненно для того, чтобы сэкономить его труд. Какие-то вещи машина может делать столь же хорошо, как и человеческая рука, вооруженная инструментом. Человеку не нужно, например, молоть зерно на ручной мельнице — небольшая струя воды, колесо и несколько простых приспособлений прекрасно выполнят эту работу и дадут ему возможность, покуривая трубку, размышлять или же покрывать резьбой рукоятку своего ножа. В этом состояло до сих пор чистое преимущество применения машин, всегда при этом — запомните это — предполагая всеобщее равенство возможностей. Искусство не утрачивается, но выигрывается время для досуга или для более приятного труда. Возможно, совершенно разумный и независимый человек остановился бы на этом в своих взаимоотношениях с машинами, но слишком трудно ждать такого благоразумия и независимости, так что сделаем далее еще один шаг вслед за нашим изобретателем машин. Он должен ткать простую материю, но, с одной стороны, находит это занятие скучным, а с другой стороны, считает, что электрический ткацкий станок сумеет выткать эту же материю почти так же хорошо, как и ручной станок: поэтому, желая получить больше досуга или времени для более приятной работы, он применяет электрический ткацкий станок и соглашается на небольшое ухудшение ткани. Но при этом он не получил чистого выигрыша в искусстве; он пошел на сделку между искусством и трудом и получил в результате неполную замену. Я не говорю, что, поступая так, он, возможно, неправ, но считаю, что он потерял ровно столько, сколько и приобрел. Вот так именно человек разумный и ценящий искусство будет действовать в отношении машинной техники, пока он свободен, то есть пока его не заставили работать ради прибыли другого человека, пока он живет в обществе, признавшем необходимость всеобщего равенства. Но передвиньте создающий художественное произведение станок еще на один шаг, и человек утрачивает свое превосходство, если даже он независим и ценит искусство, Чтобы избежать недоразумения, я должен сказать, что имею в виду современную машину, которая оказывается словно бы живой и по отношению к которой человек становится придатком, но не старую машину, не тот улучшенный инструмент, который был придатком к человеку и работал, лишь пока его направляла рука. Хотя, — замечу, — как только речь пойдет о более высоких и сложных формах искусства, мы должны отбросить даже такие элементарные приспособления. Да, что касается собственно машин, применяемых для художественного производства, то, когда их употребляют для целей более высоких, чем производство предметов первой необходимости, лишь случайно наделенных кое-какой красотой, разумный, понимающий искусство человек применит их только в том случае, если его к этому принуждают. Если ему, к примеру, нравится орнамент, но он считает, что машина не может достойно выполнить его, а сам он не хочет тратить время, чтобы сделать его как следует, то зачем он вообще должен его делать? Он не захочет сократить свой досуг, чтобы делать такое, чего он не хочет, если только другой человек или группа людей его не заставят. Следовательно, он либо обойдется без орнамента, либо пожертвует частью досуга, чтобы создать настоящий орнамент. Последнее будет показателем, что он очень желает этого и что орнамент будет стоить его труда; в этом случае, кроме того, работа над орнаментом не будет тягостной, но заинтересует его и доставит ему наслаждение, удовлетворяя его энергию.
Так поступал бы, я полагаю, разумный человек, если бы он был свободен от принуждения со стороны другого человека. Не будучи свободен, он поступает совсем по-иному. Он уже давно прошел ту стадию, когда машины применяются лишь для выполнения работы, вызывающей у обыкновенного человека отвращение, или такой работы, которую машина могла бы сделать так же хорошо, как и человек. И если нужно произвести какую-нибудь промышленную продукцию, он каждый раз инстинктивно ждет, чтобы была изобретена машина. Он — раб машин; новая машина должна быть изобретена, а после того как ее изобретут, он должен — не скажу: использовать ее, — но быть ею использованным, хочет ли он того или нет. Но почему же он раб машин? — Потому что он раб системы, для существования которой изобретение машин оказалось необходимым.
Теперь я должен отбросить, а может быть, уже и отбросил допущение о равенстве условий и напомнить, что, хотя в каком-то смысле все мы рабы машин, все же некоторые люди непосредственно, а вовсе не метафорически являются таковыми, и они — именно те люди, от которых зависит большая часть искусств, то есть рабочие. Для системы, удерживающей их в положении низшего класса, необходимо, чтобы они либо сами были машинами, либо слугами машин и ни в коем случае не проявляли интереса к продукции, которую выпускают. Пока они являются для своих предпринимателей рабочими, они составляют часть машинного оборудования мастерской или фабрики; в своих же собственных глазах они — пролетарии, то есть человеческие существа, работающие, чтобы жить, и живущие, чтобы работать: роль ремесленников, создателей вещей по собственной доброй воле, ими давно уже сыграна.
Рискуя вызвать упреки в сентиментальности, я намерен заявить, что коль скоро это так, коль скоро труд, изготовляющий вещи, которые должны быть художественными, стал лишь бременем и рабством, то я радуюсь, что по крайней мере он не в состоянии создавать искусство и что его продукция лежит где-то посредине между окоченевшей утилитарностью и бездарнейшей подделкой.
Но в самом ли деле это только сентиментально? Мы, научившись видеть связь между промышленным рабством и упадком искусств, научились также надеяться на будущее этих искусств, ибо несомненно придет день, когда люди сбросят ярмо и откажутся мириться с искусственным принуждением спекулятивного рынка, который вынуждает их тратить свои жизни на бесконечный и безнадежный труд. И когда этот день наконец придет и люди станут свободными, возродится и их чувство прекрасного и их воображение, и они создадут такое искусство, какое им нужно. Кто может утверждать, что оно не превзойдет настолько искусство прошлых столетий, насколько последнее превосходит те несовершенные реликвии, которые останутся от нынешнего коммерческого века?
Несколько слов по поводу одного возражения, которое часто выдвигают, когда я говорю на эту тему. Могут сказать и обычно говорят: «Вам жалко искусства средних веков (это действительно так!), но создавшие его люди не были свободны; они были крепостными, были цеховыми ремесленниками, зажатыми в стальных тисках торговых ограничений; у них не было политических прав, и они подвергались самой беспощадной эксплуатации со стороны своих хозяев из благородного сословия». Что ж, я вполне допускаю, что угнетение и насилие средневековья повлияли на искусство того времени. Его недостатки, несомненно, вызваны этими явлениями, они в известной степени подавляли искусство. Но именно поэтому я говорю, что, когда мы сбросим с себя нынешний гнет, как сбросили старый, мы сможем ожидать, что искусство эпохи подлинной свободы превзойдет искусство прежних жестоких времен. Однако я утверждаю, что органическое, общественное многообещающее передовое искусство было в те времена возможно, тогда как жалкие образцы его, которые остаются теперь, являются плодами безнадежных индивидуальных усилий, и они пессимистичны и обращены в прошлое.
И то оптимистическое искусство может существовать посреди всего угнетения прошлых дней потому, что орудия угнетения были тогда совершенно явными и выступали как нечто внешнее по отношению к труду ремесленника. Это были законы и обычаи, открыто предназначенные ограбить его, и то было явное насилие, вроде разбоя на большой дороге. Короче говоря, промышленное производство не было тогда орудием ограбления «низших классов»; теперь же оно — главное орудие этого глубокочтимого занятия. Средневековый ремесленник был свободен в своем труде, поэтому он делал для себя из него, насколько было возможно, забаву, и поэтому все красивое, что выходило из его рук, говорило о наслаждении, а не о боли. Поток надежд и мыслей изливался на все, что человек создавал, начиная от собора и кончая простым горшком. Итак, попробуем выразить нашу мысль таким способом, чтобы это было наименее почтительно по отношению к средневековому ремесленнику и наиболее вежливо в отношении сегодняшнего «работника». Бедняга XIV века — его труд так мало ценился, что ему дозволялось тратить на него часы, услаждая себя — и других. Но у теперешнего перегруженного рабочего каждая минута очень дорога и вечно отягощена необходимостью выколачивать прибыль, и ему не дозволяется тратить на искусство ни одну из этих минут. Нынешняя система не позволяет ему — не может позволить — создавать художественные произведения.
Но странное явление возникло в наше время. Существует целое общество дам и джентльменов, действительно очень изысканных, хотя, вероятно, и не столь уж просвещенных, как то обычно думают, и множество представителей этой рафинированной группы действительно любит красоту и жизнь, иными словами — искусство, готовы на жертвы, чтобы его получить. Их возглавляют художники, обладающие большим мастерством и высоким интеллектом, и в целом — это немалых размеров организм, нуждающийся в художественных произведениях. Но произведений этих все же нет. А ведь множество этих требовательных энтузиастов — не бедняки и не беспомощные люди, не невежественные рыбаки, не полубезумные монахи, не легкомысленные оборванцы — короче говоря, ни один из тех, кто, заявляя о своих нуждах, раньше так часто сотрясал мир и будет еще снова его сотрясать. Нет, они — представители правящих классов, повелители людей: они могут жить, не трудясь, и располагают обильным досугом, чтобы поразмыслить, как воплотить в жизнь свои желания. И все же они, я утверждаю, не могут получить искусства, которого так, по-видимому, жаждут, хотя столь рьяно рыщут в поисках его по всему миру, сентиментально огорчаясь при виде жалкой жизни несчастных крестьян Италии и умирающих с голоду пролетариев ее городов, — ведь жалкие бедняки собственных наших деревень и наших собственных трущоб уже утратили всякую живописность. Да, и повсюду не много осталось им от действительной жизни, и это немногое быстро исчезает, уступая нуждам предпринимателя и его многочисленных оборванных рабочих, равно как и энтузиазму археологов, реставраторов мертвого прошлого. Скоро не останется ничего, кроме обманчивых грез истории, кроме жалких остатков в наших музеях и картинных галереях, кроме заботливо оберегаемых интерьеров наших изысканных гостиных, глупых и поддельных, достойных свидетельств развращенной жизни, которая там идет, жизни придавленной, скудной и трусливой, скорее скрывающей, чем подавляющей, естественные влечения, что не препятствует, однако, алчной погоне за наслаждениями, если только ее удается благопристойно скрыть.
Искусство исчезло и может быть «восстановлено» в своих прежних чертах ничуть не более, чем средневековое здание. Богатые и рафинированные люди не могут получить его, если и пожелали бы и если бы мы поверили, что иные из них могут его добиться. Но почему? Потому что тем, кто мог бы дать такое искусство богатым, они не позволяют его создавать. Иными словами, между нами и искусством лежит рабство.
Цель искусства, как я уже выяснил, — снять проклятие с труда, сделать так, чтобы наше стремление к деятельности выразилось в работе, доставляющей нам наслаждение и пробуждающей сознание, что мы создаем нечто достойное нашей энергии. И поэтому я говорю: так как мы не можем создать искусство, гоняясь только за его внешними формами, и не можем получить ничего, кроме поделок, то нам остается попробовать, что получится, если мы предоставим эти поделки самим себе и попытаемся, если сможем, сберечь душу подлинного искусства. Что касается меня, то я верю, что если мы попытаемся осуществлять цели искусства, не очень-то думая о его форме, то добьемся наконец того, чего хотим. Будет ли это называться искусством или нет, но это по крайней мере будет жизнь, а в конечном счете именно ее-то мы и жаждем. И жизнь может привести нас к новому величественному и прекрасному изобразительному искусству — к архитектуре с ее разносторонним великолепием, свободной от незавершенности и упущений искусства прежних времен, к живописи, соединяющей красоту, достигнутую средневековым искусством, с реализмом, к которому стремится искусство современное, а также к скульптуре, которой будут присущи изящество греков и выразительность Возрождения в сочетании с каким-то еще неведомым достоинством. Такая скульптура создаст фигуры мужчин и женщин, несравненные по жизненной правдивости и не теряющие выразительности, несмотря на превращение их в архитектурный орнамент, что должно быть характерно для подлинной скульптуры. Все это может осуществиться, в противном же случае мы забредем в пустыню и искусство умрет в нашей среде или же будет слабо и неуверенно пробиваться в мире, предавшем полному забвению прежнюю славу художеств.
При нынешнем состоянии искусства я не могу заставить себя считать, будто многое зависит от того, какой же из этих жребиев его ожидает. Каждый из них может заключать в себе надежду на будущее, ибо в области искусства, как и в других областях, надежда может полагаться только на переворот. Прежнее искусство больше не плодотворно и не рождает ничего, кроме утонченных поэтических сожалений. Бесплодное, оно должно лишь умереть, и дело отныне в том, как оно умрет — с надеждой или без нее.
Кто, например, уничтожил Руан или Оксфорд моих утонченных поэтических сожалений? Погибли ли они на пользу народа, отступая перед духовным обновлением и новым счастьем, или, быть может, они были поражены молнией трагедии, обычно сопровождающей великое возрождение? — Вовсе нет. Их красота сметена не строем пехоты и не динамитом, их разрушители не были ни филантропами и ни социалистами, ни кооператорами и ни анархистами. Их распродали по дешевке, они впустую растрачены из-за безалаберности и невежества глупцов, которым невдомек, что значит жизнь и радость, которые никогда не возьмут их себе и не дадут людям. Поэтому так уязвляет нас гибель этой красоты. Ни один здравомыслящий, нормально чувствующий человек не посмел бы сожалеть о подобных утратах, если бы они были платой за новую жизнь и счастье народа. Но народ все еще пребывает в том же положении, в каком он был прежде, все еще стоит лицом к лицу перед чудовищем, уничтожившим эту красоту и имя которому — коммерческая выгода.
Я повторяю, что все подлинное в искусстве погибнет от тех же рук, если такое положение продолжится достаточно долго, хотя псевдоискусство может занять его место и превосходно развиваться благодаря дилетантствующим и изысканным дамам и джентльменам и без всякой помощи со стороны низших классов. И, говоря откровенно, я опасаюсь, что этот несвязно бормочущий призрак искусства удовлетворит великое множество тех, кто сейчас считает себя любителями художеств, хотя нетрудно предвидеть, что и этот призрак будет вырождаться и превратится наконец в простое посмешище, если все останется по-прежнему, иными словами, если искусству суждено навсегда остаться развлечением так называемых дам и джентльменов.
Но я лично не верю, что все это будет продолжаться долго и зайдет далеко. И все-таки с моей стороны было бы лицемерием утверждать, будто я полагаю, что перемены в основании общества, которые освободят труд и создадут подлинное равенство людей, поведут нас краткой дорогой к великолепному возрождению искусства, о котором я упоминал, хотя я и совершенно уверен, что эти перемены коснутся и искусства, так как цели грядущего переворота включают и цели искусства: уничтожить проклятие труда.
Я полагаю, произойдет приблизительно следующее: машинное производство будет развиваться, экономя человеческий труд вплоть до того момента, когда массы людей обретут реальный досуг, достаточный для того, чтобы оценить радость жизни, и когда они на самом деле добьются такого господства над природой, что не будут больше бояться голода как наказания за недостаточно изнурительный труд. Когда они достигнут этого, они, несомненно, изменятся сами и начнут понимать, что действительно хотят делать. Они вскоре убедятся, что чем меньше они будут работать (я имею в виду работу, не связанную с искусством), тем более желанной им будет представляться земля. И они будут работать все меньше и меньше, пока то стремление к деятельности, с которого я начал свой разговор, не побудит их со свежими силами приняться за труд. Но к тому времени природа, почувствовав облегчение, потому что легче стал труд человека, снова обретет былую красоту и станет учить людей воспоминаниями о древнем искусстве. И тогда, когда недород искусств, который был вызван тем, что люди трудились ради прибыли хозяина, и который теперь считается чем-то естественным, уйдет в прошлое, люди почувствуют свободу делать что хотят и откажутся от своих машин во всех случаях, когда ручной труд покажется им приятным и желанным. Тогда во всех ремеслах, творивших некогда красоту, станут искать самую прямую связь между руками человека и его мыслью. И появится также множество занятий — в частности, возделывание земли, — где добровольное применение энергии будет считаться таким восхитительным, что людям даже в голову не придет бросать это удовольствие в пасть машине.
Короче говоря, люди поймут, что наше поколение было неправо, когда сначала увеличивало число своих потребностей, а затем пыталось — причем это делал каждый — увильнуть от всякого участия в труде, посредством которого эти потребности удовлетворялись. Люди увидят, что современное разделение труда в действительности есть лишь новая и преднамеренная форма наглого и косного невежества, форма значительно более опасная для счастья и удовлетворенности жизнью, чем невежество в отношении явлений природы, которое мы иногда называем наукой и в котором люди прошлых лет бездумно пребывали.
В будущем откроют или, вернее, заново узнают, что подлинный секрет счастья — ощущать непосредственный интерес ко всем мелочам повседневной жизни, возвышать их с помощью искусства, а не пренебрегать ими, препоручая труд над ними равнодушным поденщикам. В случае, если невозможно возвысить эти мелочи жизни и сделать их интересными или облегчить труд над ними с помощью машины так, чтобы он стал совсем пустяковым, это явится показателем, что польза, которая ожидалась от этих мелочей, не стоит возни с ними и лучше от них отказаться. Все это, по-моему, окажется результатом того, что люди сбросят с себя иго недорода искусств, если, разумеется, — а я не могу этого не предполагать, — в них будут все еще живы импульсы, которые, начиная с первых шагов истории, побуждали людей заниматься искусством.
Так и только так может произойти возрождение искусства, и я думаю, что так оно и произойдет. Вы можете сказать, что это длительный процесс, и это на самом деле так. Он, думаю, может оказаться и еще более долгим. Я изложил социалистический или оптимистический взгляд на мир. Теперь наступает черед изложить пессимистический взгляд.
Предположим, бунт против недорода искусств, против капитализма, который теперь разворачивается, будет подавлен. В результате рабочие — рабы общества — будут опускаться все ниже и ниже. Они не станут бороться против одолевающей их силы, но, побуждаемые любовью к жизни, зароненной в нас природой, которая всегда заботится о продлении рода человеческого, выучатся переносить все — и голод, и изнурительный труд, и грязь, и невежество, и жестокость. Все это они будут переносить, как переносят, увы, слишком терпеливо даже теперь — будут переносить, чтобы не рисковать сладкой жизнью и горьким куском хлеба, и в них истлеют последние искры надежды и мужества.
Не в лучшем положении окажутся и их хозяева: повсюду, кроме разве необитаемой пустыни, земля станет омерзительной, искусство совсем погибнет. И подобно народным художественным ремеслам, литература тоже станет, как это уже происходит в наши дни, простым набором благонамеренных, рассчитанных глупостей и бесстрастных выдумок. Наука будет становиться все более и более односторонней, несовершенной, многословной и бесполезной, пока в конечном счете она не превратится в такое нагромождение предрассудков, что рядом с ней богословские системы прежних времен будут казаться воплощением разума и просвещения. Все будет падать ниже и ниже, пока героические стремления прошлого осуществить надежды не будут из года в год, от века к веку предаваться все большему забвению и человек превратится в существо, лишенное надежд, желаний, жизни, существо, которое и вообразить трудно.
И будет ли хоть какой-то выход из подобного состояния? — Возможно. После какой-либо ужасной катастрофы человек, вероятно, научится стремиться к здоровой животной жизни и начнет превращаться из сносного животного в дикаря, из дикаря — в варвара и так далее. Пройдут тысячелетия, прежде чем он снова возьмется за те искусства, которые мы теперь утратили, и, подобно новозеландцам или первобытным людям ледникового периода, начнет покрывать резьбой кости и изображать животных на их отполированных лопатках.
Но в любом случае — согласно пессимистическому взгляду, который не признает возможность победы в борьбе против недорода искусств, — мы должны будем снова брести по этому кругу, пока какая-нибудь катастрофа, какое-нибудь непредвиденное последствие перестройки жизни не покончит с нами навсегда.
Я не разделяю этого пессимизма, но, с другой стороны, я и не полагаю, будто целиком от нашей воли зависит, будем ли мы содействовать прогрессу или вырождению человечества. Но все же, поскольку есть еще люди, склонные к социалистическому или оптимистическому мировоззрению, я должен в заключение сказать, что есть известная надежда на торжество этого мировоззрения и что напряженные усилия многих личностей свидетельствуют о присутствии силы, подталкивающей их вперед. Таким образом, я верю, что эти «Цели искусства» будут достигнуты, хотя и знаю, что это произойдет лишь при условии, что тирания недорода искусств будет повержена. Еще раз я предостерегаю вас, — вас, кто, возможно, особенно любит искусство, — от мысли о том, будто вы можете совершить что-либо доброе, когда, стремясь оживить искусство, будете заниматься только его внешней и мертвой стороной. Я утверждаю, что должно скорее стремиться к осуществлению целей искусства, нежели к самому искусству, и, лишь сохраняя верность этому стремлению, мы можем почувствовать пустоту и оголенность нынешнего мира, ибо, любя искусство по-настоящему, мы по крайней мере не позволим себе терпимо относиться к его подделке.
Во всяком случае, самое худшее, что с нами может случиться, — и я призываю вас с этим согласиться, — это покорность злу, которое для нас очевидно; никакие болезни и никакая сумятица не принесут больших бед, чем эта покорность. К неизбежным разрушениям, которые приносит перестройка, следует отнестись спокойно, и повсюду — в государстве, в церкви, у себя дома — мы должны решительно настроиться против любого вида тирании, не принимать никакой лжи, не малодушествовать перед тем, что нас страшит, хотя ложь и малодушие могут предстать перед нами в обличье набожности, долга или любви, здравого смысла или уступчивости, мудрости или доброты. Грубость мира, его ложь и несправедливость рождают свои естественные последствия, и мы, и наша жизнь — часть этих последствий. Но так как мы исследуем также и результаты векового сопротивления этим проклятиям, то давайте же все вместе позаботимся получить справедливую долю и этого наследия, которое если и не даст ничего другого, то по крайней мере пробудит в нас мужество и надежду, то есть живую жизнь, а это больше всего другого и есть подлинная цель искусства.
Искусство народа
И люди труда тратили свою силу в повседневной борьбе ради насущного хлеба, дабы укрепить ту жизненную силу, что уходит на труд, живя, таким образом, в ежедневном круговороте скорби, живя лишь только для того, чтобы трудиться, и трудясь лишь для того, чтобы жить, словно хлеб насущный является единственной целью однообразно-утомительного существования, а однообразно-утомительное существование — единственной возможностью для получения хлеба насущного.
Даниэль ДефоЯ знаю, что большинство здесь присутствующих либо уже занимаются изящными искусствами, либо получают для этой цели специальное образование. И, вероятно, от меня ждут, что я обращусь именно к ним. Но поскольку не может быть сомнения, что мы собрались здесь, движимые одним интересом к тому, что затрагивает искусство, я хотел бы обратиться ко всем вам как представителям общественности вообще. В самом деле, те из вас, кто специально изучает искусство, может узнать от меня немного того, что будет полезно вам одним. Вы уже учитесь под руководством компетентных учителей, — мне приятно было это узнать. Они применяют такие методы, которые должны научить вас всему, что нужно, если вы только правильно выбрали свое призвание, если стремитесь к верной цели и если вы в какой-то мере понимаете, что такое искусство, а уяснить это можно без всяких слов, если твердо следовать по пути, который вам указало врожденное чувство. Если же с вами обстоит по-другому, то никакая система и никакие учителя не помогут вам создать подлинное искусство. Настоящие художники среди вас хорошо знают, что я мог бы специально посоветовать вам. Этот совет состоит из немногих слов: подражайте природе, изучайте древность, создавайте свое собственное искусство, не крадите его, не щадите сил, терпения и мужества, стремясь выполнить тяжелую задачу, которую вы на себя возложили. Я не сомневаюсь, что вам говорили все это не один раз, и еще чаще говорили вы это самим себе, и теперь это повторяю я, не принося тем самым ни вам, ни себе ни пользы, ни вреда. Так все это верно, так хорошо известно и так трудно осуществимо.
Но для меня и, надеюсь, для вас искусство — это нечто весьма серьезное, и его ни в коем случае нельзя обособить от важных предметов, которые занимают мысли людей; существуют принципы, лежащие в основе занятий искусством, на которые могут — нет, должны — опираться все серьезно мыслящие люди. И я прошу позволения говорить именно о некоторых из этих принципов и обратиться не только к тем, кто сознательно интересуется искусством, но также и к тем, кто думает о том, что обещает и чем угрожает нашим потомкам развитие цивилизации и какие надежды и опасения внушает будущее искусств, которые родились вместе с цивилизацией и умрут лишь с ее смертью. Ведь нельзя забывать, что нынешний период борьбы, сомнений и колебаний — это подготовка к грядущему, когда должны наступить перемены, стихнуть конфликты и рассеяться сомнения. Именно этот вопрос, повторяю, действительно важен и может серьезно интересовать всех думающих людей.
Более того, он настолько всеобъемлюще важен, что, боюсь, вы можете подумать, будто я беру на себя слишком много, выступая перед вами по такому важному вопросу. Но я и не дерзнул бы выступить перед вами, если бы не чувствовал, что в этот вечер я всего лишь рупор людей лучших, чем я, и что я разделяю их надежды и опасения; именно поэтому я тем более чувствую потребность выразить, если буду в состоянии, все, что думаю по этому поводу. Ведь я нахожусь в городе, где более, чем где-либо, люди не довольствуются жизнью только для себя и для настоящего, но считают своим долгом внимательно наблюдать за назревающими переменами, дабы содействовать новому, или же обогатиться самим той правдой, которая в них сокрыта. Поскольку вы оказали мне высокую честь, избрав меня в прошлом году президентом Ассоциации искусств, и просили меня выступить перед вами в сегодняшний вечер, я бы нарушил свой долг, если бы не высказал откровенно и в меру своих сил все то, что могло бы, по-моему, оказаться вам полезным. И в самом деле, я, думаю, нахожусь среди друзей, которые, вероятно, простят мне опрометчивые высказывания, но едва ли простят высказывания неискренние.
Цель вашей Ассоциации и Школы искусств, насколько я понимаю, развивать эти искусства посредством широкого распространения образования. Это весьма большая задача и вполне достойна репутации этого большого города. Но поскольку за Бирмингемом, к счастью, сохраняется репутация города, не терпящего бессмыслицы и помпы, вы, на мой взгляд, должны отчетливо сознавать, что именно намерены развивать с помощью этих учреждений, в самом ли деле вы стремитесь к этим целям или же беретесь за дело нехотя. Принимаете ли вы их, короче говоря, всем сердцем, неразрывно ли с этими целями связана ваша жизнь и воля или же вы, в сущности, против них, но слышали, что не так уж плохо проявить к этому делу интерес?
Если вас удивляет, почему я ставлю перед вами этот вопрос, то я скажу, почему это делаю. Среди нас есть люди, которые любят искусство превыше всего, — можно сказать, самым преданным образом, и им, несомненно, известно, что такая любовь в наши дни редкость. Мы не можем не видеть, что помимо большого числа людей убогих и грубых по уму и привычкам — бедные люди! — лишенных каких-либо надежд или возможностей в мире искусств, существует множество возвышенно настроенных, мыслящих и культурных людей, которые в глубине души полагают, что искусства — это нелепое порождение цивилизации, — даже хуже того, помеха, болезнь, препятствие к прогрессу человечества. Некоторые из таких людей несомненно заняты другими сторонами мыслительной деятельности. Они настолько, я бы сказал, полно поглощены наукой, политикой и всем, чем угодно, что, отдаваясь своему упорному и похвальному труду, по необходимости сузили свой кругозор. Но коль скоро таких людей немного, то нельзя объяснить, почему так распространено мнение, будто искусство — в лучшем случае пустое дело.
Что же случилось с нами или с искусствами, если то, что некогда восхищало людей, теперь считается пустяком?
Этот вопрос не из легких, и, чтобы поставить его яснее, я хотел бы сказать, что те, от кого зависит направление современной мысли, в большинстве случаев откровенно и прямодушно ненавидят и презирают искусства, а вам хорошо известно: каковы руководители, таким должен быть и народ. А из этого следует, что, толкуя о намерении развивать искусство посредством широкого образования, мы либо обманываем себя и тратим напрасно время, поскольку в один прекрасный день мы будем придерживаться того же мнения, что и упомянутые откровенные отрицатели искусства, либо же мы представляем меньшинство, которое право, как порой бывает право меньшинство, в то время как вышеупомянутые достойные люди, вместе с громадной массой своих образованных единомышленников, ослеплены неблагоприятными обстоятельствами.
В данном случае, надеюсь, мы все придерживаемся этого мнения — мнения меньшинства, обладающего правотой. Надеюсь, мы уверены, что искусства, с целью развития которых мы встретились вместе, необходимы для жизни человека, если только развитие цивилизации не столь же бесцельно, как бесполезное вращение ничего не производящего колеса.
Каким же образом мы, меньшинство, выполним долг, накладываемый на нас нашим положением и заключающийся в том, чтобы стремиться стать большинством?
Если бы только мы могли разъяснить этим думающим людям и тем миллионам, лучшей частью которых они являются, что представляет собой дело, которое мы любим и которое для нас подобно хлебу, который мы едим, и воздух, которым дышим; дело, о котором они ничего не знают и к которому ничего не чувствуют, кроме смутного инстинктивного отвращения, то тогда были бы посеяны семена победы. Сделать это, конечно, трудно, и все же если мы углубимся в одну из глав древней или средневековой истории, то у нас, может, и промелькнет мысль о возможности сделать это. Возьмите, к примеру, одно из столетий в истории Византийской империи, возьмите на себя утомительный труд и прочтите имена доктринеров, тиранов и откупщиков, которым ужасная цепь, выкованная давно умершим Римом, все еще давала возможность обманывать народ, внушая ему мысль, будто они — неизбежные хозяева мира. Обратитесь затем к странам, которыми они управляли, прочтите и забудьте длинный перечень бессмысленных убийств, совершенных северными и сарацинскими пиратами и разбойниками. Таков преобладающий итог тех сведений, которые так называемая история сохранила нам от тех дней, — бессилие глупцов и злые дела царей и авантюристов. Следует ли нам, в таком случае, отвернуться от истории и сказать, что вся она преисполнена злом? Но какова же была тогда повседневная жизнь людей? Как же тогда Европа доросла до разумного существования и свободы? По-видимому, были и другие люди, помимо тех, чьи имена и дела так называемая история сохранила нам. Этих людей, сырье для государственной казны и невольничьего рынка, мы теперь называем «народом» и знаем, что они непрестанно трудились. Да, так, и их работа не была просто рабским трудом с кормушкой перед ними и бичом за их спинами. И хотя так называемая история забыла их, — их труд не был забыт, а составил другую историю — историю искусства. Ни на Востоке, ни на Западе нет ни одного древнего города, в котором бы не сохранилось следов их горестей, радостей или надежд. От Исфагана до Нортумберленда нет ни одного здания, построенного между VII и XVII столетиями, не несущего в себе труда этого угнетенного и презираемого людского стада. Правда, ни один из них не возвысился над своими собратьями. Среди них не было ни Платона{1}, ни Шекспира, ни Микеланджело. И все же, рассеянная среди многих людей, как сильна была их мысль, как долго оставалась верной себе! Какое далекое путешествие совершила!
И такова была эта мысль все время, пока искусство было передовым и исполненным жизни. Кто знает, как ничтожно мало нам было бы известно о многих временах, если бы не их искусство! История сберегла память о царях и воинах, потому что они разрушали. Искусство сохранило память о народе, потому что он творил.
По-моему, наши знания о жизни былых времен подскажут нам, как относиться к тем честным и прямодушным людям, которые превыше всего желают прогресса, но глубоко разочарованы в искусствах. Конечно, вы можете их спросить: «Что станем мы делать тогда, когда будет достигнуто все, чего вы и мы так жаждем?» Та великая перемена, ради которой мы трудимся, — каждый по-своему, — как и вечная другая перемена, придет незаметно словно тать в ночи, и окажется совершившейся, прежде чем мы об этом узнаем. Но вообразим, что эта перемена свершилась внезапно, восхваляемая и признанная всеми благонамеренными людьми. Что мы будем делать тогда, дабы не начинать сызнова нагромождать свежую гниль на месте скорбного труда столетий? Когда мы отвернемся от флагштока, на котором только что взвился новый флаг, — за что примемся тогда, за какое дело должны будем приняться, когда в ушах наших будет еще звучать трубный глас герольдов, возгласивших наступление новой жизни?
На что еще, помимо работы, будут направлены наши повседневные усилия? Чем мы украсим работу тогда, когда обретем полную свободу и разум? Конечно, это будет труд. Но один ли труд? Должны ли все наши усилия быть направлены только на то, чтобы сократить до предела его продолжительность и продлить часы досуга далее всех пределов, о которых мечтали люди? И на что употребим мы свой досуг, если считаем, что всякий труд скучен? Будем ли мы все свободное время спать? — Если да, то, надеюсь, больше уж никогда не проснемся.
Так что же тогда мы будем делать? Что должны дать нам обязательные часы труда?
Этот вопрос встанет перед всеми людьми в тот день, когда будет покончено со многими пороками и не будет низведенных до вырождения классов, на которые можно взваливать всю грязную работу. И если люди все еще будут ненавидеть и презирать искусство, они не смогут ответить на этот вопрос.
Некогда люди жили под таким гнетом деспотизма, среди такого насилия и ужаса, что теперь мы удивляемся, как они могли тогда существовать хоть один день, пока мы не вспоминаем, что и тогда, как и теперь, повседневный труд был основным содержанием их жизни и что этот повседневный труд смягчился каждодневным созданием искусства. И будем ли мы, избавленные от зла, которое терпели они, влачить еще более унылое, чем они, существование? Свяжут ли себя люди, освободившиеся от столь многих форм угнетения, новыми его формами и станут ли рабами природы, множа дни безнадежного и бесполезного труда? Должно ли это все ухудшаться до тех пор, пока не случится так, что человечество, вступив во владение своим наследством, повергнув врагов и сбросив оковы, изберет своим уделом вечный труд в обстановке удручающего уродства? Как тогда будут обмануты все наши надежды, в какую пропасть отчаяния мы будем ввергнуты!
Конечно, это всего лишь предположение, и все-таки, если недуг презрения к искусствам будет усугубляться, иного нечего и ждать. Угасание воображения и любви к прекрасному повлечет за собой и угасание цивилизации. Но этот недуг, от которого мир в один прекрасный день, надеюсь, освободится, принесет все же массу бедствий: искусству — агонию, а бедным людям — страдания, ибо тяжкая необходимость, по-моему, вызывает в мире больше перемен, чем то близорукое желание что-то предусмотреть, которое мы называем предвидением. Тем не менее припомните вопрос, который я поставил вначале. Что стряслось с искусством или с нами, если этот недуг напал на нас? Отвлеченно рассуждая, с искусством ничего плохого не происходит и произойти не может — человечеству оно должно всегда служить отрадой, — если только со всеми нами не происходит что-то неладное. Но и с искусством, каким мы его знаем, в наши дни происходит тьма неладного. Если это не так, то с какой стати мы собрались здесь сегодня вечером? Разве не потому были созданы школы искусства по всей стране около тридцати лет назад, что народное искусство, как мы обнаружили, начало угасать — или, возможно, уже угасло среди нас?
Что касается успехов, с той поры достигнутых в нашей — и только в нашей — стране, если вообще есть какие-либо успехи, — то мне трудно говорить о них, если я хочу быть одновременно и вежливым и откровенным, и все же говорить я обязан. По-моему, внешний успех в какой-то мере очевиден, но я не знаю, насколько он обнадеживает, ибо время еще должно испытать его и доказать, является ли он всего лишь преходящей модой или же первым признаком действительного пробуждения огромной массы культурных людей. Если говорить совершенно откровенно и вполне по-дружески, то я должен признаться, что даже сказанное мною слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но — кто знает, — мы так привыкли приспособлять историю и к будущему и к прошлому, так часто наши глаза перестают видеть и когда мы оглядываемся на прошлое, и когда мы смотрим в будущее, ибо мы чересчур пристально всматриваемся в наше собственное время, в наш собственный образ жизни. О, если бы все было лучше, чем я думаю!
Во всяком случае, давайте подытожим наши достижения и сопоставим их с менее обнадеживающими фактами нашего времени. В Англии — и, насколько я знаю, только в Англии — число живописцев как будто сильно выросло, они несомненно стали глубже вникать в свою работу и в отдельных случаях — и особенно в Англии — развили в себе и стали воплощать чувство красоты, которого мир не знал в течение трех последних столетий. Это, конечно, весьма важное достижение, значение которого как для самих создателей картин, так и для их потребителей трудно переоценить.
Помимо этого, в Англии, и только в Англии, имели место значительные достижения в архитектуре и в искусствах, ее обслуживающих, — искусствах, оживить и взлелеять которые поставили себе специальной целью упомянутые выше школы. Это также заметное достижение с точки зрения потребителей данного вида работ, но, боюсь, оно не столь важно для большинства тех, кто создает эти работы.
К сожалению, приходится констатировать, что этим достижениям мы должны противопоставить тот труднообъяснимый факт, что остальная часть так называемого культурного мира, по всей видимости, только и делала, что просто бездействовала, и среди нас самих эти успехи коснулись сравнительно немногих людей, а массы нашего населения они вообще не затронули. В результате большая часть нашей архитектуры, которая, как и вообще искусство, главным образом зависит от вкуса широкого круга людей, — ухудшается изо дня в день.
Прежде чем пойти дальше, я должен упомянуть еще об одном разочаровании. Многие из вас, полагаю, помнят, сколь настойчиво привлекали внимание художников, создающих образцы товаров, к красивым изделиям Востока те люди, которые положили начало движению, частично вылившемуся в организацию наших художественных школ. Это позволяет, без сомнения, правильно судить о них, ибо они призывали нас обратиться к искусству прекрасному, гармоничному, еще живому в наше время и прежде всего народному. Болезнь нашей цивилизации сказывается в быстром исчезновении этого искусства под натиском западных завоеваний и коммерции — оно гибнет быстро и с каждым днем все быстрее. Сейчас, когда мы встретились в Бирмингеме, чтобы содействовать распространению художественного образования, англичане в Индии по своей близорукости энергично уничтожают самые источники этого образования — ювелирное дело, обработку металлов, керамику, ситценабивное дело, выделку парчи и ковров. Все эти знаменитые и древнейшие искусства великого полуострова в течение долгого времени представлялись делом нестоящим, которое должно быть отброшено прочь во имя ничтожных преимуществ так называемой коммерции, и положение искусств становится с каждым днем все безнадежней. Некоторые из вас, полагаю, видели подарки, которые индийские князья преподнесли принцу Уэльскому во время его путешествия по этой стране. Я видел их и не скажу, чтоб они меня разочаровали, ибо я догадывался, как они выглядят, но мне было очень горько, поскольку среди этих дорогостоящих произведений, преподнесенных как настоящие драгоценности, едва ли нашлось хотя бы немного таких вещей, которые, пусть даже слабо, поддерживали бы древнюю славу этой колыбели промышленных искусств. Более того, в некоторых случаях было бы смешно, если бы не было печально, смотреть на то жалкое простодушие, с каким побежденный народ подражает бессмысленной вульгарности своих повелителей. И как я уже сказал, мы сейчас энергично способствуем этому вырождению. Я прочитал небольшую книжку[15], путеводитель по индийскому павильону Парижской выставки прошлого года, — там подробно рассказывается о состоянии всех индийских мануфактур. Их можно назвать «художественными мануфактурами», но на самом-то деле все производства в Индии являются или были «художественными мануфактурами». Автор этой книги превосходно знает жизнь Индии, он — ученый и любитель искусств. Поистине веет грустью от его рассказа, в котором, впрочем, мало нового для меня или других людей, интересующихся Востоком и его жизнью. Покоренные народы в своей беспомощности везде и всюду уничтожают подлинную сущность своих искусств, которые, как мы сами знаем и как мы же громко о том возвестили, основаны на самых истинных естественных принципах. Столь часто превозносимое совершенство этих искусств — высокое достижение многих веков труда и развития, но покоренные народы отбрасывают его прочь как утерявшую ценность вещь, чтобы приспособиться к менее совершенному искусству или, вернее, псевдоискусству завоевателей. В отдельных провинциях Индии туземные искусства совершенно уничтожены, во многих — близки к уничтожению, и во всех — начали в той или иной степени чахнуть. Дело зашло настолько далеко, что в наше время само правительство способствует этому уничтожению. Правительство, в частности, наладило теперь производство дешевых ковров в индийских тюрьмах, несомненно, с лучшими намерениями и, разумеется, при полном сочувствии широкой английской и индийской общественности. Не скажу, что скверно создавать в тюрьмах настоящие художественные произведения или изделия. Наоборот, я считаю это хорошим делом, если оно должным образом налажено. Но в данном случае — как я сказал, с полного согласия английской общественности — правительство решило выпускать дешевые товары, пренебрегая их качеством. Поверьте, эти ковры и дешевы и плохи, хуже их и нет уже товаров, но все было бы иначе, если бы их производство не подчинялось все той же тенденции к удешевлению. И то же самое произошло всюду, все индийские предприниматели действуют так же, и дело дошло до того, что этот бедный народ утратил свою индивидуальность и единственную славу, оставшуюся ему после покорения. Их знаменитые товары, столь превознесенные людьми, которые тридцать лет назад попытались восстановить среди нас народное искусство, уже нельзя купить на обычном рынке по нормальной цене, — их нужно разыскивать и хранить как драгоценные реликвии для музеев, созданных нами для нашего художественного просвещения. Короче говоря, их искусство погибло, и погубила его современная цивилизация с ее коммерческим духом.
То, что делается в Индии, происходит с большими или меньшими различиями по всему Востоку, но я остановился на Индии главным образом потому, что не могу не думать, какую ответственность за это несем мы сами. Случай превратил нас в повелителей над многими миллионами за пределами нашей страны, и нам надлежит заботиться, чтобы не подносить народам, которых мы сделали беспомощными, камень вместо хлеба и отраву вместо еды.
Но поскольку искусство не может прийти в нормальное состояние ни здесь, ни где-либо в другом месте, пока передовые страны цивилизации сами не будут исцелены от недуга, давайте еще раз посмотрим, каково положение с искусствами у нас самих. Признаюсь, меня не успокаивают даже те успехи искусств последних лет, которые видны на поверхности: если неладно обстоит дело с корнями растения, то рано радоваться тому, что его почки распускаются в феврале.
Я только что рассказал для примера, что поклонники искусства Индии и Востока, включая руководителей наших институтов художественного образования и, уверен, представителей так называемых господствующих классов, бессильны остановить этот стремящийся вниз поток. Общая тенденция цивилизации направлена против их усилий и слишком сильна, чтобы они могли ее одолеть.
И далее, хотя многие из нас относятся к архитектуре с неизменной любовью и верят, что жизнь в окружении красоты благотворна для физического и духовного здоровья, тем не менее в больших городах мы вынуждены жить в домах, которые стали воплощением уродства и неудобств. Поток цивилизации против нас, и мы не можем его побороть.
И те самоотверженные, поднявшие знамя правды и красоты люди из нашей среды, картины которых, сотворенные вопреки трудностям, понятным только художнику, воплощают высокие, ни одному веку неведомые свойства души, — эти великие люди встречают лишь узкий круг ценителей, способных понять их произведения, которые огромной массе народа совершенно неизвестны. Цивилизация настолько против этих художников, что они не в силах расшевелить широкую публику.
Итак, обдумывая все это, я далек от мысли, что дело обстоит благополучно с корнями того дерева, которое мы растим. Право же, если весь остальной мир останется таким, как сейчас, то упомянутые улучшения привели бы к такому искусству, которое в этом маловероятном случае оказалось бы в застое и тоже, возможно, не развивалось бы. Это было бы искусство, откровенно культивируемое немногими и для немногих, теми, кто счел бы необходимым долгом — если бы этим людям вообще было присуще чувство долга — с презрением относиться к человеческому стаду, держаться в отдалении от всего, за что человечество всегда боролось, и ревниво оберегать свой дворец искусств. Не стоит много говорить о будущности, ожидающей такое художественное направление как существующее, по крайней мере теоретически, направление, избравшее себе девиз «искусство ради искусства» — не столь невинный, как может показаться. Искусство это заранее обречено на печальный конец, оно слишком нежно, чтобы к нему могли прикоснуться даже руки посвященных, а потому и сами посвященные должны будут в конце концов праздно восседать сложа руки и никого этим не огорчая.
Если б я думал, что вас привело сюда желание развивать именно такое искусство, то я едва ли смог бы подняться на кафедру и назвать вас друзьями, хотя вряд ли можно назвать и врагами тех тщедушных приверженцев искусства, о которых я только что говорил.
Однако, как я сказал, такие приверженцы существуют, и я позволил себе говорить о них, ибо даже люди честные, разумные, жаждущие прогресса человечества, но не понимающие искусства и не обладающие вкусом, склонны принимать их за художников. И им представляется, что работы таких художников это и есть искусство и что будто именно к этой малодушной, безнадежно узкой жизни стремимся и мы, люди художественного ремесла. Такие представления кажутся верными многим, кто, говоря откровенно, должен бы знать больше. Мне хочется снять с нас позорное пятно и внушить народу, что мы меньше, чем кто-либо, хотим расширить пропасть между классами или тем более породить новые классы, благородные или низшие — новых господ и новых рабов, что мы менее всех других хотим взращивать «растение по имени человек» разными способами — здесь скаредно, а там с расточительностью. Я хотел бы внушить людям, что искусство, к которому мы стремимся, — это то благо, которое можно поделить поровну между всеми и которое призвано всех облагородить. Поистине, если каждый отдельный человек не получит своей доли, то уже нечего будет делить. Если люди не будут облагорожены искусством, то человечество в целом утратит то, чего оно когда-то достигло. Искусство, которого мы жаждем, — не пустой сон. Такое искусство уже существовало в те времена, которые были хуже нашего, когда в мире было меньше мужества, доброты и правды, чем теперь. Такое искусство в будущем появится вновь, и мир тогда станет богаче мужеством, добротой и правдой.
Давайте еще раз вспомним историю, а затем мысленно перенесемся в наше время вплоть до момента, когда я произношу эти слова. Я начал с одного из обычных и необходимых советов людям, изучающим искусство: изучайте древность. И, несомненно, многие из вас, как и я, так и поступали, — скажем, бродили по галереям восхитительного музея в Саут-Кенсингтоне{2} и, подобно мне, преисполнялись удивления и благодарности за красоту, сотворенную воображением человека. Теперь, прошу вас, подумайте, что представляют собою эти удивительные произведения, как они были созданы. Когда я говорю — удивительные, то в этом слове нет ни преувеличения, ни искажения смысла. А ведь эти произведения — простые предметы домашнего обихода былых времен, и потому, между прочим, их так мало и так заботливо их теперь оберегают. В свое время то были обыденные вещи, и ими пользовались, не боясь разбить или испортить, — тогда они не были редкостью — и все же сейчас мы называем их «удивительными».
И как они создавались? Делались ли они по рисункам крупного художника — счастливого обладателя культуры, хорошего заработка, отличного стола, прекрасного дома и теплого шерстяного халата, в который он мог закутаться после работы? — Никоим образом. Как ни удивительны эти произведения, они сотворены, как говорится, «обычными парнями» в будничной рутине их повседневного труда. Именно такими были люди, которых мы чтим, воздавая должное произведениям их рук. А их труд — думаете, он казался им скучным? Каждый художник прекрасно знает, что это не так и не могло быть так. Уверен — и вы не станете с этим спорить, — что радостные улыбки озаряли лица, когда создание орнаментальных лабиринтов с их таинственной красотой подходило к концу, когда возникали под руками диковинные звери, птицы и цветы, до сих пор веселящие душу нам, жителям Саут-Кенсингтона. По крайней мере, пока эти люди трудились, они не ведали горя, а работали они, наверно, как и мы, большую часть жизни и большую часть каждого дня.
А что собой представляют и как создавались сокровища архитектуры, которые мы в наши дни столь внимательно изучаем? Среди них действительно есть великолепные соборы, дворцы королей и феодалов, но их не так уж много. И как бы величественны они ни были, какие бы благоговейные чувства ни вызывали, они всего только размерами отличаются от небольшой серой церквушки, которая до сих пор так часто украшает обычный английский пейзаж, или от серого домика, который все еще хотя бы в некоторых местах придает английской деревне особый колорит, побуждающий поклонников романтики и красоты к раздумьям. Они, эти домики, в которых жили обыкновенные люди, и эти незаметные церквушки, в которых они молились, — основное сокровище в нашей архитектуре. И опять же кто сочинял для них рисунки и планы, кто украшал их? Неужели крупный архитектор, которого ради его умения заботливо ограждали от забот обыкновенных людей? — Вовсе не он. Вероятно, иногда это был монах, брат землепашца, но чаще — другой его брат, деревенский плотник, кузнец, каменщик или какой-нибудь еще «обыкновенный парень», который в простом повседневном труде создавал строения, по сей день вызывающие изумление и доводящие до отчаяния многих трудолюбивых и образованных архитекторов. Была ли ему противна такая работа? — Нет, это невероятно. Как и многим, мне приходилось наблюдать за работой подобных людей в какой-нибудь заброшенной деревушке — туда и в наши дни едва забредают путники, а ее жители лишь изредка отходят от своего дома миль на пять. Вот в таких-то местах я наблюдал работу столь изящную, столь тщательную, такую изобретательную, что никакая другая с ней не сравнится. И я, не боясь возражений, утверждаю: никакая человеческая изобретательность не поможет выполнить такую работу, если к мозгу, где зародился ее замысел, и к руке, воплотившей его, в качестве третьего участника не присоединится наслаждение. И такая работа не редкость. Трон великой династии Плантагенетов{3} или великих Валуа{4} был украшен резьбой отнюдь не более изящной, чем стул деревенского сторожа или сундук жены землепашца.
Да, согласитесь, — многое в ту пору делало жизнь сносной. Не каждый день, конечно, случались кровопролития и мятежи, хотя именно такое впечатление создает чтение хроник, но каждый день, звеня, опускался на наковальню молот, на дубовом бруске танцевало долото, и работа не обходилась без выдумки, без порыва сотворить красоту, рождавшую человеческую радость.
В этих моих последних словах самая сердцевина тех мыслей, высказать которые я и пришел сюда, и я прошу вас самым серьезным образом задуматься над ними — не над моими словами, а над высказанной в них мыслью, — мыслью, которая пробуждается в мире и в один прекрасный день претворится во что-то реальное.
Под истинным искусством я понимаю выражение человеком радости его труда. Я не верю, что человек может испытывать радость от труда, не выражая этой радости, — особенно когда занимается делом, в котором он мастер. В этом самый щедрый дар природы, ибо все люди, — мало того, все существующее на свете — должны трудиться. Так что не только собаке — радость участвовать в охоте, но и лошади — бежать, птице — летать, и эта мысль столь естественна, что мы можем вообразить, будто и земля, и сами стихии, исполняя положенное им, радуются. А поэты поведали нам и об улыбке весенних лугов, и о ликовании огня, и о безудержном смехе моря.
Вплоть до недавнего времени человек никогда не отвергал этого вселенского дара, но всегда, если только он не был чем-то слишком ошеломлен, не был слишком разбит или чрезмерно придавлен болезнями, стремился обрести радость хотя бы в труде. Слишком часто испытывал он и страдание от своих удовольствий и усталость от своего отдыха, чтобы полностью им отдаться. Какое все это имеет значение, если его радость неотделима от того, что постоянно присутствует в его жизни, — от его труда?
И к тому же должны ли мы, приняв столько даров, отвергнуть этот самый первозданный, наиболее естественный дар человечества? И если мы когда-то отвергли этот дар, — а я серьезно опасаюсь, что так оно и произошло, — то какие же блуждающие огоньки в тумане сбили нас с пути или в каких же жестоких тисках мы оказались, одолев встретившиеся на нашем пути бедствия и забыв про величайшее из всех бедствий? Иначе я не могу назвать случившееся с нами. Если человек вынужден выполнять работу, которую он презирает и которая не удовлетворяет его неотъемлемое и справедливое желание радости, то почти вся его жизнь пройдет в несчастье, в унижении его достоинства. Прошу, задумайтесь, что это значит и к какой катастрофе это в конце концов нас приведет.
Если бы я мог убедить вас, что высокий долг цивилизованного мира наших дней — сделать труд радостью для всех и облегчить насколько возможно бремя безрадостного труда!
Если б я только мог убедить в этом хотя бы двоих или троих из здесь присутствующих, то посчитал бы, что славно потрудился сегодня!
Но не пытайтесь по крайней мере спастись от охватывающей вас тревоги, не предавайтесь заблуждению, будто нынешний чуждый искусству труд приносит кому-то отраду. Для большинства людей это не так. Видимо, потребуется много времени, чтобы стало очевидно: потуги такого труда на художественность — чужды всякой радости. Но есть и другой признак того, что этот труд в высшей степени безотраден, и вы не можете не понять этого. Признак этот прискорбен, и, поверьте, говорить о нем мне по-настоящему стыдно. Но сможем ли мы исцелиться, если не признаем себя больными? Этот злополучный признак свидетельствует о том, что труд, совершаемый в цивилизованном мире, по преимуществу нечестен. И на самом деле, цивилизация выпускает порой хорошую продукцию, которая — отдает она себе в том отчет или нет — необходима для ее нынешнего нездорового состояния. Короче говоря, продукция эта — прежде всего машины, как необходимые для той конкуренции в купле и продаже, которая получила лживое наименование коммерции, так и те машины, которые служат насильственному уничтожению жизни. Иными словами, цивилизация создает орудия для ведения двух видов войн, из которых вторая является без сомнения худшей, и недаром совесть мира по отношению к ней уже начинает испытывать возмущение. С другой стороны, средствам для поддержания достойной повседневной жизни, которая основана на доверии, терпимости и взаимной помощи и которая только и есть подлинная жизнь с точки зрения людей мыслящих, — этим средствам цивилизованный мир наносит все больший и больший ущерб. Если я не ошибаюсь, говоря это, то вы хорошо знаете, что я повторяю лишь то, что не только на уме у многих, но и высказывается ими вслух. Позвольте привести хорошо известное свидетельство этого широко распространенного мнения. В железнодорожных киосках продается теперь очень любопытный альбом рисунков[16] под названием: «Британский рабочий в изображении человека, который в него не верит». Книга эта, как и ее заглавие, вызывают во мне одновременно и возмущение и стыд, поскольку содержат много несправедливого наряду с немалой правдой, выраженной в парадоксальном и ради ясности преувеличенном виде. Совершенно верно, хотя и весьма печально, что если кому-либо придется пригласить садовника, плотника, каменщика, маляра, ткача или же кого угодно другого и если работа будет хорошо сделана, то он может считать, что ему на редкость повезло. Гораздо же вероятнее, что он столкнется с желанием увильнуть от работы и с пренебрежением к правам других людей. Но я не могу представить, каков должен быть этот человек, этот «британский рабочий», чтобы хотя отчасти признать справедливость такого тяжелого обвинения. Сомневаюсь, чтобы для громадной массы людей было возможно выполнять работу, на которую их гонят и в которой для них нет ни надежды, ни радости, и не пытаться увильнуть от нее, — во всяком случае, в подобных обстоятельствах от нее всегда увиливали. Правда, я знаю, что бывают и такие добропорядочные люди, которые исправно выполняют свою работу, несмотря на всю ее нудность и безотрадность. Такие люди — соль земли. Но разве не внушает тревогу общество, которое обрекает подобных людей на подвижничество, а большинство понуждает работать спустя рукава, доводя их до нравственного вырождения и полусознательного презрения к самим себе? Без сомнения, в таком обществе не все благополучно. Поверьте, — это на слепую и суетную цивилизацию следует возложить всю тяжесть ответственности за то огромное количество неприятной работы — работы безрадостной и бесцельной, утомляющей каждую мышцу тела и каждый атом мозга, работы, от которой тот, кто под страхом голодной смерти и нищеты принужден браться за нее, старается как можно скорее отделаться.
Я уверен — и это очевидно для меня, как то, что я живу и дышу, — что нечестность в повседневных делах, жалобы на которую слышатся повсюду и которая действительно имеет место, — это естественное и неизбежное следствие лихорадочных войн на биржах и на полях сражений, вынудивших мир забыть о людях, точно так же как люди забыли друг о друге и как они забыли о радости повседневного труда — этом нашем долге перед природой.
Поэтому, повторяю, развитие цивилизации требует, чтобы люди задумались о средствах, с помощью которых можно ограничить количество унизительного труда, а в конце концов и вовсе его уничтожить.
Я не имею в виду при этом труд тяжелый или физический. Я не очень жалею людей за трудности, которые выпадают на их долю случайно, то есть не являются непременным уделом какого-то класса или следствием каких-то обстоятельств. Я далек также от мысли (иначе я был бы безумцем или фантазером), что мир мог бы даже в будущем существовать без физического труда, но я достаточно насмотрелся всяких работ и уверен: такой труд вовсе не ведет к духовной деградации. Пахать землю, тянуть рыболовные сети, пасти стадо — этот и подобный ему физический труд достаточно хорош даже для лучших из нас, если при этом обеспечивается досуг, свобода и необходимый заработок. Что же касается каменщика, каменотеса и прочих ремесленников, то они могли бы стать художниками, выполняющими не только необходимую, но и красивую, а потому и отрадную работу, если бы искусство было тем, чем должно быть. Нет, не с таким трудом надлежит нам покончить, но с работой, которая производит тысячу и один никому не нужный предмет только ради того, чтобы им, как ставкой, пользовались в бесчестной игре купли и продажи — игре, которую лицемерно называют коммерцией, о чем я уже говорил и раньше. Сердцем, а не просто рассудком я сознаю, что такой труд вопиет, чтобы с ним покончили. Но, кроме того, нужно изменить и упорядочить труд, производящий вещи сами по себе хорошие и необходимые, но используемые просто как ставки в упомянутой коммерческой войне. Такую перемену невозможно совершить без помощи искусств, и если бы только к нам возвратился разум, то мы смогли бы понять, что труд необходимо сделать радостным для всех людей, а не для немногих, как теперь, — необходимо, повторяю, иначе недовольство, смута и отчаяние захватят все общество. Если бы мы взглянули на все открытыми глазами и решились бы пожертвовать кое-какими мнимыми благами, какими владеем не по праву (что вселяет в нас тревогу), то тогда я и впрямь поверил бы, что мы посеем семена такого счастья, какого мир еще не знал, семена довольства и спокойствия— и они-то сделают мир таким, каким он должен быть.
И вместе с этими семенами будет посеяно и семя подлинного искусства, выражающего радость человеческого труда, — искусства, творимого народом и для народа как радость и для творца и для потребителя искусства.
Это — единственно подлинное искусство, единственное, которое будет способствовать развитию мира, а не служить препятствием на его пути. И я не сомневаюсь, что вы все или хотя бы те из вас, кого влечет искусство, в глубине сердца чувствуете истинность моих слов. Верю, что вы согласитесь со мною в этом, хотя, может быть, кое о чем из того, что я говорил, вы думаете по-иному. Во мне крепнет убеждение, что ради развития именно такого искусства мы здесь и встретились, равно как и ради тех необходимых познаний, которые мы решили как можно шире распространять.
Итак, я высказал свои соображения о том, какие надежды можно возлагать на будущее искусства и чего нужно опасаться. И если вы спросите, какого практического результата я жду, поделившись с вами моими мыслями, то должен признаться, что даже если бы мы все придерживались одинакового и с моей точки зрения верного взгляда на этот предмет, то и тогда, думаю, перед нами возникло бы множество дел и масса препятствий, и все равно понадобилась бы вся мудрость, проницательность и энергия лучших из нас, и даже в этом случае мы вынуждены были бы подчас брести по избранному пути почти вслепую. И сегодня, когда идеи, которые мы считаем правильными и которые спустя некоторое время встретят общее признание, должны упорно пробиваться в жизнь, чтобы на них хотя бы обратили внимание, мы все еще не можем отчетливо увидеть перед собой свой путь. Вы, наверно, сочтете банальной мою уверенность, что общее образование, которое учит людей думать, со временем научит их верно судить об искусстве. Пусть моя мысль банальна, но я в это верю, и это меня поддерживает, когда я вспоминаю, как заметен в наш век переход от старого к новому и какую странную смесь, от которой мы однажды избавимся, наше невежество или полуневежество норовят состряпать из изжеванной ерунды старого и сырой чепухи нового, — то и другое лежит у нас под рукой.
Но если вы все еще ждете от меня чего-либо, что могло бы сойти за практический совет, то я счел бы свою задачу трудной. Я боюсь обидеть кого-нибудь из вас, — ведь здесь начинается скорее сфера этики, нежели искусства в обычном его понимании.
Но ведь, на мой взгляд, невозможно оторвать искусство от этики, политики и религии. Согласно великим принципам истина едина, и только в формальных трактатах она может предстать расщепленной. Кроме того, должен напомнить, что моими устами — пусть слабо и несвязно — высказываются мысли многих людей, лучших, чем я. Но ведь даже если общее положение дела и обнадеживает, мы все еще, как уже сказано, будем нуждаться в этих лучших людях, которые могли бы вести нас по верной дороге. Но даже теперь, когда мы еще так далеки от успеха, самые малые из нас безусловно могут внести в наше дело скромную лепту, прожить небесполезную жизнь и достойно умереть.
Итак, заявляю, что верю в силу двух добродетелей, необходимых в современной жизни, если ей когда-либо суждено стать счастливой. Они абсолютно необходимы, когда сеются семена искусства, создаваемого народом и для народа на радость его творца и потребителя. Добродетели эти — честность и простота. Чтобы мои слова были понятнее, я назову порок, противоположный второй добродетели, — а именно роскошь. Под честностью я разумею беспокойное и страстное стремление воздать должное каждому, решимость отказаться от всего, что приносит ущерб любому человеку. Однако честность, насколько я знаю по опыту, далеко не всеобщая добродетель.
Поэтому важно заметить, как одна добродетель прокладывает дорогу другой. Ибо если наши потребности невелики, то вряд ли они принудят нас к совершению несправедливости. А если мы утвердимся в намерении каждому воздавать должное, то как же тогда чувство собственного достоинства разрешит нам воздавать слишком многое самим себе?
И в искусстве и в подготовке к занятию им, без которой не может быть достойного искусства, новая жизнь начинается вместе с приобретением этих добродетелей. Они помогут нам возвысить те классы общества, которые до сих пор были унижены. Ибо если вы богаты, то простота вашей жизни приведет к сглаживанию ужасного различия между расточительностью и нуждой, которое кошмаром нависло над цивилизованными странами. Она подаст пример достойной жизни и тем классам, возвышения которых вы намерены добиться. Ведь они, по существу, очень похожи на богачей тем, что предаются зависти и желанию подражать праздности и расточительности, которые порождает богатство.
Оставляя в стороне нравственные проблемы, о которых я вынужден был напомнить, позвольте сказать, что, хотя простота в искусстве может быть и дорогой и дешевой, она по крайней мере не расточительна, и ничто так не убивает искусство, как отсутствие, простоты. Мне не приходилось бывать ни в одном богатом доме, который не стал бы выглядеть лучше, если бы девять десятых его содержимого сожгли на костре, разожженном вне его стен. Думается, наша борьба против роскоши обойдется поэтому недорого или вообще — даром. Ведь, насколько я могу понять, так называемая роскошь — это либо богатство, за которое владельцу приходится постоянно тревожиться, либо оковы пышных условностей, которые на каждом шагу опутывают и раздражают богача. Да, роскошь не может существовать без того или иного вида рабства, и уничтожение роскоши, как и других форм рабства, освободит и рабов и их хозяев.
Наконец, если вместе с простотой жизни мы обретаем также и любовь к справедливости, то тогда все будет готово к приходу новой весны искусств. Ведь если мы являемся работодателями, то как смеем мы платить любому человеку меньше денег, чем ему необходимо для скромного существования, и предоставлять ему меньше досуга, чем требует его образование и чувство собственного достоинства? А если мы — рабочие, то как мы осмеливаемся нарушать договор, который заключили, и вынуждать мастера бродить взад и вперед и выслеживать наши плутни и увиливание от работы? Или если мы — продавцы, то как же мы можем выставлять свои товары в ложном свете с целью взвалить на плечи других наши убытки? А если мы — покупатели, как можем мы платить за товар, который одного лишает покоя, другого разоряет, а третьего обрекает на голод? Или, скажу более, как мы можем пользоваться и наслаждаться вещью, на которой запечатлелись муки и тоска ее создателя?
Теперь, кажется, я сказал все, что хотел. Признаюсь, в этом нет ничего нового, но, знаете ли, опыт убеждает, что свою мысль следует высказывать не один раз — до тех пор пока вы не привлечете большое количество слушателей. Так пусть в моих словах вы уловите ту мысль, которую мне непременно нужно было внушить вам.
Как бы серьезны ни были ваши возражения, я уверен, что говорил сегодня перед аудиторией, в которой любые слова, сказанные как мои, из чувства долга и сердечной доброжелательности, оживят мысль и посеют добрые семена.
Во всяком случае, думающему человеку полезно встретиться лицом к лицу со своими собратьями и высказать им все, что не дает ему покоя; только так можно добиться, чтобы люди стали менее чужими друг другу, и только так можно избежать недопонимания — этой прискорбной причины бессмысленных конфликтов.
Но если кому-нибудь из вас могло показаться, что от моих слов веет отчаянием, то виной тому недостаточное красноречие. И вы должны помнить, что отчаяние, запечатав уста, вынудило бы меня молчать. Я же действительно преисполнен надежд.
Но разве можно указать время осуществления моих надежд и сказать, что оно наступит еще при нашей с вами жизни?
И все же я хочу по крайней мере воскликнуть — мужайтесь! Ведь удивительные, неожиданные и славные события произошли даже за время моей короткой жизни.
Да, несомненно, наше время удивительно и полно перемен, которые при неизбежном увядании старого и одновременном рождении нового в один прекрасный день принесут с собою новые радости для исполненной труда жизни. И люди со свободной душой и ясным взором вновь ощутят красоту мира и будут наслаждаться ею. Но если сейчас еще много тьмы, то по крайней мере не будем сидеть сложа руки, не будем глупыми изнеженными господами и не станем считать обычный труд для себя зазорным. Но будем лучше трудиться, как бравые парни, стремясь при тусклом свете свечи подготовить нашу мастерскую к завтрашнему рассвету — к тому завтрашнему дню, когда цивилизованный мир, чуждый алчности, конфликтов и разрушений, обретет новое искусство, славное искусство, творимое народом и для народа как радость его творца и потребителя.
Красота жизни
Propter vitam vivendi perdere causa
Ювенал{1}Я выступаю перед вами в этот вечер, испытывая неловкость, какой не ощущал в прошлом году, ибо могу сказать вам мало нового, — разве что расширить уже сказанное тогда, осмелиться подать тот или иной практический совет или сформулировать свои мысли так, что они, возможно, станут для некоторых понятнее. Но мое сообщение остается, в сущности, тем же, что и в первую нашу встречу.
Если бы с искусством все обстояло благополучно или почти благополучно и в мире только немногие были бы им недовольны, то вы выслушали бы с некоторым удовольствием или, возможно, с пользой беседу старого доки от ремесла о судьбах народного творчества, о тех ловушках, которые подстерегают успех, и о легчайших способах добиться его, выслушали бы рассказ о мастерских, о приемах работы в них и о прочем. Это наверняка мог бы быть приятный разговор между друзьями и собратьями по ремеслу. Но мне кажется, что условий к тому у нас до сих пор еще не было. Мало того, может статься, что мы будем еще долго жить и все-таки не найдем подходящего момента для такого успокоительного разговора, для веселых рассказов о надеждах и тревогах наших мастерских. Во всяком случае, сегодня вечером я не могу этого сделать, но должен снова призвать приверженцев искусства к более отчаянной и яростной борьбе, нежели та безобидная борьба с природой, для которой рождаются все подлинные мастера и которая одновременно и создает и разрушает их жизни.
Когда я окидываю взглядом эту аудиторию и думаю о тех, кого она представляет, меня невольно до глубины души волнуют и горести жизни образованных людей и та надежда, которая пробивает себе путь через эти горести. И я не могу не обратиться к вам с призывом, выполняя этим свой долг. Давайте встретим лицом к лицу ту недавно назревшую опасность, которая угрожает цивилизации и которую она сама же и породила. Опасность эта состоит в том, что люди, в борьбе добывая богатства для сильнейшей части человечества, лишают весь человеческий род всяческой красоты. Опасность и в том, что наисильнейшие и мудрейшие представители человечества, стремясь к полной власти над природой, уничтожают ее естественные и наиболее распространенные дары и таким образом порабощают и простых людей и друг друга — ив конце концов втянут мир в новое варварство, еще более подлое и в тысячу раз более безнадежное, чем прежнее.
Среди моих слушателей, уверен, есть люди, которые откликнулись на этот призыв, и приняли его близко к сердцу, и ежечасно борются за дело, к которому я зову.
Я могу сказать вам только одно: если какое-либо из моих слов обескуражило вас, мне жаль, что я его произнес. Но показать вам врага и крепость, которую мы должны брать штурмом, это не означает уговаривать вас спасаться бегством. Не уговаривал я вас и бездействовать в пустыне из-за того, что на пути к земле обетованной вам встретится множество бедствий и, возможно, сама смерть. Так знайте же, что перед нами — надежда, и ничто из сказанного мною не может отнять ее у вас. Но в разгаре сражения один из воинов может предупредить своего соратника о надвигающейся с той или другой стороны опасности. И именно как такое предупреждение я и прошу воспринять мои, возможно, и недостаточно обдуманные слова.
Однако, кажется, среди вас найдутся такие, в ком поднимется полуосознанное недовольство, кто подавлен окружающей жизнью, сбит ею с толку, встревожен гнетом, но не знает, в какой стороне искать исцеления, хотя и хочет найти его. Ну, что же, мы, глубоко понимающие вашу тревогу, верим, что можем помочь вам. Правда, мы не можем тотчас же успокоить вас и поначалу даже еще более усложним вашу жизнь. Но мы подскажем выход из тупика, и тогда в гуще дел, которые вам нужно выполнить, утверждая себя и других на новом пути, вы надолго забудете ваши беды, думая о том добре, которое эти беды не затрагивает и ради которого вы будете бороться.
Но среди вас есть также люди (и, полагаю, их большинство), которых отнюдь не тревожат сомнения в правильности пути, каким движется мир, и которых не вдохновляет стремление усовершенствовать этот путь. По их мнению, судьба цивилизации проста и совсем обычна; она не возбуждает ни удивления, ни надежд, ни страхов. Путь цивилизации кажется им похожим на восход и заход солнца: подобно солнцу, цивилизация не может отклоняться в сторону, и ничто не побуждает этих людей ни вмешиваться в ее движение, ни жаловаться на ее курс, ни пытаться направлять его. Такой взгляд на мир не лишен благоразумия и смысла. Без всякого сомнения, мир в дальнейшем будет идти своим путем, движимый импульсами, которых мы не можем учесть и на которые не можем повлиять. Но, по мере того как он набирает силу для своего путешествия, необходимой пищей для него будет жизнь всех нас со всеми нашими устремлениями. И мы, борцы, возмущенные тем, что временами кажется усиливающейся слепотой цивилизации, и те, другие, которые верят в плавный поступательный прогресс, — мы все цивилизацией вскормлены и все, я не сомневаюсь, так или иначе будем использованы, чтобы содействовать ее развитию. Но, может быть, тем, кто считает себя единственными преданными поборниками прогресса, небесполезно будет узнать о нашем существовании. То, что они не слышали о нем, не прикончит нашего движения, но будет совсем не плохо, если они призадумаются, узнав о бремени, которое несут, не они, но которое тем не менее реально и достаточно весомо для кое-кого из их ближних, помогающих, кто бы они ни были, создавать грядущую цивилизацию.
Предупреждение, что теперешнее развитие цивилизации погубит красоту жизни, — звучит резко, и я хотел бы смягчить свою мысль, но не могу, так как говорю то, что считаю правдой.
Вероятно, не многие осмелятся утверждать, что красота жизни — нечто несущественное, и все же большинство образованных людей поступает так, словно ее и нет, уродуя жизнь и себе и будущим поколениям. Ведь красота и связанное с ней искусство — если употребить это слово в его самом широком смысле — есть, я утверждаю, не добавочный элемент в человеческой жизни, не то, что люди могут по своему выбору принять или отбросить, но объективная необходимость, если мы намерены жить, как повелела нам природа или, иными словами, если хотим оставаться людьми.
Теперь я спрашиваю вас, как раньше не раз спрашивал себя, много ли людей в цивилизованных странах получают хоть какую-нибудь долю этой жизненной необходимости?
Думается, ответ на этот вопрос подтвердит мои опасения, что современная цивилизация не остановится перед тем, чтобы растоптать всю красоту жизни, это грозит лишить нас звания людей.
Ну а если кто-нибудь станет утверждать, будто так было всегда, будто всегда царило грубое невежество, которое ничего не знало, да и знать не хотело об искусстве, — то я отвечаю сразу же, что если это и было, то было всегда неправильно и что мы обязаны, коль скоро осознали зло, от него по возможности избавиться.
Вероятно, покажется странным, что, вопреки стараниям, на которые мир обычно себя обрекал и за которые цеплялся, словно они священны и благостны, большинство людей далеко не всегда было равнодушно к искусству.
Теперь мы хорошо осведомлены о тех периодах истории искусства, от которых остались многочисленные памятники; и, сопоставляя их с наследием времен, от которых до нас дошло меньше сведений, мы можем судить об искусстве всех эпох и не можем не прийти к выводу, что вплоть до самых недавних дней все, к чему притрагивалась рука человека, было воистину прекрасным.
В те времена люди, которые что-либо создавали, приобщались к искусству, так же как и те, кто пользовался изделиями человеческих рук, — иными словами, все вообще люди так или иначе соприкасались с искусством.
Но кое-кто спросит: стоит ли стремиться к этому? Разве всеобщее распространение искусства не остановит прогресса в других областях, не помешает практической деятельности мира? Не изнежит ли это нас? И если нет, то не окажется ли слишком властным, не произведет ли на свет и нечто другое, над чем люди также должны будут ломать себе голову?
Что же, я потребовал необходимого места для искусства, места, ему присущего. Тогда оно само совершенно естественно установило бы в мире закон гармонии, соответствующий общим законам жизни. Я знаю, есть люди, чрезмерно обеспокоенные внешними проявлениями красоты, становящейся слишком серьезной силой среди других жизненных сил. Мне кажется, что если бы таким людям пришлось создавать видимый мир, они поостереглись бы выращивать красивым пшеничный колос, чтобы он, чего доброго, не оказался несъедобным.
По-видимому, искусство действительно сможет стать доступным всем людям только при условии, если не будет оглядываться на себя и будет прежде всего непосредственным. Тогда оно и всеобщему физическому труду помешает не больше, чем красота всех форм и явлений природы вечной ее работе. Так, во всяком случае, было во времена, о которых я только что говорил. Искусства же, созданного сознательными усилиями отдельных особо одаренных личностей, стремившихся выразить свое мировоззрение в наиболее совершенной форме, — такого искусства, за исключением кратких и удивительных периодов, и тогда было, возможно, не больше, чем теперь. Впрочем, я уверен, что даже для этих людей усилия создать красоту были тогда не столь мучительны, как теперь. Но если в ту пору было не больше великих мыслителей, чем теперь, то было зато бесчисленное множество счастливых тружеников, чья работа действительно выражала и не могла не выражать какую-то самобытную мысль, а потому была содержательной и прекрасной. Теперь, разумеется, у более индивидуального творчества нет возможностей стать всеобщим достоянием. Оно утомляет нас своими излишествами, то шумно заявляя о себе, мешает высокообразованным людям должным образом участвовать в какой-либо другой деятельности человечества. Да, индивидуальному искусству трудно существовать; в наши дни оно может быть только плодом подсознательной деятельности, воплощением недостатков незрелых умов. Истощая таланты, оно станет все меньше влиять на человеческие души, если только не будет окружено народным творчеством, к которому некогда были причастны все люди и в которое, когда искусство по-настоящему возродится, они будут постоянно и просто вносить свою долю, и ни одному человеку это не помешает заниматься тем, хорошим или дурным, — чем ему захочется.
И подобно тому как я верю, что искусство, творимое народом и для парода на радость его создателя и потребителя, будет скорее содействовать, чем препятствовать, развитию других областей жизни, точно так же я твердо убежден, что высокое искусство, создаваемое только великими умами и чудесно одаренными руками, не может существовать без искусства народного. Я верю, что современный период, когда высокое искусство существует, а народное погружено, можно сказать, в дремоту или поражено недугом, — это период переходный, который в конце концов должен завершиться либо полным поражением, либо полной победой искусств.
Ибо если некогда все ремесленные изделия сознательно или бессознательно делались красивыми, то теперь их можно подразделить на два вида: предметы художественные и нехудожественные, и ни одна вещь, сделанная человеческими руками, не может не относиться к тому или другому виду: она либо красива и потому облагораживает, либо безобразна и потому унижает. Вещи нехудожественные чрезвычайно воинственны — существуя, они наносят ущерб искусству, и их теперь такое множество, что изделия художественные мы вынуждены разыскивать, в то время как те, безобразные, стали привычными спутниками нашей повседневной жизни. Так что если те, кто понимает и ценит искусство, захотели бы только развивать свои таланты, наслаждаться высокими достижениями культуры и жить счастливо вдали от всех людей и презирая их, у них ничего бы из этого не вышло. Им бы казалось, что они живут словно во вражеском окружении и на каждом шагу их что-то подстерегает, оскорбляет их тонкие чувства, раздражает их изощренный вкус. Они должны разделять всеобщее беспокойство — и этому я только рад.
Таково положение: с самой зари истории до самого последнего времени искусство — это, по замыслу природы, утешение человека — выполняло свое назначение.
Все люди соприкасались с ним, и оно делало тогда жизнь, как говорят, романтичной, — оно, а не разбойники бароны и недоступные короли с их иерархией вассалов и прочей ерундой. Искусство росло и росло, оно было свидетелем, как хирели империи, и хирело вместе с ними, снова становилось здоровым и стало, наконец, таким великим, что, кажется, поистине покоряло все и диктовало свою волю материальному миру. Затем, в период наибольшего оживления, какое когда-либо знала Европа, наступили перемены. Это было время таких больших и таких разнообразных надежд, что люди его назвали эпохой Возрождения. Что касается искусств той поры, то я отказываю им в этом имени. Мне представляется, что великие люди, которые жили тогда и покрыли славой звание художника, были, скорее, плодами старых установлений, а не семенем новых. Да, то было время бурное и полное надежд, и многое, что и для будущих времен принесло свои плоды, родилось тогда впервые. Но странно и поразительно, что, начиная с тех дней, когда время, полное бесконечной неразберихи и неудач, в целом последовательно уничтожило привилегии и исключительность в других сферах, искусство превращалось в исключительную привилегию немногих. Так было отнято у народа его прирожденное право на искусство, причем ни те, кто причинил это зло, ни те, кто потерпел эту утрату, не ведали, что творят.
Да, не ведали, совершенно не понимали, но мы-то понимаем, и в этом не только наша боль, но и наша надежда.
Когда померк яркий свет так называемого Ренессанса, — а померк он совершенно неожиданно, — искусство охватил смертельный недуг. Возрождение предпочитало озираться назад, на прошедшие времена, и людям тех дней мнилось, будто они видят там совершенное искусство, которое представлялось им непохожим даже по своему типу, а не только по степени совершенства на более примитивное и прямолинейное искусство их отцов. Они жаждали подражать этому совершенству; только это искусство представлялось им настоящим, а остальное казалось ребяческим. Их энергия была так удивительна, а успехи настолько велики, что умам посредственным, но, без сомнения, не великим мастерам, казалось — совершенство уже достигнуто, а раз достигнуто, что тогда следует делать? Дальше идти некуда, нужно спокойно стоять на месте. Но это тоже невозможно.
И искусство вовсе не стояло на месте в завершающий период Ренессанса, но с ужасающей быстротой устремилось вниз и рухнуло у самого подножия вершины, где, словно бы околдованное, долго пребывало в самодовольстве, почитая себя равным искусству Микеланджело, хотя это было искусство людей, забытых всеми, за исключением торговцев их картинами.
Это произошло с искусствами, которые были сферой индивидуального творчества. Что же касается народного искусства, то в тех странах и местностях, где преимущественно развивались искусства более высокие, оно постепенно скатывалось по наклонной плоскости вместе с последними. В странах, расположенных особняком, например в Англии, оно еще испытывало на себе влияние более ранних и более счастливых времен и как-то продолжало еще жить некоторое время, но жизнь в нем едва теплилась и была, так сказать, лишена внутренней логики. Оно не могло сопротивляться давлению меняющихся условий. Меньше всего это искусство могло дать что-нибудь новое, и еще до начала этого столетия оно вообще испустило дух. Все-таки, пока оно, хоть и старчески бессильное, было живо, оно еще что-то значило для повседневной жизни и, несомненно, удовлетворяло какие-то стремления к красоте. А когда оно умерло, люди долго не догадывались об этом, и не знали, что появилось вместо него, что вползло, так сказать, в его мертвое тело: то было псевдоискусство, которое производится машинами, хотя эти машины иногда называются людьми и несомненно становятся ими вне рабочих часов. Но еще задолго до того, как в искусстве исчезли признаки жизни, оно пало столь низко, что все его проявления встречали величайшее презрение со стороны любого мало-мальски здравомыслящего человека. Короче говоря, весь цивилизованный мир забыл, что некогда существовало искусство, создаваемое народом и для народа как радость и производителя и потребителя.
Но теперь, мне кажется, сама неожиданность такой перемены должна утешать нас и внушать, что этот обрыв в золотой цепи — всего лишь случайность. Ибо подумайте, сколько тысячелетий прошло с тех пор, как первобытный человек кремневым осколком вырезал на кости изображение мамонта, которого он видел, или же оленя, который медленно поднимал украшенную тяжелыми рогами голову, когда к нему незаметно подкрадывался человек. Подумайте о многих веках, миновавших вплоть до времени, когда потух блеск итальянского Возрождения! И прошло лишь два столетия, как незаметно умерло народное искусство, которым мы пренебрегли.
Но странно также, что сама эта смерть совпала с рождением чего-то нового, ибо из глубины отчаяния возникли новые надежды, освещенные факелом французской революции. И то, что увяло вместе с искусством, поднялось заново и уверенно возвестило свое рождение. Возродилась прекрасная серьезная поэзия{2}, и английский язык, превращенный раболепствующими рифмоплетами в жалкий жаргон, смысл которого, если там вообще есть смысл, нельзя определить без перевода, заструился простым, ясным и чистым потоком под влиянием музыки Блейка{3} и Колриджа{4}. Пусть имена этих поэтов, по времени самых ранних среди нас, напомнят о перемене, которая произошла в литературе со времен Георга II{5}.
С этой литературой возродилась романтика, то есть человечность, и забила также ключом любовь к романтичной природе — любовь, которая безусловно жива в нас и по сей день вместе с желанием ближе узнать жизнь наших предков. Глубочайшее выражение всех этих чувств и стремлений вы найдете на страницах Вальтера Скотта{6}. Его творчество может также служить любопытным примером того, как иногда одно искусство по сравнению с другим медлит с возрождением. Так, автор, написавший утонченно, свободно и естественно «Сердце среднего Лотиана», считал себя, кажется, обязанным стыдиться своей любви к готической архитектуре и готов был каяться в этой любви. Он чувствовал в этой архитектуре романтику, она рождала в нем приятные ощущения, но он как-то не понял, что это — искусство: ведь его всегда учили, что искусством можно признавать лишь то, что сделано знаменитыми людьми на основе академических правил.
Вряд ли нужно подробно говорить о том, что с той поры изменилось. Вам хорошо известно, что в одном из наших главных искусств, в живописи, произошел переворот. Поистине нелегко рассказывать о своих личных друзьях — нет, своих учителях{7}. И все же я не могу не упомянуть об этих людях. Думается, во всей истории искусства ни одна группа художников на, казалось бы, пустом месте не сделала большего, чем кучка живописцев, которая вывела английское искусство из состояния, в коем оно находилось, когда еще, бывало, мальчиком я посещал выставки Королевской Академии.
Говоря о том, что произошло со времени, когда искусство, как мы надеемся, явно повернуло на благотворный путь, я проявил бы неблагодарность, если бы не назвал имя Джона Рёскина. Я столь многому научился у Джона Рёскина, что постоянно чувствую, как в моих словах эхом отдаются его идеи. Это правда, что его несравненный английский язык и удивительное красноречие всегда, чего бы он ни касался, завоевывали ему слушателей во времена, когда еще не был утрачен вкус к литературе. Но, разумеется, образованную публику он подчинял своему влиянию потому, что красноречиво и выразительно высказывал то, что уже волновало умы. Он не написал бы того, что вышло из-под его пера, если бы его читатели не были в какой-то мере подготовлены. Точно так же и художники не могли бы начать борьбу против банальности и бездарности, царивших в искусстве тридцать лет назад, если бы у них не было надежды, что придет время, и они сумеют пробудить в публике понимание.
Итак, мы видим, что произошли следующие отрадные перемены с момента того перелома: появилось несколько художников, словно бы подхвативших прекрасную традицию, прерванную два столетия назад; появились образованные люди, способные понять их; кроме всего этого, у людей их круга возникло смутное недовольство обступающим их пошлым безобразием.
Это, по-моему, говорит об успехе, которого мы достигли с той поры, как в нашей стране погибло народное искусство. Вспоминая наше тогдашнее положение, я готов утверждать, что мы прошли немалый путь, и хотя мы должны еще выиграть битву, уже есть люди, готовые к ней.
Право, было бы странно и позорно для нашего века, если бы это было не так. Ведь и любой век бывал обуреваем своими заботами, любой век встречал на своем пути лишь ему присущие безрассудства. Перед каждым веком встает и его собственная задача, на которую указывают верные приметы времени: глупо и малодушно, если сыновья какого-либо века заявляют: мы ничего не намерены делать, ибо эти беды возникли не по нашей вине, и мы не хотим тратить силы на попытки бороться с ними. Таким образом, они оставляют для своих сыновей груз более тяжкий, чем те смогут поднять: непосильность этого груза их искалечит и изуродует. Не так поступали наши отцы, которые, трудясь с утра и до поздней ночи, оставили нам страну, исполненную поразительно бурной жизненной энергии, — ее мы называем современной Европой. Не так трудились и те, кто подготовил для нас нынешнее время, столь щедрое новшествами и надеждами.
Если б люди давали прозвища столетиям, то столетие, которое вступает теперь в завершающий период, было бы названо столетием коммерции. Но я далек от недооценки проделанной им работы: оно сокрушило многие предрассудки и преподало множество уроков, которые мир пока слишком медленно усваивает; оно обеспечило свободу многим людям, которые в иное время были бы рабами — физическими, или духовными, или теми и другими одновременно. И если это столетие еще не установило на земле мир и справедливость, на что мы так горячо надеялись еще в середине века, то у многих по крайней мере оно пробудило искренние порывы к миру и справедливости. У него была масса добрых дел, но большинство этих дел, как, впрочем, и следовало ожидать, плохо выполнено: опрометчивость обычно сопровождала его энергию, а слепота — его торопливость. И, возможно, следующему столетию останется достаточно, чтобы исправлять промахи этой опрометчивости и избавляться от рухляди, торопливо сваленной в одну кучу. Но даже и мы в оставшиеся десятилетия нашего века можем кое-что сделать, чтобы навести порядок в своем жилище.
Вы живете в большом и знаменитом городе, у которого в этот коммерческий век оказалась масса дел. Ваши достижения всем видны, но многим, и безусловно больше всего вам самим, очевидна и цена, которую вы за них заплатили. Не скажу, что эта цена слишком высока. Едва ли, например, Англия и мир согласились бы получить вместо сегодняшнего Бирмингем 1770 года. Если, однако, вы не хотите, чтобы ваши достижения обратились пародией, то вы не вправе довольствоваться ими или без конца громоздить друг на друга достижения такого же рода. Ничто не заставит меня поверить, что нынешнее бедственное положение вон той вашей Черной страны{8} невозможно изменить и что оно — просто необходимое условие вашей жизни; ее бедствия возникли и продолжают расти из-за вашего безрассудства, а ведь, я уверен, и сотой доли энергии, затраченной на их создание, было бы достаточно, чтобы от них избавиться, Если бы мы не были слишком склонны соглашаться с неизменной мудростью изречения: «после нас хоть потоп», то вскоре не праздным сном стала бы наша надежда на то, что ваши милые поля и холмы могли бы снова радовать глаз, и для этого даже не понадобилось бы изгонять их жителей. И разве понадобилось бы сметать разрушительным ударом те собачьи конуры, которые во множестве понастроил коммерческий век в этих когда-то очаровательных йоркширских долинах с их пологими холмами и плавными реками — долинах, достойных вновь покрыться чудесными жилищами людей?
Но люди не хотят брать на себя заботы или тратить деньги, чтобы осуществить эти перемены, потому что не ощущают убожества, среди которого живут, потому что они деградировали и перестали быть людьми; они утратили мужество, так как искусство исчезло из их жизни.
И снова я скажу, что в этом отношении и богачи и бедняки обокрали самих себя. В наши дни вы можете встретить утонченного и высокообразованного человека, который путешествовал и по Италии, и по Египту, и вообще повсюду, который может довольно учено (а иногда и довольно причудливо) рассуждать об искусстве. Он досконально знаком со всеми тонкостями искусства и литературы прошлого, но без тени недовольства относится к дому, который, как и все его окружение, попросту страшно вульгарен и отвратителен: все его образование ничему его в этом вопросе не выучило.
Истина же в том, что в искусстве, равно как и в иных сферах, утонченное образование немногих не помогает даже им подняться над злом, сопровождающим невежество громадных масс населения. И бескультурье, которое столь мощными пластами отложилось в низах и проклятием легло на наши улицы, на облик домов бедноты, дает о себе знать и среди тех, кто способствовал накоплению этого бескультурья, даже если и не соскабливать с них шелуху самовлюбленной утонченности. Это бескультурье находит себе отличное дополнение в монотонности и пошлости буржуазных кварталов и в удвоенной монотонности и не меньшей пошлости аристократических жилищ.
Да, именно так и должно быть, и все это понятно и вполне объяснимо. Но богачи при их возможностях могут переехать в другие дома, как только они ощутят нужду в этом. Но переедем ли и мы в другие дома вместе с ними? Переедем ли мы все? Есть ли у нас для этого средства?
Что можно противопоставить порокам цивилизации, если не дальнейшее развитие цивилизации? Но не думаете ли вы, что в той же Англии развитие цивилизации дошло до логического конца?
Когда начнутся какие-нибудь перемены, — а это может произойти быстрее, чем думает большинство людей, — то, без сомнения, просвещение будет развиваться и качественно и количественно. И, возможно, если XIX век должен быть назван коммерческим веком, то XX век может оказаться веком просвещения. Теперь общепризнано, что образование не завершается окончанием школы. Однако можно ли по-настоящему просвещать людей, которые по своему образу жизни походят на машины и имеют возможность думать только в немногие часы отдыха, которые, короче говоря, тратят большую часть своей жизни на труд, неспособный развивать ни их тело, ни душу? Вы не сможете ни воспитывать людей, ни делать их культурными, если не сумеете приобщить их к искусству.
Да, при теперешнем положении дел приобщить к искусству большинство людей поистине трудно. Они не тоскуют без него, не рвутся к нему, и пока невозможно ожидать, чтобы они к нему потянулись. Тем не менее, все имеет начало, и многие великие дела начинались с малого, а поскольку, как я уже сказал, эти идеи в той или иной форме уже носятся в воздухе, пусть нас не слишком пугает тот на первый взгляд тяжелый груз, который мы должны поднять.
Ведь в конце концов нам следует только исполнить собственный долг, внести свою долю в общее дело. А поскольку ни в каком случае она не может быть чрезмерной, то необходимо призывать всех вносить свою долю. Поэтому давайте работать и не будем падать духом, помня, что, хотя естественно и потому простительно во времена, исполненные неуверенности, сомневаться в успехе, а порой даже унывать, все же не подавлять сомнений и не работать так, словно у нас их нет, — это просто непростительное малодушие. Никто не вправе утверждать, будто сделанное ни к чему не привело, будто самоотверженная и неустанная борьба наших предшественников и не приведет ни к чему и будто человечество обречено вечно идти по одному и тому же кругу. Никто не имеет права говорить это — и вместе с тем каждое утро вставать, чтобы набивать себе живот, и ложиться спать к вечеру, заставляя других трудиться ради продолжения своей бесполезной жизни.
Будьте уверены, тот или другой выход из тупика найдется, даже если положение и представляется безнадежным; и наш труд, несомненно, будет полезен, если только мы ему преданы и будем щедро отдавать ему и свое внимание и свои мысли.
И потому, если цивилизация в чем-либо и сбилась с пути, то спасение не в том, чтобы стоять в стороне, а в том, чтобы создавать более совершенную цивилизацию.
Какие бы споры ни велись вокруг понятия «цивилизация», которым часто пользуются и часто злоупотребляют, я уверен, что все слушающие меня в глубине души, а не просто из вежливости согласятся, что цивилизация, которая не ведет за собой весь народ, обречена на гибель и должна уступить место другой, которая по крайней мере будет стремиться к такой цели.
Мы рассуждаем о цивилизации древних народов, о классических временах. Ну что же, несомненно, эти народы были цивилизованны — по крайней мере какая-то часть их. Афинский гражданин, например, жил простой, достойной, почти совершенной жизнью, но, наверно, жизнь его рабов не была счастливой: цивилизация древних народов покоилась на рабстве.
Античное общество действительно дало миру пример и показало всем временам, какое благо — свобода жить и думать, какое благо — терпимость и Широкое образование. Все эти блага свободные народы древности как бы рекомендовали миру, но хранили их для себя.
Поэтому ни один тиран не был слишком подл и ни один предлог — слишком легковесен для порабощения внуков героев Саламина{9} и Фермопил{10}; поэтому потомки суровых и сдержанных римлян, готовых все, в том числе и жизнь, как нечто самое мизерное, отдать ради общего блага, дали свету чудовищ распущенности и безрассудной глупости. Поэтому ничтожная горстка галилейских крестьян опрокинула Римскую империю.
Античная цивилизация была окована цепями рабства и привилегий, и она рухнула: варварство, пришедшее ей на смену, освободило нас от рабства и выросло в современную цивилизацию, а последняя, в свою очередь, стоит перед выбором — либо бесконечно развиваться, либо быть разрушенной под ударами новой и более совершенной цивилизации.
Есть одно безобразное выражение, обозначающее чудовищный факт, и я должен осмелиться его употребить — подонки общества. Когда я впервые его услышал и понял его ужасный смысл, я всем сердцем почувствовал, что если эти подонки — неотъемлемое условие современной цивилизации, как некоторые открыто, а многие молчаливо признают, то в таком случае эта цивилизация несет в себе яд, который однажды должен ее погубить, точно так же как была погублена ее старшая сестра. Если цивилизация не должна идти дальше, лучше бы ей и не достигать теперешнего уровня. Если она не ставит своей целью избавиться от этого проклятия и внести собственную лепту в созидание для всех людей жизни достойной и счастливой, для людей, которые ею же рождены и на рождение которых она неустанно тратит свою энергию, — то в таком случае она предстает как организованная несправедливость, как обыкновенное орудие угнетения, значительно более тяжелого, чем прежние, потому что ее претензии больше, ее рабство утонченней, а ее владычество труднее сбросить, ибо оно покоится на прочном фундаменте мещанского благополучия и комфорта.
Разумеется, все это не может существовать. Несомненно, повсюду просыпается четкое сознание несправедливости. Но наличие низших социальных слоев все еще препятствует усилиям современной цивилизации возвысить человеческое бытие над простым размножением людей и добыванием денег. Решение этой проблемы осложняется, во-первых, наследием веков насилия и почти сознательной звериной несправедливости, а во-вторых, веков безрассудства, суетности и слепоты. Все те, кто хоть сколько-нибудь думает о будущем мира, так или иначе стремятся избавить его от этого позора.
В этом, по моему мнению, и состоит смысл народного образования{11}, которое мы начали распространять и которое, несомненно, уже приносит свои плоды и принесет еще большие, когда все люди будут образованными не благодаря деньгам, которыми владеют они или их родители, а благодаря собственным умственным способностям.
Я не могу сказать, какое влияние это окажет на будущее искусств, но можно быть твердо уверенным, что это влияние будет весьма значительно, ибо образование поможет людям ясно увидеть многое, что ныне столь же полно скрыто от них, как если бы они были слепы физически и неполноценны умственно. Образование повлияет, думается, не только на непосредственные жертвы невежества, но также и на страдающих от него косвенно—на нас, образованных. Громадная волна духовного подъема, насыщенного множеством естественных желаний и стремлений, увлечет за собою все классы и заставит увидеть, что многое воспринимавшееся нами как необходимое и вечное зло — это просто-напросто случайное и недолговечное порождение прошлого недомыслия. И с этим будет покончено должными усилиями мужества, доброй воли и разума.
И вместе с этим злом — я верю и буду верить всегда — исчезнет то, о чем я говорил вам в прошлом году и что назвал величайшим из всех зол и наитягчайшим из всех видов рабства: большинство людей не будет тогда большую часть своей жизни тратить на дело, которое в самом лучшем случае не интересует их и не развивает их способностей, а в наихудшем случае (и наиболее частом к тому же) — это просто откровенный рабский труд, труд принудительный, от которого они по мере сил увиливают, за что их нельзя порицать. Такой труд лишает людей человеческого достоинства. Однажды они поймут это и потребуют снова возвратить их в семью человечества. И только одно искусство способно им помочь и избавить их от этого рабства. И я вновь утверждаю, что в этом и состоит высшая и наиболее славная цель искусства, и именно в своих усилиях достигнуть этой цели оно очистится и оживотворит свои стремления к совершенству.
Но мы не должны тем временем сидеть и ждать явных земных и небесных примет приближения тех далеких и славных дней. Нам следует обратиться к обычному и порой, быть может, скучному труду, готовясь к этим дням, если мы доживем хотя бы до одного из них. Но если нам суждено умереть до их наступления, то постараемся сделать все возможное, чтобы расчистить им путь.
Но что же можем мы сделать для сохранения былых традиций, чтобы нам не пришлось однажды начинать все с самого начала, причем при отсутствии наставников? Что мы должны делать, чтоб тщательно сберечь и распространить то доброе, что есть в нашей жизни и по крайней мере распахать поле, где искусство сможет расти, когда люди начнут к нему тянуться? Что, наконец, мы можем сделать, что может сделать каждый из нас, чтобы взрастить какое-нибудь семя искусства, дабы оно могло вместе с другими пустить ростки и превратиться со временем в растение, необходимое нам?
Я вижу, вы отнюдь не безразличны к этому своему долгу. В этом меня убеждает память об энтузиазме участников собрания, перед которыми я имел честь выступать здесь прошлой осенью по поводу так называемой реставрации собора св. Марка в Венеции{12}. Вы совершенно справедливо полагали тогда, что эта проблема чрезвычайно важна для всего искусства, и было естественно, что люди, обеспокоенные ею, обратились к тем, от чьей воли зависела судьба собора, хотя первые — англичане, а вторые — итальянцы: вы чувствовали, что любители искусства должны быть выше национальных различий. Хоть вы и рисковали нарушить правила этикета, но действия ваши были оправданы надеждой спасти собор, подобного которому в мире нет. Некоторые итальянцы выказали тогда очень естественное, но совершенно неразумное раздражение и через свою прессу посоветовали нам заняться собственными делами. Это был худой довод в поддержку неразумного решения перестроить фасад собора св. Марка. Но некоторые из нас, которые ранее были далеки от подобных забот о своей стране, действительно стали обращать внимание на эти стороны жизни — пусть даже запоздалое, слишком запоздалое внимание. Ведь хотя у нас в стране и нет таких расписанных золотом интерьеров, какие имеются в соборе св. Марка, то все же есть много зданий — подлинных произведений древнего искусства и памятников истории. Посмотрите же, коль скоро мы признали их ценность, в каком они состоянии, и вы увидите, как беспомощно искусство в наш коммерческий век.
Множество красивых и старинных зданий уничтожено в странах цивилизованной Европы и в Англии точно так же. Посчитали, что эти здания создают неудобства для жителей, хотя элементарная сообразительность помогла бы избежать этих неудобств[17], но даже если эти здания покушаются на наши удобства, я утверждаю: если мы не готовы примириться с небольшим бытовым неудобством во имя сохранения памятника искусства, который облагораживает и воспитывает не только нас самих, но и наших сыновей и внуков, то напрасны и праздны разговоры об искусстве и о воспитании. Дикость рождает дикость.
То же самое можно сказать о расширении или же о перестройке из соображений удобств тех старинных зданий, которые все еще служат целям, близким к первоначальным. Почти во всех таких случаях дело сводится лишь к небольшим затратам на постройку нового здания. Ведь новое здание можно построить в точном соответствии с потребностями и в духе современного искусства. При этом сохранилось бы старинное здание, которое повествует нам и о былом и о прогрессе, учит нас искусству. И, таким образом, ценой небольших затрат одновременно достигается и улучшение удобств для людей и развитие современного искусства и просвещения.
Если оправдываются наши заботы о современных художественных произведениях, которые, коль скоро мы еще живы, можно создавать почти в любом количестве, то тем более окупается даже и незначительная доля внимания, предусмотрительности и денег для сохранения искусства былых времен, от которого (да будет проклято время, отделяющее нас от них!) осталось так немного, и теперь уже никогда не получить больше, какие бы удачи ни ждали мир в будущем,
Ни один человек, дающий свое согласие на разрушение или уродование старинного здания, не вправе претендовать на то, что будто он заботится об искусстве. А его преступление против цивилизации и прогресса не может быть объяснено ничем, кроме его собственной грубости и невежества.
Прежде чем оставить эту тему, я должен сказать несколько слов о любопытном изобретении наших дней, называемом реставрацией, — этот метод обращения с произведениями старинного искусства по своим последствиям немногим лучше прямого разрушения, хотя по своему духу он не направлен на упадок искусств. У меня, очевидно, не хватит времени обсудить этот вопрос в сегодняшний вечер, так что я остановлюсь лишь на следующих положениях.
Безусловно, следует тщательно заботиться о старинных зданиях, которые являются одновременно и произведениями искусства и памятниками истории. Подражательное искусство наших дней не равнозначно и не может быть равнозначно древнему искусству, не может заменить его. Поэтому если мы накладываем это современное подражательное искусство на старое, то мы уничтожаем последнее и как искусство и как историческое свидетельство. Наконец, естественное выветривание поверхности здания придает ему красоту, а разрушение ее — ужасная утрата.
Реставраторы же придерживаются прямо противоположных взглядов: они считают, что любой неглупый архитектор может бесцеремонно обращаться с произведениями искусства. Считается, что если все другое вокруг нас подверглось изменениям, начиная, скажем, с XII века, то искусство не изменилось, и наши мастера могут создавать нечто тождественное сооружениям XIII столетия, что, наконец, поверхность стен старинных зданий, изменявшаяся под воздействием климата, не представляет никакого интереса, а потому ее следует ликвидировать, где только возможно.
Вы видите, что этот вопрос трудно обсуждать, поскольку, кажется, нет ничего общего между реставраторами и антиреставраторами, и потому я обращаюсь к общественности с просьбой прислушаться к нашему мнению, которое может быть ошибочным, но действия, к которым мы призываем, хорошо обдуманы нами. Давайте отложим решение этого вопроса на некоторое время. Если на эти памятники будет направлена необходимая забота, чтобы они не пришли в ветхость, их всегда можно «реставрировать», как только люди посчитают момент подходящим и наше мнение окажется опровергнутым. Ну а если мы правы, — разве можно будет реставрировать уже «отреставрированные» здания? Поэтому прошу вас не решать этого вопроса наспех, пока искусство не продвинется вперед настолько, чтобы мы могли подойти к нему со знанием дела. Тогда исчезнут всякие сомнения по этому поводу.
Памятники нашего искусства и истории, которые безусловно, что бы ни говорили знатоки закона, принадлежат не замкнутому кругу людей, не тому или иному богачу, а всему народу в целом, заслуживают отсрочки решений об их судьбе. Нет никакого сомнения, что последние драгоценные реликвии, доставшиеся нам от «славных мужей и предков, нас породивших»{14}, требуют от нас небольшого терпения.
Все это, вся эта забота о нашем богатстве, несомненно, доставит нам беспокойство. Но нам предстоят еще большие заботы, ибо теперь я должен сказать о другом, о богатствах, которые должны принадлежать нам всем, — о зеленой траве и листьях, о водах, о самом свете, и воздухе, и небе. Коммерческий век слишком погрузился в свои дела, чтобы уделить этому хотя бы небольшое внимание. Но я, позвольте вам напомнить, думаю, что каждый из здесь присутствующих считает необходимым заботиться об искусстве.
Среди нас есть богатые люди, которых мы непонятно почему называем фабрикантами, — речь идет о капиталистах, которые платят деньги людям, чтоб организовать производство. Эти джентльмены сжигают тонны угля, отравляя воздух, но в то же время многие из них покупают картины и говорят о своей любви к искусству. Существует закон, принятый с целью запретить им отравлять воздух дымом в известное время и в известных местах, — на мой взгляд, это весьма слабый и весьма неполноценный закон. Но ничто не мешает этим любителям искусства считать законом свое собственное желание и полагать своей заслугой, если на их заводах неприятности, вызываемые копотью, сведены к минимуму. Но если они не стараются вовсе предотвратить копоть, когда это могло бы обойтись им недорого, и даже очень недорого, — я утверждаю, что их любовь к искусству — пустое притворство. Как это вы можете заботиться о пейзажной живописи, если своими делами показываете, что равнодушны к самой природе? И какое имеете вы право запирать от всего мира прекрасные произведения искусства и никому не давать к ним подступиться?
Ну, а что касается самого Дымного закона, то не знаю, в какой мере исполняют его в Бирмингеме[18], но я видел своими глазами, как соблюдают его в других местах, например в Брэдфорде. Эти места, расположенные невдалеке от Солтэра, являют собой постыдную картину: ибо громадная труба, обслуживающая все ткацкие и прядильные фабрики сэра Тита Солта и его братьев, распространяет столько копоти, сколько целая батарея кухонных дымоходов. Или возьмем Манчестер: один джентльмен из этого города сказал мне, что Дымный закон там — просто мертвая буква. А ведь в Манчестере покупают картины и заявляют, что желают развивать искусства. Но вы сами видите, что это всего лишь пустое притворство богачей: они хотят лишь говорить о своей любви к искусству, чтобы люди говорили о них.
Я не знаю, что вы предпринимаете здесь для этой цели, но простите, если я скажу, что вы еще и не начали прокладывать дорогу к успеху искусства, если вы еще не думали о том или ином решении этой важнейшей проблемы.
Итак, я рассказал вам об одной из самых больших неприятностей, побуждающей прощать раздражительных людей, которые с большей охотой называют наш век веком неприятностей, чем веком коммерции. Теперь же я оставлю этот вопрос на совести присутствующих здесь богатых и влиятельных людей и поговорю о меньшей неприятности, ослабить которую во власти каждого из нас и которая, будучи сама по себе очень незначительной, вызывает такое раздражение, что я посчитал бы свой труд в этот вечер вполне успешным, если хотя бы человек двадцать из присутствующих одолели эту неприятность, прислушавшись к моим словам. Я имею в виду бумагу, в которую вы заворачиваете ваши бутерброды. Вам, конечно, смешно. Но не оставляете ли вы, культурные жители Бирмингема, эти бумажки на Ликейских холмах, в общественных садах и других местах? Если нет, то у меня не хватит слов, чтобы похвалить вас. Когда мы, лондонцы, отправляемся отдохнуть в Хэмптон-Корт{15}, то как будто стараемся внушить всем и каждому, что мы немного подзакусили, и весь парк, начиная от самых ворот (а это красивое место), выглядит так, словно бы там вместо снега выпала грязная бумага. Я полагаю, что все присутствующие здесь могли бы дать слово покончить с этой неряшливой привычкой, которая стоит многих других ей подобных, вроде, например, привычки коптить небо: я имею в виду такие привычки, как выцарапывать свои имена на памятниках, обламывать ветки деревьев и прочее...
Кажется, мы находимся еще на слишком ранней стадии возрождения искусств, чтобы почувствовать, например, отвращение к ежедневно возрастающему безобразию реклам, размалеванных по нашим городам. И все-таки нам следует возмутиться этой ужасной мазней и, на мой взгляд, надо настроиться не покупать ничего из рекламируемых таким способом товаров. Многого они не стоят, если, чтобы их продать, нужно поднимать такой крик.
Я должен также задать вам и другой вопрос: как вы поступаете с деревьями, растущими на том месте, где собираетесь что-нибудь строить? Стараетесь ли вы сохранить их, приспособить к ним всем ваши дома? Отдаете ли вы себе отчет, какое они сокровище в городе или предместье? Какой отрадой будут они на фоне тех отвратительных конур, которые (простите меня!) вы, возможно, собираетесь построить на их месте? Я спрашиваю это с тревогой и тоской в душе, ибо в Лондоне и его окрестностях мы всегда[19] начинаем строительство с расчистки площади, пока она не становится голой как мостовая. Едва ли не каждый, думается, был бы потрясен, если бы я мог показать деревья, бессмысленно уничтоженные в том предместье, где я живу (в частности, в Хаммерсмите{16}). Среди них есть даже величественные кедры, некогда прославившие нас, жителей прибрежных мест.
Но тут снова вспомните, как беспомощны люди, которые думают об искусстве и природе в спешке коммерческого века.
Прошу вас, не забывайте, что каждый, срубающий дерево по своеволию или беспечности, особенно в большом городе или в его предместьях, не вправе говорить, будто он заботится об искусстве.
Что еще можем мы сделать, чтобы помочь воспитывать себя и других, приближаясь к искусству, добиваясь искусства, создаваемого народом и для народа как радость его творца и потребителя?
Что ж, хоть в какой-то мере поняв, каким было искусство, и привыкнув смотреть на его древние памятники как на друзей, которые могут нам кое-что рассказать о былых временах и лик которых нам не захочется менять, даже когда они изношены временем и бедами; потратив деньги и труды на значительные и незначительные вопросы внешнего оформления, показав на деле, что мы действительно заботимся о природе даже в окрестностях большого города; выполнив все это, мы, наконец, начнем думать о домах, в которых живем.
Ибо я должен сказать вам, что бесполезно рассуждать об искусстве, если вы не решили добиваться хорошей и целесообразной архитектуры.
Я говорил о народных искусствах, но все они могут быть обобщены в одном этом слове — «архитектура». Все они — составные части этого громадного целого, и все они начинаются с искусства домостроительства. Если бы мы не умели красить и ткать, если бы у нас не было ни золота, ни серебра, ни шелка, ни красителей, будь у нас всего лишь строевой лес, камень, известь, несколько простых красок и несколько режущих инструментов, чтобы заставить эти обычные материалы не только защитить нас от ветра и непогоды, но также выразить мысли и стремления, волнующие нас, — мы создали бы достойное искусство, в котором заложено все.
Архитектура поведет нас ко всем искусствам, как это и было с нашими предками, но если мы пренебрегаем ею и не обращаем внимания на то, как устроен наш дом, то, несомненно, окажутся заброшенными и другие искусства.
Полагаю, самые рьяные оптимисты не станут отрицать, что все мы сейчас живем в совершенно постыдных домах, а поскольку большинство из нас живет в домах, которые уже построены для нас, то очень трудно решить, что нам делать, помимо того, чтобы дожидаться, когда они наконец рухнут нам на голову.
Только не следует, как, вероятно, некоторые склонны, винить строителей. Строители — наши очень скромные слуги и будут строить то, что мы потребуем. Вы знаете, что богатых людей вовсе не принуждают жить в безобразных домах, и все же они в них живут. Поэтому вполне можно простить строителей, если они принимают именно такие жилища за образец.
Мы должны — и суть в этом — делать все, что можем, и разъяснить строителям, чего мы ждем от них, показав им, что мы сами устраиваем для себя. Судя о наших желаниях по существующим стандартам, строители до настоящего времени вполне могли считать, что нам нужны потуги на искусство, а не само искусство, что нам, если мы небогаты, нужна дешевая показная роскошь, а если богаты — то зрелище возмутительной глупости, и им совершенно ясно: мы хотим, чтобы все выглядело вдвое дороже, чем стоит на самом деле.
При этих условиях нельзя добиться настоящей архитектуры. Простота и основательность — ее первые требования. Разве мы не чувствуем удовольствия при виде старинного дома, думая о всех тех поколениях, которые прожили в нем? Разве не передаются нам их радости или их горести и разве не оставили в этом доме какого-то горького осадка даже их безрассудства? Этот дом кажется нам таким же добрым, каким он был для них. И совершенно другое мы почувствуем, когда будем рассматривать только что выстроенный дом — если он не таков, каким должен быть. Но нас будет радовать мысль, если строитель этого дома оставил в нем часть своей души, чтобы приветствовать незнакомых ему обитателей еще долго после того, как он отсюда ушел.
Но какие чувства способен пробудить в нас обычный теперешний дом, какие мысли, кроме надежды, что вскоре удастся забыть его пошлое безобразие?
Если вы спросите, сколько должны мы заплатить за эту основательность, каковы будут дополнительные расходы, то этот вопрос, по-моему, разумен, ибо вы должны отбросить как заблуждение надежду, которую иногда питают, что можно построить дом добротный и в то же время достойный называться произведением искусства за ту же цену, что и дом, который лишь претендует на все эти качества. Никогда не забывайте, кстати, когда люди вообще рассуждают о дешевом искусстве, что искусство требует времени, забот и мысли, а деньги — лишь внешний показатель всего этого.
Однако я постараюсь ответить на вопрос, который я же и задал: как должны мы платить за хорошие дома?
По счастливой случайности платить за них — значит жить простой жизнью, так как только такая жизнь может породить в нашей среде народное искусство. Повторяю, роскошь — величайший враг искусства, искусство не может жить в ее атмосфере.
Когда вы слышите о роскоши древних, вы должны помнить, что она вовсе не походила на нашу: люди древности, скорее, упивались безрассудной расточительностью, а не тем, что сегодня мы называем роскошью, но на самом деле должно быть названо комфортом. Именно комфортом — и я утверждаю, что грек или римлянин времен прежней роскоши, перенесенный в наше время, застыл бы от изумления, если бы увидел комфорт зажиточного мещанского дома.
Но некоторые думают, что именно комфорт составляет различие между цивилизацией и отсутствием цивилизации, что он — сущность цивилизации. Так ли это в действительности? Если так, — прощай мои надежды! По-моему, цивилизация означает мир, правопорядок и свободу, взаимное доброжелательство, любовь к истине и ненависть к несправедливости и как следствие всего этого — благопристойную жизнь, содержательную и свободную от малодушия. По-моему, цивилизация означает именно это, а вовсе не большее число мягких кресел и подушек, не большее количество ковров и газа, вкусного мяса и утонченных напитков и не обострение различий между классами.
Если цивилизация и должна быть тем, чем она является сейчас, то лично я хотел бы быть подальше от нее и жить где-нибудь в персидской пустыне или в заброшенной лачуге среди холмов Исландии. Но чем бы ни была цивилизация, я считаю себя вправе утверждать: искусство питает отвращение к роскоши, задыхается в богатых домах под ее удушающим игом.
Поверьте, если мы хотим, чтобы искусство началось с нашего дома, как это и следует, надо очистить дома от назойливых излишеств, от стандартного комфорта, который не есть подлинный комфорт и лишь доставляет хлопоты слугам и врачам. И если вам нужно золотое правило, подходящее для каждого, так вот оно: не держите в доме ничего такого, в чем вы не видите ни пользы, ни красоты.
И если мы будем строго придерживаться этого правила, то прежде всего покажем строителям и подобным им людям, чего в самом деле хотим от них, и создадим, как говорят, потребность в искусстве подлинном, и к тому же у нас окажется больше денег, чтобы платить за благопристойные дома.
Надеюсь, я не слишком истощу ваше терпение, если скажу об обстановке, необходимой для обычной гостиной здорового человека, то есть — для комнаты, в которой не готовят пищу, не спят, не занимаются грязным физическим трудом.
Необходим прежде всего книжный шкаф, полный книг, стол, достаточно прочный, чтобы на нем можно было писать или работать, несколько стульев, которые легко передвинуть, и кушетка, на которую можно присесть или прилечь, затем буфет с выдвижными ящиками. Если книжный шкаф или буфет не украшены рисунком или резьбой, вам захочется повесить на стену картины или гравюры, какие вы можете себе позволить, только не такие, чтобы ими просто заполнить место, а истинные произведения искусства. Но и сама стена может быть покрыта красивым и спокойным орнаментом. Нужна также ваза или две для цветов, которые вам следует время от времени покупать, особенно если вы живете в городе. И, конечно, необходим камин — необходимый предмет в комнате в условиях нашего климата.
Вот и все, что нам нужно, если, кстати, пол в хорошем состоянии. Если же нет, — а в теперешних домах он оставляет желать лучшего, — будет полезен небольшой ковер, который легко свертывать и выносить из комнаты. Следует позаботиться, чтобы ковер был красив, иначе он будет нас ужасно раздражать.
Если мы не музыкальны и не нуждаемся в пианино (а если в этом случае оно стоит у нас, то наносит ущерб красоте), то это и все, что нужно. Можно добавить только очень немногое к этой необходимой обстановке, не создавая помех для нашей работы, размышлений и отдыха.
Если эти вещи делали бы хорошо и надежно, заботясь о доступности цены, то и стоили бы они очень недорого. Этих вещей так немного, что лица, которые могут их себе позволить, имели бы возможность приобретать их в добротном и пристойном виде. А те, кому дорого искусство, должны всерьез подумать, чтобы в мебели, которую они делают, было все добротно и красиво без всяких претензий на искусство, ничего такого, что оскорбляло бы мастера или продавца. И, я уверен, если все любящие искусство будут единодушны, это произведет громадное впечатление на широкую публику.
Эту простоту вы можете сделать такой дорогой, какую только позволите себе или какая вам нравится. Вместо побелки и обоев можно завесить стены гобеленом, покрыть их мозаикой или же фресками, исполненными хорошим живописцем. Это вовсе не роскошь, если делается ради настоящей, а не показной красоты. Это не нарушает и нашего золотого правила: не держите в доме ничего, в чем не видите ни пользы, ни красоты.
Искусство начинается с этой простоты, и чем выше искусство, тем больше в нем простоты. Я говорил об обстановке жилого дома — помещения, где мы едим, пьем и проводим обычно время. Но когда мы имеем дело со зданиями, которым нужно придать особую красоту, торжественность и достоинство, то следует стремиться к еще большей простоте и оставлять там одни голые стены, сделав их насколько возможно красивыми. Собор св. Марка в Венеции обставлен очень просто, гораздо проще, чем большинство римских католических церквей. Его величественно прекрасная прародительница св. София в Константинополе была обставлена еще проще, даже когда была христианской церковью. Но нет надобности ехать ни в Венецию, ни в Стамбул, чтобы убедиться в красоте простоты: войдите в неф какого-нибудь нашего величественного готического собора (помнит ли кто из вас, как вы входили туда впервые?), и вы легко поймете, как возвышает, какое удовольствие доставляет огромное свободное пространство — даже теперь, когда снят орнамент с окна и стены. Задумайтесь, что значит простота и отсутствие мишуры.
В конце концов нам, изучающим искусство, нетрудно найти самый надежный путь, ведущий к его развитию; ничто другое не порождает искусство так, как само искусство. Любая хорошо сделанная вещь также значительно содействует искусству. Любое проявление претенциозности и равнодушия наносит искусству существенный урон. Большинство из вас, кто собирается заниматься искусством, очень скоро сможет понять, есть у него дарование или нет. Если нет, бросьте заниматься им, иначе вы будете понапрасну убивать время. Но если у вас есть какое-либо дарование, вы действительно счастливее большинства людей, ибо источник радости всегда будет с вами, и чем чаще вы к нему припадаете, тем он становится мощнее. Если вам случится пресытиться им вечером, то утром, пробуждаясь, вы почувствуете жажду. Если утром работа покажется на некоторое время ненастоящей, вскоре, когда рука немножко пообвыкнет, вместе с ее движениями родится новая надежда, и вы снова счастливы. Если другие проводят свой день словно растения, прикрепленные к земле, которые не могут сами поворачиваться в ту или иную сторону и гнутся под дуновением ветра, то вы знаете, чего хотите, ваша воля всегда бодрствует, стремясь найти нужное вам, и, что бы ни случилось, выпадает ли на вашу долю радость или печаль, вы по крайней мере неизменно чувствуете пульс жизни.
Когда в прошлом году я закончил свое выступление, когда сошел с этой трибуны и сел, то почувствовал некоторую тревогу оттого, что кое в чем зашел слишком далеко, что в своем нетерпении говорил со слишком большой горечью и опрометчивые мои слова могли вас обескуражить. Я вовсе не хотел этого. Чего я хотел добиться тогда и чего хочу в этот вечер — это со всей ясностью поставить перед вами цель, к которой следует стремиться.
Эта цель — демократизация искусства, облагораживание обычного повседневного труда, который в один прекрасный день заменит страх и страдания надеждой и наслаждением, этими главными стимулами, побуждающими людей трудиться и поддерживать жизнь на земле.
Если мне удалось в ком-нибудь вызвать стремление к этой цели, то какими бы слабыми и опрометчивыми ни были мои слова, они принесли больше пользы, нежели вреда. Кроме того, я не могу представить, чтобы что-либо из мною сказанного могло обескуражить тех, кто уже примкнул или готов примкнуть к этому делу: наш путь слишком ясен, и каждый из нас, силен он или слаб, может содействовать общему делу.
Я хорошо знаю, что люди, уставшие от перипетий борьбы, чувствуя, как истощается их терпение, а надежды отступают, иногда — и это простительно — мысленно обращаются к тем дням, когда если проблемы и не были понятнее, то средства исследовать их были проще и когда настолько бурной была пора, что человек многие свои ошибки и ереси мог даже искупить смертью во имя преданности делу. Встретить грудью испанские пики в Лейдене, обнажить меч вместе с Кромвелем{17} — все это при запутанности нашей жизни может показаться счастливым уделом. Несомненно, что-то заключено в словах: «Я жил как глупец, но в этот час я отбрасываю глупость и умираю как человек». И все же немногим выпадает счастье умереть за дело, которому вначале не была посвящена их жизнь. И это самое большее, что можно требовать от самого великого человека, преданного идее.
Итак, для нас, имеющих цель в своем сердце, самое высокое желание и самый простой долг совпадают. Ибо мы слишком заняты неотложной работой, чтобы мучиться нетерпением в ожидании очевидного и значительного прогресса. Но, разумеется, коль скоро мы служим этому делу, нас не должна покидать надежда, и, быть может, иногда она оживит наше видение, обгонит медленно тянущееся время и откроет перед нами триумфальные дали будущего, когда миллионы людей, ныне томящихся в темноте, озарятся искусством, создаваемым народом и для народа на радость его творцов и потребителей.
Искусство и красота земли
Мы здесь находимся среди населения, посвятившего себя ремеслу, которое можно назвать древнейшим, ремеслу, которое возбуждает во мне самый пристальный интерес, ибо, за исключением, может быть, благородного дела домостроительства, ему принадлежит одно из первых мест в мире ремесел. И вот среди этого трудолюбивого населения, занятого производством столь важных для нашего домашнего хозяйства предметов, я обращаюсь к школе искусств, к одному из учреждений, возникших по всей стране в то время, когда почувствовалось что-то неладное с двумя началами, необходимыми для производства того, что может быть справедливо названо произведением промышленного искусства, — я имею в виду утилитарное и художественное начала. Надеюсь, то, что я намерен сказать в этот вечер, не побудит вас думать, будто я недооцениваю важности этих учебных заведений. Я уверен, что они нам необходимы, если только мы не решили отказаться от всякой попытки слить эти два начала — пользу и красоту.
Хотя я, как никто другой, считаю важным искусство керамики и хотя я не пренебрегал изучением этого искусства с художественной или с художественно-исторической точки зрения, я не считаю себя обязанным ограничиваться проблематикой вашего искусства, и не столько потому, что мои познания его технической стороны недостаточны для того, чтобы оценить его с упомянутой ранее художественно-исторической точки зрения, но, скорее, потому, что я считаю почти невозможным отделять одно из декоративных искусств от других, как это обычно делается. Равным образом я не думаю, что смог бы серьезно вас заинтересовать и еще менее научить вас чему-либо, если бы начал перечислять основные правила, которыми должен руководствоваться художник, создающий образцы для промышленных искусств. С самого создания этих школ их преподаватели сформулировали такие правила четко и удовлетворительно, и, думаю, они с тех пор были приняты всеми — по крайней мере в теории. Что должен сделать я лично — так это поделиться с вами мыслями о некоторых вещах, которые никогда не выходят у меня из головы, и соображениями относительно общего состояния искусств и их будущего, ибо, пренебрегая этим состоянием, мы забредем в такой тупик, что ни один гончар не сможет орнаментировать свои сосуды и, если он человек строгого логического ума, не будет, знать, какую форму придать сосуду, пока глазами не увидит примера его употребления, подсказывающего, в каком направлении работать. Боюсь, то, что я должен сказать по этому поводу, покажется вам не очень новым и может вас так или иначе обидеть, но, поверьте, мне особенно приятна честь, которую вы мне оказали, прося выступить перед вами. Не сомневаюсь, вы попросили меня выступить, чтобы услышать, что я думаю об искусствах, и потому, мне кажется, я дурно отплатил бы за эту честь и отнесся бы к вам без должного уважения, если бы принялся пространно говорить о том, о чем сам не думаю. И потому прошу позволения высказаться откровенно, и именно о том, что думаю.
И все-таки мне не хотелось бы создать впечатление, будто я недооцениваю сложностей откровенного разговора — искусства, вероятно, не менее трудного, чем гончарное ремесло, искусства, достижениями которого мир не может в такой же мере гордиться. Поэтому простите меня, если я обижу вас своими словами, и поверьте, что причиной тому будет не откровенный смысл моих слов, не резкость моих мыслей, но, скорее, моя неуклюжая манера выражаться, и, по правде говоря, я рассчитываю на вашу снисходительность, ибо в глубине сердца верю, что откровенное слово, сказанное по необходимости, без озлобления и своекорыстия, никого надолго не обидит. И в то же время разве есть предел злу и ущербу, которые исходят из речи равнодушной, от слов, сказанных по рассеянности, из лицемерия, трусости?
Вы лепите здесь крепкие, гладкие, отлично обожженные и надежные горшки, и уж вы-то хорошо понимаете, что должны придать им иные качества помимо тех, которые делают их удобными для повседневного пользования. Ваши керамические изделия должны быть красивы и удобны — в противном случае они не найдут спроса на рынке. Именно так мир с самого начала расценивал ваше искусство и все другие промышленные искусства, и, как я уже сказал, вследствие ли привычки или чего другого, так расценивает и по сей день.
И все же положение искусства в вашей повседневной жизни столь отлично от того, в каком оно пребывало обычно, что, мне кажется (и я не один думаю так), мир сейчас в нерешительности — дать ли приют искусству или выбросить его. Чувствую, что мне следует объяснить это, иначе мои слова могут вызвать недоумение. Я постараюсь сделать это предельно сжато. Не знаю, чувствуете ли вы громадную перемену, которая произошла с искусствами в последнее время, —перемену, которая для многих из здесь присутствующих должна бы представиться особенно резкой именно в самое недавнее время. Вам может казаться, будто искусство развивалось постепенно и непрерывно, во всяком случае, с тех пор как оно стало пробиваться в жизнь сквозь беспорядок и варварство средних веков. Вам, возможно, кажется, будто в искусстве происходили постепенные изменения, рост и улучшение (последнее, возможно, сначала не всегда охотно признавалось), будто все это обходилось без насилия и потрясений и будто рост и улучшение все еще продолжаются.
Такой взгляд вполне разумен, и он, без сомнения, соответствует тому, что происходило в других областях человеческой культуры, — даже более того, именно на этом основании покоятся ваша удовлетворенность искусством и надежды на его будущее. Некоторые из нас, вероятно, именно поэтому и обмануты; на чем покоятся сегодня наши надежды, об этом я смогу сказать кое-что в этот вечер, но теперь давайте глянем в пропасть, в которую канули наши прежние надежды.
Бросим взгляд на раннее средневековье, на эти дни варварства и беспорядка. По мере того как вы страницу за страницей читаете «Историю» наблюдательного и хладнокровного Гиббона{1}, у вас может составиться впечатление, что гений великого историка растрачен на описание мелких дрязг, дерзкого своекорыстия, постыдных предрассудков, показного блеска и жестокости королей и авантюристов — главных действующих лиц его рассказа. Подумав, вы не можете не заметить, что рассказ этот не полон, более того, что он лишь едва начат, здесь и там в нем разбросаны лишь случайные намеки. Дворец и поля битв занимали в том мире лишь небольшое место, и вы можете быть уверены, что кроме дворцовых интриг и сражений существенную роль играли тогда вера, мужество и любовь, иначе что же рождало жизнь в те дни? Зримые признаки этого рождения ищите в искусстве, которое росло и цвело среди тогдашнего варварства и беспорядка, и вы знаете, кто его создавал. Тогдашние деспоты, ученые доктринеры и воинственные забияки ничего не платили за это искусство, хотя и пытались с его помощью умилостивить своих богов; сами же были слишком поглощены иными делами, чтобы создавать его. Искусство творит безымянный народ, и имена его творцов не сохранились — ни единого имени. Сохранились лишь их труд, и плоды его, и все, что должно возникнуть из него. Рожденное народом искусство было с самого начала совершенно свободно — в том обществе, которое едва начало освобождаться от религиозных и политических оков. В отличие, например, от Древнего Египта искусство не сдерживалось более суровыми рамками определенных предписаний, когда выдумка и игра воображения не дозволялись, дабы сберечь в чистоте величественность прекрасных символов, не изгладить в сердцах людей память о страшных таинствах, олицетворяемых этими символами. Не было оно больше и таким, как в Греции времен Перикла, где требовалось совершенство воплощающей идею формы. Искусство было свободно. Все, о чем человек думал, могло быть воплощено трудом его рук и могло заслужить похвалу и восхищение собратьев. Каждый, независимо от уровня своих мыслительных способностей и мастерства, признавался достойным радоваться своему труду, доставляя радость и другим людям. В этом искусстве никто и ничто не было бесплодным. Все народы к востоку от Атлантического океана чувствовали это искусство; весь мир от Бухары до Голуэя и от Исландии до Мадраса сверкал блеском этого искусства и трепетом от его силы. Оно одолевало различие между нациями и религиями. Оно одаривало радостью христиан и мусульман; кельты, тевтоны, римляне одинаково пестовали его; персы, татары и арабы обменивались его дарами. Принимая во внимание возраст мира, лучшие времена в развитии искусства длились не очень долго. Оно процветало уже, когда норвежцы, датчане и исландцы гордо прошествовали по улицам Миклгарфа и оградили своими топориками трон греческого царя Кириалакса. Когда слепой Дандоло{2}был приведен с венецианских галер к покоренным стенам Константинополя, искусство уже переживало пору своего величественного расцвета. Когда старый и изможденный Константин Палеолог{3} вернулся из своего мирного дома на Морее, дабы встретить смерть в этом великом городе, когда по повелению последнего Цезаря турецкие мечи положили конец всем сложностям его жизни на разрушенных и пробитых стенах того же Константинополя, искусство, в котором начали появляться симптомы недуга, именно там пускало новые ростки, свое славное путешествие на восток и на запад.
И все это время то было искусство свободных людей. И независимо от того, существовало ли все еще в мире рабство (как и всегда, его было более чем достаточно), искусство не несло на себе его печати. Однако лишь изредка великие имена возвышались над толпой его творцов. Эти имена (и это было главным образом только в Италии) выступили на передний план уже тогда, когда достигли высшего расцвета те ветви искусства — в особенности архитектура, — которые были скорее плодом коллективной, нежели индивидуальной одаренности. Люди принимались искать вокруг себя нечто более удивительное и свежее, нежели дары постепенных и медленных изменений архитектуры и сопутствующих ей малых искусств.
Они нашли то, что искали, в славном творчестве живописцев, встретив его столь открытым восторгом и радостью, что это прямо-таки странно в наше время, когда роль искусства так незначительна.
Некоторое время все шло сверх всяких ожиданий. И хотя в Италии архитектура стала кое-что утрачивать из своего былого великолепия, все же это было едва заметно в ярких лучах славы, все более озарявших живопись и скульптуру. Между тем в искусстве Франции и Англии, медленнее достигавшем зрелости, перемены начались, однако, раньше, как свидетельствует скульптура великих французских соборов и прелестные рисунки и орнаменты английских рукописных книг. А фламандцы, которые никогда не обнаруживали особых дарований в искусстве архитектуры, в конце этого периода нашли свое подлинное призвание в живописи, выработав свежую и серьезную, внешне натуралистическую манеру, в которой цвет остается непревзойденным по чистоте и яркости.
Постепенно средневековое искусство взбиралось на вершину, хотя оно несомненно и несло в себе семена недуга, который должен был погубить его; то были грозные предвестники больших перемен, но тогда никто их не замечал. Слепота эта не удивительна, ибо еще несколько столетий искусство оставалось жизнеспособным и великолепным. Когда же наконец искусство было настигнуто смертью, люди не могли увидеть в ней ничего иного, кроме надежды на новую жизнь. В течение многих лет — целого столетия, возможно, до того как эта новая жизнь проявила себя, — людям, не обученным специально, становилось все труднее выражать в искусстве идеи более великие, чем прежние.
Не требуя абсолютного совершенства, которое было нормой для Древней Греции, люди начали искать усложненности подхода, о которой древние греки и не мечтали. Люди прониклись теперь надеждой воплотить исторические сцены и поэтические картины гораздо более обстоятельно, чем старались то сделать лучшие из их предшественников. И все же различие между художником и ремесленником (как нас прозвали) все еще оставалось недостаточно явным, хотя, несомненно, дело к тому шло. Это различие проявлялось скорее при сопоставлении произведений разных народов, чем отдельных мастеров. Я имею в виду, в частности, тот факт, что в XIII веке Англия по великолепию шла бок о бок с Италией, в середине же XV века Англия была дикой, а Италия — культурной. Перемены назревали. По той или иной случайности одно за другим совершались открытия древних памятников искусства и литературы; сама судьба будто спешила навстречу неосознанным стремлениям людей.
Вот тогда-то прекратились все колебания и как будто внезапно, при яркой вспышке славы произошло долгожданное Возрождение. Некогда, как я уже сказал, имена творцов прекрасных произведений исчезали в Лете, но от эпохи Возрождения до нас доходит больше имен, чем может запомнить человек с хорошей памятью, и среди них имена величайших мастеров, каких мир когда-либо знал или узнает. Удивительно ли, что люди переживали восторг, удивительно ли, что они были ослеплены гордыней, утратив представление о действительности? И все же повесть о них чрезвычайно печальна и родит сожаление. Это было время, когда, казалось, удалось одолеть пространство, разделяющее желание от его осуществления. Казалось, будто именно они первыми добрались до места, где сложены все сокровища мира — сокровища, которые никому до них не удавалось обнаружить. Казалось, они обрели все, тогда как их предки были всего лишены — да нет, даже и их отцы, кости которых еще не успели истлеть в могилах.
Люди Возрождения взирали на пройденные до них тысячелетия как на пустыню, в которой ничего не совершалось, а впереди им виделся вечный триумф. Мы, всерьез наученные ошибками других, можем в ином свете увидеть положение этих людей. Если с самого своего возникновения искусство всегда смотрело вперед, то теперь оно озиралось на прошлое; если некогда людей учили воспринимать через искусство то, что оно изображало, то теперь их учили относиться к искусству как к самоцели, и утрачивало смысл спрашивать, признают или нет его правдивость. Некогда цель искусства заключалась в том, чтобы видеть; теперь его цель сводилась только к тому, чтобы его видели. Некогда оно создавалось, чтобы его понимали и чтобы оно было всем полезно; теперь же непосвященные должны были покинуть его храм, и оскорбления, некогда наносимые рабовладельцами Греции и откупщиками Рима простому народу и всем людям, кроме немногих избранных, теперь стали изображаться в фантастически замаскированном виде, чтобы приукрасить победу безграничных надежд.
Разумеется, не все это случилось сразу, но все-таки случилось, и не столь уж много времени прошло, когда люди стали вновь вспоминать прошлое. В начале XVI века искусство Возрождения находилось в самом расцвете. Но прежде чем наступил XVII век, что же стало с его тщеславными надеждами? Из всей Италии в одной только Венеции сохранялось мало-мальски достойное искусство. Подпавший под влияние Италии север не получил от нее ничего, кроме возможности подражать ее безвкусной пышности, а искусство Англии спасла от полной гибели лишь традиция прежних времен, которая все еще не умирала в среде людей простых и, по правде говоря, ограниченных, но серьезных и искренних.
Я рассказал, как это произошло. Но в глубине всего этого — и на это я хочу обратить ваше сугубое внимание — было то, что деятели Ренессанса сознательно или бессознательно усиленно стремились отделить искусство от будничной жизни людей, и они осуществили это свое желание если и не полностью в свое собственное время, го все же достаточно быстро и уверенно. Я должен напомнить, хотя и я и лучшие, чем я, люди говорили об этом не однажды, что некогда каждый изготовлявший что-либо создавал не только полезный предмет, но и произведение искусства, тогда как теперь лишь немногие вещи могут лишь весьма робко претендовать на признание их художественными произведениями. Я прошу каждого из вас самым внимательным и серьезным образом обдумать это.
Но прежде всего, чтобы ни у кого из вас не осталось сомнений, мне хочется спросить: что же представляет собою громадная масса экспонатов, заполняющих наши музеи, если оставить в стороне произведения живописи и скульптуры? Не были ли они в прошлом обыкновенными предметами домашнего обихода? Конечно, некоторые могут смотреть на них просто как на диковинки, но и вас и меня совершенно разумно приучили относиться к ним как к бесценным сокровищам, которые могут многому нас научить. И все же, повторяю, в большинстве случаев — это обыкновенные предметы домашнего хозяйства, сделанные «простыми парнями», как их теперь называют, парнями необразованными, искренне считавшими, что солнце ходит вокруг земли, а Иерусалим находится как раз посередине мира.
Вспомните другие музеи, которые мы унаследовали, — наши деревенские церкви. Обратите внимание, что они насыщены искусством, и пусть слово «церковь» не сбивает вас с толку. Во времена подлинного искусства люди строили свои церкви точно в том же стиле, что и свои дома. Термин «церковное искусство» изобрели в последние тридцать лет. Я только что был в уединенной местности невдалеке от истоков судоходной Темзы, где в радиусе пяти миль ютится с полдесятка крохотных деревенских церквей и каждая из них — прекрасное художественное создание со своим индивидуальным обликом. Эти церкви — как вы бы сказали, — дело рук неотесанных деревенских парней, некогда живших по берегам Темзы, но ничто не сравнится с благородством их искусства. Если бы эти парни должны были проектировать и строить церкви в наше время (а за последние пятьдесят лет или около того они утратили прежние традиции строительства, хотя в их среде традиции удерживались долее, чем где-либо), то эти церкви мало отличались бы от обыкновенных небольших и незамысловатых сектантских часовен, которые можно видеть разбросанными по новым поселкам. Вот на что они похожи, а не на новые готические храмы, спроектированные архитектором. Чем внимательнее вы будете изучать археологию, тем отчетливее поймете, что я прав, что, действительно, доставшееся нам от прежних времен искусство создавалось очень непритязательными людьми. Но вы не сможете не увидеть, что работа их требовала ума и что работали они с наслаждением.
Это последнее обстоятельство подводит меня к такой важной мысли, что, даже рискуя вас утомить, я должен продолжить свое рассуждение и снова все повторить. Было время, когда любой, кто делал какую-нибудь вещь, создавал не только полезный предмет, но и художественное произведение, и всем это доставляло радость. Никто не заставит меня отказаться от этого утверждения. В чем бы я ни сомневался, но только не в этом. И если я делаю в своей жизни что-либо стоящее, если мною владеет какое-либо достойное стремление, оно сводится именно к тому, что я надеюсь способствовать приближению времени, когда мы сможем сказать — так было некогда, так обстоит и теперь.
Не поймите меня превратно: я не просто восхваляю прежние времена. Я знаю, что во времена, о которых идет речь, в жизни было много грубого и плохого, она была насыщена насилием, предрассудками, невежеством и рабством, и все же должно признать, что если бедный люд настоятельно нуждался в утешении, он не вовсе был его лишен, и таким утешением служило наслаждение, доставляемое трудом. Поистине, господа, хотя мир с тех пор многое приобрел, я не уверен, что он обрел для всех людей такое совершенное счастье, которое позволило бы нам отказаться от утешения, предлагаемого самой природой. Неужели нам суждено вечно изгонять одного беса при помощи другого? Неужели нам никогда не удастся одним махом освободиться от легиона бесов целиком?
Я не хочу сказать, что вся работа, исполняемая нами теперь, совершается без всякого наслаждения, но наслаждение это достигается, скорее, тем, что мы вот одолели порядочное количество работы (несомненно, это мужественное и достойное переживание), либо же тем, что мы терпеливо несем свое бремя; и лишь редко, очень редко что-либо побуждает труженика запечатлеть в своем изделии пережитое им наслаждение.
И сама система организации нашего труда также не допускает, чтобы человек наслаждался своей работой. Нет почти никакой согласованности между художником, создающим образцы, и человеком, который выполняет его замысел. Случается иногда, что и сам этот художник вынужден работать машинально, без всякого подъема, и, признаться, меня это не удивляет. Я знаю по опыту, что создание одного эскиза за другим — или, проще говоря, чертежей — ложится на душу тяжким бременем, особенно если автор сам не воплощает их в материале. Если только рабочим всех разрядов не грозит вырождение до уровня машин, то необходимо, чтобы рука давала отдых уму, а ум давал бы отдохнуть руке. И вот я утверждаю, что мир, утратив именно такую работу, заменил ее работой, которая явилась следствием разделения труда.
И эта работа, что бы она ни производила на свет, неспособна создавать коллективное искусство. Пока существует современное общество, искусство должно быть всецело ограничено произведениями, от начала и до конца создаваемыми одним человеком, — картинами, скульптурой и прочим. Но эти произведения не могут заполнить пропасть, которая образовалась после утраты коллективного искусства; не могут они, особенно наиболее богатые поэтическими образами, привлечь к себе всеобщие симпатии. Я должен говорить прямо, и потому заявляю, что при нынешнем положении дела никто, кроме высокообразованных людей, не понимает утонченных произведений живописи. Мало того, я считаю, что на большинство людей впечатление производят лишь те картины, на которых изображены знакомые им сцены. Этот вопрос, затрагивающий широкую публику в целом, на мой взгляд, гораздо важнее, чем вопрос о непонятом художнике, но и этот художник, однако, требует нашего сочувствия. Я уверен, что отсутствие симпатии со стороны простой публики очень тяжело отражается на нем и делает его работы беспокойными и нечеткими или же причудливыми и непонятными.
Нет сомнения — если болен народ, то лечить надо и интеллигенцию. Искусство не сможет ни развиваться, ни процветать, — мало того — даже существовать, если к нему не будет причастен весь народ, и что касается меня, то я и не желаю, чтобы оно в этом случае существовало.
Поэтому я и говорю вам, что мир в наши дни должен выбрать — сохранит ли он искусство или же даст ему вовсе исчезнуть! И все мы, и каждый из нас в отдельности также должны решить, к какому лагерю мы хотим или можем примкнуть — к тем ли, кто честно отстаивает искусство, или же к тем, кто откровенно его отвергает.
Позвольте еще раз попытаться сформулировать эту альтернативу. Если вы приемлете искусство, это значит, что оно должно стать частью вашей — и всех людей — повседневной жизни. Оно будет сопровождать нас, где бы мы ни находились, в древнем ли городе, полном былыми традициями, на недавно ли заложенной ферме в Америке или же в колониях, где вообще никто не жил настолько долго, чтобы создать какие-либо традиции. Без искусства не обойтись нигде, будь то тихая деревенская глушь или же суетливый город. Оно будет делить с вами печали и радости, будет с вами в часы работы и во время отдыха. Оно не будет достоянием избранных, но будет принадлежать и благородным и простым людям, ученым и необразованным и станет языком, который смогут понять все. Оно не будет препятствовать той работе, какая необходима человеку, но покончит с трудом, ведущим к вырождению, уничтожит роскошь, изнеженность, пошлую фривольность. Оно станет смертным врагом невежества, бесчестия и гнета, будет взращивать доброжелательность, честность, справедливость и доверие между людьми. Оно научит с мужественным достоинством почитать высокий интеллект, но не презирать и того, кто не пытается казаться не тем, что он есть. И все это, став для искусства и орудием его влияния и духовной пищей, наполнит радостью повседневный труд человека, превратится в самый щедрый и лучший из даров, каким когда-либо владел мир.
Повторяю, я уверен, что именно таков смысл искусства, и не меньше. Если мы попытаемся сохранять искусство на иной основе, то мы лишь укрепим обман, и было бы намного лучше принять другое решение — откровенно отвергнуть искусство, как уже поступили многие, и не самые худшие среди нас. Если искусство уже погребено, а вы намерены получить ясное представление, что же в таком случае ожидает мир в будущем, то не ко мне, а вот к ним и обратитесь за ответом. И все же я могу, мне кажется, в какой-то степени представить по нынешнему ходу дел, что произойдет тогда с искусством, которым должны заниматься мы, мастера художественного ремесла.
Если люди откажутся от мысли, что ручной труд вообще может быть им приятен, то, будучи порядочными и искренними, они должны приложить все усилия, чтобы весь труд в мире свести к минимуму. Вслед за нами, художниками, они должны будут сделать все, чтобы упростить жизнь человека, сократить, насколько возможно, его потребности, и, несомненно, в теории они сократят их намного больше, чем сократили бы мы. Так, будет, конечно, запрещена тонкая ткань, применение которой вызвано нашим стремлением к красоте. В изделиях ручного труда исчезнет орнамент, и красота останется только в творениях природы. Одежда лишится украшений, хотя моль, которая ее разъедает, по-прежнему будет сверкать серебром и перламутром. Лондон превратится в страшную безжизненную пустыню, хотя лондонские цветы по-прежнему будут более изящно украшены крапинками, чем самый крошечный требник, некогда разрисованный монахом. И когда все это уже свершится, то останется еще слишком много труда, то есть слишком много мучений в мире.
И что тогда? — Тогда потребуются машины. Для начала нам нужно будет их очень много, но и то их окажется недостаточно. Некоторые должны будут выжимать из себя последние силы, трудясь над изобретением новых машин, пока наконец машины не будут производить почти все, что нужно людям. Я не понимаю, почему бы этому не случиться. Я сам верю в безграничные способности машин. Я верю, что машины могут делать все, кроме произведений искусства.
И все-таки... что будет потом? Предположим, мы найдем достаточно мучеников (а попросту говоря, — рабов), которые создадут все необходимые машины и пустят их в ход. Но в состоянии ли мы будем даже тогда освободиться от всякого труда, оказавшегося для нас сущим проклятием? И что будет с нашей совестью (ведь я начал с предположения, что у всех у нас есть совесть), когда мы придем к мысли, что сделали все, что могли, а нас все еще будут осаждать стонущие и недовольные бедняки? Я спрашиваю, что мы будем делать тогда?
Должен сказать, что мое воображение простирается не дальше того, чтобы предложить в качестве лекарства общий бунт, а в случае успеха этого бунта должны волей-неволей восторжествовать какие-то формы искусства— этого необходимого утешения человечества.
Но, говоря по правде, это побуждает меня сделать другое предложение, — пожалуй, более практичное. Предположим, мы сразу начнем с бунта; ведь когда я говорил, что миру следует либо принять искусство, либо отвергнуть его, я вовсе не думал, что если искусство будет отвергнуто, то навсегда. Нет, не сомневайтесь, — бунт неизбежен и завершится победой. Но только если мы дождемся, пока гнет укоренится, — наш бунт превратится в сплошное отрицание. Не останется ничего, кроме беспощадной злобы и той надежды, которая рождается отчаянием. Но если мы начнем действовать сейчас, то перемены и контрперемены будут сменять друг друга постепенно, и новое искусство придет к нам тоже постепенно. Наступит день, и мы увидим его уверенное и победное шествие — мы ли это будем, наши ли сыновья или внуки, но зато битва будет им выиграна без шума.
Но с чего же должен начаться наш бунт? Как же вылечить это равнодушие к работе, этот недуг, поразивший всех мастеров и осложнившийся заболеванием искусства и упадком цивилизации?
Боюсь, любой мой ответ разочарует вас. Сам я так тяжко страдаю из-за того, что труд перестал быть наслаждением, что не нахожу никакого иного средства, кроме возбуждения недовольства. Я не знаю никакого непогрешимого патентованного средства, чтобы покончить со злом, которое росло на протяжении столетий. Любые средства, которые приходят мне на ум, достаточно банальны. В далекие времена расцвета народного искусства, несмотря на горести, которые тогда наполняли жизнь, мир боролся за культуру и свободу, и за то же самое должны бороться и мы, если только не считать, что мы уже достаточно культурны. Я, признаться, так не считаю. Разностороннее образование — вот к чему мы должны стремиться. Мы можем надеяться, что если даже и не выучимся многому, то по крайней мере поймем, как мало знаем, а такая мысль рождает стремления или неудовлетворенность — называйте как хотите.
Я не сомневаюсь, что образование, даваемое нашими художественными школами, подводит именно к такой мысли. Не думаю, чтобы разумный человек мог считать эти школы ненужными, когда именно теперь, в пору их организации, стали обсуждаться декоративные цели индивидуального искусства. Правда, основатели этих школ ошибочно рассчитывали непосредственно и быстро удовлетворить потребность в подготовленных и опытных художниках, создающих образцы товаров. Но хотя школы и обманули подобные ожидания, они, несомненно, повлияли как на декоративное, так и на другие искусства. Среди всех их достижений немалое значение имеет общественное признание ценности всякого искусства, признание, о котором свидетельствует само существование этих школ. Говоря точнее, их существование и интерес к ним — вот признак той тревоги, которую общество испытывает по поводу бедственного положения искусств.
Надеюсь, вы, учащиеся в этой школе и представляющие множество людей, которые стремятся развивать искусства, прислушаетесь сейчас к моим словам, несколько менее общим, чем те, что я уже сказал. Думаю, у меня есть право считать вас как бы завербованными волонтерами, участниками того бунта против бессмысленности и безобразия, к которому я призывал вас в этот вечер. Поэтому вы больше, чем кто-либо, прежде всего обязаны проявить осторожность, чтобы не дать врагам повод для издевательств. Вы должны быть особенно внимательны к своей работе, выполнять ее с душой, основательно и серьезно, избегать всякой претенциозности и фальши.
Старайтесь избегать неясности. Пусть лучше вас поймают на том, что вы ошиблись, выбирая себе какую-то цель. Это лучше, чем изворачиваться и размазывать, давая повод к упрекам, что, мол, людям непонятен ваш замысел. Твердо держитесь выразительных форм искусства. Не думайте чересчур много о стиле, но настройтесь создать то, что считаете красивым, выражайте свое понимание красоты со всей тщательностью, на какую способны, но — повторяю — выполняйте свою работу четко и без всякой туманности. Всегда продумывайте свой замысел заранее, до того, как начнете наносить его на бумагу. Не начинайте стирать и пачкать, воображая, что уж что-нибудь у вас да получится. До того, как приступить к рисованию, вам следует понять, сами ли вы изобрели свой замысел или он до вас изобретен природой? Всегда помните — форма должна предшествовать цвету, а набросок, силуэт — моделированию, но не потому, что цвет и моделирование менее важны, а потому, что их нельзя осуществить правильно, если форма и силуэт решены ошибочно. Так вот, во всем этом вы должны быть как можно более требовательными к себе, и не бойтесь оказаться требовательными чрезмерно.
Кроме того, те из вас, кто создает образцы товаров, должны максимально использовать материал, но всегда таким образом, чтобы выявить его наиболее характерные свойства. Вы не только должны знать эти свойства, но и то, что из вашего материала должно быть сделано нечто естественное для него, такое, что не может быть выполнено в каком-либо другом материале. Это — raison d'etre декоративного искусства. Делать камень похожим на металл, дерево — на шелк, керамику — на камень — все это жалкие средства дряхлого искусства. Настройтесь как можно более решительно против всякого машинного производства (это касается всех). Но если вам приходится делать проекты для машинного производства, пусть по крайней мере они будут отчетливы. То, что производится посредством машин, должно быть по возможности просто, насколько возможно простым. Не пытайтесь, например, сделать штампованную тарелку похожей на тарелку ручной росписи. Если уж рынок требует от вас штампованных тарелок, сделайте их такими, какими никто и не пытался бы их делать, расписывая вручную. Сам я не вижу в изделиях машинного художества никакого проку. Короче говоря, не давайте превращать себя в машину — или же это будет для вас как художников конец. Хоть мне не очень-то по нраву машины из стали и меди, но машины из плоти и крови еще ужаснее и безотраднее: ни один человек не настолько плох и неуклюж в работе, чтобы не пригодиться на что-нибудь лучшее, чем превратиться в машину.
Итак, я утверждаю, что образование — первое средство в борьбе с варварством, рождаемым торопливостью цивилизации и конкурентной коммерцией. Сознание, что и прежде люди жили в упорном труде, окажется наилучшим стимулом, который побудит вас трудиться с уверенностью, что и ваше дело будет унаследовано потомками.
О чем еще нужно заботиться, кроме образования? Должен предупредить, что если вы примете сторону искусства и примкнете к рядам бунтарей против мещан, участь ваша будет не из легких. Один янки сказал однажды: «за ничто не дают ничего, а за один доллар дают тоже не бог весть что», и мне приходится с сожалением признать, что это закон природы. Те из нас, у кого есть деньги, могут отдать часть их на общее дело, а всем нам предстоит посвятить ему время, мысли и заботы; теперь же я должен сказать о деле чрезвычайной важности для искусства и для жизни каждого из нас; этим делом мы можем, если пожелаем, заняться тотчас же, но оно настоятельно требует от нас времени, размышлений и денег. Из всего, что может в Англии возродить народное искусство, важнее и нужнее всего наведение чистоты в стране. Кто намерен делать красивые вещи, тот должен жить в красивом окружении. Некоторые склонны утверждать — и я сам слышал подобные доводы, — будто контраст между чистотой и безмятежностью искусства, с одной стороны, и запущенностью большого современного города — с другой, пробуждает воображение художников, создавая в нынешнем искусстве его особую жизнь. Я не могу в это поверить. Мне кажется, что в лучшем случае это лишь придает творчеству беспокойный и туманный характер, который лишает иных художников обшей симпатии. Но помимо того. такие художники предаются воспоминаниям о более романтических временах и более счастливых странах. Этими воспоминаниями они и живут, живут, на мой взгляд, не слишком счастливой для своего искусства жизнью, но, знаете, только у очень немногих людей есть даже эти сомнительные преимущества.
Я твердо держусь убеждения, что человек, создающий красивые вещи, должен жить в красивом окружении, но, поймите, я вовсе не требую, чтобы все мастера художественного ремесла поселились бы в райских садах мира или среди величественных, рождающих трепет гор и пустынь, куда люди совершают паломничества, чтобы созерцать их; иными словами, не нужно стремиться получить эти места в личную собственность. Большинство из нас должно удовлетворяться рассказами поэтов и живописцев об этих местах и научиться ценить красоту и прелесть тех уединенных мест, где проходит наша повседневная жизнь.
Ибо, бесспорно, нет ни одной квадратной мили обитаемой земли, которая не была бы наделена своеобразной красотой, если бы только мы, люди, могли воздержаться от своевольного разрушения этой красоты; разумное же наслаждение красотой земли я считаю неотъемлемым правом каждого честно работающего человека. Красивый дом в красивом окружении для каждой честной и трудолюбивой семьи — вот требование, которое я выдвигаю во имя искусства. Так ли уж непомерно это требование к цивилизации? — Той цивилизации, которая так склонна бахвалиться в послеобеденных речах, так стремится выпаливать из пушечных жерл свои благословения на далекие народы, пока не сделает эти благословения стоящими того, чтобы за них платили хоть какую-то, пусть даже самую мизерную цену.
Да, боюсь, требование это чрезмерно. Во всяком случае, и вы, жители промышленных районов, и я, житель столичного города, по всей видимости, до сих пор в этом сходились. На тысячу семей нет ни одной, которая претендовала бы на то право, о котором я говорил. И жаль. Ибо если это требование считается неприемлемым, то в высшей степени очевидно, что до сих пор мы предавались пустому бахвальству и строили воздушные замки, тратя силы на организацию художественных школ, национальных галерей, Саут-Кенсингтонских музеев и всего остального.
Я сказал, что образование благотворно, необходимо всему народу, и вы не сможете это отрицать, даже если и захотите. И все-таки просвещать людей без всякой надежды, — каких результатов можно ожидать от этого? Может быть, вы поймете, чего ждать, например, от России{4}.
Представьте себе, что, когда я сижу за работой у себя дома в Хаммерсмите, поблизости от реки, я часто слышу, как мимо моего окна проходят хулиганы, о которых теперь довольно много пишется в газетах, а время от времени писалось и ранее. Когда я слышу грубую ругань, громкие вопли и все подобные надругательства над славным языком Шекспира и Мильтона, когда я вижу грубые бессмысленные лица проходящих мимо людей, во мне также пробуждается беспокойство и грубость, мною овладевает неистовая злоба, пока я не вспоминаю, что только мой счастливый жребий, позволивший мне родиться в богатой и уважаемой семье, поставил меня по эту сторону окна среди восхитительных книг и прекрасных произведений искусства, а не по другую его сторону, на голой улице, среди винных лавок, пропитанных спиртным запахом, среди грязных и отвратительных жилищ. Какими словами можно это выразить! Не думайте, прошу вас, что я занимаюсь риторикой, когда говорю, что стоит мне подумать обо всем этом, как во мне поднимается лишь одно огромное желание, и я хочу, чтобы эта великая страна стряхнула с себя бремя далеких колониальных владений и направила могущественную силу своего достойного народа, — самую большую силу, когда-либо ведомую миру, — на одну цель: дать детям этих бедняков подлинно человеческие радости и надежды. Неужели это на самом деле невозможно? Неужели на это нет никакой надежды? Если это так, то я могу лишь сказать, что цивилизация лишь иллюзия и обман. Ее не существует, и нет даже надежды, что она когда-нибудь будет существовать.
Но так как я хочу жить и быть счастливым, я не могу поверить, что это невозможно.
По опыту собственных чувств и желаний я знаю, чего хотят эти люди и что может вызволить их из бездонной пропасти одичания. Им нужна работа, которая внушит им чувство собственного достоинства и завоюет похвалы и симпатии их собратьев; им нужны такие жилища, куда они возвращались бы с радостью, окружение, которое бы успокаивало и возвышало их. Разумный труд и разумный отдых. И только одно может дать им все это — искусство.
Наверно, вы сочтете это мое утверждение смешным и напыщенным, но оно выражает мое непреклонное убеждение в необходимости правильной организации труда всех людей. Она призвана по крайней мере стать могучим стимулом пробуждения в людях чувства собственного достоинства. Повторяю: «за ничто не дают ничего, а за один доллар тоже дают не бог весть что». Теперь же за искусство, как и за все другое, надо платить. Но если вы будете заботиться об искусстве, как того и следует ожидать от вас, когда вы научитесь понимать его, вы не станете уклоняться от необходимых жертв. В конце концов мы — потомки и соотечественники тех, кто хорошо понимал, как суметь дать немного, чтобы получить много. То, чем вы должны пожертвовать, — это преимущественно деньги, то есть насилие и грязь. Это, конечно, серьезная жертва, я знаю, но, как я уже сказал, в былое время мы в Англии жертвовали и большим. И я далеко не уверен, что эта грязь не обойдется нам в конечном счете дороже в звонкой монете, чем даже искусство.
Итак, что же мы изберем — искусство или грязь? Как мы должны поступить, если мы сделаем лучший выбор? Страна, в которой мы живем, не очень велика размером, и ее ландшафт не очень разнообразен, но, право, не только врожденная наша любовь к ней заставляет нас думать, что, как и всякая иная страна, она пригодна для мирной жизни разумных людей. Наши предки доказали нам это, если в этом можно было бы усомниться. Я утверждаю, не боясь возражений, что нигде жилища людей не выглядели более привлекательно и опрятно, чем старинные английские дома. Но наши отцы относились к нашей прекрасной земле любовно, мы же обращаемся с ней дурно. Было время, когда она была прекрасна повсюду, а теперь, путешествуя, вы должны с опаской выбирать свой путь, чтобы не столкнуться вплотную с отвратительными язвами — с этим посрамлением не скажу, цивилизации, но природы человеческой. Мне не известны никакие статистические данные, которые бы показывали, в каком соотношении находится изуродованная земля к земле неиспорченной или частично испорченной, но в некоторых местах эти язвы настолько сливаются друг с другом, что покрывают целое графство или даже несколько графств, и в то же время число их возрастает с ужасающей быстротой, ужасающей — в буквальном смысле. А поскольку такое течение дел не встречает на своем пути никаких препятствий и, мало того, никто не сокрушается по поводу этого, то все разговоры об искусстве — праздная болтовня. Пока мы этому способствуем или позволяем способствовать, мы фактически замаскированно отвергаем искусство, и было бы лучше и честнее, если бы мы делали это открыто. Если мы уважаем искусство, то должны загладить свою вину и возместить убытки. Нам следует превратить страну из прокопченного задворья мастерской в цветущий сад. Если некоторым это покажется трудным или даже невозможным, я не могу ничего с этим поделать. Я знаю только, что это необходимо.
А если говорить о невозможности, то я в это не верю. Даже люди нашего поколения сделали многое, что лишь совсем недавно казалось невозможным. Они потому одолели трудности, что смотрели им прямо в глаза. А ведь сделанное однажды может быть сделано вновь. Что же, ведь даже те деньги и знания, которые мы тратим на орудия, убивающие и калечащие наших нынешних и будущих врагов, могли бы оказаться хорошим взносом в дело борьбы за благопристойную жизнь, если бы мы только решились на такую колоссальную жертву.
Как бы то ни было, я вовсе не собираюсь утверждать будто одними лишь деньгами можно многое или хоть что-нибудь сделать. Тут требуется усилие воли. Но я не собираюсь доказывать, каким именно образом эта воля должна обнаружить себя в действии. Правда, я разделяю взгляды некоторых людей на те шаги, которые более всего помогут нам на нашем пути, но эти взгляды, наверно, вам чужды. Однако я уверен, что если вы твердо намерены идти к цели, то найдете и средства ее достичь И не имеет никакого значения, что могут представлять собой эти средства. Если вы согласились с мыслью, что облик страны — достояние всего общества и что каждый, кто своевольно наносит ущерб этому достоянию, враг общества, то мы уже на пути к победе.
И меня воодушевляет сам факт, что я получил возможность выступить именно здесь, в округе, который создает столько же копоти, сколько и гончарных изделий, — выступить именно против грязи. Лишь в последнее время здесь зазвучал протест против грязи, а он, несомненно, назревал уже давно. Если я — свихнувшийся мечтатель, что и на самом деле может статься, то все же есть множество людей, которые состоят членами таких обществ, как Общества борьбы за красоту, или по крайней мере поддерживают их. У этих людей нет времени для пустых мечтаний, и если бы их постигло безумие, то оно сразу дало бы о себе знать по всей стране.
Прошу извинить, что так долго испытывал ваше терпение. Еще несколько слов, и я кончил. Эти слова — слова надежды. Если я сказал что-нибудь, что показалось вам безнадежным, то это, вероятно, из-за той горечи, которая временами овладевает нетерпеливым человеком, когда он видит, как мало могут сделать его собственные руки, чтобы двинуть вперед дело, коему он предан. Но я знаю, — это дело в конце концов одержит верх. Для меня это догмат веры, что мир не может вновь впасть в одичание и что искусство должно сопутствовать ему в его шествии вперед. Я хорошо знаю, что не мое дело предписывать путь, по которому пойдет прогресс. Многие явления, кажущиеся мне сегодня неодолимыми или даже губительными для дальнейшего развития, в будущем могут способствовать этому развитию, но прежде чем из них начнет появляться доброе, они ужасны. Но эта же самая вера заставляет меня говорить то, что я знаю, какими бы недостаточными ни были мои познания и как бы опрометчиво ни звучали мои слова. Ибо каждый, кто предан делу сердцем, каким бы недостойным он ни считал самого себя, обязан поступать так, как если бы судьба этого дела зависела целиком от него одного, и, таким образом, из замысла родится действие. И во всем мною сказанном я неизменно исходил из предположения, что вы просили меня выступить перед вами как друга, а я не мог не говорить совершенно откровенно и безбоязненно с моими друзьями и собратьями по ремеслу.
Искусство, благосостояние и богатство
Искусство, благосостояние и богатство — вот слова, которые я поставил в заголовке этой работы. Некоторым из вас может показаться, что последние два слова — тавтологичны, но я с этим не соглашусь. На деле ни в одном языке нет полных синонимов, если только речь не идет о словах, заимствованных из другого языка. В ранние времена нашего родного языка никому бы в голову не пришло употреблять rich как синоним wealthy, «богатый». Под a wealthy man подразумевали такого человека, у которого имеются достаточные средства существования, а под a rich man имели в виду человека, обладающего большой властью над людьми. Александр Богатый{1}, Канут Богатый{2}, Альфред Богатый{3} — достаточно знакомые словосочетания в древней литературе Северной Англии, и прилагательное это едва ли употреблялось иначе, чем применительно к великому королю или вождю, стоящему над другими королями и вождями. Я не приверженец этимологической точности, но должен сказать, что имеются случаи, когда современные языки утратили свою выразительность, смешав в одном значении два разных слова. И это именно такой случай. Поэтому я прошу позволения употреблять слова «благосостояние» (wealth) и «богатство» (riches) приблизительно так же, как употребляли их наши отцы, и понимать под «благосостоянием» средства, чтобы вести благопристойную жизнь, а под «богатством» — средства для осуществления власти над другими людьми. При таком понимании смысл этих слов представляется совершенно различным, и все же, если вы скажете, что различие между ними только в степени, то я соглашусь, как и в случае различия между собакой пастуха и волком: отношение их к барану тоже различается только в степени.
Как бы то ни было, я считаю важным такой вопрос: куда отнести искусство — к благосостоянию или к богатству? Кому оно призвано служить? Будет ли оно рабом богатства или другом и помощником благосостояния? Я могу иначе поставить вопрос и спросить: должно ли искусство принадлежать только замкнутому классу, который к тому же очень слабо о нем заботится, или же оно должно быть утешением и радостью всему народу? Наконец, этот вопрос выливается в следующий: должно ли у нас существовать искусство или только претензии на него? Похоже на то, что многим или даже большинству из вас этот вопрос покажется лишенным практического значения. Для большинства людей нынешнее положение искусства представляется в основном единственным, при котором оно может существовать у культурных людей, и они (как я сказал, очень вяло) приемлют его нынешние цели и тенденции. Что касается меня, то нынешнее состояние искусства меня настолько возмущает и представляется настолько серьезным, что я вынужден призвать и других людей разделить мое недовольство. Я рискую нарушить правила хорошего тона, выступая на данном вечере со своей жалобой, когда все присутствующие, я уверен, полны доброжелательности и к искусствам и к обществу. Единственное, что меня оправдывает, — это то, что я верю в искреннюю вашу готовность ознакомиться с любыми серьезными взглядами на столь важный предмет. Итак, утверждаю, что вопрос, мною поставленный: должно ли искусство быть помощником благосостояния или же рабом богатства? — имеет большое практическое значение, если, конечно, искусство действительно важно для человеческого рода, что, полагаю, здесь никто не будет отрицать. Теперь я попросил бы тех, кто считает, что искусство живет сейчас нормальной и здоровой жизнью, объяснить энтузиазм (и я рад был узнать, что жители Манчестера его разделяют), который в последние годы вызвало создание и расширение музеев, где большинство экспонатов — всего лишь предметы домашнего обихода прошлых веков. С какой стати культурные, трезвые и рассудительные люди, знающие цену деньгам, отдают большие суммы за обрывок декоративной ткани, осколок грубо выделанного горшка, изъеденную червями резьбу по дереву, сплющенные металлические предметы и хранят их в роскошных общественных зданиях под наблюдением ученых специалистов? Да, все мы знаем, что эти экспонаты имеют целью чему-то научить нас: они имеют образовательное значение. Наши музеи, подобные Саут-Кенсингтонскому, принадлежат, очевидно, к общеобразовательным учреждениям. Они вовсе не предназначены просто учить нас мертвой истории — их экспонаты внимательно и трудолюбиво изучаются теми, кто намерен зарабатывать себе на жизнь искусством моделирования.
Спросите любого представителя любых взглядов на искусство, считает ли он желательным, чтобы те, кто должен составлять рисунки для декоративных целей промышленного искусства, изучали бы эти остатки прошлого, и он непременно ответит, что такое изучение обязательно для художника. Так что видите, к чему это нас подводит. Учащийся отсылается не к лучшим произведениям нашего времени, — ни один мастер или специалист не мог бы по совести его уверить, что это принесет ему пользу, — а к простым обломкам былого искусства, к тем предметам, которые, когда они были новыми, продавались обычно в любой лавке и на любом базаре. А нужно ли спрашивать, как будут выглядеть обломки нашего декоративного искусства в музее, скажем XXIV века? Поистине люди, изучавшие эти вопросы, знают, что остатки прошлого представляют собою образцы искусства, которое моделировало изделия не только лучше нас, но и по-иному — лучше, потому что они производились другими способами, чем теперь.
Прежде чем мы зададим вопрос, почему же они были настолько лучше и почему они отличались даже по своему типу, а не просто по степени хороших качеств, я прошу вас еще раз обратить особое внимание на то, что это были обыкновенные товары, которые покупались и продавались на любом рынке. Я прошу вас отметить, что, несмотря на деспотизм и насилие, царившие во времена, когда они изготовлялись, красота, часть которой они составляли, существовала во всей жизни и что тогда, во всяком случае, искусство было помощником благосостояния, а не рабом богатства (riches). Это правда, что в те времена, как и теперь, богатые люди тратили большие деньги на всякие украшения и, несомненно, низшие классы были отчаянно бедны (как и теперь), но тем не менее искусство, которым располагали богатые люди, отличалось лишь обилием и великолепием материалов от того, которым могли пользоваться другие люди. Запомните, что в то время все, создававшееся руками человека, было более или менее прекрасно.
Сопоставьте это с нынешним состоянием искусства и скажите, не оправдано ли в какой-то степени мое недовольство, — пусть оно даже и нарушает правила хорошего тона. Далеко не все, что делают ныне красиво; почти все обычные товары, изготовленные цивилизованным человеком, убоги и претенциозно уродливы, и таковы они скорее по какому-то извращенному замыслу, чем просто случайно, — именно так представляется, стоит вспомнить, насколько приятны и соблазнительны для изобретательного ума и проворных рук многие производственные процессы. Возьмите, к примеру, известное искусство стеклодувов. Мне довелось быть на стекольном заводе и наблюдать, как в процессе труда рабочие придавали изящную форму расплавленному стеклу. В процессе работы были моменты, когда стоило бы только направить выдувавшиеся сосуды прямо в цех обжига, чтобы в результате появились образцы, способные соперничать с шедеврами венецианского стекла. Но этого не могло получиться, ибо рабочим нужно было брать в руки кронциркули и формы и сводить фантастическое изящество живого расплавленного стекла к ходкой на рынке, уродливой и вульгарной форме, задуманной человеком, который, скорее всего, не знал и не хотел знать, как делается стекло: случай, весьма обычный и для других искусств. Повторяю — все промышленные товары теперь делятся на два вида. Одни — вульгарны и безобразны, довольно часто и претенциозны; на них есть отделка, которую разве что в насмешку можно назвать декоративной: в ней, правда, еще чувствуются какие-то остатки традиций. Это товары для бедных, для необразованных.
Другой вид товаров предназначен для богатых; товары эти должны быть красивыми, они отличаются продуманностью и тщательностью замысла, но обыкновенно не могут стоять вровень с ним — отчасти вследствие оторванности от традиции, отчасти из-за отсутствия сотрудничества между дизайнером и мастером. Так наносится ущерб нашему благосостоянию, то есть средствам для благопристойной жизни, и ни один человек не выигрывает от этого, потому что, если, с одной стороны, низшие классы лишены настоящего искусства у себя в доме и, напротив, вынуждены мириться с убогой и отвратительной претензией на него, что совершенно уничтожает их способность оценить искусство подлинное, которое им случается видеть в музеях и картинных галереях, то, с другой стороны, тугой кошелек богачей не в состоянии купить то, на что они претендуют. Единственно подлинное, что они могут приобрести, — это искусство, созданное одиноким и самобытным талантом, усердным и мучительным трудом людей, наделенных редкими дарованиями и особой культурой. Эти таланты угнетены жизнью, лишенной романтики, и отвратительным окружением, но время от времени они умудряются, вопреки всему, прорваться сквозь преграды и создать прекрасные художественные произведения. Но лишь немногие люди делают вид, будто понимают их искусство и подпадают под его чары. Богачи могут порой купить и сделать их произведения своей собственностью, но, разумеется, таких художественных произведений очень немного, и если бы их было в десять раз больше, чем теперь, то и тогда они бы ни на йоту не тронули публику, ибо она мертва ко всему художественному из-за окружающего ее безобразия и убожества.
Честно говоря, я не могу винить этих людей за то, что у нас мало художественных произведений, потому что великие художники, о которых я только что говорил, будучи людьми необычайных и своеобразных дарований, погружены в раздумья об историческом прошлом, в созерцание красоты былых времен. Если бы они были людьми другого склада, они, думается, вообще не могли бы создавать прекрасное, вопреки всем стоящим на их пути трудностям. Но посмотрите, что же получается в результате. Повседневная жизнь отвергает и обходит их молчанием{4}, и у них нет другого выбора, как только предоставить жизни идти ее собственным путем, а самим уйти в свои сны о Греции и Италии. Времена Перикла{5} и времена Данте{6} — вот где они живут, а Англия наших дней с миллионами ее страждущих людей безучастна к ним, как и они к ней, и все же, возможно, они ждут часа, чтобы принести пользу и не стать в грядущем жертвами забвения. Будем же надеяться, что их время придет.
Таково, говорю я, положение дел в нашем искусстве. Если вы сомневаетесь в этом или думаете, что я преувеличиваю, то позвольте обратить ваше внимание на то, в каком состоянии находится искусство, которое более других предполагает сотрудничество людей: я имею в виду искусство архитектуры. Я лучше многих знаю, каким громадным талантом и какими обширными знаниями наделены первоклассные архитекторы наших дней. Повсюду, видя спроектированные ими здания, вы радуетесь. Но какой в этом толк, если, покинув на несколько лет Англию, вы по возвращении обнаруживаете, что добрая половина графства вокруг Лондона застроена кирпичными домами. Могут ли самые рьяные оптимисты утверждать, что стиль зданий в этой половине графства за это время улучшился? И разве неправда, что, наоборот, облик домов становится все хуже, хотя хуже уже невозможно. Недавно выстроенные дома обычно столь уродливы и безвкусны, что с сожалением вспоминаешь о временах Гоуэр стрит{7} и не без удовольствия поглядываешь на причудливые маленькие домики из коричневого кирпича, примостившиеся вместе с их опрятными садами среди новых площадей и обсаженных зеленью улиц в предместьях Лондона. Представляется само собой разумеющимся, что почти всякий новый дом должен быть постыдно безобразен, и если, по счастливой случайности, мы встречаемся с новым домом, который обнаруживает хоть какие-то признаки продуманного замысла и планировки, то мы изумляемся и хотим узнать, кто строил этот дом, кто им владеет, кто проектировал его и все в таком роде. Однако в эпоху расцвета архитектуры каждый выстроенный дом был более или менее красив. Термин «церковная архитектура», которым прежде обозначали стиль средних веков, благодаря росту наших знаний уже давно отброшен, ибо теперь нам известно, что в то время и собор и коттедж строились в одном стиле и что у них были одни и те же орнаменты. Единственное различие между скромным и величественным зданием состояло в размерах, а иногда — и в материале. И пока такая красота не начнет снова появляться в наших городах, едва ли возникнет подлинная школа архитектуры. Ее не будет, пока каждая лавка мелочных товаров в наших предместьях, каждый сарай не будут строиться и удобными и красивыми. Подумайте только, до какой степени несовместимо это требование с нынешним способом застройки. Вам нелегко представить себе город, где все дома были бы красивы, — по крайней мере если вы не видели лет тридцать назад, скажем, Руан или Оксфорд. Но в каком же странном состоянии должно находиться искусство, когда мы не хотим или не можем позаботиться о том, чтобы строить дома, достойные разумных людей. Не можем, полагаю, ибо, скажу еще раз, за исключением самых редких случаев, дома богатых людей отнюдь не лучше обычных. Позвольте мне привести один пример. Недавно я посетил Борнмут, курортное место к юго-западу от Нью-Фореста. Это место (едва ли его можно назвать городом) состоит из домов богатых людей. Были все возможности выстроить здесь хорошие дома, ибо природа Борнмута с его дюнами и соснами удивительно красива.
Не столь уж много нужно было и для того, чтобы сделать его поэтичным. И что же, стоят себе дома богатых людей среди сосен и садов, но даже сосны и сады не делают их вид хотя бы сносным. Они попросту — простите мне столь грубое слово — отвратительны, и вот сейчас, когда я это говорю, такими же домами продолжают застраивать целую милю.
Но почему бы нам не исправить положение? Почему бы нам, например, не строить прочные и красивые жилища для культурных, воспитанных мужчин и женщин, а не для невежд с тугим кошельком, для сущих машин по перевариванию пищи? Вы, вероятно, ответите: потому, что мы вовсе и не стремимся строить дома лучше. И это довольно правдивый ответ, но он только отодвигает наш вопрос на один шаг, и мы снова спросим: почему же мы не заботимся об искусстве? Почему во всем, что затрагивает красоту ремесленной работы, цивилизованное общество деградировало по сравнению с диким, полным предрассудков и распрей средневековьем? Это и на самом деле серьезный вопрос, за которым тянется вереница других куда более серьезных, и простой их перечень способен был бы вызвать в вас досаду, если б я вздумал о них говорить.
Я сказал, что реликвии былого искусства, которые нам теперь приходится изучать, были созданы в процессе труда, который выполнялся не только лучше, чем теперешний, но и отличался от него по своему характеру. Вот это отличие и объясняет наши недостатки, и нам остается задать еще только один вопрос: как нам загладить нашу вину? Ибо по своему характеру ремесленный труд в прежние времена — во всяком случае, до Возрождения — был одухотворенным, тогда как наш труд бездуховный, рабский. Уже этого достаточно, чтобы объяснить упадок всего искусства и исчезновение искусства народного из жизни цивилизованного общества. Народное искусство создается усилиями многих умов и рук, разных по характеру и степени дарования; в него каждый вносит свою долю, непременно согласуя ее с целым и не теряя при этом своей индивидуальности. Утрата такого искусства поистине огромна — да нет, невозместима. Но до сих пор я говорил, что исчезновение народного искусства — это тяжелая потеря части нашего благосостояния. Я говорил о самой этой потере, об утрате облагораживающего влияния, которое ежедневно оказывал на людей самый вид красивых вещей, сделанных ручным трудом. Когда же мы рассмотрим тот способ, каким эти изделия создавались раньше, и тот, каким они изготовляются теперь, мы поймем, что дело становится еще более серьезным. Ибо я, не колеблясь, утверждаю, что осмысленную работу, творившую настоящее искусство, было приятно делать, она была свойственна человеку, не слишком его тяготила и не принижала. Неосмысленную же работу, производящую псевдоискусство, делать скучно и утомительно, она противна человеческой природе, тяжела и унизительна. Так что ничего нет удивительного, что она не может производить ничего, кроме безобразных вещей. А непосредственной причиной этого унижающего труда, этого ига для большинства нашего народа является система организации труда — главный источник мощи современной Европы. Эта система в корне изменила характер труда во всех имеющих отношение к искусству областях, и перемены эти намного более серьезны, чем люди думают. В былые времена ремеслом занимались в почти домашнем кругу несколько рабочих, которые принадлежали обычно к организованным цехам и, как бы ни были ограничены их знания в других областях, своему ремеслу они были хорошо обучены. У них существовало незначительное разделение труда; различия между мастером и ремесленником были невелики. Ремесленник знал свою работу от начала до конца и чувствовал себя ответственным за каждую стадию всего процесса. Такая работа по необходимости шла медленно и покупателю обходилась дорого. Она не доводилась до совершенства, но это всегда была осмысленная работа: в ней всегда присутствовал ум; с нею связывалось множество надежд и опасений, которые, взятые вместе, и составляют нашу жизнь.
Присмотритесь теперь к любому виду производства, с которым вы знакомы, и заметьте, до какой степени иначе налажено оно в наши дни. Почти наверняка рабочие собраны в огромных фабриках; труд разделен и подразделен в такой степени, что рабочий чувствует себя совершенно беспомощным в своем ремесле, если он оказывается без тех, от кого его работа приходит, и тех, кому он ее передает. Над ним высится целая лестница хозяев — десятник, производитель работ, управляющий, капиталист, — и каждый из них важнее, чем он, непосредственно выполняющий работу. Его не только не просят вкладывать в работу свою индивидуальность, но ему и не позволяется делать это. Он лишь придаток машины и должен выполнять только одну и ту же раз и навсегда определенную работу, и если он усвоил ее, то чем более механически и менее осмысленно он ее делает, тем больше ценится. Изделия, выпускаемые при такой системе, изготовляются быстро и продаются дешево. Не удивительно, если принять во внимание поразительное совершенство организации труда и ту энергию, с какой изготовляется и выпускается фабричная продукция. Ей придается определенное высокое качество и то, что я назвал бы товарным видом, необходимым для современного рынка. Продукция эта совершенно безлика, на ней не запечатлен ни труд человеческих рук, ни усталость рабочего, ни его удовлетворенность хоть какой-то частью своей работы.
Кое-где, когда того требует коммерческий расчет, этой продукции придается художественность или ее подобие, но и эта красота выполнена машиной или ее придатком — человеком, так же мало увлеченным ею, как и нехудожественными частями этих изделий. И снова я подчеркиваю — если бы такие товары целиком были бы уродливы и на них было бы противно смотреть, то наше чувство справедливости возмутилось бы, потому что труд, затраченный на их производство, был неблагодарным, бездушным, очень немногим лучше труда принудительного.
Неужели подобная работа должна продолжаться всегда? Пока она существует, масса людей никогда не будет причастна художественному творчеству. Единственными представителями свободного ремесла остаются художники, как мы их теперь называем, но даже и им нелегко — и они подавлены тем гнетом, которому подвергаются их товарищи. И все же я знаю, что этот машинный труд необходим для конкурентной коммерции, то есть для современного общественного строя, и потому, вероятно, большинство из вас считает рассуждения о радикальных переменах в этом строе пустым праздным мечтанием. Ничего не могу поделать, я могу только сказать, что эти перемены должны произойти или по крайней мере дать о себе знать до того, как искусство сможет стать таким, что затронет широкий круг людей. Некоторым это вообще покажется несущественным. Следует великодушно надеяться, что эти люди слепы к искусству, и я вовсе не считаю это невероятным. Эта слепота помешает им понять мои слова о наслаждении, которое ощущает хороший труженик от своего ремесла. Но все, кому понятен смысл искусства, согласятся со мной, что наслаждение непременно сопутствует всякому труду, создающему то, что может называться произведением искусства. И вот именно этих людей я призываю подумать, справедливо и честно ли, что среди миллионов людей нашего общества только немногие знают радость, которая является самой надежной и самой постоянной из всех, неизменным утешением в несчастье, — радость счастливого и честного труда. Давайте взглянем правде в глаза и признаем, что общество, не разрешающее большинству своих тружеников всякие другие человеческие и облагораживающие удовольствия, кроме наслаждения отдыхом после мук утомительного труда, — что такое общество не должно быть прочным, и вполне естественно, что оно насквозь изъедено коррупцией и страдает от бесконечных грязных преступлений.
Во всяком случае, будем ли мы мечтать о возможности лучшей жизни, при которой большинство людей приобщится к художественному творчеству, или нет — это уже никак не сон, а факт, что перемены вокруг нас происходят, хотя и можно спорить, куда они ведут. Большинство, видимо, склонно думать, что общая тенденция благоприятствует полному развитию конкурентной коммерции и предельному усовершенствованию системы труда, от которой зависит конкурентная коммерция. Вполне возможно, что перемены будут нарастать все быстрее, пока слепая коммерческая война не достигнет своего апогея. А потом? — Пусть перемены принесут с собою как можно меньше насилия и страданий!
Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подготовиться к переменам и смягчить потрясение, вызываемое ими, мы должны оставлять как можно меньше из того, что должно быть уничтожено, чтобы оно не было уничтожено внезапно и путем того или другого насилия. Но, мне кажется, мы не можем предотвратить разрушительную революцию иначе, как заблаговременно стремясь заполнить пропасть, которая пролегла между классами. Несомненно, именно здесь конкурентная коммерция принесла нам наибольшее разочарование. Она была достаточно сильной, чтобы обрушиться на привилегии феодализма, и весьма в этом преуспела, но, что касается стирания различий между джентльменом и простолюдином, она остановилась, словно ею уже сделано достаточно, ибо, увы, большинство людей очень радо стиранию различий между собой и высшими слоями, но по отношению к низшим классам они упорно воздерживаются от дальнейших действий. Однако подумайте, что означала бы подобная остановка для нас. Если мы не пойдем дальше, то мне представляется более чем сомнительным, правильно ли мы поступили, зайдя так далеко, ибо феодальная иерархическая система, при которой жили наши старинные собратья по цеху, чью работу я хвалил и которая, несомненно, предполагала осмысленность труда и любовь к нему, — эта система, строго поделив людей на касты, все же не имела цели довести их до вырождения, разделив пропастью культуру и невежество. Различие между пэром и членом палаты общин, дворянином и бюргером было чисто условным, но как обстоит дело с различиями между классами теперь? Разве это не прискорбный факт, что различие теперь не условно, а реально? Вплоть до определенного слоя, а именно до образованных джентльменов, различий в манерах и поведении действительно, не существует, и если члены палаты общин все же предпочитают унижаться и разыгрывать из себя лакеев, то это их личное дело, но за этим классом проходит резкая, словно ножом проведенная черта, и мир оказывается поделенным на джентльменов и неджентльменов.
Задумайтесь хотя бы над тем, что здесь, в Англии XIX века, несмотря на все вопли о прогрессе, не умолкающие много лет, большая часть народа уже в силу одного своего рождения обречена неправильно произносить слова, что существует два языка, на которых говорят в Англии, — язык джентльменов и язык мастеровых. Мне безразлично, намерен ли кто-либо отрицать это, но я утверждаю, что это — дикое и опасное явление, что оно бок о бок соседствует с пренебрежением к искусству, навязываемым тем же самым классом. Короче говоря, оно свидетельство пошлости, — если употребить это ненавистное слово, — не существовавшей до нашего времени, до расцвета конкурентной коммерции.
С другой стороны, современная классовая разобщенность в действительности не намного отстает от средневековой системы сословных привилегий. Она столь же исключительна, как и та. Позвольте привести один пример. Недавно мне довелось разговаривать с одной знакомой дамой, которая находилась в затруднении, не зная, что делать со своим подрастающим сыном, и мы обсудили возможность определить его заниматься одним из ремесел. Речь шла о профессии краснодеревщика. Нас не смущали социальные предрассудки. Мы никак не хотели способствовать росту армии лондонских чиновников, но тем не менее вынуждены были признать, что из нашей затеи ничего не получится, если только юноша не обнаружит сильного характера, если он сам не сделает первого шага и не будет готов встретиться лицом к лицу со всеми его последствиями. В ином случае такое занятие превратило бы его либо в недобросовестного дилетанта, либо в невольную жертву идеи. Итак, в конечном счете создается впечатление, что мы не отбросили полностью даже тот простой средневековый предрассудок, который основывается, как я полагаю, на исключительности римского патрицианства (ибо нашим предкам — готам была совершенно чужда эта болтовня), что ремесло — занятие низкое. На первый взгляд такое положение представляется столь чудовищным, что так и ждешь, что проснешься от какого-то путаного сна и окажешься в королевстве Генриха VIII{8}со всей пышностью тогдашней обстановки, начиная с божественного права королей. Почему же мы терпимо относимся к мнению, что плотник хуже адвоката? Его профессия гораздо полезней, ей трудней научиться, и она даже в наши дни доставляет больше радости. И все-таки вы видите, что наши леди и джентльмены не решаются посылать своих сыновей заниматься ремеслом, если только те не энтузиасты и не философы, умеющие смириться со всеми последствиями и пренебречь общественным мнением. И в этом случае на таких энтузиастов падает тень страшного слова — «сумасбродство».
Что же, я уже говорил, что мы могли бы объяснить кое-что в этом безрассудстве предубеждениями прошлых веков и отчасти — наследием отвратительной тирании Древнего Рима. Но в данном вопросе есть и другая сторона, которая придает ему несколько иной вид. Помнится, среди всего прочего моя знакомая дама сказала: «Вы знаете, я бы не возражала, если бы мой мальчик стал бы краснодеревщиком, лишь бы он только делал художественную мебель». Вот видите, в чем дело! Эта дама воспринимала как самой собой разумеющийся тот факт, о котором я вам говорил сегодня вечером, что даже в ремесле, столь тесно связанном с изящным искусством, как ремесло краснодеревщика, возможны два вида продукции: один — обычный, совершенно чуждый художеству, другой — особенный, так сказать, с определенным налетом искусства. Но более того, запавшая ей в голову мысль довольно глубоко проникла в суть дела, и она касается нашей темы; ибо и на самом деле нынешние ремесла отличаются автоматизмом, почти ни на йоту не затрагивая духовное начало в человеке. Но в конце концов вполне вероятно, что сейчас, когда сам институт привилегий покоится на смертном одре, мой пример объясняется просто невысоким мнением, которое создается вокруг этих ремесел. Но предположим, что какой-нибудь молодой человек займется, например, ремеслом краснодеревщика (одним из наименее механических даже в настоящее время). Когда он приобретет в этом ремесле более чем среднюю квалификацию, у него появится другое честолюбивое желание — как говорится, подняться повыше, то есть либо освоить какое-нибудь другое занятие, которое считается более достойным джентльмена, либо стать, не скажу, мастером-краснодеревщиком, а управляющим капиталистическим предприятием краснодеревщиков. Таким образом ремесла теряют своих лучших людей, потому что они не вознаграждают должным образом за выдающееся мастерство. Вы не можете подняться выше такой-то ступеньки, а она не очень высока. Учтите, что под вознаграждением я разумею не только денежную оплату, но и общественное положение, досуг и прежде всего то чувство собственного достоинства, которое проистекает из вашей способности выполнять трудную, хорошую и оригинальную работу, приносящую пользу вашим собратьям и доставляющую приятное чувство вам самим, — работу, которая, во всяком случае, заслуживает благодарности, независимо от того, снискала она ее на самом деле или нет. Мне хорошо известно, что у публичных ораторов существует привычка пространно говорить о достоинстве труда и об уважении, которое они питают к трудящимся. Полагаю, что, пока они говорят, они верят в свои слова. Но выдержит ли их уважение к труду испытание, предлагаемое мною? Смогут ли, например, они, представители высших и средних классов, послать своих детей заниматься трудом такого рода, таким делом? Сочтут ли они, что, поступая таким образом, они хорошо обеспечивают будущее своих детей? Не нужно много времени, чтобы ответить на этот вопрос, и, повторяю, я рассматриваю его как пробный камень. Поэтому я и говорю, что ремесла играют существенную роль в обособлении низшего класса, и эта нелепость частично возникает из-за сохранения предрассудков, присущих иерархичному обществу средних веков, частично же из-за безрассудной погони за богатством, являющимся главным смыслом конкурентной коммерции. Именно последнее — худшая сторона этой нелепости, ибо простой предрассудок испарится под влиянием политического и социального развития сам собою, но то, что укрепляется торговой конкуренцией, более прочно, ибо обусловлено реальностью. Ремесла действительно деградируют, и занятые ими классы не погибают лишь благодаря физическому здоровью и врожденному здравому смыслу людей труда, а также благодаря их властным политическим стремлениям, поскольку они сознательно или бессознательно вступают в борьбу с системой конкурентной коммерции, поскольку есть надежда, что рано или поздно они покончат с нею. В то же время я убежден, что этот упадок художественного ремесла, а следовательно, и вымирание искусства необходимы для развития и совершенствования системы конкурентной коммерции. Это столь тяжкое обвинение системе, что я обязан, каким бы безумцем меня ни сочли, объявить себя открытым бунтарем против нее, то есть против самой могущественной силы, какую когда-либо видел мир. Могущественной и все же направленной преимущественно на разрушение, а потому и недолговечной, поскольку все, несущее разрушение, несет в себе и собственное уничтожение.
И вот теперь, прежде чем кончить, я хочу возвратиться к трем словам, с которых я начал, — искусство, благосостояние и богатство. Многие, вероятно, захотят сказать мне: «Вы провозглашаете себя участником восстания против системы, которая создает благосостояние для общества». Именно это я и отрицаю; именно в уничтожении благосостояния обвиняю я систему конкурентной коммерции. Благосостояние, то есть материальные средства для благопристойной жизни, создается — и это я подчеркиваю — вопреки этой системе, а не благодаря ей. По моему разумению, подлинное благосостояние делится на два вида: к первому относятся продукты питания, одежда, жилище и прочее, ко второму — искусство и наука, — другими словами, полезное и необходимое для тела и полезное и необходимое для ума. Система конкурентной коммерции озабочена многими другими предметами, часть которых непосредственно вредна для жизни человека, другая же часть препятствует ее достойному развитию. Между тем, что касается первого из двух видов благосостояния, то коммерческая конкуренция страшно истощает его, что же касается второго, то она жестоко его уничтожает. Первое она истощает несправедливым и плохо организованным распределением могущественного средства приобретения благосостояния, средства, которое мы кратко называем «деньги»; побуждая людей безрассудно размножаться, она скапливает в городах не поддающееся контролю население и, утоляя лишь свою ненасытную жадность, нисколько не заботится о его благе. Что касается второго вида благосостояния — духовного, — то система конкурентной коммерции уничтожает его разными путями, но два из них, наиболее тесно связанные с темой этого вечера, таковы: во-первых, безрассудное уничтожение естественной красоты земли, вынуждающее огромные массы населения, по крайней мере в этой стране, жить в обстановке такой вопиющей и омерзительной уродливости убожества, которую мы едва ли вынесли бы, если бы не привыкли к ней. Иными словами, если бы мы не зашли столь далеко в утрате самых высших и счастливых даров, которыми были награждены люди. Но второй способ, посредством которого система торговой конкуренции уничтожает наше духовное богатство, еще хуже. Она превращает всех рабочих в машины, принуждает их заниматься трудом, который жесток, бессмыслен и наполняет значительную часть каждого дня скукой, похищая у человека таким образом плоды победы, завоеванные у суровой природы и нужды долгими столетиями труда и мысли — удовольствие и радость человека от его каждодневной работы.
Наша цивилизация — я это утверждаю — создала не благосостояние, а богатство с присущей ему нищетой, ибо богатство не может существовать без нищеты, или, что то же самое, — без рабства. У каждого богача непременно должна быть челядь, которая выполняет черную работу, начиная со сбора несправедливых податей и кончая очисткой его мусорных куч. При господстве богатства мы оказываемся либо хозяевами, либо рабами, а не товарищами по работе, кем мы должны бы быть. Если бы система конкурентной коммерции создала благосостояние, то Англия наверняка была бы, как некоторые и считают, счастливейшей страной в мире. На самом же деле она только самая богатая страна.
И в какое же убожество ввергнута эта богатая страна! Я — член одного небольшого и невинного общества, цель которого сохранить для людей настоящего и будущего то благосостояние, которым Англия еще владеет, — ее прекрасные исторические здания. И вот я мог бы представить вам длинный печальный список сооружений, которые, несмотря на все свои богатства, Англия не смогла уберечь от алчности торгашей. В подобных случаях выражение: «это — вопрос денег» звучит как неопровержимый довод, и если даже мы находим опровергающие его аргументы, то обычно наши доводы попросту отбрасываются. Почему же по сей день в Англии (и я полагаю, что из цивилизованных стран — только в Англии) не существует закона, который помешал бы безумцу или невежде снести дом, называемый им своей частной собственностью, хотя с точки зрения искусства и истории такой дом может быть одним из сокровищ страны?
А сколько акров общественной земли — этого невозместимого, бесценного сокровища для кишмя кишащего населения наших дней — похитили богачи у страны даже в этом столетии! И где же тот человек, который дерзнул бы хоть что-нибудь предложить, чтобы восстановить население в соответствующих правах? И сколь часто позволялось железнодорожным компаниям похищать у публики ради блага немногих сокровища прекрасного, которые никогда уже не восполнить, — позволялось из-за малодушия и анархии, всегда, видимо, поощряемых теми, кому следовало бы охранять наши интересы. Но богатство питает сочувствие только к богатству. Или вот здесь, в частности, во что вы превратили Ланкашир? Он не производит впечатления города, расположенного на земле. Кажется, вы были действительно нищими, если оказались вынуждены закопать его в землю. Разве не были вашим благосостоянием бурые торфяные луга и зеленые поляны, прозрачные источники и солнечный небосвод? Поистине богатство устроило для вас странное жилище. Кое-кто может хотя бы на время уехать в Уэллс, Шотландию или Италию — кое-кто, но очень немногие. Мне жаль вас и самого себя тоже по той же причине, ибо в низовьях Темзы мы лишаемся незанятых земель так быстро, как только умеем: большая часть Мидлсекса, большая часть Суррея, громадные массивы Эссекса и Кента глубоко погребены под нагромождением невообразимого хлама и отвратительного убожества, но ни у кого не достигает мужества сказать: «Давайте поищем какое-нибудь средство спасти наше благосостояние, пока у нас кое-что еще осталось». И наконец, если кое-кому из вас эти вопросы кажутся несущественными. Хотя в действительности они прискорбны и тяжелы, но никто не вправе отмахнуться от тех ужасных событий, о которых мы недавно слышали, — о расселении лондонской бедноты. Да-да, ни одна страна, позволяющая себе оставаться глухой к такому горю, не вправе считать, что она достигла благосостояния. И все же вы знаете, что пройдет много времени, прежде чем какая-либо партия или правительство наберутся мужества посмотреть фактам в лицо, хотя они и знают, как опасно закрывать на них глаза.
Но что может устранить подобные страдания? В этом вопросе вы не должны требовать от меня слишком многого. В подходе к этим проблемам я принадлежу к незначительному меньшинству, так что для меня утешительно, если временами я сталкиваюсь с человеком, видящим эти страдания. Моя миссия — сеять недовольство. Я считаю свою миссию важной, поскольку с ростом недовольства распространяется и стремление улучшить положение вещей, а страстное желание многих, становясь глубже и могущественнее, уверенно, твердо и чудодейственно сокрушает попытки воспрепятствовать переменам. И все же, если я до сих пор говорил недостаточно ясно, позвольте мне сказать о главном, в чем бы я хотел увидеть перемены. Вам не должно казаться, будто я не призываю вас ни к чему другому, как только к разрушению — разрушению системы, которая, как некоторые думают, должна существовать вечно.
Я хочу, чтобы каждый получил образование соответственно своим способностям, а не в зависимости от количества денег, которыми владеют его родители. Мне хотелось бы, чтобы воспитание и манеры поведения каждого соответствовали врожденной сердечности и доброте, а не зависели опять-таки от денег, которые принадлежат его родителям. К этим двум пожеланиям я добавлю, что хочу иметь возможность непринужденно разговаривать с любым из моих соотечественников на близком ему языке, будучи уверен, что он в состоянии понять мои мысли, насколько ему позволяют врожденные способности. Я хочу иметь возможность сидеть и разговаривать за одним столом с человеком любой профессии, чтобы никто из нас не чувствовал неловкости и скованности. Я хочу, чтобы ни у кого не было других денег, кроме заработанных трудом. И так как я уверен, что те, кто делает самую полезную работу, никогда не попросят и никогда не будут получать самую высокую оплату, то я верю и в то, что эта перемена уничтожит преклонение перед человеком ради его денег — это и теперь все считают унизительным, но лишь очень немногие могут воздержаться от подобного унижения.
Я хочу, чтобы люди, выполняющие в этом мире тяжелую работу, — моряки, шахтеры, пахари или кто-либо другой — были окружены вниманием и уважением, чтобы у них был достаточный заработок и нормальный отдых. Я хочу, чтобы современная наука, способная, по моему убеждению, справиться с любыми материальными трудностями, вместо такого абсурда и безумия, как изобретение антраценовых красок и чудовищных пушек, обратилась бы к изобретению машин, выполняющих ту работу, которая унижает человеческое достоинство и которую теперь люди должны делать собственными руками. Я хочу, чтобы ремесленники, то есть те, кто делает разные товары, получили бы наконец возможность отказываться делать дурацкие и бесполезные вещи или вещи дешевые и безобразные, нужные лишь для поддержания конкурентной коммерции. Ведь эти товары — продукция подневольного труда, изготовляемая рабами и для рабов. И дабы труженики получили такую возможность, я хочу, чтобы разделение труда не шло далее разумных рамок, а людей учили бы думать о своей работе и наслаждаться ею. Я хочу также ограничения расточительной системы посредников, с тем чтобы рабочий мог непосредственно соприкасаться с населением, которое таким образом узнает кое-что о его работе и воздаст должное искусству его рук.
Мало того, я хочу, чтобы рабочие в случае удачи дела, в котором они участвуют, получали свою долю прибыли соответственно их квалификации и производительности труда — и также несли свою долю ответственности за неудачное течение дел. Для названной цели будет необходимо, чтобы те, кто организует их труд, получали бы не больше, чем положено за их работу, и чтобы их нанимали в соответствии с их умением и умственными способностями, а не потому, что им посчастливилось родиться сыновьями толстосумов. И я хочу — и если люди будут жить в тех условиях, которых я для них желаю, то это сбудется, — я хочу, чтобы к островам, на которых расположена наша любимая страна, относились бы не как к куче шлака или к заповеднику дичи, а как к прекрасному зеленому саду Северной Европы, который никому и ни под каким предлогом не разрешалось бы портить или загрязнять. При всех этих условиях, несомненно, осуществится и мое последнее желание, которое я сейчас выскажу. Я хочу, чтобы все творения рук человеческих — от простейших предметов домашнего обихода до величественных общественных зданий — были прекрасны, чтобы они были украшены руками величайших мастеров искусства, которых даст нам грядущее время подлинного Возрождения.
Таковы основы моей Утопии{9}, того града, где богатство и нищета будут покорены благосостоянием. Какими бы безумными вы ни сочли мои стремления к этой цели, я уверен по крайней мере в одном: отныне можно надеяться на расцвет народного искусства только в подобной Утопии или, во всяком случае, на пути к ней — на той дороге, которая, я верю, ведет к миру и цивилизации, в то время как любая иная дорога ведет к недовольству, продажности, деспотизму, анархии. Возможно все же, что мы намного ближе к этой Утопии, чем предполагают многие, и, как бы то ни было, меня весьма ободряет мысль, что тому небольшому меньшинству, к которому я принадлежу, приходят на помощь люди доброй воли, люди, не безучастные к общественному благу. Нам помогает каждый, кто содействует просвещению. Образование считалось ничтожной силой теми классами, которые на протяжении многих поколений пользовались им в той или иной мере, но когда оно станет доступным тем, кто несет бремя нестерпимых страданий, то посеет в них глубокую неудовлетворенность и научит, как поступать, чтобы оно принесло плоды.
Нам помогает каждый, кто стремится уничтожить нищету, ибо одна из самых больших причин убожества народного искусства и гнета безотрадного труда — это необходимость производить жалкие товары для жалких людей, для рабов торговой конкуренции. Каждый, кто борется за общественное право против индивидуальной алчности, помогает нам. Каждое разоблачение расхитителей общественного достояния, обывателей из железнодорожных компаний или же творцов мерзкой копоти, разносящейся из фабричных труб, — это очко в нашу пользу. Каждый, кто пытается оживить художественные традиции, собирая старинные реликвии искусства, также помогает нам, — особенно если он столь удачлив, что сумеет своими собственными усилиями побудить людей продраться сквозь копоть и убожество современного Манчестера и увидеть прекрасный лик первозданной природы или выдающиеся сооружения былых веков. Нам помогает каждый, кто пытается перекинуть мост над пропастью, лежащей между классами, содействуя созданию музеев, картинных галерей, садов и других достопримечательностей, которые станут достоянием всех людей. Каждый, кто стремится пробудить в рабочих сознательное отношение к работе, кто учит их искать в труде осуществления надежд и пробуждает в них чувство собственного достоинства и ответственность перед людьми, кто организует промышленные товарищества и тому подобное, — тот особенно плодотворно помогает нашему делу.
Именно такие и им подобные люди — наши помощники, именно они возбуждают в нас надежду на то, что придет время, когда наши взгляды и стремления не будут казаться бунтарскими, а система конкурентной коммерции успокоится в одной могиле с рабством, крепостничеством и феодализмом. Несомненно, эти перемены наступят — пусть даже тогда, когда нас уже не будет в живых. Но не от нас ли зависит предотвратить насилия и несправедливости, которые могут сопровождать наступление этих перемен и которые, в свою очередь, могут принести новые страдания и новую неудовлетворенность? А как было бы хорошо постепенно и милосердно уничтожить все, что должно быть уничтожено!
Здесь, в Англии, у нас прекрасный дом, где много замечательного, но и много отвратительной рухляди. Есть ли более важная для нас задача, чем вынести всю эту рухлядь по частям и сжечь ее за пределами дома, чтобы однажды нам не пришлось, отделываясь от нее, сжечь вместе с нею и наш дом и все наше достояние?
Искусство под игом плутократии
Вы не ошибаетесь, полагая, что я выступаю перед вами не ради критики какой-либо художественной школы или художников, не ради того, чтобы защищать какой-нибудь определенный стиль или же давать советы — даже самые общие — относительно занятий искусствами. Скорее, мне хотелось бы посоветоваться с вами относительно трудностей, препятствующих искусству стать тем, чем оно должно быть — помощью и утешением в повседневной жизни каждого. Некоторые из вас могут думать, будто никаких трудностей нет, или же их мало, или их легко можно отмести в сторону. Вы можете сказать, что существуют разные взгляды на искусство, что накоплены серьезные знания по истории искусств и появился вкус к ним, по крайней мере среди образованных классов; что многие одаренные люди и немногие гениальные занимаются искусством с большим успехом; что в течение последних пятидесяти лет произошло нечто вроде нового художественного Ренессанса, даже там, где перемен меньше всего ожидали. Все это верно, и я понимаю, что такое положение вещей может быть поводом к радости для тех, кто не понимает, что объемлет собою искусство и насколько тесно оно связано с общим состоянием общества, в особенности же с жизнью тех, кто живет физическим трудом и кого мы называем рабочим классом. Что касается меня, то я не могу не заметить, что, несмотря на явную удовлетворенность успехами искусства последних лет, в душе большинства мыслящих людей зреет настоящее отчаяние, неверие в его будущее — отчаяние, которое кажется мне совершенно оправданным, если вспомнить нынешнее положение искусства, не вдаваясь в причины, приведшие к этому положению, забыв о надеждах на их искоренение. Но чтобы не блуждать в потемках, давайте присмотримся, каково действительное состояние искусства. Прежде всего мне придется попросить расширить ваше понимание искусства за рамки понятий, которые связаны с художественными произведениями, и включить в его сферу не только живопись, скульптуру и архитектуру, но форму и цвет всех предметов домашнего обихода, — более того, даже внешний вид полей или пастбищ, облик городов и наших дорог, одним словом, распространить это понимание на всю внешнюю сторону нашей жизни. Ибо, поверьте: все, что составляет наше окружение, должно быть либо красивым, либо безобразным, должно нас возвышать или принижать, должно быть мукой или радостью. Как же в наши дни обстоит дело с тем, что нас окружает? Какой отчет сможем мы дать нашим потомкам о своем отношении к земле, которую наши предки вручили нам все еще красивой, несмотря на тысячелетия войн, безалаберности и себялюбия?
Несомненно, этот вопрос не из легких; и у меня нет опасения, что вы сочтете его простым риторическим приемом, если я скажу, что вопрос этот приобретает особую торжественность, когда его задают здесь, в Оксфорде, среди видов и воспоминаний, которые столь дороги нам, пожилым людям. И как же ограничен и несовершенен должен быть ум у человека, находящегося в окружении зданий, воздвигнутых надеждами наших предков и в окружении природы, которой они придали такую прелесть, и смеющего сказать, что красота земли — это дело второстепенное. А как же обращались мы с красотой земли или с тем, что мы именуем искусством?
Возможно, мне следовало бы начать с утверждения, едва ли, впрочем, для вас нового, что вообще должно быть выделено два вида искусства, первый из которых я назову интеллектуальным искусством, а второй декоративным, применяя эти термины из соображений простого удобства. Первое обращено целиком к нашей духовной жизни; его произведения служат лишь для утоления духовных запросов, и искусство этого вида может создаваться при полном игнорировании материальных нужд. Произведения второго вида искусства также обращены к душе, но всегда соединены с предметами, предназначенными служить нашим материальным потребностям. Должен сказать, что были народы и периоды, совершенно лишенные интеллектуального искусства, но никогда не было народа или периода, лишенных декоративного искусства (или хотя бы какой-то претензии на него). К тому же во все времена, когда искусства находились в расцвете, существовала внутренняя взаимосвязь между этими двумя видами искусства, настолько тесная, что, когда искусства достигали вершины своего процветания, между его высшим и низшим видами вообще не было никакой четкой границы. Высокое интеллектуальное искусство имело целью, как говорится, радовать взор, возбуждать эмоции и упражнять ум. Оно обращалось ко всем людям и ко всем способностям человека. С другой стороны, самое скромное из декоративных искусств по своей сущности и по рождаемым благодаря нему ощущениям сближалось с интеллектуальным. Одно незаметно переходило в другое. Иначе говоря, самый лучший художник был работником, а самый скромный работник — художником. Но не так дело обстоит теперь, не так оно обстояло в цивилизованных странах на протяжении последних двух или трех веков. Интеллектуальное искусство отделено от декоративного резкой чертой — и не только из-за характера произведений обоих искусств, но и из-за социального положения их творцов. Те, кто занимается интеллектуальным искусством, являются профессионалами или же благодаря своему призванию джентльменами, а те, кто занимается декоративным искусством, являются рабочими, получающими еженедельный заработок и, короче говоря, джентльменами не считаются.
Как я уже сказал, многие люди, одаренные талантом, а иногда и гением, в наше время создают произведения интеллектуального искусства, преимущественно картины и скульптуры. Не моя задача здесь или где-либо еще критиковать их произведения, но избранная мною тема побуждает меня сказать, что творцы интеллектуального искусства могут быть разделены на две группы. В первую входят те, которые в любой период истории занимали бы высокое положение в своем ремесле. Во вторую — люди, остающиеся художниками-джентльменами либо в силу своего рождения, либо благодаря своему усердию, деловым или еще каким-нибудь качествам, непропорциональным их художественной одаренности. Их произведения приносят миру мало ценного, хотя и находят прекрасный рынок сбыта. Их положение нельзя назвать ни уважаемым, ни прочным.
Но все же в большинстве случаев этих людей лично нельзя порицать; нередко у них есть способности к искусству, хотя и не очень большие, и они, вероятно, не преуспели бы ни на каком другом поприще. В действительности они хорошие мастера декоративного искусства, но испорченные системой, которая толкает их к честолюбивым личным достижениям, устраняя малейшую возможность сотрудничать с людьми, наделенными большими или меньшими способностями к народному творчеству.
Что касается художников первой группы, которые по достоинству занимают свое место и обогащают мир своим трудом, то их очень немного. Эти люди добились мастерства невообразимым трудом, силой ума и воли, ценой боли и страданий, такими усилиями, которые не могут не дать ценные плоды. Тем не менее и им нанесла ущерб система, упорно насаждающая индивидуализм и препятствующая сотрудничеству. Ибо прежде всего они отрезаны от традиции, этой удивительной, почти чудотворной сокровищницы векового мастерства, из которой люди черпают без всяких с их стороны усилий. Знание прошлого и близость к нему художники нашего времени, напротив, обретают чрезвычайно напряженными индивидуальными усилиями, и так как традиция больше не помогает им в их творчестве, то развитие каждого из них в отдельности чрезвычайно затруднено необходимостью учиться всему с самого начала. Кроме того, что еще хуже, отсутствие традиции лишает их сочувствующей и понимающей публики. Помимо самих художников и тех немногих, которые также могли бы сделаться художниками, если бы у них хватило одаренности и если бы им представился случай, в сегодняшней публике нет ни подлинного знания искусства, ни любви к нему. Ничего — кроме в лучшем случае какого-то неясного чувства симпатии, каких-то иллюзорных представлений о традициях, некогда объединявших художников и публику. Поэтому художники вынуждены выражать себя на языке, непонятном народу. Но это и не их вина. Если бы они попытались (а некоторые люди полагают, что они обязаны это сделать) уступить публике и работать в такой манере, какая любой ценой удовлетворила бы смутные желания людей, невежественных в искусстве, то они должны были бы отказаться от присущего им своеобразного дарования и предать искусство, которому они служат по долгу и призванию. Им остается только одно — выполнять свою собственную работу без всякой опоры в настоящем, вдохновляясь прошлым, что порой обманывает их, а частично даже бывает помехой. Они должны жить особняком как обладатели некой священной тайны и, что бы ни случилось, должны делать все возможное, чтобы охранять ее. Такая изоляция, несомненно, портит и их собственную жизнь и их работу. Но сколько теряет народ — как нам это измерить? В его среде живут и трудятся великие художники, а он даже не догадывается о самом существовании их творчества и неспособен понять, что оно означает, если бы и смог увидеть его, — как измерить эту потерю?
Во времена, когда искусство жило здоровой жизнью и процветало, все были в большей или меньшей мере художниками. Иными словами, врожденное чувство прекрасного, присущее каждому совершенному человеку, было так велико, что обычно все вообще ремесленники без каких-либо осознанных усилий создавали красивые вещи. Аудиторией же творцов духовного искусства был весь народ. Все эти творцы твердо надеялись завоевать искреннюю похвалу и любовь, что, совершенно естественно, жаждут получить люди, чье воображение стремится выразить себя в творчестве. Отсутствие такой оценки, конечно, так или иначе ранит их, лишает уверенности, делает чрезмерно чувствительными, ограниченными, а то и превращает в язвительных циников и в этом случае едва ли не обрекает на бесплодие.
Но я уже сказал и повторяю еще раз, что в наши дни народ совершенно безразличен к искусству и ничего в нем не понимает. Врожденное чувство красоты на каждом шагу подвергается гнету и разрушается и вследствие этого менее интеллектуальное, то есть декоративное, искусство как непосредственное и повседневное выражение чувства прекрасного больше не существует. В итоге все вещи, которые делаются теперь руками человека, просто безобразны. И хотя с тех времен, когда искусства процветали, у людей еще сохранилась привычка украшать предметы домашнего обихода и тому подобные вещи, ничто от этого не исправляется, потому что теперешняя имитация орнамента делается без всякого желания порадовать кого бы то ни было и так вульгарна и глупа, что слова «драпировка» и «драпировщик» приобрели новое значение, указывающее на презрение, которым все разумные люди награждают это уродство.
Вот к чему пока пришло декоративное искусство, и я должен на некоторое время прервать свой рассказ и попросить вас вспомнить, чем оно когда-то было, дабы вы не поспешили заключить, что его упадок не имеет большого значения. Чтобы не забираться слишком глубоко в историю, я прошу вас припомнить величественную чеканную красоту собора св. Софии в Константинополе, золотистый сумрак собора св. Марка в Венеции, скульптурные выступы великих французских соборов, причудливую и столь знакомую красоту наших монастырских церквей. Пройдите по улицам Оксфорда и присмотритесь к тому, что осталось нетронутым под натиском процветающих лавок и развивающихся колледжей. Побродите когда-нибудь по уединенным деревням и небольшим городам, разбросанным в сельской местности милях в двадцати от Оксфорда, и вы, наверно, убедитесь в том, что исчезновение декоративного искусства— это прискорбная утрата для мира.
Итак, рассмотрев состояние нашего искусства, я должен признать, что его коллективная форма исчезла и что оно существует лишь в высоких достижениях людей гениальных и талантливых, но сами эти люди ущемлены, сбиты с толку и из-за отсутствия искусства коллективного не встречают должного признания.
Но подавление чувства красоты, которое уничтожило декоративное искусство и нанесло ущерб интеллектуальному, не ограничилось только им. Иногда у меня появляется потребность — она, наверно, присуща многим — просто ускользнуть на лоно природы, не только от уродливости и убожества, не только от показного изобилия искусства, но даже от искусства сдержанного и гармоничного, скажем, даже такого, как восхитительное и простое искусство Афин времен Перикла. Я глубоко симпатизирую усталому человеку, интересы которого не выходят за рамки простой жизни и общения с природой, соприкосновения с жизнью страны, с ветром и непогодой, с жизнью домашних и диких животных, с обыденными занятиями всем этим ради хлеба насущного, отдыха и невинных плотских радостей. Но большинству цивилизованных людей невозможно полностью погрузиться в заботы простой животной жизни. И все же мне кажется, что цивилизация должна в некоторой мере компенсировать утрату романтики, которая только как сновидение посещает нас в сельских местностях промышленных стран. Сохранить чистоту воздуха и прозрачность рек, заботиться, чтобы у лугов и полей был приятный вид, какой у них должен быть при разумной обработке, дать любителям мирного уединения возможность бродить свободно где желают, если только они не вредят садам или полям, и даже оставить то здесь, то там небольшие полоски свободной земли и холмов, которых не ограждали бы и не распахивали, чтобы они напоминали о суровой борьбе человека с природой в более ранние дни его истории, — так ли уж это много требовать от цивилизации, чтобы она заботилась о радостях и отдыхе человека и помогала своим детям, на которых слишком часто взваливала тяжелое и мучительное бремя труда? Несомненно, это не чрезмерное требование. Но при существующей общественной системе оно не будет удовлетворено даже и в малой доле. Утрата чувства прекрасного, повлекшая за собой потерю народного искусства, также связана для нас с потерей единственно возможной компенсации за эту утрату, ибо цивилизация уверенно и довольно быстро обезображивает самый лик земли. И дело вовсе не в том, что Лондон и другие наши крупные торговые центры превратились в скопища мусора, грязи и нищеты, кое-где прикрашенной отвратительными заплатами гнусной пышности, особенно возмущающими душу и ум, когда понимаешь, о чем эта пышность говорит. И дело не в том, что целые графства Англии вместе с небесами, повисшими над ними, исчезли за коростой невообразимой копоти. Беда в том, что по всей стране распространяется болезнь, которая путешественнику, явившемуся из времен искусства, разума и гармонии, показалась бы пристрастием к грязи и безобразию. Ведь каждый небольшой городишко с рынком тщится всеми силами подражать величественному аду Лондона или Манчестера. Надобно ли говорить об отвратительных предместьях, облепивших наши самые прекрасные и самые древние города? Надобно ли говорить об упадке, столь быстро постигшем даже этот город, все еще самый прекрасный из всех, — город, который вместе со своими пригородами — имей мы хоть крупицу здравого смысла — стал бы драгоценнейшим алмазом, чью красоту следовало бы беречь любой ценой? Я говорю любой ценой, ибо это не наша собственность, мы лишь ее опекуны перед лицом потомства. Я достаточно долго жил на свете, чтобы знать, как мы относились к этому алмазу — в наших глазах он был обыкновенным камнем, который ногой подбрасывают на дороге, годным лишь для того, чтобы запустить его в пробегающую мимо собаку. Припоминая Оксфорд, каким впервые увидел его тридцать лет назад, я недоумеваю, как удалось мне совладать с горем (другого слова не подберу), которое я испытал, когда навестил его теперь вновь и даже удостоен чести выступить перед вами. Не только большие города — позор для нас, а маленькие — посмешище. Не только жилища людей невыразимо убоги и безобразны, но даже коровники и конюшни и самые обычные сельские сооружения удивительно уродливы. Даже взамен срубленного или сломанного ветром дерева сажают, если вообще сажают что-нибудь, худшее дерево, и, словом, наша цивилизация словно саранча проносится над всей землей, с каждым днем становясь все вредоноснее, так что любая перемена облика земли наверняка становится поворотом к худшему. И как следствие этого не только сузился горизонт и охладели чувства наших великих художников из-за их обособленности, не только оказалось в тупике коллективное искусство, но и иссяк самый источник, питавший большое и малое искусства; их родник отравлен у самого истока.
Я не удивлюсь, если люди, полагая, что это зло отныне и навсегда необходимо для развития цивилизации, попытаются сделать самое легкое из всего, закрыв глаза на все, что можно, и восхваляя гальванизированное искусство наших дней. Что касается меня, то я верю, что это зло — вовсе не неотъемлемое условие цивилизации. Оно лишь сопровождает ее на какой-то стадии, которая обновится и перейдет в другую, подобно всем предшествующим стадиям. Вместе с тем я уверен, что уничтожение искусства, то есть радости жизни, — существенная черта нынешнего состояния общества. Когда это состояние кончится, врожденная любовь человека к красоте, желание выразить ее больше не будут подавляться и искусство станет свободным. В то же время я не только допускаю, но заявляю во всеуслышание — и считаю исключительно важным сделать это, — что пока существует система конкуренции в производстве и распределении жизненных средств, будет идти своим чередом и упадок искусств, и если этой системе суждено жить вечно, то искусство несомненно обречено на смерть. Иными словами, умрет и сама цивилизация. Сейчас, я знаю, распространено мнение, что конкурентная система с ее девизом «горе отстающему» — это последняя стадия в развитии экономики и мир другой не увидит: она будто бы совершенна, поэтому ей присуща законченность, и очень дерзко идти наперекор этому мнению, которого, как я слышал, придерживаются самые ученые люди.
Хотя я и не ученый, но меня учили, что патриархальная система умерла в свое время, уступив место обществу свободных и рабов, которому в свою очередь пришло на смену общество феодалов и крепостных; пройдя сквозь видоизмененную форму, где существенную роль играли горожанин, цеховой ремесленник и его наемный работник, эта система была заменена, в свою очередь, нынешней системой так называемого свободного договора. И я охотно соглашусь, поскольку такая система существует сейчас, что все с начала мира подготавливало ее развитие; но что все события истории имели своей целью увековечение этой системы, само развитие этих событий меня в этом не убеждает.
Ибо я «один из тех, кого называют социалистами»; ибо я убежден, что экономическая система будет и далее развиваться, какие бы призрачные барьеры ни возводились на ее пути людьми, чья очевидная корысть сознательно или бессознательно привязывает их к настоящему и лишает надежды на будущее. Я считаю, что соперничество людей есть нечто звериное; взаимное же сотрудничество — человеческое. На мой взгляд, преобразования неразвитой конкурентной системы средневековья, путь которым преграждали личные отношения феодализма, перерастание сотрудничества цеховых ремесленников в процветающую конкуренцию laissez faire XIX века, неизбежно порождает анархию. Но из этой анархии и теми же способами, которыми конкурентная система пытается увековечить ее, возникает и дух сотрудничества, рожденный той борьбой, которая в прошлом произвела все перемены в жизни общества, а в будущем уничтожит все классы и, установив определенный и четкий общественный строй, заменит конкуренцию сотрудничеством во всем, что касается производства и распределения материальных средств. И я верю, что так как такое обновление будет во всех отношениях благотворно, то оно окажется особенно благоприятным для возрождения искусства, ныне уничтожаемого приверженцами современного общественного строя.
Эта моя надежда покоится, по моему глубокому убеждению, на весьма важной истине. Истина — в том, что все искусство, даже самое высокое, зависит от условий труда множества людей и что бесплодны и напрасны любые попытки даже самого высокого духовного искусства эмансипироваться от этих общих условий, — иначе говоря, любое искусство, которое утверждает, что оно покоится на особой образованности какого-нибудь класса или немногих избранных, по необходимости нереально и недолговечно. Искусство — это выражение радостности человеческого труда. Если эти слова и не принадлежат профессору Рёскину, в них, во всяком случае, воплощается основной принцип его учения. Никогда не утверждалась более важная истина. Если вообще возможно наслаждаться трудом, то какой поразительной глупостью представляется согласие людей трудиться без удовольствия! Какой ужасной социальной несправедливостью представится принуждение людей трудиться без удовольствия! Ибо, поскольку большинство честных людей должно трудиться, дело сводится к тому, принуждать ли их вести несчастную жизнь или разрешать им мириться с несчастной жизнью. Главное мое обвинение против нынешней общественной системы заключается в том, что она основана на безрадостном и чуждом искусству труде большинства людей и что обезображенность облика страны, о которой я говорил, ненавистна мне не только потому, что она причиняет страдание немногим из нас, все еще любящим искусство, но также и прежде всего потому, что она — свидетельство несчастной жизни, навязанной большинству людей системой конкурентной коммерции.
В основе наслаждения, присущего работе над любым произведением ручного труда, лежит острый интерес каждого здорового человека к здоровой жизни. Это наслаждение, мне кажется, складывается преимущественно из трех элементов: разнообразие, надежда работать творчески и чувство собственного достоинства, связанное с сознанием полезности своего труда. К этому нужно добавить также неизъяснимое физическое наслаждение, которое испытываешь от ловкости своего тела. Думаю, не нужно тратить много слов на доказательство, что эти ощущения, если бы они действительно сопровождали труд, непременно делали бы его радостным. Что касается приятного чувства разнообразия, то каждый из вас, кто хоть когда-нибудь создал что-либо, — и не важно, что именно, — помнит ту радость, которую переживаешь, когда из твоих рук выходит готовым первый образец. Что сталось бы с этой радостью, если бы вы были вынуждены делать всегда и в точности одно и то же? Что касается надежды что-либо создать, то разве может кто-нибудь из нас не понять радостной надежды создать достойную, а может быть, и превосходную вещь, которая без вас, мастера художественного ремесла, вообще никогда не существовала бы, вещь, которая нуждается в вас, кого никем другим заменить нельзя. Нетрудно, разумеется, понять, как услаждает труд чувство собственного достоинства, рожденное сознанием полезности своего дела. Сознание, что вы изготовляете вещь не для того, чтобы удовлетворить капризы глупца или кучки глупцов, но потому, что она хороша сама по себе, то есть полезна, — несомненно, поможет вам выполнить ваш повседневный труд. Что касается неизъяснимого физического наслаждения от ручного труда, то я действительно верю, что оно даже способно подвигнуть человека на физический и напряженный труд в гораздо большей мере, чем полагают обычно. Во всяком случае, это наслаждение лежит в основе искусства — даже самого зачаточного и примитивного.
Эта сложная радость от ручного труда есть прирожденное право всех тружеников. Я полагаю, что если у них отнять хоть часть этой радости, они все равно подверглись бы вырождению, но если эта радость отнята у них полностью, то они в самой работе становятся, — не скажу рабами, ибо это слово недостаточно сильно, — а машинами, и притом сознающими свое несчастье.
Я уже обращался к истории, ища в ней поддержку для своих надежд на необходимые перемены условий труда. Теперь мне бы хотелось привлечь историю в свидетели, что требование, чтобы труд был удовольствием, покоится на гораздо более серьезном основании, чем беспочвенные грезы. Все, что сохранилось от самых разных искусств, создававшихся во все времена и во всех странах, где надеялись на прогресс, до развития коммерческой системы, — довольно ясно показывает людям, которые способны видеть и понимать, что удовольствие всегда так или иначе сопровождало создание художественных произведений. Как ни трудно обосновывать этот факт по всем правилам педантичной науки, он неоднократно признавался теми, кто внимательно изучал искусство. Столь обычные в критике фразы, что-де такое-то и такое-то произведение, претендующее быть художественным, выполнено механически и лишено даже намека на чувство, довольно точно выражают отношение художников к образцам, восходящим к эпохам здорового искусства. Ведь механический и бесчувственный ремесленный труд не существовал почти до наших дней, но лишь плутократия создала условия, закрепившие господствующее положение за механическим трудом.
Средневековый ремесленник жил, конечно, под тяжким материальным гнетом, и все же, несмотря на пропасть между ним и его феодальным правителем, которую разверзла тогдашняя иерархическая система, различие между ними было скорее условным, чем реальным. Отсутствовало то резкое различие в языке, манерах и мыслях, которое отделяет сегодняшнего образованного представителя среднего класса, «джентльмена», даже от благопристойнейшего из представителей низшего класса. Такие необходимые художнику духовные качества, как ум, воображение, выдумка, тогда не должны были проходить суровое испытание конкурентного рынка, а богатые люди или удачливые соперники не претендовали еще быть единственными обладателями утонченной интеллектуальности. В те времена ремесла объединялись в гильдии, которые довольно отчетливо осуществляли разделение занятий и ревностно преграждали доступ к ним, но так как на рынке имела место лишь незначительная конкуренция между гильдиями, то изделия производили в первую очередь для домашнего потребления, и только излишки того, что потреблялось расположенными вблизи производства домами, могли попадать на рынок или в руки посредника, связывавшего производителя и потребителя. По этой причине внутри гильдий было лишь незначительное разделение труда. Взрослый или подросток, принятый как подмастерье, изучали ремесло от начала до конца и, разумеется, становились мастерами; на ранней стадии существования гильдий, когда мастера едва ли были даже маленькими капиталистами, ремесло характеризовалось только временным разделением труда. Позднее, когда мастера стали в какой-то мере капиталистами, а подмастерья, подобно мастерам, обрели привилегии, появилась прослойка наемных работников. Но маловероятно, чтобы различие между последними и аристократией гильдии было чем-то большим, чем простая условность. Одним словом, в продолжение всего этого периода работник должен был быть человеком смышленым. При такой системе труда на ремесленника не оказывалось никакого нажима с целью ускорить его работу — у него была возможность выполнять ее неторопливо и обдуманно. Для производства изделия требовался весь человек целиком, а не частичные способности многих людей. Такая система развивала весь ум и талант труженика, а не подавляла его односторонними операциями над пустяковыми деталями. Короче говоря, она не подчиняла руку и душу работающего нуждам рыночной конкуренции, но предоставляла ему свободу для развития его как человека. Эта система не знала доктрины, которая утверждает, что человек создан для торговли, но полагала еще в своей наивности, что торговля создана для человека, и именно эта система произвела на свет средневековое искусство, в котором гармоничное сотрудничество свободных умов достигло высшей точки, так что из всех искусств только одно оно вправе называться свободным. Влияние этой свободы и рожденного ею и широко распространившегося или, лучше сказать, всеобъемлющего чувства прекрасного обнаружило себя с достаточной очевидностью взрывом экспрессии итальянского Возрождения, его великолепного и плодовитого творческого гения. Несомненно также, что это славное искусство было плодом предшествующего пятивекового развития свободного народного творчества, а не современного ему подъема торговой системы, ибо слава Возрождения померкла до странности быстро, когда развилась коммерческая конкуренция, так что к концу XVII столетия и в интеллектуальном и в декоративном искусствах еще сохранялись присущие им формы, романтика же, то есть самый дух их, исчезла. Постепенно искусства никли и дряхлели под натиском духа коммерции, которая быстро набирала силу во всех цивилизованных странах. Искусство домостроения, называемое архитектурой, прекращалось или превратилось в простую игрушку рыночной конкуренции, через которую должны были теперь проходить все основные товары, потребляемые цивилизованными людьми. К этому времени коммерческий дух почти уничтожил ремесленную систему труда, где, как уже было сказано, носителем труда был хорошо обученный мастеровой, сменив ее тем, что я бы, с вашего разрешения, назвал системой мастерских, где при совершенной организации разделение ручного труда доведено до высшего предела и где производитель — уже не отдельный человек, а группа людей, в которой каждый зависит от своих товарищей и совершенно бесполезен сам по себе. Эта система разделения труда в мастерских совершенствовалась на протяжении XVIII века благодаря усилиям промышленных классов и благодаря запросам все более расширяющихся рынков. Эта система все еще жива в мелких мануфактурных производствах, близких к домашнему, и в нашей жизни ока занимает такое же место, какое занимали остатки ремесленной системы во времена становления системы мастерских. При этой системе, как я сказал, исчезла вся романтика ремесленных искусств, но их шаблонные приемы все еще процветали, ибо представление, что главной целью мануфактурного производства является изготовление товаров, все еще боролось с более новым представлением, одержавшим с той поры полную победу и сводившимся к тому, что производство осуществляется ради получения прибыли предпринимателем, с одной стороны, и ради обеспечения занятости трудящихся классов — с другой.
Представление, что коммерция — самоцель, а не просто средство, получило лишь частичное развитие в XVIII веке, когда достигла расцвета система мастерских, но известный интерес к самому производству товаров все еще сохранялся. Капиталист-предприниматель того времени еще определенно гордился, выпуская товары, приносившие ему, как говорится, славу. У него не было охоты целиком приносить удовольствие такого рода в жертву властным требованиям коммерции, и даже его рабочий, — правда, уже более не художник, то есть не свободный труженик, — должен был обладать мастерством в своем ремесле, хотя ему приходилось изо дня в день выполнять только какую-то одну определенную часть работы.
Но коммерция, все более подстегиваемая открытием новых рынков, продолжала развиваться, подстегивая в свою очередь людскую изобретательность, пока не были изобретены машины, на которые теперь стали смотреть как на необходимость производства и которые породили систему, прямо противоположную древней ремесленной системе. Та система была устойчива и консервативна по своим методам — не существовало действительного различия в способе производства какого-нибудь изделия во времена Плиния{1} и во времена Томаса Мора{2}. Методы производства нынешнего времени, наоборот, меняются не от десятилетия к десятилетию, а от года к году, и этот факт, естественно, содействовал победе машинной системы, системы фабрик, где машиноподобные труженики периода мастерских заменяются настоящими машинами, при которых станочники (как теперь называют рабочих) — это лишь детали, причем и роль и число таких деталей постепенно уменьшается. Эта система все еще не получила полного развития, в какой-то мере система мастерских продолжает существовать бок о бок с ней, но новая система быстро и настойчиво сокрушает старую. Когда же этот процесс будет завершен, квалифицированный рабочий исчезнет. На его место встанут машины, которыми будут управлять немногие хорошо подготовленные сообразительные специалисты, а обслуживаться они будут множеством людей — мужчинами, женщинами и детьми, от которых не требуется ни квалификации, ни сообразительности.
Эта система, повторяю, полная противоположность той, которая породила народное искусство, а оно в свою очередь подготовило, что теперь снисходительно признают даже образованные люди, великолепный взрыв творчества в эпоху итальянского Возрождения. Поэтому новая система принесла с собою прямо противоположное тому, что породила старая ремесленная система: она принесла искусству смерть, а не новое его рождение, — другими словами, она положила начало исчезновению красоты во внешнем окружении человека, или, говоря просто и ясно, она породила несчастье. Это проклятие, это несчастье захватило все общество от обездоленных бедняков, о жизни которых как раз в эти дни с таким наивным удивлением и ужасом узнаем мы, состоятельные люди, от бедняков, которых природа заставляет трудиться, все еще надеясь на что-то, и растрачивать божественную энергию человека, чтобы заработать нечто даже худшее, чем конура и собачья похлебка, от бедняков — и вплоть до утонченных и культурных людей, живущих в хороших домах, сытых и прекрасно одетых, получивших дорогостоящее образование, но лишенных всякого интереса к жизни, за исключением, может быть, стремления культивировать страдание как изящное искусство.
В мире искусства произошло что-то неладное, обитель цивилизации поражена недугом, и жизнь в ней не может стать счастливой. Что вызвало этот недуг? Может быть, вы скажете, что машинный труд? Мне случайно встретились стихи древнего сицилийского поэта, который радовался постройке водяной мельницы и торжествовал, что в результате человек освободится от мучения работать ручной мельницей. Это, несомненно, пример естественной мечты человека, предвидящего изобретение экономящих труд механизмов, как они называются. Да, естественной, ибо хотя я и говорил, что неотделимый от искусства труд должен рождать наслаждение, никто не будет отрицать, что существует необходимый труд, сам по себе отнюдь не приятный, а кроме него масса ненужного труда, который просто мучителен. Если бы машины применялись для облегчения именно такого труда, то здесь-то и должна была проявиться величайшая изобретательность. Но разве так обстоит дело? Оглянитесь вокруг, и вы согласитесь с Джоном Стюартом Миллем{3}, который сомневался, облегчили ли машины нашего времени, взятые все вместе, дневной труд хотя бы одного труженика. И почему мы претерпели столь горькое разочарование в наших надеждах, которые так естественны? Потому, несомненно, что в наши дни машины изобретались никак не с целью уменьшения мук труда. Выражение «машины, экономящие труд», значит, в сущности, «машины, экономящие стоимость труда», а не сам труд, который если и будет сбережен, пойдет на обслуживание других машин. Ибо, как я уже сказал, доктрина, распространившаяся еще при системе мастерских, теперь получила всеобщее признание, даже несмотря на то, что мы еще далеки от полного развития заводской системы. Говоря коротко, эта доктрина утверждает, что основная цель производства добывать прибыль и что глупо раздумывать, полезны ли для покупателя выпускаемые на рынок товары, коль скоро находятся люди, готовые купить их по цене, которая, по выплате занятому на производстве рабочему прожиточного минимума, окажется прибыльной для нанимателя-капиталиста.
Доктрина, что единственная цель производства (и даже самой жизни) — это получение прибыли капиталистом и предоставление рабочему занятости, принимается, кажется, почти всеми. Отсюда делается вывод, будто продолжительность труда по необходимости не ограничена и любая попытка ограничить ее не столько глупа, сколько вредна; делая этот вывод, не принимают во внимание те беды, которые причиняют обществу производство и продажа товаров.
Именно этот предрассудок, превративший коммерцию в самоцель, и представление, будто человек создан для коммерции, а не коммерция для человека, вызвал упадок искусства, а вовсе не те случайные механизмы, которые этот пущенный в ход предрассудок бросил на помощь коммерции. Машины, железные дороги и прочие изобретения, которые теперь действительно правят всеми нами, могли бы находиться под нашим контролем, если бы мы не столь безоглядно добивались прибыли и занятости во что бы то ни стало — ценой установления продажной и сеющей деградацию анархии, присвоившей себе титул «общества». Сегодня здесь, как и повсюду, моя задача — возбуждать недовольство этой анархией и ее очевидными последствиями, ибо, на мой взгляд, оскорбительно само предположение, что вы удовлетворены теперешним положением дел, что вы, в частности, удовлетворены зрелищем, как из нашего чудесного города исчезает вся его красота, что вы довольствуетесь убожеством Черной страны, отвратительным обликом Лондона, этого беспримерного из всех жировиков, как назвал его Коббетт{4}, что вы миритесь с уродством и низостью, обступающими со всех сторон культурного человека, и с тем, наконец, что нам приходится существовать над бездной невообразимой нищеты, кое-какие подробности которой снова и снова доходят до нас словно бы из далекой несчастной стороны, тогда как нам эти подробности представляются неожиданными, хотя, должен сказать вам, нищета — необходимый фундамент нашего общества, нашей анархии.
Не сомневаюсь, что каждый из здесь присутствующих уже пришел к мысли о необходимости как-то бороться с недостатками нашей цивилизации, — как мы эвфемистически называем их, хотя недостаточно отчетливо представляем их себе. Не сомневаюсь также, что вы знакомы с предписаниями нашей экономической системы, этой, я бы сказал, религии, которые сменили предписания прежних религий о долге и милосердии. Вам понятно, конечно, что, хотя друг может давать другу и оба — дающий и берущий — становятся благодаря этому дару лучше; но, что бы ни дал богатый человек бедняку, оба от этого становятся хуже — потому, полагаю, что они — не друзья. И все-таки я уверен, что каждый из вас лелеет мечту об идеальном обществе, лучшем, чем то, в котором мы живем, каждый мечтает, мне сдается, о чем-то большем, чем временные полумеры против застарелых недостатков нашей цивилизации.
По моим понятиям, этот идеал, который как осуществимый и многообещающий мыслится самыми передовыми по взглядам представителями нашего собственного класса, сводится к следующему. Должен существовать обширный класс трудолюбивых людей, не слишком утонченных (иначе они не смогут выполнять требуемую от них грубую работу), которым предстоит жить среди удобств (не совпадающих, однако, с удобствами нашего среднего класса), получать известное образование (если они будут в состоянии), не переутомляться, то есть не переутомляться так, как переутомляется рабочий человек, чья самая легкая дневная работа была бы довольно тяжелой людям изысканной среды. Этот класс должен стать основой общества, а его существование полностью освободит от терзаний совесть образованных классов. Из рядов этого образованного класса выйдут руководители и капитаны труда (то есть ростовщики), религиозные и литературные лидеры народного сознания (священнослужители, философы, журналисты) и, наконец, если об этом вообще кто-либо будет думать, — вожаки искусства. Эти два класса, вместе с каким-то третьим или без него, ибо функции этого третьего неопределенны, будут жить вместе в атмосфере величайшей благожелательности, причем высший класс будет помогать низшему, не оскорбляя его своей снисходительностью, а низший — принимать помощь, не унижаясь перед высшим. Низший класс должен быть совершенно доволен своим положением, и между классами не будет ни малейшего антагонизма; кроме того, низшему классу, ставшему счастливым и уважаемым (даже Утопия такого рода неспособна отказаться от мысли о необходимости соперничества между отдельными людьми), будет предоставлено дополнительное благо — надежда, которую будет питать каждый, подняться в высший класс, оставив позади куколку труда, из которой он выпорхнул. Равным образом — если это вообще имеет какое-то значение — низший класс не будет лишен должных политических или парламентских прав; все люди (или почти все) будут равны перед урной для голосования, если отвлечься от того, что их голоса можно будет покупать, как любой другой товар. Так рисуется мне этот либеральный идеал реформированного общества, характерный для среднего класса: весь мир превращается в буржуа — крупных и мелких; под эгидой конкурентной коммерции воцаряется мир; душевный покой и чистая совесть всем и каждому, и можно жить, руководствуясь девизом «горе отстающему».
Что касается меня, то я ничего, совершенно ничего не имею против этого идеала, если только его можно осуществить. Религия, мораль, искусство, литература и наука, насколько представляется, могли бы процветать в таком обществе и превратить мир в сущий рай. Но разве мы уже не попытались этого добиться? Разве не ликуют многие, говоря с трибуны о скором приближении этого блаженного времени? Кажется, о непрерывно растущем процветании трудящихся классов заходит речь каждый раз, когда какой-нибудь политический деятель выступает по общим проблемам, когда он забывает о политике своей партии или, напротив, слишком хорошо о ней помнит. Я не намерен лишать доброго имени то, что его заслуживает. По-моему, многие глубоко верят в осуществимость этого идеала, хотя и осознают отчетливо, насколько плачевно далеко от него теперешнее положение вещей. Мне известно, что ради осуществления этого идеала некоторые люди приносят в жертву время, деньги, удовольствия, даже собственные свои предрассудки — люди, ненавидящие раздоры и любящие мир, люди, упорно работающие, добрые, нечестолюбивые. Чего же они добились? Насколько ближе подошли они к идеалу буржуазного сообщества, чем во времена билля о реформе{5} или отмены хлебных законов{6}? Что ж, возможно, они несколько ближе к великой перемене, ибо в доспехах самодовольства появляется трещина, ибо возникло подозрение, что необходимо ликвидировать не случайные проявления системы конкурентной коммерции, а саму эту систему. Но что касается идеала этой системы, которая будто бы может стать благодаря реформам человечной и пристойной, то они так же близки к нему, как близок к луне человек, поднявшийся на стог сена. Я не хочу слишком долго говорить о заработной плате отдельно от вопроса об отвратительном контрасте между богатыми и бедными, контрасте, который составляет сущность нашей системы. И все же не забывайте, что, опускаясь ниже известного предела, бедность означает вырождение и рабство — подлинное и неприкрытое. Мне встретилось утверждение одного из оптимистических представителей богатого класса, что средний годовой доход английской трудовой семьи составляет сто фунтов. Я не верю этим цифрам, ибо убежден, что они раздуты данными о заработной плате, которая выплачивалась во время инфляции, — они игнорируют шаткое положение большинства трудящихся. Я прошу вас, однако, не укрываться за средними цифрами, ибо они раздуты хотя бы за счет высоких заработков особых групп рабочих в особых местах, а в промышленных районах они увеличены тем, что на фабриках заняты и жены рабочих, а это, на мой взгляд, отвратительный обычай. Раздуты они и другими данными такого же сорта, проверять которые предоставляю вам самим. Но даже и не в этом дело. Что касается меня, то меня не утешает и огромный средний заработок стольких миллионов трудящихся людей, в сто фунтов в год, ибо в то же время многие тысячи тех, кто не работает, считают себя бедняками при доходе в десять раз большем. Это не утешает меня и потому, что тысячи здоровых мужчин простаивают большую часть рабочего дня у ворот дока близ Поплара в надежде, что некоторым из них повезет получить ничтожно оплачиваемую работу, или же потому, что обычный заработок наемного работника на фермах почти всей Англии составляет десять шиллингов в неделю и даже такую плату фермеры считают разорительной для себя. Если такие средние заработки считаются удовлетворительными, то почему нам ограничиться лишь трудящимися классами? Почему бы нам не включить сюда каждого, начиная с герцога Вестминстерского, а затем уже воспевать доходы английского народа в гимнах радости?
Давайте, говорю я, покончим со средними цифрами, и присмотримся к жизни с ее страданиями, и попробуем представить себе эту жизнь. И обратите внимание на следующее: даже если удастся воплотить в жизнь хотя бы часть этого буржуазного или радикального идеала, то при сохранении существующей системы конкурентной коммерции под ней всегда будут скрываться позорящие ее явления. Мы ухитрились создать громадную массу более или менее зажиточных людей, стоящих совсем близко к среднему классу — преуспевающих ремесленников, мелких торговцев и прочих. Я должен мимоходом сказать, что, вопреки всем врожденным хорошим качествам этих людей, их класс — небольшая честь для нашей цивилизации: коль скоро дело касается еды, то они набивают себе животы чем попало, но живут они в скверных домах, получают скудное образование, находятся во власти низменных суеверий, чужды разумных удовольствий и совершенно лишены чувства прекрасного. Но оставим это. Ибо я знаю, что мы можем весьма значительно увеличить в пропорциональном отношении эту прослойку, не производя никаких серьезных перемен в нашей системе, ибо в самом низшем слое общества будет по-прежнему сохраняться класс, от которого мы никогда не избавимся, пока живем, руководствуясь девизом «горе отстающему». Класс этот — класс жертв. Больше всего другого я хочу, чтобы мы не забывали о них (и, судя по всему, мы вряд ли о них забудем в течение ближайшей недели), чтобы не утешали себя средними цифрами, столкнувшись с тем фактом, что богатства богатых и комфорт состоятельных покоятся на огромной и страшной нищете — унизительной, жалкой и бесполезной. О ней до последнего времени мы слышали мало, слишком мало. Нам теперь доподлинно известно, что эта нищета — действительность, и мы можем лишь утешаться надеждой, что сможем, если будем усердны и внимательны (а мы редко такими бываем), существенно уменьшить ее размеры. Я спрашиваю вас, совместима ли такая надежда с нашей хваленой цивилизацией с ее совершенным вероучением, высокой моралью и четкими политическими принципами? Посчитаете ли вы чудовищным, что некоторые люди возымели иную надежду и видят перед собой идеал общества, в котором не будет классов, без конца унижаемых — будто бы во имя блага общества? Я бы хотел напомнить, что этот самый низший, крайне бедный класс находится в бездне, зияющей и перед всей массой трудящихся классов, которые, вопреки всем средним цифрам, еле сводят концы с концами. Проигрыш в жизненной игре заставляет богача смирить свое честолюбие и удалиться от дел, человека среднего достатка вынуждает довольствоваться положением подчиненного и сносить утомительные перемены, а рабочего человека сталкивает в ад безысходного унижения.
Надеюсь, среди присутствующих лишь немногие могут успокоить свою совесть тем, что трудящиеся классы навлекают на себя нищету собственной расточительностью и безрассудством. Несомненно, некоторые повинны в этом, ведь философы — стоики высокого полета — встречаются среди поденщиков не намного чаще, чем среди богачей и людей достатка. Но мы прекрасно знаем, с каким упорством массы бедняков придерживаются такой степени бережливости, которая сама по себе унижает человека, — ведь в его природе заложена любовь к радостям и удовольствиям. И вот, несмотря на всю свою бережливость, бедняки все глубже падают в бездну нищеты. Так что же? Решимся ли мы отрицать это, встречая на каждом шагу в нашем собственном классе ни в чем не повинных неудачников; многие из них гораздо достойнее и полезнее счастливчиков. Не это ли обнаруживается в самом состоянии войны, именуемой нами системой неограниченной конкуренции, войны, где лучшее снаряжение, которым человек может обзавестись, это жестокое сердце и отсутствие совести? Осуществить либеральный идеал, преобразовать нашу нынешнюю систему в общество умеренного классового господства невозможно, потому что наша система — это, в конце концов, лишь неумолимая и непрерывная война. Если только эта война прекратится, коммерции, в том смысле, в каком мы понимаем это слово, наступит конец, и уже больше не будут производиться горы товаров, которые либо сами по себе бесполезны, либо полезны только для рабов и рабовладельцев. И тогда снова искусство будет определять, какие товары полезны, а какие товары вообще нет смысла производить, ибо не нужно создавать ничего, что не радует ни производителя, ни потребителя, а радость созидательного труда рождает искусство. Таким образом, искусство поможет почувствовать разницу между бесплодностью труда и его полезностью, хотя теперь бесплодность труда вообще, как я уже сказал, никого не тревожит: пока человек работает, его признают полезным — вне зависимости от того, над чем он трудится.
Говорю вам: система конкурентной коммерции, по существу, бесплодна, и это является следствием анархии. Не обманывайтесь показным порядком в обществе плутократии. Тут дело обстоит так же, как в былую пору во времена войн, когда все внешне говорит о спокойствии и удивительном порядке. Тверда и покойна поступь марширующего полка. Выдержанны и красивы сержанты. Сверкает на солнце начищенная пушка, доведено до блеска войско убийц. Планшеты адъютантов и сержантов выглядят вполне невинно, да и сами приказы на разрушение и грабеж даются с той спокойной точностью, которая кажется лучшим свидетельством спокойной совести. Но все это — маскарад, прикрывающий растоптанные нивы и сожженные дома, искалеченные тела, безвременную смерть достойных людей, обездоленный отчий край. Обо всем этом, о последствиях порядка и уравновешенности, то есть того, что поворачивает лицом к нам, домоседам, цивилизованная солдатчина, нам говорили часто и достаточно красноречиво, и нам бы следовало призадуматься над этим; достаточно часто нам показывали изнанку военной славы, но не могли показать ее ни слишком часто, ни слишком красноречиво. И тем не менее, скажу я, именно такой маской прикрывается система конкурентной коммерции — с ее респектабельностью и чопорным порядком, с ее болтовней о мире, о плодотворном сотрудничестве стран и прочем; в то же время вся ее энергия, вся ее строгая организация направлены на одну цель — лишать других средств существования. И вне этого все должно идти своим ходом, и не важно, кому от этого хуже или лучше. Здесь, как в войне огнем и мечом, все другие цели должны быть сметены и подчинены одной. Впрочем, торговая война хуже прежних войн хотя бы потому, что последние велись с перерывами, а эта ведется без устали, непрерывно. Ее командующие и полководцы никогда не устают провозглашать, что она должна развиваться, пока существует мир, и в этом-то, в непрерывном ведении этой войны, и состоит будто бы предел стремлений человека и его семьи. О чем-то подобном говорится в стихах:
«Во славу их во мглу забот Погружена толпа рабов, Легко крутя от дыбы круг Под стоны жертв и треск их рук».Что может низвергнуть эту ужасную систему, такую прочную, так глубоко ушедшую корнями в корысть, в глупость и малодушие энергичных и узколобых людей, столь могущественную и вдобавок еще защищенную от нападений анархией, которую она же и породила? Ничто, кроме возмущения этой анархией и кроме той новой силы, которая в свою очередь вырастет или, вернее, уже вырастает на почве этого возмущения. Это новое и свежее входит в состав той самой системы, которую оно призвано уничтожить. Ибо более полное развитие промышленного производства из древних ремесел через систему мастерских в систему машин и фабрик, отнимая у рабочих всю радость их труда и надежду выбиться в отличного мастера, объединило их в один громадный класс. Своим гнетом, принуждая их жить монотонной жизнью, промышленное производство помогло им почувствовать как свою солидарность, так и антагонистичность своих интересов с интересами капиталистического класса. На протяжении всего развития цивилизации они ощущают потребность подняться именно как класс. Как я уже сказал, для них невозможно соединиться со средними классами, чтобы создать всеобщее царство умеренных буржуазных порядков, о котором мечтали некоторые, ибо те, кто поднимается из своего класса, тотчас же входят в буржуазию, становятся владельцами хотя бы небольших капиталов и эксплуататорами труда, а позади них все же остается низший класс, в свою очередь затягивающий в свое лоно всех неудачников. С недавнего времени процесс этот усиливается с быстрым ростом громадных фабрик, уничтожающих остатки мелких мастерских, обслуживаемых людьми, которые еще недавно могли надеяться стать самостоятельными хозяевами, с ростом огромных магазинов, уничтожающих мелких торговцев. Осознав невозможность подняться в качестве класса, в то время как конкуренция, естественно, подавляет их, считая это необходимым для своего существования, рабочие начали рассматривать объединение как естественный для себя выход — аналогично тому, как капиталисты смотрят на конкуренцию; именно у рабочих, и ни у кого другого, явилась надежда навсегда покончить с деградацией классов.
Я выступаю сейчас перед вами, так как верю, что эту надежду воспримут и средние классы, и призываю воспринять ее. Я убежден, что только от ее осуществления зависит также и другая — надежда на возрождение искусства, на то, что средние классы достигнут подлинной утонченности, которой теперь нет, о чем скорбно свидетельствует убожество и вульгарность нашего жизненного окружения — даже и людей богатых. Я знаю, что у некоторых людей возможность будущего освобождения от классового неравенства вызывает не надежду, а страх. Они могут утешиться мыслью, что бояться претворения социализма в жизнь, по крайней мере в Англии, преждевременно, что у пролетариата нет надежд и поэтому он останется мирным в нашей стране, где быстрое и почти совершенное развитие коммерческой системы уничтожило возможность сплочения низших классов, где сами объединения пролетариата, тред-юнионы, основанные с целью укрепления рабочих как класса, превратились уже в тормоз и консервативную силу, которую буржуазные политиканы используют для целей своей партии, где пролетариат получает весьма скудное образование и где, наконец, пропорциональное отношение города к сельской местности так велико, что их жители порвали связи с крестьянством и стали, как и их отцы, горожанами; с каждым годом они становятся все слабее физически.
В Англии масса рабочего люда лишена всякой надежды, и в течение какого-то времени, а может быть, и достаточно долго, будет нетрудно держать их в подчинении. Надежду на то, что так и будет, я бы назвал просто надеждой негодяя, ибо она зиждется на нищете трудящихся. Такие расчеты, на мой взгляд, способны питать лишь рабовладельцы или их прихлебатели. Я верю, однако, что надежда растет среди трудящихся классов Англии. Во всяком случае, в одном вы можете быть уверены — по крайней мере ширится недовольство. Можно ли в том сомневаться, когда существуют незаслуженные страдания? Кто из нас довольствовался бы десятью шиллингами в неделю, на которые нужно вести наше домашнее хозяйство, живя в неописуемой грязи и платя за нее, как за хорошее жилище? Можно ли сомневаться, что если бы борьба за существование оставила нам хоть немного времени, мы внимательнее пригляделись бы к праву богатых и довольных удерживать нас в этом положении якобы потому, что это необходимо обществу? Я говорю вам: в мире — бездна недовольства, и если вы хотите жить иной жизнью, чем просто делать деньги ради денег, если вы ищете иной, более высокий идеал, я призываю вас помочь превратить недовольство в надежду, то есть в требование социального возрождения. Этот мой призыв продиктован не страхом перед недовольством, а собственным моим недовольством и жаждой справедливости.
И все же, если кто из вас страшится брожения, которое существует повсюду, то я не вправе говорить, будто у вас нет для этого оснований. Я представляю перед вами созидательный социализм, но социалистами называют себя и другие люди, целью которых является не перестройка, а разрушение, люди, которые считают, что нынешнее положение ужасно и нестерпимо (и они правы) и что существует только одно средство — не страшась жертв, сотрясать общество, непрестанно нанося ему удары, чтобы в конце концов оно расшаталось и рухнуло. Подумайте, а не стоит ли вступить в борьбу с этой доктриной и превратить недовольство в надежду на перемену, которая повлечет за собой и перестройку? Не сомневайтесь, однако, что если даже время перемен еще очень далеко от нас, то в конце концов оно придет. Наступит день, когда средние классы осознают недовольство пролетариата; но еще до того некоторые люди отрекутся от своего класса и, движимые любовью к справедливости или убежденные фактами, соединят свою судьбу с рабочими. Что же касается остальных, то, когда их совесть проснется, они окажутся перед выбором: либо отказаться от своей морали, которая и так на три четверти лицемерна и лишь на одну — искренна, либо — уступить. В любом случае я твердо убежден, что перемена наступит и ничто не может серьезно затормозить возрождение, но все же я хорошо знаю, что от среднего класса зависит, окажется ли мирной или насильственной разрядка недовольства, которое должно предшествовать этому возрождению. Препятствуя возрождению, — кто знает, до какого насилия вы дойдете. Возможно, даже до отказа от той морали, которой мы, люди среднего класса, так гордимся. Но способствуйте возрождению, преданно стремясь всем сердцем к тому, чтобы восторжествовала правда, — чего вам тогда бояться? Во всяком случае, — не собственной жестокости, не собственного деспотизма.
И я снова говорю, что дело зашло слишком далеко и претензия по меньшей мере на любовь к справедливости — слишком обычна для нас, чтобы буржуазия могла пытаться удерживать пролетариат в состоянии рабства перед капиталом, как только он по-настоящему придет в движение, иначе как ценой полного вырождения своего класса, не говоря о всех других последствиях. Я не могу не надеяться, что в числе присутствующих здесь находятся и те, кто уже переживает страх перед тенью этого вырождения, этого последствия сознательной поддержки несправедливости, и кто стремится покончить с полуневежественной деспотией, о которой говорил Китс{7} и которую действительно постоянно поддерживают богатые. К этим людям я обращаюсь в своих заключительных словах с призывом отречься от претензий своего класса и соединить свою судьбу с судьбой рабочих. Полагаю, что некоторые из них останутся в стороне от активного содействия этому делу из-за боязни перед организацией, иначе говоря, из-за непрактичности, которая столь обычна в Англии, особенно среди высокообразованных людей, и в высшей степени обычна, простите мою откровенность, для наших старинных университетов. Поскольку я член организации, пропагандирующей социализм, я серьезно прошу тех, кто согласен со мною, активно помогать нам, отдавая ваше время и ваши дарования — если вы в силах, а если нет, то по крайней мере помогая, если возможно, деньгами. Если вы согласны с нами, не стойте в стороне только потому, что у нас нет еще изящных манер, утонченного языка, нет даже и предусмотрительной мудрости в действиях, качеств, которые были из нас вытравлены долгим гнетом конкурентной коммерции.
Искусство вечно, а жизнь коротка. Давайте по крайней мере сделаем что-нибудь прежде, чем умрем. Мы ищем совершенства, но не можем найти совершенных средств, чтобы вызвать его к жизни. Для нас будет достаточно, если мы сможем объединиться с теми, у кого цели — правильны, а средства — честны и открыты. Я утверждаю, что если мы в дни сегодняшней борьбы будем дожидаться, когда наше содружество станет совершенным, то умрем прежде, чем чего-либо достигнем. Вам в силу рождения повезло стать мудрыми и утонченными, — так теперь помогайте же нам повседневно добиваться успеха, вливайте в нас по капле вашу великолепную мудрость и великолепную утонченность, а вы сами, в свою очередь, почерпните мужество и надежду у тех, у кого нет такой совершенной мудрости и утонченности. Помните, у нас есть только одно оружие против страшной системы себялюбия, на которую мы идем в наступление, и это оружие — единство. Да, оно должно быть зримо. Мы должны постоянно осознавать его, когда сталкиваемся с другими людьми, враждебными или равнодушными к нашему делу. Организованное братство — вот что должно развеять чары сеящей анархию плутократии. Один человек с какой-либо идеей в голове рискует прослыть безумцем. Двое с одной общей идеей могут показаться глупцами, но не безумцами. Десять человек, объединенных одной идеей, начинают действовать. К сотне относятся как к фанатикам. Тысяча — и общество начинает сотрясаться. Сто тысяч — повсюду вспыхивает война, и общее дело одерживает осязаемые и реальные победы! Но почему только сто тысяч? Почему не сто миллионов — и тогда мир на земле? И это вы и я, объединенные одной идеей, должны ответить на этот вопрос.
Искусство и социализм
Друзья мои, мне хочется, чтобы вы вникли в отношения между искусством и коммерцией, если подразумевать под последней то, что она обычно означает, а именно систему рыночной конкуренции, являющейся в настоящее время, по мнению большинства, единственной формой, которую может принять коммерция. Если были периоды в мировой истории, когда искусство преобладало над коммерцией, когда искусство было благородным делом, а коммерция, как мы понимаем это слово, менее благородным, то теперь, по-моему, общепризнано, что коммерции, наоборот, придают очень большое значение, а искусству — гораздо меньшее. Я сказал, что такова теперь общепринятая точка зрения, но разные люди придерживаются разных взглядов не только на то, хорошо это или плохо, но даже на действительный смысл наших слов о том, что коммерции придают огромное значение, а искусство признается делом незначительным.
Позвольте мне высказать свое мнение о значении этого факта и просить вас подумать о средствах, какие следовало бы применить для исцеления нездоровых отношений между искусством и коммерцией. Говоря откровенно, мне кажется, что коммерция (как мы понимаем это слово) есть зло, и весьма серьезное, и я назвал бы его безусловным злом, если бы не удивительная, проявляющаяся во всех исторических явлениях преемственность, в силу которой пороки того или иного периода сами себя уничтожают. По-моему, это означает следующее: мир современной цивилизации в погоне за весьма неравномерно распределяемыми материальными благами совершенно подавил народное искусство: иначе говоря, большинство народа непричастно теперь к искусству, которое при данном положении дел должно было сосредоточиться в руках немногих богатых или обеспеченных людей, нуждающихся в нем, говоря откровенно, меньше, а никак не больше, чем трудолюбивые рабочие. Однако это не все и не самое худшее зло, ибо причина этой неутоленности искусством — в том, что люди, и ныне работающие во всем цивилизованном мире так же усердно, как и раньше, лишившись искусства, создаваемого народом и для народа, утратили естественное утешение, доставляемое трудом, — утешение, которое у них некогда было и которому надлежит быть всегда. Они утратили возможность передавать событиям свои мысли через труд, через ту самую повседневную работу, которой действительно требует от них природа или долгая привычка, то есть вторая природа. И эта повседневная работа, став бессмысленной, превратилась в тягостное и неблагодарное бремя. Из-за странной слепоты и заблуждений нынешней цивилизации почти вся работа в нашем мире, работа, какая-то часть которой должна быть верным другом каждого человека, превратилась в такое непосильное бремя, что его каждый сбросил бы, если б только смог. Я сказал, что люди работают не менее усердно, чем прежде, но мне следовало бы сказать, что они работают теперь еще усердней. Замечательные машины, которые в руках справедливых и проницательных людей свели бы к минимуму неприятный труд и обеспечили нам радость, или, иными словами, продлили жизнь человеческого рода, используются прямо противоположным образом, ввергая человечество в состояние безумной сумятицы и торопливости и лишая его тем самым радости, то есть жизни. Вместо того чтобы облегчить труд рабочих, машины интенсифицируют его и тем самым усугубляют бремя, которое должен нести бедный люд.
В оправдание системы современной цивилизации нельзя ссылаться на то, что приносимые ею материальные или физические выгоды возмещают утрату радости, вызываемую в мире этой системой. Ибо, как я уже говорил, эти выгоды распространяются так несправедливо, что пропасть между богатыми и бедными чудовищно возрастает и во всех цивилизованных странах, и более всего в Англии, перед нами предстает ужасное зрелище двух живущих бок о бок разных народов, людей одной крови, одного языка, живущих, по крайней мере номинально, по одним и тем же законам, но одни при этом образованны, а другие — нет. Все это, — говорю я, — есть результат системы, которая растоптала искусство и вознесла коммерцию на уровень священнодействия. И, кажется, эта система с характерной для нее ужасающей глупостью готова потешаться над римским сатириком{1}за его благородное предостережение, значение которого она извратила, и теперь призывает нас уничтожить якобы во имя жизни разумные основания жизни.
И вот, наперекор ее идиотской власти, от имени порабощенного коммерцией труда, я провозглашаю требование, разумность которого, я уверен, не оспорит ни один мыслящий человек. И если оно будет принято, то повлечет за собою такую перемену, которая нанесет поражение коммерческой системе, и это означало бы, что конкуренция сменится сотрудничеством, а индивидуализм и анархия — социальной гармонией. Взглянув на это требование при свете истории и собственной совести{2}, я вижу, что оно безусловно справедливо и возражать против него означало бы не что иное, как отречение от надежды нашей цивилизации. Это требование заключается в следующем: справедливо и необходимо, чтобы все люди делали работу, которую стоит делать и которая сама по себе была бы приятна; она должна протекать в условиях, не вызывающих ни слишком большой усталости, ни непосильного напряжения. Присмотритесь к этому требованию с разных сторон, как это делаю я, обдумайте его вместе со мной — клянусь, я не вижу в нем ничего чрезмерного, и тем не менее, повторяю, — если общество пожелает или сможет его принять, облик мира изменится, а с недовольством, распрями и бессовестностью будет покончено. Чувствовать, что мы делаем полезную для других и приятную для нас самих работу, что ни эта работа, ни заслуженное ею вознаграждение не смогут обмануть наши надежды! Разве это грозит нам каким-то ущербом? А ценой, которую миру придется заплатить за свое счастье, будет революция: социализм сменит laissez faire!{3} Как же мы, средний класс, можем способствовать такому положению дел, которое, насколько возможно, было бы противоположностью нынешнему? Противоположностью, — не менее. Ибо прежде всего работа должна заслуживать того, чтобы ее совершали. Подумайте, какой переворот это вызовет в мире! Признаюсь, одна мысль о колоссальной работе, проделываемой ради создания бесполезных вещей, вызывает содрогание. Было бы поучительно для любого из нас пройтись в будний день по двум или трем главным улицам Лондона, чтобы точно представить себе, сколько безделушек, которые могут стать лишь помехой в повседневной жизни серьезного человека, выставлено в витринах лавок. Нет, в большинстве этих безделушек вообще не нуждается никто — ни серьезный, ни несерьезный человек. Только по глупой привычке самые легкомысленные из нас полагают, будто они нужны им, и даже многим из тех, кто покупает их, они явно мешают работать, думать, радоваться. Но подумайте, прошу вас, о громадной массе людей, занятых производством этой убогой мишуры, начиная с инженеров, которые должны делать машины для ее производства, до несчастных клерков, сидящих годы напролет целыми днями в ужасных клетках, где оформляются оптовые сделки, до лавочников, которые, полностью подчиняясь коммерческому интересу, продают эти товары в розницу и выслушивают при этом бесчисленные оскорбления, не будучи вправе обижаться; до праздной публики, которой эти товары не нужны, но которая покупает их, чтобы они надоедали ей и вызывали ужасное отвращение. Я говорю просто о бесполезных вещах, но есть и другие, не просто бесполезные, но активно разрушительные и ядовитые, продающиеся на рынке по дорогой цене, — например, недоброкачественная пища и напитки. Велико число рабов, которых конкурентная коммерция использует, чтобы приукрашивать это постыдство. Прибавьте к этому громадную массу труда, попросту растрачиваемого зря, ибо многие тысячи мужчин и женщин буквально не производят ничего при страшном, нечеловеческом напряжении, умертвляющем душу и укорачивающем саму жизнь.
Все они — рабы так называемой «роскоши», которая, согласно современному смыслу этого слова, подразумевает поддельное благосостояние — это изобретение конкурентной коммерции — и порабощает не только бедняков, обреченных трудиться над ее производством, но также и тех глупых и не слишком счастливых людей, которые покупают мишуру, чтобы изнывать потом от этой обузы. И если нам суждено иметь народное искусство или хоть какое-то искусство, то мы должны раз и навсегда покончить с роскошью. Она заменитель искусства, его уродливый подкидыш. И многие, кто не знал ничего лучшего, даже принимают ее за искусство — за это божественное утешение человеческого труда, за эту романтику упорных каждодневных упражнений в трудном мастерстве жизни. Но я утверждаю, что ни искусство не может существовать рядом с роскошью, ни чувство собственного достоинства. В любом классе общества по левую и по правую ее руку с ней соседствуют изнеженность и грубость. Именно от них прежде всего должны освободиться мы, представители обеспеченных классов, если серьезно хотим возрождения искусства. Если же этого не сделать, то общество низвергнется в чудовищную пропасть нравственного разложения, из глубины которой искусство, наверно, когда-нибудь и сможет возродиться, но, несомненно, среди ужаса, насилия и нищеты. Если бы надо было лишь нам самим, обеспеченной части общества, освободиться от этого нагромождения рухляди, то это стоило бы сделать. Каждый знает, сколь бесполезны эти вещи; самим капиталистам прекрасно известно, что нет на них подлинного и постоянного спроса, а потому они вынуждены всучивать их покупателям, возбуждая странное беспокойное стремление к жалкой шумихе, внешнее проявление которой известно под условным названием моды. Это удивительное чудовище рождено пустотой жизни богачей и нетерпеливым желанием конкурентной коммерции с наибольшей выгодой использовать громадную массу трудящихся, которых она превращает в презренное орудие так называемого «делания денег».
Не считайте, что так уж легко противиться этой чудовищной глупости. Решить самим, чего вы для себя действительно желаете, — это значит не только стать думающими мужчинами и женщинами, но и научиться понимать желания других людей. А вскоре, когда вы научитесь распознавать подлинные художественные произведения, вы поймете, что никому не нужны никчемные поделки. Кстати, есть легкий способ отличать модную ветошь от художественных произведений: в то время как игрушки моды, едва с них сойдет первый лоск, явно перестают цениться даже легкомысленной публикой, художественное произведение, каким бы скромным оно ни было, живет века, и оно никогда не приедается. Пока произведение искусства не уничтожено физически, оно остается ценным и поучительным для каждого нового поколения. Короче говоря, все произведения искусства, даже если они пришли в ветхость, способны вызывать в нас уважение — ведь с самого начала в них была заключена душа и мысль человека, которые будут волновать нас до тех пор, пока сохраняется воплотившая их форма.
Это последнее утверждение побуждает меня проанализировать вопрос о необходимости труда, занятого производством товаров стоящих. До сих пор мы размышляли об этом вопросе только с точки зрения потребителя, но даже и в этом случае он несомненно достаточно важен. Однако с точки зрения производителя он гораздо важнее. Ибо я снова скажу, что, покупая товары, «ты жизнь людскую покупаешь!»
Готовы ли вы по недомыслию и беспечности разделить вину тех, кто принуждает своих собратьев трудиться без всякой пользы? Ведь когда я утверждал, что производить необходимо только действительно стоящие вещи, я выдвигал это требование главным образом от имени самого труда, ибо напрасный труд, производящий вещи бесполезные, наносит рабочему двойной урон. Рабочий, будучи частью всего населения, вынужден тоже покупать эти самые товары, и таким образом всеобъемлющая система товарообмена выжимает из его ничтожной заработной платы еще одну и весьма значительную долю. Как один из производителей, рабочий вынужден изготовлять бесполезные товары, и этим он лишается самой сущности того наслаждения своей каждодневной работой, которое я считаю его прирожденным правом. Его принуждают заниматься безрадостным трудом и производить отраву, которую система товарообмена его же заставляет покупать. Таким образом, в жертву обществу приносится громадное множество людей, которых глупость и жадность заставляют делать бесполезные или вредные товары. На мой взгляд, было бы ужасно и невыносимо, даже если бы эти жертвы содействовали общественному благу; но если они приносятся не ради процветания общества, а ради его капризов, усугубляя его деградацию, то как же выглядят тогда роскошь и мода? С одной стороны, разорительная и утомительная расточительность, ведущая к нравственному разложению, к беспардонному цинизму и социальному распаду, а с другой — неумолимый гнет, подавляющий всякую радость, всякую надежду и ведущий — куда же?
Именно нам, среднему классу, надлежит совершить лишь одно — чтобы расчистить почву для возрождения искусства. Но прежде всего мы должны очистить нашу совесть от вины, перестав порабощать людей посредством их труда. Я сказал: совершить «лишь одно», но этого «одного», возможно, оказалось бы достаточно, ибо за ним последовали бы другие благодетельные перемены. Но сможем ли мы сделать это? Сможем ли уберечься от грозящего нам социального распада? Могут ли духовно возродиться средние классы? На первый взгляд может показаться, что группа таких могущественных людей, которые возвели гигантское сооружение современной коммерции, наука, изобретательность и энергия которых подчинили силы природы повседневным нуждам, которые управляют системой, держащей эти природные силы почти в сказочном повиновении, — да, на первый взгляд может показаться: несомненно, такое множество могущественных и состоятельных людей способно сделать все, что угодно. И все же я в этом сомневаюсь, ибо их собственное творение, та самая коммерция, которой они так горды, их поработила. И все мы, люди состоятельных классов, одни с торжеством и ликованием, другие — с тупой удовлетворенностью, третьи — с болью в сердце, — все мы вынуждены признать, что не коммерция была создана для человека, а человек — для коммерции.
Мы вынуждены с этим примириться. В английском среднем классе теперь, например, есть люди с самым высоким стремлением к искусству и могучей волей. Эти люди глубочайшим образом убеждены, что цивилизация обязана окружать человеческую жизнь красотой, а множество менее крупных, изысканных и образованных людей — мне известны тысячи таких — разделяют эти взгляды и превозносят их. Но и вожди и их последователи не в состоянии вырвать из неумолимых тисков коммерции хотя бы с полдюжины людей: несмотря на свою культуру и одухотворенность, они беспомощны, как какие-нибудь изможденные трудом сапожники. Мы не так счастливы, как царь Мидас{4}: наши зеленые поля и прозрачные воды, да и самый воздух, которыми мы дышим, превращаются не в золото (это могло бы хотя бы на час кое-кому из нас понравиться). Нет, они превращаются в нечистоты, и, говоря откровенно, мы вполне сознаем, что при современном господстве евангелия капитала не только нет надежды на улучшение, но год от году и день от дня дело становится все хуже и хуже. Будем же есть и пить, ибо завтра мы умрем, задохнувшись от грязи.
Позвольте привести один пример того рабского подчинения конкурентной коммерции, в условиях которого живем мы, незадачливые представители средних классов. Я призываю вас покончить с роскошью, сбросить с себя бесполезную обузу, упростить жизнь, и я верю, что многие из вас всем сердцем откликнутся на мой призыв. Я уже давно думаю, что одна из самых отвратительных черт, неотъемлемо присущих нашей теперешней классовой системе, — это отношения между нами, состоятельными людьми, и нашими домашними слугами. Мы живем вместе с нашими слугами под одной крышей, а относимся друг к другу почти как чужие, несмотря на взаимные добрые чувства. Нет, чужие — это мягко сказано. Хотя у нас одни и те же предки и мы подчиняемся одним и тем же законам, но мы живем словно люди разных племен. Подумайте, как это отражается на работе, на наших домашних будничных обязанностях. Можем ли мы упростить нашу жизнь, пока существует такая система? Не надо ходить слишком далеко, — кто сам хозяйничает, тот достаточно хорошо представляет (как и я, ибо я выучился полезному искусству готовить обед), насколько упростится дневной труд, если мы станем садиться за стол вместе, если не будет два набора блюд — один для верхних этажей, другой — для нижних. И опять-таки мы, живущие в этом просвещенном веке, конечно, не можем не понимать, насколько продвинулось бы образование наших менее утонченных домочадцев, если бы они хотя бы раз в день запросто общались с более утонченными членами семьи. Наблюдать изящные манеры воспитанных дам, участвовать в разговоре с людьми образованными и повидавшими разные страны, с людьми действия и воображения — поверьте, это дало бы гораздо больше, чем начальное образование.
Этот вопрос непосредственно касается нашего разговора об искусстве. Ибо, обратите внимание, ведь наши богатые дома подобны дурацким крольчатникам, свидетельствующим о глупости нашей поддельной цивилизации. И это вместо того, чтобы проектировать дома тем здравым способом, который применялся со времен Гомера и вплоть до времен Чосера{5} и согласно которому, в частности, к большому залу примыкало несколько комнат, где каждый мог делать все, что ему заблагорассудится, — кто спать, а кто хандрить. Не удивительно, что наши дома так тесны и низки, если сама жизнь, которой живут в них, тесна и подла. Почему бы нам, кто размышляет об этом, — а я уверен, что об этом размышляют многие, — не изменить это низменное и жалкое обыкновение, не упростить нашу жизнь и не заняться образованием наших друзей, чей труд доставляет нам столько удобств? Почему бы и вам и мне не приняться за это завтра же? Потому, что мы не в силах, потому, что наши слуги не захотят этого, зная, подобно нам, что обе стороны будут чувствовать себя не в своей тарелке. Цивилизация XIX века воспрещает нам распределять нашу утонченную культуру между всеми домочадцами поровну! Да, вы видите, что мы, представители среднего класса, если и являемся власть имущими, — а мы и в самом деле таковыми являемся, — то лишь играем роль, уже не раз сыгранную в драмах мировой истории: мы сильны, но несчастны, мы — важные, уважаемые люди, но нам до смерти скучно, мы купили наше могущество ценой собственной свободы и радости. Так что на вопрос: «можем ли мы избавиться от роскоши и жить простой, благопристойной жизнью» — я могу ответить: — «Да, но лишь когда освободимся от рабства капиталистической коммерции, и не раньше».
Среди вас, несомненно, есть такие, кто жаждет свободы, кто образован и изыскан и чье восприятие красоты и гармонии только обостряется при мысля, что и красота и гармония могут пострадать от грубости конкурентной коммерции. Есть среди вас и до того заправленные и загнанные, хотя и состоятельные и даже, быть может, богатые люди, что ничуть не пострадают от социальной революции: любовь к искусству, то есть к подлинному наслаждению жизнью, уже подготовила их к тому, чтобы они соединили свою судьбу с судьбой наемных рабов конкурентной коммерции. Эти люди и рабочие должны помочь друг другу, воодушевиться общей надеждой, — иначе так и будет тянуться жизнь, так и придется умереть — без помощи, без надежды. Пусть же жаждущие освободиться от гнета толстосумов уповают на тот день, когда они станут свободными!
Тем временем, если при нынешнем гнете для нас почти не осталось никакой работы, которую стоило бы делать, то давайте no крайней мере стремиться к одной цели — поднять низкий — самый низкий — уровень жизни. Это вложило бы палку в колеса триумфальной колесницы конкурентной коммерции. А я не могу представить себе ничего более важного для подъема уровня жизни, чем убедить тысячи тех, кто живет своим трудом, в необходимости поддержать вторую часть требования, которое я провозглашаю от имени труда: работа должна быть такой, чтобы делать ее было радостно. Если бы только мы смогли убедить их, что подобный удивительный переворот в труде принесет бесконечную выгоду не только им, но и вообще всем людям; и что это так правильно и естественно, что случай противоположный, когда труд большинства людей должен быть мучительным, — просто чудовищное порождение недавних лет, и оно в конце концов принесет обществу, которое мирится с ним, разложение и гибель. Если бы мы могли убедить их в этом, тогда действительно сочетание слов «искусство народа» оказалось бы чем-то большим, нежели просто фразой. На первый взгляд, правда, покажется невозможным объяснить людям, родившимся при нынешней системе, что труд способен стать для них благом, но, разумеется, не в том смысле, в каком это иногда проповедуется теми, чей труд отнюдь не тяжел и кто может легко от него увильнуть. Труд — это не обязательный долг, возложенный природой на бедных на благо богатым, не наркотик, притупляющий чувство добра и зла для того, чтобы бедняки до конца света безропотно несли свое бремя, благословляя хозяина и его близких. Если бы мы говорили им об этом, рабочие могли бы довольно легко все понять, но, боюсь, слушали бы нас с показным благодушием, особенно если бы подумали, что могут чем-нибудь от нас поживиться. Но справедливое учение, что труд должен быть реальным и ощутимым благом для работающего, и даже наслаждением, каковы теперь для него сон и крепкие напитки, — это учение человеку будет нелегко усвоить, настолько оно отличается от всего, чем оказывается для него теперь труд.
Тем не менее, хотя большую часть работы люди переносят как неизбежное зло, как болезнь, — например, я по своему опыту знаю, что то ли из известного благоговения, испытываемого бедняком перед ремесленной работой даже при самых худших обстоятельствах, то ли потому, что этому бедняку приходится ежедневно сталкиваться со страшно реальными вещами и он думает о них, если вообще когда-нибудь думает, менее предвзято, чем богач, — как бы то ни было, но по своему опыту я знаю, что рабочему человеку легче, чем богатым или состоятельным людям, понять учение, согласно которому всякий труд должен доставлять наслаждение.
Кроме любых моих довольно шаблонных слов я, например, скажу еще, что был изумлен, обнаружив в рабочей аудитории сердечное отношение к Джону Рёскину{6}. В отличие от чрезвычайно изысканной публики, они видят в нем скорее пророка, чем красноречивого фантазера.
Это, думается мне, доброе предзнаменование просвещения грядущих времен. Но неужели мы, — зараженные в какой-то степени цинизмом, ибо мы беспомощны в гнетущем нас уродливом окружении, — неужели мы неспособны воодушевиться при мысли, что надежда, даже робко мерцающая миллионам рабов коммерции, означает больше, чем только мираж или мнимый рассвет в глухую полночь, когда тучи заволокли небо и одинокая луна борется с тьмою? Вспомним же, что в мире все еще существуют памятники, которые доказывают, что человеческий труд не всегда был горем и бременем. Вспомним прекрасную и величественную архитектуру хотя бы средневековой Европы, здания, воздвигнутые до того, как коммерция завершила сооружение своей тирании и открыла, что фантазия, воображение, чувство, радость творчества и надежда на заслуженную славу — это ходкие рыночные товары, слишком дорогие, чтобы неимущие люди — простые ремесленники и поденщики — могли позволить себе покупать их. Вспомним, ведь было время, когда люди наслаждались своей повседневной работой. Они тогда, как и теперь, надеялись на свет и на свободу, их смутная надежда становилась ярче, ее осуществление казалось все более близким, и они так пристально наблюдали за этим, что не заметили, как их никогда не дремлющий враг — угнетение — изменил свой облик и стал красть у них то, чего они уже добились в те дни, когда свет их новой надежды едва брезжил. Так они утратили ранее обретенные преимущества, а вновь приобретенные, измененные и испорченные, отнюдь не возместили потерю.
В период между нашим временем и концом средних веков Европа обрела свободу мысли, глубокие знания и могучий дар управления материальными силами природы. В то же время она завоевала относительную политическую свободу, уважение к жизни цивилизованных людей и другие, сопутствующие этому преимущества. Тем не менее я намеренно подчеркнул, что если современная цивилизация должна продолжить свое существование, то потому только, что эти достижения достались ей слишком дорого за счет утраты того наслаждения повседневной работой, которое некогда несомненно было утешением в страхе и страданиях, причиняемых гнетом: гибель искусства была слишком высокой платой за материальное процветание средних классов. Прискорбна наша неспособность держать полными обе наши пригоршни, прискорбно, что мы были вынуждены проливать из одной руки, когда черпали другой, и все же, на мой взгляд, еще более прискорбно, что мы не осознаем эту потерю, либо же, смутно сознавая ее, вынуждаем себя забывать о ней и оглушительно кричим, что все прекрасно. Но коль скоро вовсе не все прекрасно, то я знаю, что человеческая природа не настолько переменилась за три столетия, чтобы мы осмелились сказать всем протекшим до того тысячелетиям: «Вы ошибались, пестуя искусство, и ныне мы убедились, что человеку нужны лишь хлеб, одежда и кров да крохи знаний об устройстве вселенной. Творчество не является более потребностью души человека, его правая рука может забыть свое былое проворство, и он от этого вовсе не станет хуже».
Нет, триста лет — один день в потоке веков — не изменили полностью человеческой природы, не сомневайтесь а этом. Придет день, и мы отвоюем искусство, то есть радость жизни, — отвоюем для нашего повседневного труда. «Где же надежда? — скажете вы. — Укажите!» Наша надежда покоится там, где обманула нас надежда прежних времен. Мы пожертвовали искусством ради того, что сочли светом и свободой, но мы купили обманчивый свет и ненастоящую свободу. Состоятельным людям этот свет открыл то, чего многие из них искали; свобода же сделала их достаточно независимыми, если они желали пользоваться своей свободой. Но таких людей было, во всяком случае, немного. Большинству же свет показал, что для них больше нет надежды, свобода же обеспечила им лишь добровольный выбор — получать на свой ничтожный заработок жалкие плоды рабского труда или же умирать голодной смертью.
Такова, говорю я, наша надежда. Если бы сделка была действительно справедлива, оставалось бы искусство только похоронить, а красоту жизни предать забвению. Но теперь дело искусства обладает кое-чем иным, к чему можно взывать, — обладает надеждой народа на счастливую жизнь, которая еще не дарована ему. Вот наша надежда: дело искусства — это дело народа. Подумайте над уроками истории и воспряньте духом! Было время, когда всемогущий Рим держал в своих развратных объятиях весь цивилизованный мир. Всем, даже мудрейшим, казалось, как мы можем это видеть даже по Евангелиям, что власть его вечна, и для живших под его игом не было иного мира, о котором стоило хотя бы помыслить. Но проходили дни, и хотя никто не замечал тени грядущих перемен, они все-таки пришли как тать в ночи, и варвары, мир которых лежал за пределами владычества Рима, его покорили. Люди, ослепленные террором, горестно стонали от этих перемен и считали, что мир погублен Фурией Севера. Но даже эта Фурия принесла с собою дары, давно уже забытые Римом, но некогда вскормившие его славу, — ненависть ко лжи, презрение к богатствам, пренебрежение смертью, веру в немеркнущую, завоеванную упорством славу, благородную любовь к женщинам, — все это принесла с собой Фурия Севера так, как горный поток приносит золото. И пал Рим, и поднялась Европа, и снова возродилась надежда мира. И для тех, кто имеет уши, чтобы слышать, эта повесть о прошлом послужит притчей о грядущих днях, о тех переменах, что зреют в варварской душе цивилизации — в пролетариате. Нас же, принадлежащих к среднему классу, к самому ядру могущественной, но чудовищной системы конкурентной коммерции, эта повесть поучает очистить души от алчности и малодушия, лицом к лицу встретить перемену, которая снова уже на пути к нам, и разглядеть добро и надежду, которые несет с собой эта перемена вместе с угрозой насилия и всеми уродствами, явившимися на свет не сами по себе, а рожденными тем, что обречено на разрушение.
И я скажу еще раз, что мы, состоятельные люди, те из нас, кто любит искусство не как погремушку, но как нечто необходимое в жизни человека, как символ его свободы и счастья, должны прежде всего поднять уровень жизни народа или, другими словами, осуществить то требование, которое я выдвинул от имени труда и которое теперь сформулирую по-иному, чтобы помочь увидеть, что же препятствует осуществить его и каковы те враги, с которыми нам предстоит сражаться. Я выдвигаю это требование в такой форме: трудам человека должно создаваться только то, что стоит этого труда и что не ведет к вырождению самого труженика.
Хотя это предложение очень просто и несомненно правильно — в чем, я уверен, вы убедитесь, когда начнете исследовать этот вопрос, — оно вызывает на смертный поединок всю современную систему труда в цивилизованных странах. Эта система, называемая конкурентной коммерцией, есть, очевидно, система войны, то есть опустошение и разрушение, или же, если угодно, ее можно назвать азартной игрой. По условиям этой игры все, что человек приобретает, он приобретает за счет другого. Такая система не интересуется и не желает интересоваться, стоит ли производить то, что она производит. Ей нет и не может быть никакого дела до того, не обрекает ли тружеников на вырождение выполняемая ими работа; ее интересует лишь одно-единственное, а именно так называемое «производство прибыли». Это выражение стало употребляться так произвольно, что я должен раскрыть его действительный смысл: оно означает ограбление слабого сильным, и я утверждаю, что эта система по самой своей природе разрушительна для искусства — иными словами, для счастья жизни. Какие бы заботы о жизни народа ни проявлялись в наши дни, какие бы достойные дела ни совершались — все это происходит вопреки самой системе и ее принципам. И в высшей степени верно то, что мы хотя бы молчаливо признаем: она враждебна всем самым высоким устремлениям человечества.
Разве мы не знаем, например, каково приходилось творцам гениальных произведений, людям, которые являются солью земли, без которых общественное разложение уже давно стало бы нетерпимым. Поэт, художник, ученый — разве не правда, что, достигнув расцвета славы, зенита своей веры и энтузиазма, они на каждом шагу наталкиваются на коммерческую войну с ее зловещим вопросом: «Выгодно ли это?» Разве это не правда, что когда они завоевывают мировой успех и становятся сравнительно богаты, то невольно кажутся нам славно бы запятнанными соприкосновением с коммерческим миром? Надо ли говорить о великих замыслах, которыми пренебрегли, о делах, которые, по всеобщему признанию, настоятельно необходимо совершить, но за которые ни одна рука не может взяться из-за отсутствия денег? В то же время, если бы речь шла о возбуждении в умах людей какой-либо глупой прихоти и удовлетворение ее сулило бы прибыль, то деньги полились бы рекой. Мало того, вам должно быть известно, как стара история войн, затеваемых коммерцией в поисках новых рынков, — войн, перед соблазном которых не могут устоять даже самые миролюбивые из государственных деятелей. Старая история, но все же она всегда кажется новой. Теперь она стала чем-то вроде злой пародии, над которой я, если б мог, не стал бы смеяться, но она просто вызывает у меня смех сквозь слезы гнева.
А вся эта власть над силами природы, которой мы достигли за какие-нибудь сто лет, что дала она нам при этой системе? По мнению Джона Стюарта Милля{7}, сомнительно, чтобы все современные изобретения в области механики хоть сколько-нибудь облегчили тяжесть труда: будьте уверены, они совершались не для этой цели, а для того, чтобы добывать прибыль. Эти почти сказочные машины, которые при спокойном и предусмотрительном использовании могли бы даже теперь быстро уничтожить весь неприятный и неодухотворенный труд, предоставив нам свободу развивать в наших рабочих мастерство рук и живость ума и снова творить ту красоту и гармонию, которые может создавать лишь рука человека, направляемая его душой; а что теперь сделали для нас эти машины? Цивилизованный мир гордится этими машинами, однако имеет ли он право гордиться, применяя их для коммерческой войны и опустошения?
Не думаю, что тут может быть уместно ликование; коммерческая война нажила прибыль на этих чудесах; это значит, что с их помощью она создала для себя миллионы несчастных рабочих, превращенных — если говорить об их повседневном труде — в бездумные машины для того, чтобы сделать труд дешевым и чтобы неустанно поддерживать волнующую, но смертоносную игру. Действительно, этот труд оказался бы довольно-таки дешев, дешев для генералов коммерческих сражений, но убийственно дорог для остальных из нас, — если бы не семена свободы, посеянные для нас доблестными мужами прошлого, чтобы в наше время из них выросли чартизм{8}, тред-юнионизм{9} и социализм, поднявшиеся на защиту упорядоченной и благопристойной жизни. Ужасно было бы наше рабство — и не только для рабочего класса, — если бы не эти ростки предстоящего переворота. Но и теперь из-за невообразимого скопления в больших городах и промышленных районах рабочих-машин и их семей это рабство низводит нашу жизнь до позорно низкого уровня, настолько низкого, что трудно даже подумать о каком-нибудь средстве поднять общественное благосостояние. С помощью средств быстрой связи, которая должна была бы поднять уровень жизни благодаря распространению образования из города в деревню и благодаря повсеместному созданию скромных центров свободной мысли и очагов культуры, с помощью железных дорог и тому подобного коммерческая система собрала для себя соперничающих между собой обездоленных новобранцев резервной армии, от которых столь сильно зависит судьба ее ставок в азартной игре, и лишила в то же время сельскую местность ее населения, уничтожив малейшую надежду на разумную жизнь в небольших городах.
Как художник я не могу не думать, насколько существенны внешние перемены, которые сопровождают господство жалкой анархии тортовой войны. Подумайте о распространяющейся язве Лондона, которая вбирает в себя поля, леса и степи, не щадя ничего и оставляя одну безнадежность, издеваясь над нашими слабыми попытками справиться даже с наименьшими из ее зол, с закопченным небом и отравленными нечистотами реками. Черный ужас, безответственность и запущенность наших фабричных районов, столь оскорбительные для непривычных к ним чувств, являются для человечества зловещими предзнаменованиями будущего, если хоть кто-нибудь сможет жить среди них, сохраняя известную бодрость духа. Но мало того, эта язва вторгается в лоно природы, наступая на прочные серые домики кирпича, крытые шифером, которые все еще разбросаны кругом, — на эти подлинные символы бодрой и красивой простоты тех иоменов, чья гибель еще в самом начале торговой войны столь трогательно была оплакана возвышенным Мором и доблестным Латимером{10}. Короче говоря, повсюду переход от старого к новому несомненно влечет за собой ухудшение внешнего облика нашей страны.
Такова Англия, — Англия, край порядка, покоя и надежности, земля здравого смысла и практичности, страна, к которой обращены взоры тех людей, которые надеются на совершенные и постоянные блага современного прогресса. В Европе имеются страны, внешний облик которых не являет собой такого разрушения, хотя, возможно, материальное процветание там меньше и меньше распространено богатство средних классов, являющееся оборотной стороной убожества и позора, о которых я уже говорил. Однако если они являются частью одного большого коммерческого целого, то они должны пройти сквозь ту же суровую школу, если только что-нибудь неожиданное не вынудит триумфальное шествие коммерческой войны свернуть с дороги, прежде чем оно достигнет цели. Три столетия коммерции были движимы надеждой на это, надеждой, которая возникла, когда феодализм начал рассыпаться на части. Что же может принести нам заря новой надежды? Что, кроме общего восстания против тирании коммерческой войны? Временные средства, над которыми ломают себе голову многие достойные люди, бесполезны, ибо они представляют собой лишь разрозненные вспышки протеста против громадной, всеобъемлющей и цепкой системы, которая с неосознанным инстинктом живого организма встречает всякую попытку улучшить жизнь народа нападением на один из ее слабых флангов; новые машины, новые рынки сбыта, массовая эмиграция; возрождение низменных предрассудков, проповедь бережливости перед обездоленными, умеренности перед несчастными — подобные средства каждый раз подавляют разрозненные бунты против чудовища, которое мы, средние классы, создали на собственную погибель.
Я буду говорить обо всем этом вполне откровенно, хотя в заключение должен буду выразиться весьма резко, ибо хочу сказать то, что думаю. Единственное, что нужно делать, — это повсюду внушать людям мысль о возможности поднять уровень жизни. Если вы подумаете об этом, то вам станет ясно, что это означает возбуждение всеобщего недовольства. И чтобы это проиллюстрировать, я должен возвратиться к моему требованию относительно искусства и труда и привести вам его третью часть. Вот это требование. Справедливо и необходимо, чтобы у всех людей была работа, которую, во-первых, стоило бы делать, во-вторых, приятно было бы делать, и, в-третьих, чтобы выполняли ее в таких условиях, в которых она не была бы ни чрезмерно утомительной, ни чрезмерно беспокойной.
Первую и вторую части этого требования, весьма близкие между собой, я уже пытался разобрать. Они как бы составляют душу требования, касающегося собственно труда, третья же часть — это тело моего требования, без которого душа существовать не может. Я расширю содержание этой третьей части таким образом, что это как бы перенесет нас через пройденную уже нами землю: никто из желающих работать никогда не должен опасаться недостатка в таких занятиях, которые могли бы удовлетворить все потребности его ума и тела. Все потребности, — что это значит для достойного гражданина? — Прежде всего почетный и подходящий труд, который включает также и возможность развивать посредством обучения способности, необходимые для его выполнения. Равным образом, поскольку работа должна быть достойна того, чтобы ее выполнять и ее было бы приятно делать, то в конечном счете для этой цели окажется необходимым гарантировать труженику, что его не заставляют делать бесполезную работу или же работу, которая не доставляет ему наслаждения.
Второе необходимое условие — это благопристойное окружение: 1) хорошее жилище; 2) достаточный простор; 3) гармония и красота. Иными словами, 1) наши дома должны быть добротно построенными, чистыми и здоровыми; 2) в наших городах должно быть обширное пространство для садов, и города не должны поглощать поля и уничтожать особенности нашей страны. Мало того, я даже требую, чтобы в самих городах оставались пустыри и невозделанные места, иначе исчезнет романтика и поэзия, то есть искусство; 3) требование гармонии и красоты подразумевает, что наши дома нужно строить не только красиво и добротно, но и соответственно украшать, что поля должны не только обрабатываться, но после обработки не уступать в красоте садам. Никому, например, не следует разрешать просто из корыстных соображений срубать деревья, исчезновение которых испортило бы пейзаж, и, наконец, ни под каким предлогом не следует разрешать людям наполнять воздух копотью, загрязнять нечистотами реки или приводить в негодность землю разорительной бесхозяйственностью или же нагромождением вонючих отбросов.
Третье необходимое условие — это досуг. Однако, употребляя это слово, я имею в виду, во-первых, что все люди должны работать определенную часть дня, а во-вторых, что они имеют безусловное право, работая, требовать отдыха. Досуг, который они имеют право требовать, должен быть достаточно длительным и давать полный отдых уму и телу. У человека должно быть время, чтобы серьезно поразмыслить, пофантазировать или даже просто помечтать, — в противном случае человеческий род обречен на вырождение. Даже при почетной и соответствующей способностям работе, о которой я говорил и которая, словно небо от земли, отличается от насильственного труда капиталистической системы, от человека нельзя требовать больше его справедливой доли, — в противном случае люди будут развиваться неравномерно и в обществе по-прежнему не переведется гниль.
Итак, я назвал вам условия, при которых может совершаться работа достойная и не обрекающая труженика на деградацию. Ни при каких других условиях такая работа не может выполняться. Если общая работа всего мира не стоит того, чтобы ее выполняли, если она приводит людей к деградации, то разговоры о цивилизации — сущее издевательство. И разве могут быть достигнуты эти условия при господстве нынешнего евангелия капитала, девиз которого «Горе отстающим!» Давайте еще раз вернемся к нашим требованиям, но выраженным иначе: «В правильно организованном обществе каждому человеку, желающему трудиться, должны быть гарантированы: во-первых, почетная и соответствующая его способностям работа; во-вторых, добротный и красивый дом; в-третьих, полноценный отдых для ума и тела.»
Я полагаю, никто из присутствующих не будет отрицать желательности осуществления этого требования. Но мне бы хотелось, чтобы все вы решили, что оно должно быть воплощено в жизнь непременно и что если мы не приложим для этого всех наших усилий, то останемся всего лишь составной частью того общества, которое основано на грабеже и несправедливости и обречено законами вселенной на гибель из-за своего стремления сохраниться навеки. Однако я хочу, чтобы вы поняли, что если, с одной стороны, осуществить это требование вообще возможно, то, с другой стороны, при нынешней системе плутократии, которая воспрепятствует любой нашей попытке воплотить его в жизнь, осуществить его невозможно. Первые шаги социальной революции должны положить начало перестройке искусства народа, то есть радости жизни. Говоря снова со всей резкостью, опрошу — разве вы не знаете, что большинство людей в цивилизованных странах живет в грязи, невежестве, жестокости или же в лучшем случае — в тревоге о том, на что они будут существовать в следующую неделю? И разве мы не знаем, что они бедны? Подумав, мы приходим к выводу, что это несправедливо. Вспомним старую историю о людях, которые разбогатели бесчестным путем, используя свою власть, и в страхе перед будущим стали щедро тратить свое неправедно нажитое богатство на благотворительность. Не эти люди достойны похвал, а мораль этих старых басен, что дьявол в конце концов овладевает их душами. Да, это — старая басня, но я говорю «De te fabula» («О тебе басня»){11}. Вы — этот персонаж басни. На мой взгляд, мы, люди из богатых и состоятельных классов, ежедневно поступаем точно так же: бессознательно, а быть может, и полусознательно мы накапливаем богатство, наживаясь на жесткой нужде наших братьев, а затем крупицы его даем тем, кто так или иначе громче всех взывает к состраданию. Наши законы о бедных, наши больницы, наша благотворительность, организованная и неорганизованная, — это всего-навсего кость, брошенная волку. Это взятка в ответ на неотступно преследующую нас угрозу.
Придет ли такое время, когда честные и проницательные люди почувствуют тошноту от всей этой хаотической расточительности, при которой грабят Петра, дабы заплатить Павлу, что является самой сутью коммерческой войны! Когда же мы сплотимся, чтобы заменить систему, на знамени которой написано: «Горе отстающему!», такой системой, девизом которой безо всяких оговорок будет: «Один за всех и все за одного»? Кто знает, может быть, это время совсем близко, и мы, ныне живущие, увидим начало конца, когда будут уничтожены роскошь и нищета, когда высшие, средние и низшие классы сольются воедино и, удовлетворенные, заживут простой и счастливой жизнью. Долго бы пришлось описывать будущее, способствовать осуществлению которого я призываю вас. Ликвидация рабства — самый краткий путь к нему. Вас может соблазнить мысль, что эта цель не заслуживает наших стараний, или посчитать, что она очень далека от нас и едва ли можно сделать хоть что-нибудь серьезное, чтобы приблизиться к ней в наше время, а потому можно все так же сидеть сложа руки и ничего не делать. Позвольте вам напомнить, что на памяти самых молодых из нас многие тысячи наших близких пожертвовали собой на полях сражений во имя того, чтобы привести к счастливому концу обыкновенную борьбу за ликвидацию рабства. Они были блаженны и счастливы, ибо им открылась возможность, а они ею воспользовались, сделав все, что было в их силах, и мир вследствие этого наполнился новым богатствам. И если такая возможность представится нам, отвернемся ли мы от нее и будем ли сидеть расслабленные, в сомнениях, страдая душевной немощью? Наступили дни битвы — и разве может кто сомневаться в этом, когда вокруг слышатся звуки, громче или тише возвещающие о неудовлетворенности, и надеждах, и страхе, слышится голос пробуждающегося мужества и крепнущей совести? Повторяю, наступили дни битвы, когда для честного человека невозможен покой внешнего существования и когда легче обрести душевный мир и спокойную совесть, основанную на прочных убеждениях, ибо для нашей деятельности открывается широкий простор.
Станете ли вы утверждать, что в нашей спокойной стране, в конституционно управляемой Англии, нам не представляется возможности действовать? Если бы мы жили в Германии или Австрии, где у людей рот заткнут кляпом, или в России, где за одно-два слова вас отправят в Сибирь{12} или в тюрьму Петропавловской крепости. Увы, друзья мои! Как же плохо мы чтим мучеников свободы, отказываясь принять горящий факел из рук умирающих! Рассказывают, будто Гёте, услышав, что кто-то собирается в Америку, дабы начать жизнь сызнова, воскликнул: «Америка здесь или нигде!» Так говорю и я: «Россия здесь или нигде!» Мысль, что в Англии правящие классы не боятся свободы слова и поэтому нет нужды в свободном выражении своих мыслей, кажется мне странным парадоксом. Давайте же, наоборот, прорвемся сквозь брешь, которую прорубили для нас доблестные мужи: пятясь назад, мы лишаем смысла их поиски, их страдания, их смерть. Поверьте мне, нам откроется либо все, либо мы не добьемся ничего. Но, быть может, мне скажут, что русский мужик находится в худшем положении, чем наш изнывающий в поту портной-поденщик? Не будем обманывать себя — здесь, как и в России, также существует класс жертв. Меньше ли их у нас? Возможно, но в таком случае, предоставленные самим себе, они более беспомощны и более нуждаются в нашей помощи.
Но каким образом можем им помочь мы, средний класс, мы, капиталисты, и наши приспешники? — Отречением от своего класса и во всех случаях, когда между классами возникнет борьба, объединением своей судьбы с судьбой жертв, то есть тех, кто в лучшем случае обречен на жизнь без образования, без утонченного воспитания, без досуга, без радости и признания, а в худшем — на жизнь куда более жалкую, чем жизнь самых невежественных дикарей, и все это для того, чтобы общество конкурентной коммерции продолжало существовать. Другого пути для вас нет, и этот путь, скажу вам откровенно, в конце концов предоставит нам тьму возможностей для самопожертвования — без необходимости отправляться в Россию. Я уверен, что среди собравшихся здесь есть люди, возмущенные ужасающей анархией коммерческого века. Я предлагаю им вступить на путь отречения от их класса, поддержать пропаганду социализма и вступить в Демократическую федерацию{13}, которую я имею честь представлять перед вами и которая, по-моему, является в нашей стране единственной организацией, выдвигающей программу созидательного социализма.
На мой взгляд, это хорошая возможность для тех, кто возмущен нынешним положением дел и ищет способ отвергнуть его. Но безусловно, воспользовавшись этой возможностью, вы тотчас же обрекаете себя на мученичество, не обретая в настоящем никакой славы. Над вами в крайнем случае станут потешаться и глумиться те, чья насмешка делает только честь порядочному человеку, и я не сомневаюсь, что к вам отнесутся холодно и многие превосходные люди, и далеко не все из них совершенно глупы. Вы рискуете потерять положение, репутацию, деньги и даже друзей. Эти потери, несомненно, покажутся булавочными уколами человеку, всерьез избравшему путь мученичества, о котором я упоминал, но они тем не менее покажут, из чего соткан человек, особенно когда он может ускользнуть от этих уколов, не слыша при этом никаких других упреков в трусости, кроме упреков собственной совести. Я не могу даже гарантировать вам, что вы сможете невредимо ускользнуть от притеснений жестокой власти. Это правда, что сейчас в Англии капиталистическое общество смотрит на социализм с холодной усмешкой. Но не забывайте, что те самые люди, которые разорили Индию, обрекли Ирландию на голод и молчание, подвергли страданиям Египет, теперь свой деспотический нрав проявляют ближе к дому, и совсем недавно это было зловеще продемонстрировано{14}. Таким образом, при любых условиях я могу предложить вам возможности, которые требуют жертв, возможности, которые откроют для вас страну обетованную здесь же, дома, и одарят вас внутренней уверенностью, что вы приносите какую-то пользу делу; и я серьезно призываю тех из вас, кто убежден в справедливости нашего дела, не уклоняться от активного участия в борьбе, которая независимо от того, помогает ли ей кто-либо или остается в стороне, в конце концов несомненно завершится победой.
Полезная работа и бесполезный труд
Заглавие статьи может удивить некоторых моих читателей, показавшись им странным. Большинство людей в наши дни предполагает, что всякая работа полезна, а большинство людей состоятельных — что всякая работа желательна. Большинство людей, будь они состоятельными или нет, верят, что даже если человек выполняет, по-видимому, бесполезную работу, зарабатывая ею себе на жизнь, — он, как говорится, «занят»; а большинство состоятельных людей не скупятся на похвалы и поздравления такому счастливому рабочему, если только он достаточно трудолюбив и отказывает себе во всех удовольствиях и праздниках во имя священного дела труда. Короче говоря, догматом современной морали стало утверждение, что всякий труд хорош сам пе себе. Это удобная мораль тех, кто живет трудом других. Что же касается этих других, трудом которых они живут, то я советую им не принимать эту мораль на веру, но заглянуть поглубже в суть дела.
Давайте прежде всего согласимся, что род человеческий должен либо трудиться, либо погибнуть. Даром природа не дает нам пропитания — мы добываем его тем или иным трудом. Посмотрим же в таком случае, не компенсирует ли она нам этого принуждения трудиться, поскольку в других областях она проявляет заботу, чтобы сделать не только сносным, но даже и приятным тот акт, что необходим для продолжения жизни индивидуума и человеческого рода.
Вы можете не сомневаться, что она поступает именно таким образом и что человеку свойственно, если он не болен, испытывать наслаждение от своей работы, проходящей в определенных условиях. И все же, вопреки упомянутому мною ханжескому восхвалению всякого труда, каким бы он ни был, есть труд, весьма далекий от того, чтобы быть благословением, и он представляет собой проклятие; и я заявляю, что в этом случае как для общества, так и для рабочего было бы лучше, если бы он сложил руки и отказался работать — умер бы либо попал в работный дом или в тюрьму — как вам угодно.
Итак, вы видите, есть два вида работы: одна хорошая, другая — плохая. Одна не так уж далека от благословения, утешения в жизни, другая — просто проклятие, бремя жизни. В чем же тогда различие между ними? Вот в чем: в одной заключена надежда, другая — лишена ее. Выполнять одну работу — достойно, отказываться от другой — также достойно.
В чем же сущность этой надежды, которая, присутствуя в работе, делает последнюю достойной того, чтобы ее выполняли? Надежда эта, на мой взгляд, тройственна — надежда на отдых, надежда на продукт труда, надежда на наслаждение, получаемое от работы, — при условии, что всего этого будет в достатке и хорошего качества. Отдых должен быть достаточно длительным и достаточно приятным, чтобы к нему стремиться. Продукт труда — достаточно хорош, чтобы его стоило иметь тому, кто не глупец и не аскет. Наслаждение — достаточное для всех нас, чтобы ощущать его во время самой работы, причем не просто как привычку, утрату которой мы почувствовали бы так, как нервный человек чувствует потерю безделушки, которую вертит в руках.
Я поставил на первое место надежду на отдых потому, что это самая простая и естественная часть на шей общей надежды. Какое бы наслаждение ни сопровождало работу, она несомненно причиняет и страдание, то возвышенное страдание, которое пробуждает нашу дремлющую энергию и которое похоже на страх животного перед какой-либо переменой, между тем как все у нас довольно благополучно, а компенсацией за это страдание является физический отдых. Работая, мы должны ощущать, что придет время, когда нам не нужно будет работать. Отдых, когда он наступает, должен длиться достаточно долго, чтобы мы могли насладиться им, он должен длиться дольше, чем необходимо для того, чтобы просто восстановить силу, затраченную нами на работу. И это также должен быть физический отдых, и нас ничто не должно тревожить, иначе мы не сможем насладиться им. Но если мы будем располагать таким и только таким отдыхом, то мы не далеко уйдем от зверей.
Что касается надежды на продукт труда, то я уже сказал, что природа заставляет нас работать ради него. Нам остается лишь позаботиться, чтобы мы действительно производили нечто полезное, а не работали впустую или по крайней мере не производили ничего такого, чего мы не хотим или чем не полагается пользоваться. Если мы станем заботиться об этом, выражая тем самым нашу волю, то будем тогда людьми, а не машинами.
Надежда на наслаждение самой работой — до чего странной может показаться она некоторым моим читателям — большинству из них! И все же, на мой взгляд, всем живым существам присуще радоваться, когда они применяют свою энергию, и даже звери радуются своей гибкости, быстроте и силе. А человек, создающий какую-то вещь, которая, как он чувствует, будет существовать, потому что он трудится над ней, — желает создать ее, тратит на нее энергию и ума, и души, и тела. Когда он работает, ему помогает память и воображение. Не только его собственные мысли, но и мысли людей, живших в прошлом, направляют его руку, и он творит, будучи частью всего человечества. Работая так, мы будем людьми в полном смысле слова, и наша жизнь будет наполнена счастьем и смыслом.
Итак, достойная работа несет с собой надежду на наслаждение отдыхом, надежду на то удовольствие, с каким мы пользуемся созданием наших рук, и надежду на наслаждение нашим ежедневным творчеством.
Любая другая работа помимо этой — бессмысленна. Трудиться просто для того, чтобы жить, а жить, чтобы трудиться, — это труд рабов.
Поэтому, поскольку теперь у нас есть весы, на которых можно взвешивать работу, совершаемую сейчас в мире, воспользуемся ими. Взвесим, чего стоит эта работа после стольких тысячелетий груда, после стольких обещаний и надежд, исполнение которых все откладывалось, после столь безграничного торжества по поводу успехов цивилизации и завоевания свободы.
Что касается работы, совершаемой в цивилизованном обществе, то легче всего заметить, что распределена она среди разных общественных классов очень неравномерно. Прежде всего, есть люди — и их немало, — которые совсем не работают и даже не делают вид, будто работают. Затем существуют люди — и их очень много, — которые работают довольно усердно, хотя и пользуются при этом многими льготами и досугом. И, наконец, есть люди, работа которых так тяжела, что они поистине только одной работой и заняты. Соответственно их и называют «рабочим классам», проводя тем самым различие между ними, с одной стороны, и средними классами, и богатыми или аристократией — с другой.
Очевидно, такое неравенство тяжело давит на «рабочий» класс и имеет явную тенденцию уничтожить даже его надежду на отдых, а потому ставит его в худшие условия, чем диких зверей. Но это только начало, а еще не конец нашей глупости, превращающей полезную работу в бесполезный труд.
Ибо что касается класса богатых, не занятых никакой работой, то все мы знаем, что потребляют они очень много и в то же время ничего не производят. Поэтому очевидно, что они, как нищие, должны получать содержание за счет тех, кто работает; и потому оказываются для общества просто обузой. В наши дни многие научились это понимать, хотя и не постигли глубже пороков нашей нынешней системы и не составили никакого ясного плана, как освободиться от этой обузы, хотя, возможно, у них и есть смутная надежда, что изменение в системе выборов в палату общин может, словно бы чудом, оказать влияние в этом направлении. Не стоит обольщаться такими надеждами и иллюзиями. К тому же класс аристократии, который некогда рассматривался как самый необходимый государству, численно мал и в наше время не имеет собственной силы, а зависит от поддержки следующего за ним класса — буржуазии. В действительности аристократия состоит либо из наиболее преуспевающих людей этого класса, либо из их ближайших потомков.
Что касается среднего класса, состоящего из коммерсантов, предпринимателей и лиц, имеющих какую-либо профессию, то, как правило, они, по-видимому, работают весьма усердно, и на первый взгляд может показаться, что они помогают обществу, а не обременяют его. Но подавляющее большинство из них хотя и работает, но ничего не производит, а даже когда и производит, как, например, те, кто занят распределением товаров — разумеется, расточительным, — или врачи, или настоящие художники и литераторы, — то потребляет непропорционально должной доле своего труда. Самая же могущественная их часть, состоящая из коммерсантов и предпринимателей, тратит свою жизнь и энергию на междоусобную борьбу за соответствующую долю того богатства, создавать которое для себя они заставляют настоящих рабочих. Остальные почти полностью остаются их прихлебателями, они не работают для общества, но, составляя привилегированную прослойку, являются паразитами собственности — иногда совершенно неприкрыто, как в случае с юристами; иногда же, как то бывает с докторами и людьми других упомянутых профессий, их объявляют полезными, но слишком часто они не приносят никакой пользы, а лишь только поддерживают систему глупости, обмана и деспотии, в которую сами входят. И не надо забывать, что все они, как правило, стремятся к одной цели — не к производству полезных вещей, а к достижению для себя или для своих детей такого положения, при котором им вообще не нужно будет работать. Предел честолюбия и цель всей их жизни — обрести если еще не для самих себя, то по крайней мере для своих детей высокое положение, при котором они станут явным бременем для общества. Каким бы фальшивым достоинством они ни облекали свою работу, им до нее нет никакого дела, за исключением немногих энтузиастов, деятелей науки, искусства или литературы, но если они и не соль земли, то все же — увы! — они по крайней мере соль той злополучной системы, у которой сами оказываются в рабстве и которая на каждом шагу мешает им, расстраивает их планы, а иногда даже и развращает их.
Таким образом, есть и другой класс, на этот раз весьма многочисленный и могущественный, который производит очень немного, но потребляет в громадных размерах, а стало быть, в основном поддерживается, как и нищие, действительными производителями. Тот же класс, который нам остается рассмотреть, производит все, что производится, и поддерживает как себя, так и другие классы, хотя и находится в более унизительном положении — в положении, запомните, вызывающем как умственное, так и физическое вырождение. Но необходимым последствием деспотии и глупости оказывается то, что многие и из этих рабочих — вовсе не производители. Большое число их опять же — просто паразиты собственности, а некоторые из них являются таковыми совершенно открыто, как, например, солдаты, которых содержат в состоянии готовности на суше или на море, чтобы увековечить соперничество и вражду народов или поддержать борьбу внутри наций с одной целью — отнять долю продукции, производимой неоплаченным трудом. Но помимо этого очевидного, лежащего на производителях бремени и едва ли менее явного содержания за их счет домашних слуг имеется целая армия клерков, приказчиков и тому подобных людей, вовлеченных в обслуживание частной войны за богатства, которая составляет, как я уже говорил, истинное занятие состоятельного среднего класса. Это гораздо большая армия рабочих, чем можно было предположить, ибо она включает в себя помимо прочих и всех, кто занят в сфере, — как бы я ее назвал, — конкурентной коммерции или же, если употребить менее почтительное выражение, дутого рекламирования товаров, которое достигло теперь такого уровня, что множество товаров продается гораздо дороже, чем стоит их производство.
Далее идет масса людей, которые заняты производством предметов глупой роскоши, спрос на которые является следствием существования богатых непроизводящих классов, — предметов, о которых люди, ведущие достойную, неразвращенную жизнь, даже и думать не станут. Эти предметы, кто бы ни возражал мне, я раз и навсегда отказываюсь называть благосостоянием: это не благосостояние, а расточительность. Благосостояние — это то, что дает нам природа, и то, что разумный человек может сделать из даров природы для своих разумных потребностей. Солнечный свет, свежий воздух, нетронутый лик земли, пища, одежда и жилье в необходимых размерах и благопристойном виде, накопление знаний всякого рода и способность их распространять, средства свободной связи между людьми; произведения искусства, красота, которую творит человек, когда он более всего человек, более всего погружен в размышления и настроен возвышенно, — все, что доставляет наслаждение людям свободным, благородным и неиспорченным. Вот это и есть благосостояние. Я не могу себе представить ничего, что действительно стоило бы иметь и что не подходило бы под ту или иную из перечисленных рубрик. Но, умоляю вас, подумайте, что производит вся Англия, эта мастерская мира, и разве не приведет вас в недоумение, как и меня, мысль о бездне предметов, которых ни один нормальный человек не мог бы для себя пожелать, но которые наш бесполезный труд производит и... продает?
Далее, существует даже и еще более ужасная отрасль, в которую вовлекаются многие, очень многие из наших рабочих, — производство товаров, необходимых им самим и их собратьям, потому что они принадлежат к классу униженных. Ибо если многие люди живут, ничего не производя, и если к тому же они ведут столь пустую и глупую жизнь, что вынуждают значительную часть рабочих производить товары, в которых никто, даже богачи, не нуждаются, то из этого следует, что большинство людей должно оставаться бедняками; живя на заработок, получаемый с тех, кого они сами всем снабжают, рабочие не могут покупать для себя товары, которые соответствовали бы их естественным желаниям, и должны довольствоваться их жалкой заменой — грубой едой, которая не питает, ветхими лохмотьями, которые не прикрывают человека, никудышными лачугами, которые действительно могут заставить горожанина теперешней цивилизации с тоской вспоминать шатер кочевника или пещеру первобытного дикаря. Более того, рабочие вынуждены содействовать реализации великого промышленного изобретения нашего века — подделке товаров. Прибегая к фальсификации, они производят для собственного потребления бутафорию, пародирующую роскошь богачей, потому что наемные рабочие должны всегда жить, как велят наниматели, и сами их жизненные привычки навязываются им хозяевами.
Но напрасно тратить время на попытки выразить словами должное презрение к изделиям, отличающимся столь восхваляемой в нашу эпоху дешевизной. Достаточно сказать, что эта дешевизна необходима системе эксплуатации, на которой покоится современное правительство. Другими словами, наше общество включает в себя громадную массу рабов, которых нужно накормить, одеть, обеспечить жильем и рабскими развлечениями, и эти каждодневные потребности принуждают эту массу производить рабские товары, потребление которых увековечивает ее рабство.
Подводя, таким образом, итог, касающийся методов работы в цивилизованных странах, нужно сказать, что в них существуют три класса: класс, который даже и не делает вида, будто он работает; класс, который делает вид, будто работает, но ничего не производит; и класс, который работает, но вынуждается двумя другими выполнять работу подчас не плодотворную.
Следовательно, цивилизация расхищает свои собственные ресурсы и будет их растрачивать до тех пор, пока существует нынешняя система. Эти резкие слова изобличают деспотию, под игом которой мы страдаем. Попытайтесь вдуматься в их смысл.
В мире имеется определенный запас материальных природных сил и природных богатств и определенный объем рабочей силы, воплощенной в людях, населяющих землю. Побуждаемые своими потребностями и желаниями, люди на протяжении многих тысячелетий трудились, чтобы подчинить себе силы природы и использовать для своих целей природные богатства. Поскольку нам неведомо будущее, эта борьба с природой нам представляется почти завершенной и победа человеческого рода над нею почти полной. А возвращаясь мысленно назад к времени, когда история только начиналась, мы замечаем, что на протяжении последних двух столетий человек одерживал над природой более решительные и ошеломляющие победы, чем когда-либо раньше. Наверняка мы, люди современности, во всех отношениях должны бы находиться в значительно лучшем положении, чем кто-либо из наших предков. Без всякого сомнения, каждому из нас и всем нам вместе надлежало бы быть богатыми и обеспеченными тем добром, которое отвоевано нашими победами над природой.
Но каковы подлинные факты? Кто дерзнет отрицать, что в эпоху цивилизации громадная масса людей бедна? Бедна настолько, что просто ребячество обсуждать, в самом ли деле хоть в чем-то им живется лучше, чем их предкам. Да, они бедны, но их бедность не может быть измерена бедностью дикаря, лишенного каких-либо средств к существованию, ибо последнему неведомо ничего, кроме его бедности; ему может быть голодно и холодно, он может быть лишен дома и жить в грязи и невежестве, но все это для него столь же естественно, как быть покрытым кожей. В нас же, в большинстве из нас, цивилизация возбудила желания, удовлетворять которые она не дозволяет, и, таким образом, она оказывается не только скрягой, но и истязателем.
Таким образом, плоды нашей победы над природой у нас похищены; таким образом, естественное принуждение трудиться в надежде на отдых, выгоду и удовольствие превратилось в человеческое принуждение трудиться в надежде жить... ради того же труда!
Что же нам делать в таком случае? Можем ли мы исправить это?
Что же, следует напомнить еще раз, что победы над природой добились не наши отдаленные предки, а наши отцы, — мало того, мы сами. Бездействовать в беспомощности и отчаянии было бы с нашей стороны поистине поразительной глупостью. Не сомневайтесь: мы можем поправить положение. Что же тогда нужно делать прежде всего?
Мы видели, что современное общество разделено, в сущности, на два класса, один из которых, находясь в привилегированном положении, живет за счет другого, — иными словами, он заставляет другой класс работать на себя, забирает у него все, что он может забрать, и использует добытое таким образом богатство, чтобы закрепить за представителями своего класса более высокое положение, сделать их персонами более высокого ранга: дольше живущими, более красивыми, более почитаемыми и более утонченными, чем люди другого класса. Я не утверждаю, что привилегированный класс озабочен, чтобы его представители были бы абсолютно долговечными, красивыми и утонченными, но он настаивает на том, чтобы они были таковыми относительно к представителям низшего класса. И поскольку он к тому же неспособен толково использовать рабочую силу низшего класса для производства действительного благосостояния, то и растрачивает ее целиком на производство ерунды.
Не что иное, а именно грабеж и расточительство со стороны меньшинства удерживает большинство в состоянии бедности. Если бы действительно для сохранения общества было необходимо, чтобы это большинство находилось в подчиненном положении, то немногое оставалось бы добавить по этому поводу, разве только что отчаяние угнетенного большинства, вероятно, когда-нибудь уничтожит это общество. Однако, наоборот, даже такими несовершенными экспериментами, как организация, например, так называемой «кооперации», уже было доказано, что существование привилегированного класса ни в коем случае не обязательно для создания благосостояния, но, скорее, необходимо для «управления» производителями богатства, — другими словами, для поддержания привилегий меньшинства.
Первым шагом должна быть ликвидация класса людей, обладающих прерогативой уклоняться от своих человеческих обязанностей, принуждая в то же время других выполнять работу, которую сами они отказываются делать. Все должны работать соответственно своим способностям и производить, таким образом, то, что потребляют, — иными словами, каждый должен трудиться с усердием, какое только ему доступно, чтобы зарабатывать себе средства к жизни. Возможность заработать на жизнь должна быть каждому гарантирована, и каждому должны быть гарантированы все те льготы, которые общество будет предоставлять каждому в отдельности и всем своим членам вообще.
Таким образом будет наконец основано подлинное общество. Оно будет покоиться на всеобщем равенстве. Никого не будут подвергать мучениям ради блага другого, более того, ни одного человека не будут мучить и ради общества. Но ведь обществом и не может быть назван строй, существующий не ради блага каждого из своих членов.
Но поскольку люди пусть и скверно, но живут даже и в наше время; когда так много людей вообще ничего не производят и когда столько труда тратится впустую, то ясно, что, если бы все участвовали в производстве и никакая работа не совершалась бы напрасно, не только каждый мог бы работать с известной надеждой на получение соответствующей доли благосостояния, но мог бы также помнить о полагающейся ему доле отдыха. Здесь обретается, таким образом, два вида надежды из тех трех ранее упомянутых как неотъемлемые качества достойной работы, гарантированной рабочему. Когда классовому грабежу будет положен конец, каждый человек будет пожинать плоды своего труда и располагать необходимым отдыхом — то есть досугом. Некоторые специалисты могут сказать, что нам нет нужды заходить далее этого: достаточно, чтобы рабочий получал сполна за свою работу и чтобы отдых его был продолжительным. Но даже если принуждение человека человеком и деспотизм будут ликвидированы, я все же требую компенсации за принуждение, рождаемое потребностями природы. Пока работа вызывает отвращение, она все еще будет бременем, которое нужно нести ежедневно, и даже если бы рабочий день был уменьшен, все равно это бремя омрачало бы нашу жизнь. А мы хотим увеличить наше благосостояние, не умаляя нашего наслаждения. Природа не будет окончательно покорена до тех пор, пока наша работа не станет частью нашего наслаждения жизнью.
Первый шаг к освобождению народа от принудительного и бесполезного труда приводит нас по крайней мере на путь к этой счастливой цели, ибо тогда у нас будет и время и возможность для достижения ее. При нынешнем положении вещей, когда, с одной стороны, рабочая сила растрачивается в праздности, а с другой — в непроизводительном труде, становится очевидно, что мир цивилизации поддерживается небольшой частью его населения. Если бы все работали плодотворно для поддержания цивилизации, то доля труда, которая бы ложилась на каждого, была бы совсем небольшой, при условии, что благосостояние находилось бы на том уровне, который состоятельные и образованные слои общества считают в настоящее время желательным. Рабочая сила будет у нас расходоваться экономно, и, говоря кратко, мы будем настолько богаты, насколько пожелаем. Жить будет легко. Если бы мы проснулись в одно прекрасное утро и обнаружили, что при нынешней системе «легко жить», то это открытие тотчас же вынудило бы нас приступить к работе и вскоре сделало бы нашу жизнь очень трудной, а мы назвали бы это «развитием наших возможностей» или какими-нибудь другими красивыми словами. Увеличение труда стало для нас необходимостью, и, пока такое положение длится, никакая изобретательность в области развития техники не принесет нам ни малейшей реальной пользы. Каждая новая машина в той или иной мере рождает нищету среди рабочих, занятых в той отрасли промышленности, которую она может нарушать. Многие из рабочих будут превращены из квалифицированных в неквалифицированных, мало-помалу производство войдет в нужную колею, и внешне весь труд будет снова протекать гладко. И если бы все это не подготавливало революцию, то положение вещей для большинства людей оставалось бы точно таким же, каким оно было до нового изумительного изобретения.
Но когда революция сделает так, что действительно станет «легко жить», когда все будут трудиться сообща и слаженно, когда не останется никого, кто бы похищал у рабочего его время, то есть его жизнь, — в те грядущие дни нас уже не будут принуждать по-прежнему производить то, чего мы не желаем, не будут принуждать трудиться даром. Мы сможем тогда спокойно и вдумчиво рассудить, как нам распорядиться богатством нашей рабочей силы. И что до меня, то я думаю, что прежде всего мы должны употребить это богатство и эту свободу так, чтобы сделать радостным весь наш труд, даже самый обычный и самый необходимый. Глубоко обдумывая этот вопрос, я вижу, что единственный способ сделать жизнь счастливой наперекор всем случайностям и тревогам, — это с радостью воспринимать все ее мелочи. И чтобы вы не подумали, будто такое утверждение общепринято и о нем не стоит здесь напоминать, позвольте заметить, что современная цивилизация целиком ему противоречит. Какими жалкими и даже ужасными мелочами наполняет она повседневность бедняков, какое пустое и бессодержательное существование навязывает она богачам, и как редко выпадает немногим из нас счастливая возможность ощутить себя частью природы, с радостью, внимательно и неторопливо наблюдать, как течет наша жизнь среди всех незначительных событий, связывающих ее с другими жизнями, и участвовать в великом и едином деле человечества!
И вот таким праздником могла бы быть вся наша жизнь, если бы мы решились сделать весь наш труд разумным и радостным. Но здесь мы действительно должны быть решительными, потому что никакие полумеры нам не помогут. Мы уже говорили, что теперешний безрадостный труд и наша жизнь, полная, как у затравленного зверя, страха и тревог; навязывается нам нынешней системой производства во имя прибыли привилегированных классов. Необходимо пояснить, что это значит. В условиях существующей системы заработной платы и капитала «фабрикант» (совершенно нелепо называемый так, ибо это слово должно бы означать человека, который все делает своими руками) является хозяином над бесправными людьми, поскольку он обладает монополией на средства, с помощью которых в целях производства может быть использована присущая каждому человеку рабочая сила. Он, и только он один, в состоянии использовать эту рабочую силу, являющуюся единственным товаром, с помощью которого может принести плоды его «капитал», то есть накопленный продукт прошлого труда. Поэтому он покупает рабочую силу тех, кто лишен капитала и может жить, только продавая ему свою рабочую силу. Цель фабриканта в этой сделке — увеличить свой капитал, заставить его принести приплод. Конечно, если бы фабрикант оплатил тем, кого принуждает идти на эту сделку, полную стоимость их труда, — другими словами, заплатил бы сполна за все, произведенное ими, он не преуспел бы в своих намерениях. Но поскольку он монопольно владеет средствами производительного труда, он может заставить их пойти на сделку, более выгодную для себя и менее выгодную для них, чем при условии полной оплаты их труда. Сделка эта такова, что, после того как они заработают себе средства существования, определяемые необходимостью обеспечить их покорность его власти, весь остаток (а на самом деле — это намного большая часть) того, что они произвели, должен принадлежать ему, должен стать его собственностью, которой он может распоряжаться по своему усмотрению себе на пользу или во вред, как ему заблагорассудится; эта собственность, как мы все знаем, ревностно охраняется армией и флотам, полицией и тюрьмами— той гигантской физической мощью, которую суеверие, привычка, страх перед голодной смертью — словом, невежество громадной массы неимущего населения — позволяют имущим классам применять для подавления... собственных рабов.
Теперь наступили другие времена, и на передний план, как плоды той же системы, выходят иные пороки. Я хочу теперь указать на невозможность при этой системе заниматься трудом, привлекательным для работающего человека. Я хочу повторить, что эта грабительская (нет другого более подходящего слова) система растрачивает впустую всю доступную цивилизованному миру рабочую силу, побуждая многих людей ничего не делать, а многих, гораздо большее число, не делать ничего полезного, на тех же, кто занят действительно полезной работой, взваливать непосильное бремя. Ибо поймите раз навсегда, что «фабрикант» прежде всего ставит перед собой цель производить посредством труда, похищенного у других, не товары, а прибыль, то есть «богатство», которое производится помимо и сверх средств существования для его рабочих, помимо расходов на амортизацию машинного оборудования. Его нисколько не волнует, реально или фальшиво это «богатство». Если оно продается и доставляет «прибыль», тогда все в порядке. Из-за богатых людей, имеющих больше денег, чем они могут разумно потратить, и потому готовых платить за фальшивое богатство, в их среде возникает расточительность, а из-за бедных людей, которые не могут себе позволить покупать стоящие товары, возникает также расточительство и здесь. Таким образом, спрос, который «удовлетворяет» данный капиталист, — это ложный спрос. Рынок, на котором он продает товары, оснащен печальным неравенством, созданным грабительской системой капитала и заработной платы.
И если мы хотим обеспечить всех радостной, привлекательной и полезной работой, то должны решительно избавиться от этой системы. Первый шаг к тому, чтобы сделать труд радостным, состоит в том, чтобы передать средства, которые сделают труд плодотворным, то есть капитал, включая землю, машинное оборудование, фабрики и т. п., и руки общества для использования их на благо всех людей без различия, так чтобы все мы могли заниматься «удовлетворением» действительных «потребностей» всех и каждого, то есть чтобы все могли работать ради средств к жизни, а не ради удовлетворения запросов рынка, не ради прибыли, то есть силы, принуждающей людей трудиться вопреки их воле.
Когда этот первый шаг будет сделан и люди начнут понимать, что природа научила их трудиться, чтобы не умирать с голоду, когда они перестанут быть такими глупцами, чтобы позволять кому-либо обкрадывать себя, когда наступит этот счастливый день, — мы не будем больше обязаны платить дань расточительству и в результате в нашем распоряжении окажется гораздо больше полезной рабочей силы, которая позволит нам жить в границах благоразумия, так, как нам хочется. Нас уже не будет подстегивать и гнать страх голодной смерти, который сейчас на большинство людей в цивилизованном обществе давит не меньше, чем на обыкновенных дикарей.
В обществе, где растрате труда уже не будет места, первоочередные и самые очевидные потребности станут столь легко удовлетворяться, что у нас будет время осмотреться и подумать, в чем мы действительно нуждаемся и что можно получить без чрезмерных затрат нашей энергии. Ибо страх перед бездействием, нередко охватывающий нас, как только ослабевает натиск нынешней иерархической системы принуждения, рожден исключительно бременем чрезмерного и противного труда, которое большинство из нас вынуждено теперь нести.
Повторяю еще раз, что, на мой взгляд, привлекательность труда явится для нас настолько, первоочередной потребностью, что мы согласимся пожертвовать ради нее каким-то количеством своего досуга. Для достижения этой дели не потребуется слишком тяжелых жертв, но какие-то жертвы все же будут нужны. И можно надеяться, что в эпоху борьбы и революции в первых рядах окажутся люди, несогласные вечно мириться с жизнью, исполненной духа простой утилитарности, хотя невежды иногда и обвиняют социалистов в том, что они к подобной жизни стремятся. К тому же декоративная основа современной жизни уже прогнила насквозь и должна быть полностью заменена прежде, чем возникнут новые условия. От нее ничего не осталось; из нее не может возникнуть ничего, что могло бы удовлетворить стремления людей, освобожденных от деспотии коммерческой системы.
Нам нужно начать возводить декоративное начало жизни, ее физические или интеллектуальные, научные или художественные, Общественные или личные радости — возводить на почве труда, предпринимаемого с готовностью и энтузиазмом, с сознанием, что он приносит благо нам самим и нашим близким. Та совершенно необходимая работа, которую придется выполнять в первую очередь, отнимет лишь небольшую часть дня и потому не будет тогда обременительной, но она останется обязательной для нашего ежедневного распорядка, и потому она будет омрачать нашу радость, если мы не сумеем на время, пока она длится, сделать ее по крайней мере терпимой. Другими словами, весь труд, даже самый обычный, необходимо сделать привлекательным. Как это можно сделать? Ответ на этот вопрос будет дан в остальной части этой статьи.
Я знаю, что, в то время как все социалисты согласятся со многими из моих предложений, некоторым из них кое-что может показаться странным и опасным. Свои предложения я делаю без всякого намерения поучать, они просто выражают мое личное мнение.
Из всего уже сказанного мною следует, что труд, который необходимо сделать приятным, должен быть направлен к какой-то явно полезной цели, за исключением случаев, когда отдельные люди добровольно принимаются за труд просто для развлечения. Соображения безусловной полезности надо тем более принимать в расчет, чтобы облегчить обязанности, которые в противном случае могут вызывать скуку, — ибо в новых условиях общественная мораль, ответственности одного человека по отношению к другому, заменит мораль богословскую, то есть ответственность человека веред какой-то отвлеченной идеей. Затем — рабочий день станет короче. Но на этом не стоит сейчас настаивать. Ведь ясно, что если человек не будет трудиться попусту, то рабочий день может стать короче. Ясно также, что если рабочий день будет сокращен, то большая часть работы, теперь мучительной, станет совсем приемлемой.
Следующий момент, и очень важный, — разнообразие труда. Принуждать человека изо дня в день выполнять одну и ту же задачу без малейшей надежды изменить ее или от нее избавиться — значит превращать его жизнь в тюремное заточение. Это может себе позволить лишь деспотия, имеющая целью извлечение прибыли. Человек может легко выучиться и освоить по крайней мере три ремесла, чередуя сидячую работу с работой под открытым небом, требующей упражнений физической энергии, что поможет и тогда, когда потребуется затрата энергии умственной. Есть очень немного людей, которые не желали бы посвящать часть своей жизни необходимейшей и приятнейшей работе — обработке земли. Возможность разнообразить занятия будет обеспечиваться той формой образования, которая будет принята в правильно организованном обществе. В настоящее время все образование направлено к цели подготовить людей так, чтобы они заняли соответствующее место в иерархической коммерческой системе — одни как хозяева, другие как рабочие. Образование хозяев более связано с искусством, чем образование рабочих, но и оно тоже носит коммерческий характер, и даже в старинных университетах уделяется лишь небольшое внимание обучению, которое в конце концов не смогло бы принести какую-либо выгоду. Подлинное образование коренным образом отличается от этого; оно стремится обнаружить, к чему пригодны различные люди, и помочь им идти дорогой, которую они склонны выбрать. Поэтому в правильно организованном обществе молодежь в процессе образования будет обучаться таким специальностям, к которым у нее лежит душа и которые будут развивать и ее ум и ее тело. Взрослые также получат возможность учиться в тех же школах, ибо главной целью образования будет развитие индивидуальных способностей вместо теперешнего подчинения всех способностей великой цели — «деланию денег» для себя или для своего хозяина. Обилие талантов и даже гениев, подавляемых нынешней системой и развиваемых новой формой образования, сделает наш повседневный труд легким и интересным.
Рассматривая проблему разнообразия труда, я хочу обратить внимание на одну отрасль производственной деятельности, которая до такой степени пострадала от коммерческой системы, что едва ли можно утверждать, будто она вообще еще существует. Эта отрасль действительно настолько чужда нашему времени, что, опасаюсь, некоторым покажется трудным понять меня, и все же я должен сказать о ней, поскольку это на самом деле в высшей степени важно. Я имею в виду ту отрасль искусства, которая создается или должна создаваться обыкновенным рабочим, когда он занят своим обычным трудом, и должна очень правильно называться народным искусством. Это искусство, повторяю, больше не существует, ибо оно убито коммерческой системой. Но оно жило и, в общем, процветало с начала борьбы человека с природой вплоть до возвышения современного капиталистического строя. Пока оно существовало, все выходившее из рук человека украшалось им, подобно тому, как природа украшает все, что она создает. Пока ремесленник создавал ту или иную вещь, он столь естественно и без малейших сознательных усилий украшал ее, что часто трудно отличить, где кончается простая утилитарная часть его работы и где начинается декоративная. Возникновение этого искусства было необходимо, потому что труженик стремился к разнообразию труда, и хотя красота, рожденная этим стремлением, была для мира великим даром, однако то, что рабочий добивался в работе разнообразия и радовался ему, имело еще большее значение, потому что на все, что он производил, ложился отпечаток этой радости. Все это совершенно исчезло из труда цивилизованного общества. Если вы хотите получить орнамент, за него нужно специально платить; рабочего же заставляют трудиться над орнаментом так же, как он трудится над производством других товаров. Его вынуждают притворяться, будто он счастлив в своей работе, и в результате создаваемая его руками красота, которая некогда была утешением, превратилась теперь для него в дополнительное бремя, а орнамент — в один из капризов бесполезного труда, в едва ли не тягчайшие его оковы.
Помимо сокращения рабочего дня, создания полезности труда и его разнообразия существует и еще нечто необходимое, чтобы сделать работу привлекательной, — речь идет о приятном для труженика окружении. Нищета и убожество воспринимаются нами, людьми цивилизации, так благодушно, будто это необходимый придаток системы производства, будто они столь же неизбежны для нашего общества в целом, как грязь и запущенность в доме какого-нибудь богача. Но ведь если бы такой богач разбрасывал золу по всей гостиной, если бы по углам его столовой установили отхожие места, если бы он постоянно выбрасывал мусор и засорял отбросами некогда красивый сад, если бы никогда не отдавал в стирку свои простыни, не менял, скатерти и заставлял свою семью спать впятером в одной постели, то он наверняка был бы признан умалишенным. Однако подобные поступки, свидетельствующие о глупой скаредности, — это как раз то, что повседневно совершает нынешнее общество будто бы под давлением необходимости, а это недалеко от сумасшествия. И я прошу немедля признать, что цивилизация действительно невменяема.
Ибо все наши перенаселенные города и потрясающие фабрики являются просто порождением системы выколачивания прибыли. Капиталистическое производство, капиталистическое землевладение и капиталистический товарообмен гонит людей в огромные города, чтобы использовать их в интересах капитала. Та же самая деспотия сокращает площадь фабрики настолько, что, например, внутреннее помещение большого ткацкого цеха являет собой зрелище почти столь же смешное, сколь и ужасное. И нет иной необходимости для этого, кроме необходимости выколачивать прибыль из человеческих жизней и производить дешевые товары для рабов (и для их подчинения), которые трудятся в поте лица. Не вся еще рабочая сила загнана на фабрики, и часто, если она уже там, то не из необходимости, а из одного лишь стремления к прибыли. Нет никакого разумного основания, чтобы люди, занятые таким трудам, жили, словно свиньи, в тесных городских кварталах! Нет причины, которая мешала бы людям заниматься своей профессией в уединенных сельских домах, в производственных колледжах, в небольших городах или, короче говоря, там, где они сочли бы для себя наиболее удобным жить.
Что же касается того труда, который должен быть объединен в широких масштабах, то эта самая фабричная система при разумной организации дела (хотя, насколько я представляю, в ней все еще могут быть недостатки) по крайней мере обеспечивала бы возможность для более свободной и бурной общественной жизни, содержащей немало радости. Фабрики могли бы стать также центрами интеллектуальной деятельности, а работа на них — весьма разнообразной; необходимое обслуживание машинного оборудования могло бы отнимать у каждого рабочего лишь небольшую часть рабочего дня. Другая работа могла бы охватывать разнообразный круг занятий; начиная с выращивания урожая на ближних полях до изучения искусства и науки, а также занятий ими. И само собой разумеется, что люди, вовлеченные в подобную работу, будучи хозяевами своей собственной жизни, не позволят, чтобы какая-нибудь спешка или отсутствие предусмотрительности заставили их терпеть грязь, беспорядок или тесноту. Наука даст им возможность избавиться от хлама и свести к минимуму, если не к нулю, все неприятности, которые в настоящее время сопровождают работу сложного машинного оборудования, — такие, как копоть, вонь и шум. Не потерпят они также, чтобы здания, в которых они будут работать или жить, обезображивали прекрасное лицо земли. Начав строить свои фабрики, здания и подсобные помещения такими же удобными и приличными по своему облику, как и их дома, они непременно будут продолжать их строить не просто хорошими, не просто безобидными на вид, но даже красивыми, так что вновь возродится и будет процветать славное искусство архитектуры, убитое было алчностью торгашей.
Итак, как видите, я требую, чтобы в нормально организованном обществе труд был привлекателен благодаря тому, что сознавалась бы его полезность, что выполнялся бы он с пониманием и интересом; был бы разнообразен и происходил в приятной обстановке. Но я, так же как и все, требую, чтобы рабочий день не был утомительно долгим.
Могут спросить — «Разве можно выдвигать это последнее требование непосредственно с другими? Если работа должна стать такой утонченной, то не очень ли подорожают товары?»
Я признаю, как уже ранее сказал, что потребуются некоторые жертвы, чтобы сделать труд привлекательным. Если в свободном обществе мы могли удовольствоваться работой в такой же суматохе и грязи, среди такого же беспорядка и бесчеловечности, как теперь, то смогли бы сократить рабочий день намного больше, чем, я полагаю, мы сделаем это, приняв в расчет все виды труда. Но если бы мы так поступили, то это означало бы, что и в условиях завоеванной свободы мы остались такими же пассивными и несчастными и такими же, как и теперь, беспокойными, что я считаю просто невозможным. Мы должны будем согласиться с необходимостью приносить жертвы, чтобы поднять нашу жизнь до уровня, признаваемого желательным всем обществом. Но не только это. Все мы и каждый из нас в отдельности должны просто соревноваться в желании совершенно добровольно жертвовать и нашим временем и спокойствием, чтобы поднять уровень жизни. Люди, либо каждый отдельно, либо объединяясь вместе во имя этих целей, одушевленные надеждой на радость творчества, стали бы свободно и из любви к труду и его результатам производить то, что украшало бы жизнь всего общества и что теперь они производят (или только делают вид, что производят) за взятку на потребу немногих богачей. Еще не проверено опытом, может ли цивилизованное общество существовать без искусства и литературы. Современная упадочная и продажная цивилизация может навязать отказ от радости тому обществу, которое возникнет из ее пепла. Если это должно произойти, то нам следует принять уходящую стадию утилитаризма в качестве основы для будущего искусства. Если с наших улиц исчезнут калеки и голодные, если земля станет кормить нас всех одинаково, если солнце будет светить нам всем без различия, если для всех и каждого из нас славная пьеса жизни — день и ночь, лето и зима — предстанет достойной понимания и любви, то мы можем позволить себе подождать некоторое время, пока не очистимся от позора былой развращенности и пока искусство расцветет среди людей, освобожденных от ужасов рабства и постыдного грабежа.
Между тем в любом случае за утонченность, за способность думать, за освобождение от рабского труда нужно будет действительно платить, но не принудительным и долгим трудом. Наша эпоха изобрела машины, которые показались бы каким-то кошмарным сном людям прошлых столетий, но из этих машин мы еще до сих пор не извлекли всей пользы.
Они называются машинами, «экономящими труд», этим обычно употребляемым выражением подразумевается, чего мы от них ждем; однако мы не получаем от них того, что ждем. Что машины действительно делают, так это низводят квалифицированного рабочего до уровня неквалифицированного и увеличивают численность «резервной армии труда», — иными словами, увеличивают риск для жизни рабочих и интенсифицируют труд тех, кто обслуживает машины (как рабы своих хозяев). Все это машины делают как бы мимоходом, в то же время накапливая прибыль для предпринимателей или побуждая их тратить эту прибыль в жестокой торговой войне друг с другом. В справедливом обществе эти чудеса изобретательности впервые стали бы использоваться для сокращения времени, затрачиваемого на неприятный труд, который благодаря им был бы облегчен настолько, что почти никого не тяготил бы. Больше того — так как эти машины со временем были бы намного улучшены, то уже никто не спрашивал бы, будут ли такие улучшения выгодны отдельному лицу или же полезны всему обществу.
Этого будет достаточно для обычного пользования машинами, которое, вероятно, спустя некоторое время будет как-то ограничено, когда люди поймут, что нет нужды беспокоиться о средствах существования, и научатся находить интерес и радость в ручном труде, который при сознательном и вдумчивом отношении к нему мог бы сделаться более привлекательным, чем труд машинный.
И опять-таки, когда люди, освободившись от непрерывного страха перед голодной смертью, поймет, чего они действительно хотят, то тогда, ничем болей не понуждаемые, кроме собственных потребностей, они откажутся производить всякую ерунду, которая ныне называется роскошью, и ту отраву и хлам, которые называют дешевым товаром. Никто не станет шить плисовых штанов, когда не будет лакеев, которые их носят, и никто не будет тратить попусту времени на производство маргарина, если никого не будут заставлять отказываться от настоящего масла. Законы о подделке ценностей нужны только в обществе воров, а в этом новом обществе такие законы станут лишь мертвой буквой.
Социалистам часто задают вопрос{1}, как будет выполняться в новых условиях физический труд и работа более неприятная. Попытка ответить полно и убедительно на подобные вопросы означала бы бесполезную попытку сконструировать схему нового общества из материалов старого еще до того, как мы узнаем, какие из этих материалов перестанут существовать, а какие переживут эволюцию, подводящую нас к великой перемене. И все-таки нетрудно представить себе некоторые черты его устройства, которые позволят тем, кто делает самую тяжелую работу, трудиться в течение самого короткого промежутка времени. И опять же то, что я говорил раньше о разнообразии работы, вполне применимо здесь. Я готов повторить снова, что необходимость безнадежно заниматься всю жизнь одним и тем же отталкивающим и нескончаемым трудом скорее годится для ада, как его описывают богословы, но не для какой-либо формы человеческого общества. Наконец, если эта более тяжелая работа окажется какого-либо особого рода, то можно предположить, что для ее выполнения будут призваны особые добровольцы, которые непременно появятся, если только люди, став свободными, не утратят той искры мужественности, которая тлела в их душе, когда они были рабами.
И тем не менее, если какая-нибудь работа не может не быть неприятной из-за своей небольшой продолжительности, либо из-за постоянных перерывов в ней, либо из-за ощущения ее специальной важности, а потому и почетности — ощущения, не оставляющего человека, который добровольно взялся ее выполнять, — если все-таки будет какая-либо работа, которая не сможет доставлять рабочему ничего, кроме мучений, — что тогда? Что же, тогда посмотрим, не обрушатся ли на нас небеса, если мы так и не сделаем ее, и уж лучше тогда, чтобы они обрушились. Продукция такой работы не может стоить заплаченной за нее цены.
Теперь для нас очевидны лицемерие и ложь полубогословской догмы, утверждающей, что любой труд при любых обстоятельствах это благословение для труженика; с другой же стороны, труд — благо, если он сопровождается надеждой на отдых и наслаждение. Мы взвесили на весах труд цивилизации и обнаружили в нем недостачу, ибо в нем в большинстве случаев отсутствует надежда, и потому мы видим, что цивилизация обрекла людей на страшное проклятие. Но мы также поняли, что труд мира может быть исполнен надежд и наслаждения, если он не растрачивается попусту вследствие глупости и жестокости, вследствие вечного раздора враждующих классов.
Мир — вот в чем мы нуждаемся, чтобы жить и работать, надеясь и радуясь. Мир — такой желанный людям, если верить их словам, но так часто и настойчиво отвергаемый их делами. Что же касается нас, то давайте всем сердцем устремимся к нему и завоюем его любой ценой.
Кто в состоянии сказать, какова будет цена? Будет ли возможно завоевать мир мирным путем? Увы, как это может быть? Мы столь плотно окружены злом и глупостью, что так или иначе должны всегда воевать против них. На протяжении нашей жизни нам не увидеть конца этой войны, и, вероятно, нам нельзя даже надеяться на ее конец. Возможно, самое лучшее, что мы можем видеть, так это то, что борьба становится день ото дня все более острой и жестокой, пока она в конце концов не выльется в открытую резню людей в настоящей войне, которая придет на смену более медленным и более жестоким средствам «мирной» коммерции. Если мы доживем, чтобы увидеть это, то мы доживем, чтобы стать свидетелями очень многого; ибо тогда богатые классы, осознав творимые ими зло и грабеж, будут защищаться открытым насилием, и тогда развязка неотвратимо приблизится.
Но в любом случае и какую бы форму ни приняла наша борьба за мир, если только мы упорно и всем сердцем будем стремиться к нему, непрестанно помнить о нем, — то отблеск грядущего будет озарять и нашу беспокойную и трудную жизнь, озарять и тогда, когда наши тревоги окажутся незначительными, тогда, когда они действительно трагичны. И мы будем хотя бы в наших надеждах жить жизнью настоящих людей, и большей награды наше время дать нам не сможет.
Малые искусства
В будущем, в следующей лекции, я надеюсь иметь удовольствие развернуть перед вами исторический обзор малых или, как их называют, декоративных, искусств. И должен признаться, мне было бы приятнее сегодня же посвятить свою беседу с вами истории этого великого производства. Но так как я должен и в третьей лекции коснуться разных вопросов, связанных с нашими теперешними занятиями декоративным искусством, то сейчас я могу оказаться в затруднительном положении, если вызову у вас смущение, которое потребует от меня дополнительных объяснений; поэтому я сразу же скажу, что думаю о природе и объеме этих искусств, об их нынешнем положении и видах на будущее. Высказывая свои взгляды, я, возможно, вызову ваши возражения, и потому, что бы я ни порицал, что бы ни хвалил, я с самого начала прошу поверить, что, размышляя о путях истории, я отнюдь не склонен оплакивать прошлое, презирать настоящее или впадать в отчаяние при мысли о будущем. Я верю, что все перемены вокруг нас свидетельствуют о жизни нашего мира и что они приведут — неведомыми для нас путями — к совершенствованию всего человечества.
Углубляясь в подробности моей темы, говоря об объеме и природе декоративных искусств, я не буду уделять много внимания великому искусству архитектуры и еще меньше — скульптуре и живописи, но тем не менее мысленно я не смогу совершенно отделить их от малых или декоративных искусств, о которых поведу сейчас речь; ведь только недавно и при самых сложных жизненных обстоятельствах эти искусства отпали одно от другого, и я утверждаю, что это было пагубно для всех искусств в целом: малые искусства становятся тривиальными, механическими, неспособными сопротивляться переменам, вызываемым модой или недобросовестностью; в то же время великие интеллектуальные искусства, несмотря на то, что ими в течение некоторого времени могут заниматься люди великого ума и чудесных рук, лишившись помощи малых искусств и взаимного содействия, несомненно, потеряют почетный титул народных искусств и станут лишь скучными придатками бессмысленной помпезности или забавными безделушками для немногих богатых и праздных людей.
Однако я не собираюсь говорить с вами об архитектуре, скульптуре и живописи в собственном смысле этих слов, поскольку эти искусства, искусства главным образом интеллектуальные, в настоящее время, к несчастью, по-моему, отделились от декоративного в его узком понимании. Наша тема — то великое содружество искусств, с помощью которого люди во все времена стремились больше или меньше украшать обычные предметы повседневной жизни. Это обширная тема, касающаяся большой области деятельности, и одновременно и значительная часть мировой истории, и в высшей степени полезное средство изучения этой истории.
Да, это очень большая область деятельности, охватывающая домостроительство, малярное дело, столярное и плотничное ремесло, кузнечное дело, керамику, стекольное производство, ткацкое ремесло и многое другое — содружество искусств, весьма важных для множества людей, но еще более важных для нас, мастеров ручного ремесла. Ибо едва ли считался законченным хоть какой-нибудь сделанный нами предмет домашнего обихода, если его так или иначе не коснулось декоративное искусство. Правда, часто и даже в большинстве случаев эти орнаменты настолько привычны, что кажутся словно бы возникшими сами собой, и мы обращаем на них не больше внимания, чем на мох на сухих лучинках, которыми мы разжигаем печи. Тем хуже! Ибо декоративность или хотя бы претензия на нее существует, в ней есть или по крайней мере должны быть и польза и смысл. Ибо — и это лежит в основе всего дела — все, что делается человеческими руками, имеет форму либо прекрасную, либо уродливую; прекрасную, если она гармонирует с природой и соответствует ей; уродливую, если она не соответствует природе и извращает ее. Форма не может быть безразличной, — но мы слишком заняты или слишком инертны, слишком страстны или слишком несчастны, и наши глаза часто утомляются богатством форм тех предметов, на которые мы постоянно смотрим. В том-то и заключается прелесть декоративности и главная особенность ее близости к природе; именно для этой цели сплетаются изумительные затейливые рисунки, выдумываются странные формы, которые издавна доставляли наслаждение людям, — формы и рисунки, которые не обязательно копируют природу, но при создании которых рука мастера действует как сама природа, пока ткань, чашка или нож не станут выглядеть столь же естественно и столь же привлекательно, как зеленое поле, берег реки или черный камень.
Радовать людей предметами, которыми они волей-неволей должны пользоваться, — одно из главных назначений декоративного искусства; радовать людей предметами, которые они должны создавать, — другое его назначение.
Разве наша тема не представляется теперь достаточно важной? Я утверждаю, что без этих искусств наш досуг окажется пустым и неинтересным, наш труд — просто испытанием терпения, изнурением тела и ума.
Что же касается назначения этих искусств — доставлять нам радость в работе, — то едва ли я смогу: сказать об этом достаточно выразительно. Я знаю, насколько важно вновь и вновь возвращаться к этой истине, и потому отваживаюсь развить далее эту мысль в связи с тем, что мне приходят на ум слова, сказанные одним из живущих ныне великих людей; я имею в виду моего друга профессора Джона Рёскина. Во втором томе его «Камней Венеции», в главе под названием «О природе готики», вы найдете самые правдивые и самые красноречивые слова, когда-либо сказанные по этому поводу. То, что предстоит сказать в связи с этим мне, — лишь эхо его слов. И все же, повторяю, стоит напоминать истину, чтобы она не была забыта. Кроме того — все мы знаем, что говорили люди о проклятии труда и какой досадной и несуразной чепухой оказывается болтовня по этому поводу; ведь на самом-то деле настоящим проклятием для ремесленников была глупость и несправедливость как в самой системе производства, так и за ее пределами. Не могу предположить, чтобы кто-нибудь из присутствующих посчитал бы славным или приятным занятием праздно сидеть в кругу бездельников, — жить джентльменом, как такую жизнь называют дураки.
И все же действительно существует скучная работа, которую необходимо выполнять, и весьма утомительное дело — усаживать людей за такую работу и надзирать за ними; я бы согласился скорее сделать вдвое больше своими руками, чем заниматься этим делом. Но стоило бы только искусствам, о которых идет речь, украсить наш труд, получить широкое распространение, обрести осмысленный характер, встретить понимание со стороны их творцов и потребителей, стоит им, одним словом, стать народными искусствами, вот тогда, вполне вероятно, наступил бы конец скучной работе и ее изнурительному рабству, и уже ни у кого не было бы повода для разговоров о проклятии труда, и ни у кого не было бы предлога избегать благословения труда. Нет ничего, я убежден, что может содействовать прогрессу больше, чем развитие искусств. Уверяю вас, нет ничего другого в мире, чего бы я желал столь страстно, наряду с политическими и общественными переменами, которых мы все так или иначе желаем.
Если бы мне возразили, что декоративные искусства стали слугами роскоши, жестокости и предрассудков, то пришлось бы признать, что в известном смысле это верно: эти искусства использовались точно так же, как и многие другие превосходные вещи. Но верно так же и то, что в истории некоторых народов периоды наиболее бурного развития и наибольшей свободы совпадали со временем расцвета искусства. В то же время декоративные искусства процветали и среди угнетенных народов, у которых, казалось бы, не было даже надежды на свободу; и все же, думаю, мы не ошибемся, предположив, что у таких народов искусство по крайней мере было свободным; когда же оно не было свободным и когда оно действительно оказывалось во власти предрассудков или роскоши, то оно немедленно начинало чахнуть. Вы должны помнить — когда говорят, что папы, цари и императоры выстроили такие-то и такие-то здания, — это просто способ выражения. Раскройте книги по истории, чтобы узнать, кто выстроил Вестминстерское аббатство{1} или собор св. Софии{2} в Константинополе, и книги ответят вам: Генрих III, император Юстиниан{3}. Они ли? Или, скорее, такие же люди, как я и вы, ремесленники, не оставившие после себя никаких имен, ничего, кроме своего труда?
Теперь, когда эти искусства привлекают внимание и интерес к явлениям современной повседневной жизни, они также — и это, по-моему, немаловажно — на каждом шагу привлекают наше внимание к той истории, значительную часть которой, как я уже сказал, они составляют; ибо ни один народ и ни одно общество, даже самое первобытное, не могли совсем обойтись без этих искусств; было немало народов, о которых мы знаем лишь, что они считали красивыми такие-то и такие формы. Существует столь тесная связь между историей и декоративным искусством, что, занимаясь последним, мы не можем, даже если и пожелаем, целиком сбросить со счетов влияние прошлых времен, оказываемое на то, что мы делаем теперь. Я не преувеличу, если скажу, что ни один человек, каким бы самобытным он ни был, не может в наши дни сделать рисунок для ткани, вычертить форму обыкновенного сосуда или какой-нибудь мебели, чтобы эти рисунки оказались вне русла развития и упадка форм, которые бытовали столетия назад. Некогда, правда, и очень часто, такие формы имели серьезный смысл, — теперь же они значат немногим больше, чем привычный жест руки. Эти формы, возможно, некогда служили мистическими символами религиозного культа и верований, теперь почти совсем забытых. Люди, прилежно и с удовольствием занимающиеся изучением этих искусств, обретают способность смотреть словно бы сквозь окна на прошлую жизнь, на первые проблески мысли у народов, даже имени которых мы не знаем. Грозные империи древнего Востока, свободная энергия и слава Греции; тяжеловесность и цепкая хватка Рима; падение его недолговечной империи, так широко распространившей по миру все то добро и зло, которые люди никогда не смогут забыть и никогда не перестанут ощущать; столкновение Востока и Запада, Юга и Севера из-за его богатой и влиятельной дочери — Византии; возвышение, распри и ослабление ислама; странствия скандинавов; крестовые походы, основание государств современной Европы; борьба свободной мысли с древней умирающей системой, — со всеми этими событиями и их смыслом переплетена история народного искусства. Со всем этим, на мой взгляд, должен быть знаком каждый, кто намерен внимательно изучать декоративное искусство как область исторической деятельности. Когда я думаю об этом и о том еще, сколь полезны все эти знания сейчас, когда мы так жаждем постичь сущность событий прошлого и больше уже не можем удовлетворяться скучными перечнями сражений и интриг королей и авантюристов, — стоит мне, повторяю, задуматься обо всем этом, я навряд ли уж соглашусь, будто переплетение декоративных искусств с историей прошлого имеет меньшее значение, чем взаимоотношения этих искусств с современностью: разве память о прошлом не становится частью нашей повседневной жизни?
Прежде чем пойти дальше и рассмотреть современное положение этих искусств, позвольте мне подытожить сказанное. Эти искусства, сказал я, составляют часть великой системы, предназначенной выражать восторг человека перед красотой: ими наслаждались все народы во все времена; они были источникам радости для свободных народов и утешения — для наций угнетенных. Религия то их использовала и возвышала, то осуждала и бесчестила. Эти искусства связаны со всей историей и, несомненно, учат нас ей. Они делают человеческий труд радостным и для ремесленников, всю свою жизнь занятых им, и вообще для всех людей, которые в своей повседневной работе постоянно испытывают воздействие искусств. Они делают наш труд счастливым, а отдых плодотворным.
И если все это покажется вам всего лишь наивной похвалой этим искусствам, то я должен еще прибавить, что отнюдь не случайно то, что я сказал вам, приняло такую форму. Именно поэтому я должен теперь поставить перед вами вопрос: дорожите ли вы искусствами или готовы от них отказаться?
Но не странен ля мой вопрос? — Ведь большинство из вас, так же как и я, посвящают себя практическим занятиям теми искусствами, которые народны или должны быть народными.
Чтобы пояснить мой вопрос, придется повторить кое-что из сказанного. Было время, когда тайны и чудеса ремесел находили в мире полное признание, когда воображение и фантазия сливались со всеми вещами, сделанными человеком. И в те времена все ремесленники были художниками — так мы и теперь должны были бы их называть. Но мысль человека становилась более сложной, выражать ее становилось труднее. Заниматься искусством становилось все тяжелее, и труд над ним все больше делился между великими людьми, людьми менее знаменитыми и совсем незаметными. Некогда душа и тело отдыхали, когда рука бросала челнок или поднимала молоток, но потом ремесло для некоторых сделалось настолько серьезным делом, что их трудовая жизнь превратилась в долгую трагедию надежды и страха, радости и горя. Так шло развитие ремесла: подобно всякому развитию, оно было плодотворно в течение какого-то времени; как и любое плодотворное развитие, оно сменилось упадком; и подобно всякому упадку того, что некогда было плодотворным, оно тоже перерастет в нечто новое — в упадок — ибо по мере того, как искусства делились на большие и на малые, в первых появилось высокомерие, а во вторых — небрежность; то и другое рождалось от незнания той философии декоративных искусств, отдельные положения которой я пытался вам изложить. Художник покинул среду ремесленников, оставил их без надежды возвыситься, но сам он остался без разумной и энергичной поддержки. Пострадали оба, и художник не меньше ремесленника. С искусством происходит то же, что с ротой солдат, когда капитан, преисполненный надежды и в пылу воинственности, рвется вперед к бастиону, но не оглядывается назад и не видит, следуют ли за ним его люди. А они и не думают двигаться с места, и им невдомек, зачем их тащат на смерть. Капитан понапрасну гибнет, а солдаты становятся узниками крепости, имя которой — жестокость и несчастье.
Должен откровенно сказать: дело вовсе не в том, что в декоративных искусствах и вообще во всех искусствах мы в чем-то уступаем нашим предшественникам, а, скорее, в том, что все эти искусства находятся сейчас в состоянии анархии и разброда. И это явно диктует необходимость коренных перемен.
И вот я снова задаю вопрос: хотите ли вы обладать прекрасными плодами искусств или вы готовы от них отказаться? Принесут ли грядущие коренные перемены благо или одни потери?
Мы, верящие, что жизнь на земле будет долгой, вправе надеяться, что эти перемены принесут нам благо, а не потери, и должны стремиться способствовать рождению этого блага.
И все же что ответит мир на мой вопрос, кто знает? За свою короткую жизнь человек способен увидеть лишь очень немногое, но даже в подземелье сталкиваешься порою с удивительными неожиданностями. Приходится признать, что скорее на этом покоится моя надежда, нежели на всем том, что я вижу вокруг себя. Поэтому, не оспаривая мнение, что если изобразительные искусства погибнут, то в качестве их замены в жизни людей появится нечто новое и непредугаданное, я должен сказать, что не испытываю никакой радости от такой перспективы и не могу поверить, что человечество способно навсегда примириться с такой утратой. А между тем, по-моему, нынешнее состояние искусств, их взаимоотношения с современной жизнью и прогрессом указывают, по-видимому, на такую недалекую перспективу — во всяком случае, внешнее впечатление именно таково. Ибо мир, который долгое время был занят чем угодно, но только не искусствами, беспечно позволял им приходить во все больший и больший упадок, и многие не лишенные образования люди, не знающие, чем искусства когда-то были, и не надеющиеся на то, чем они могут еще стать, сейчас просто презирают их. И этот мир, суетный и погрязший в заботах, в один прекрасный день сотрет с лица земли даже следы искусства и, раздраженный всеми связанными с ним сложностями и волнениями, совершенно от них избавится.
И тогда — что тогда?
Даже теперь, среди убожества Лондона, трудно вообразить, что тогда произойдет. Архитектура, скульптура, живопись вместе с примыкающими к ним малыми искусствами, вместе с музыкой и поэзией — погибнут, окажутся забытыми, больше совсем не будут ни волновать людей, ни развлекать их. Ибо, повторяю, мы не должны обманываться: гибель одного искусства означает гибель всех. Единственное различие в их судьбе может состоять в том, что самое удачливое искусство погибнет последним, но еще вопрос, удача ли это. Во всем, что относится к прекрасному, изобретательность и ум человека зайдут в тупик. А все это время природа будет жить, и в ней вечно будут происходить восхитительные перемены, чередование весны и лета, осени и зимы, солнечного сияния, дождей, и снега, и ясной погоды, рассвета и заката, дня и ночи, — и все это будет непрерывно обвинять человека, сознательно выбравшего уродство вместо красоты и решившего жить среди убожества и пустоты, где он чувствует себя победителем.
Вы видите, господа, что нам вообразить это, возможно, не легче, чем нашим предкам из древнего Лондона представить целое графство или еще более обширную территорию, застроенную отвратительными большими, средними и маленькими домами, которая сейчас называется Лондоном. Ведь наши предки жили на древней земле этого города в прелестных и тщательно побеленных домах, на фоне прославленной церкви и ее громадного шпиля. Они гуляли в прекрасных садах, сбегавших к широкой реке.
Повторяю, господа, теперь трудно даже вообразить, какую пугающую и мертвую пустоту оставят исчезнувшие искусства. И все же, увы, я должен сказать, что если этого не произойдет, то только благодаря какому-то повороту событий, который мы теперь не можем предвидеть. Но, надеюсь, если это все-таки произойдет, то будет длиться недолго. Так поле, на котором сжигают сорняки, приносит более обильный урожай. Я утверждаю, что люди вскоре очнутся, глянут вокруг, их охватит нестерпимая тоска, и тогда они снова начнут изобретать, подражать, фантазировать, как и в былые времена.
Эта вера — мое утешение, и я могу спокойно сказать: пусть разверзнется эта зияющая пропасть, если уж так суждено, и пусть из самой мглы ее пробьются ростки новых семян. Так было и в прошлом: сначала рождается едва сознающая себя надежда, затем появляется цветок и плод мастерства, причем надежда становится все более самоуверенной, и, подобно тому как за зрелостью следует увядание, она перерастает в высокомерие, а затем — опять рождение нового.
Между тем несомненный долг всех, чье отношение к искусству серьезно, — сделать все возможное, чтобы уберечь мир от утраты, которая явится следствием невежества и недомыслия. Они должны предотвратить самую ужасную из всех перемен — замену одной формы исчезнувшей жестокости новой. Однако если люди, даже искренне предрасположенные к искусству, столь слабы и немногочисленны, что неспособны совершить ничего иного, то они могли бы взять на себя обязанность сохранить живыми какие-то традиции, какую-то память о прошлом, чтобы тогда, когда наступит новая жизнь, ей не пришлось тратить усилия на лепку совершенно новых форм, в которые воплотился бы ее дух.
В чем же найдут опору люди, которые сознают и блага великого искусства и всю тяжесть того, что вместе с художествами исчезают гармония и добропорядочность жизни? Думается, они должны начать с признания, что древнее искусство, искусство неосознанной духовности, как можно его назвать, отнюдь не умерло, что немногие его остатки все еще влачат жалкое существование у полуцивилизованных народов, что с каждым годом оно становится все грубее и немощней, все менее одухотворенным. Оно возникло в незапамятные времена, и, насколько это было давно, свидетельствует превосходная причудливая резьба на костях мамонта и другие произведения, извлеченные знанием из потока истории. Судьба искусства решалась часто какой-нибудь случайностью торговли — скажем, прибытием нескольких кораблей, груженных европейскими красителями или доставивших несколько десятков заказов от европейских торговцев. Узнав все это, люди, любящие искусство, будут надеяться, что в свое время на смену древнему художеству придет новое искусство осознанной духовности и они увидят, что человечество будет жить более вольной, простой и мудрой жизнью, чем прежде.
Я сказал, что они увидят все это в свое время, но не могу утверждать, что увидим мы: это может оказаться таким далеким — как кое-кому и представляется, — что многие сочтут едва ли стоящим даже мечтать о том. Но и среди нас есть люди, которые не смогут отвернуться к стене и сидеть сложа руки в бездействии потому, что надежда кажется довольно смутной. И в самом деле, в то время как, с одной стороны, для нас слишком очевидны признаки теперешнего упадка древних искусств со всеми его пагубными последствиями, с другой стороны, наблюдаются отнюдь не малозаметные признаки новой зари после той ночи искусств, о которой я говорил раньше. Эти признаки — свидетельство того, что есть хотя бы немногие люди, которые искренне возмущены существующим положением вещей и жаждут чего-то лучшего или же по крайней мере надеются на лучшее. Ибо, полагаю, если с полдесятка людей серьезно посвящает себя тому, что сейчас появляется, что согласуется с природой, они рано или поздно своего добьются, ибо не случайно новые идеи возникают одновременно в головах нескольких людей, и это объединяет их, побуждает говорить и действовать, направлять мир к активности, высказывать то, что иначе осталось бы невысказанным.
К каким же средствам должны прибегнуть те, кто жаждет перемен в искусствах, в ком должны они пробудить страстное стремление к красоте или, что еще лучше, — желание развивать способность творить красоту?
Мне довольно часто говорят: если вы хотите, чтобы ваше искусство достигло успеха и процветания, сделайте его модным. Такие фразы, признаться, меня раздражают, ибо этим хотят сказать, что я должен тратить один день на свою работу, а два — на попытку убедить богатых и, вероятно, влиятельных людей, что они чрезвычайно интересуются тем, до чего им в действительности нет никакого дела. Как будто все может произойти по поговорке: куда вожак, за ним и вое стадо. Ну что же, такие советчики правы, если они довольствуются тем, что длится какое-то время — скажем, пока вы в состоянии добыть немного денег, если вас не прищемит слишком быстро захлопнувшаяся дверь. Во всем прочем они ошибаются. У людей, на которых они полагаются, в запасе много всякой всячины, и они с такой легкостью могут отвернуться от того, что не имеет успеха, что совершенно бесполезно пытаться потакать их капризам; это не вина наших советчиков, они ничего тут поделать не могут — у них нет возможности тратить свое время на то, чтобы узнать что-либо толковое об искусстве, и они поневоле попадают под влияние тех, кто ради собственной выгоды поворачивает моду то в ту, то в другую сторону.
От таких людей, господа, нельзя ожидать поддержки, так же как и от тех, кто доверяет им. Единственная реальная помощь для декоративных искусств может исходить от людей, которые занимаются этими искусствами, а они не нуждаются в том, чтобы ими руководили, — руководить должны они сами. Вы, чьи руки должны создавать вещи, которые станут художественными произведениями, вы должны стать художниками, и хорошими художниками, еще до того, как общество в целом проявит к этим вещам подлинный интерес. И когда вы станете такими художниками, вы — обещаю вам — поведете за собой моду. Она довольно послушно подчинится вашим рукам.
И это единственный способ, которым мы можем вызвать пополнение сознательного народного искусства. Что могут сделать несколько художников, что они могут сделать, работая вопреки трудностям, воздвигаемым на их пути пресловутой коммерцией, которую правильнее попросту назвать погоней за деньгами? Что могут сделать они, работая без всякой поддержки среди массы людей, которых словно бы в насмешку называют фабрикантами, то есть мастерами ручного труда, хотя большая их часть за всю свою жизнь ничего не смастерили своими руками и являются не кем иным, как капиталистами и торговцами. Что могут изменить немногие произведения художников — эти песчинки в громадной массе выпускаемых ежегодно изделий, которые выдаются за декоративное искусство и привлекают внимание только продавцов, пускающих эти изделия в оборот, чтобы утолить томление публики по чему-то если не прекрасному, то хотя бы новому. В лекарстве есть смысл, если оно помогает. Ремесленник, оказавшийся после разъединения искусств позади художника, должен его догнать и работать с ним бок о бок. Помимо различий между выдающимся мастером и учеником, помимо врожденных различий между склонностями человеческого ума, которые одних делают копировщиками, а других — архитекторами или мастерами декоративного искусства, не должно быть никакого различия между теми, кто посвятил себя чисто декоративной работе. И всем художникам декоративного искусства следует с помощью самого искусства ускорить превращение в художников тех рабочих, которые мастерят предметы согласно требованиям необходимости и полезности.
Я знаю, какие громадные — социальные и экономические — трудности стоят на этом пути, и все же мне сдается, что наше воображение их преувеличивает. Но в одном я убежден твердо: если такое превращение невозможно, то невозможно и живое декоративное искусство.
Но это далеко не невозможно. Более того, такое превращение несомненно должно произойти, если мы всей душой жаждем расцвета искусств. Если во имя красоты и благопристойности мир пожелает пожертвовать кое-чем из своих ценностей (а большая их часть, на мой взгляд, не стоит его забот), то искусство снова начнет развиваться. Что же касается упомянутых трудностей, то некоторые из них, на мой взгляд, постепенно сойдут на нет, если условия жизни людей претерпят соответствующие изменения. Что же касается остальных, то разум и неотступное внимание к законам природы, которые являются также и законами искусства, уничтожат мало-помалу и их. Повторяю, если у вас будет желание, то дорогу искать вам не так далеко.
И все-таки, даже если у нас есть желание и путь перед нами открыт, то нас не должно обескураживать, если путешествие на первых порах покажется довольно бесплодным; даже если какое-то время будет казаться, что дела становятся хуже, мы не должны падать духом, ибо вполне естественно, что то самое зло, которое побудило нас желать перемен, станет выглядеть еще уродливее, когда, с одной стороны, жизнь и мудрость начнут воздвигать нечто новое, а глупость и мертвечина, с другой, будут цепляться за старое. В этом деле, как и в любом другом, потребуется время, прежде чем станет очевидно, что положение выправляется; понадобятся мужество и терпение, чтобы не пренебречь мелочами, которыми следует заняться незамедлительно, понадобятся внимательность и осмотрительность, чтобы не возводить стен до того, как укреплен фундамент, и всегда во всех начинаниях потребуется скромность, которую не так-то легко сломить неудачами и которая хочет, чтобы ее учили и готова учиться.
Наставницами нашими должны стать природа и история. Настолько очевидно, что вы должны учиться у первой, что мне, думается, говорить теперь об этом не нужно; позднее, когда придется говорить подробнее, я, вероятно, скажу, как следует учиться у нее. Что же касается второй наставницы, то, полагаю, ни один человек, за исключением редких гениев, ничего в наши дни не добился бы без тщательного изучения старинного искусства, но даже и гению помешало бы отсутствие знания этого искусства. Если вам покажется, что это противоречит тому, что я оказал о гибели старинного искусства и о присущей нашему времени потребности в художественном обновлении, то я могу возразить, что если сейчас, во времена обширных знаний и недостаточного претворения их в жизнь, мы не будем глубоко изучать древнее искусство и не научимся его понимать, то подпадем под влияние окружающих нас слабых произведений и, не разбираясь ни в чем, начнем копировать копии великих произведений, что ни в коем случае не принесет нам настоящего искусства. Давайте поэтому тщательно изучать древнее искусство, учиться у него, находить в нем вдохновение и в то же время решимся не подражать ему, не повторять его и либо вообще не иметь искусства, либо создать искусство собственное, современное.
И все же, призывая вас к изучению природы и истории искусств, я оказываюсь почти в безвыходном положении, вспомнив, что мы в Лондоне и что он собой представляет. Разве я вправе призывать заботиться о красоте трудовой люд, который изо дня в день снует взад и вперед по этим отвратительным улицам? Будь это политикой, мы должны были бы сосредоточиться только на ней; будь это наукой, мы могли бы замкнуться в изучение фактов, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Но — красота! Неужели вы не видите, какие страшные преграды встают на пути искусства из-за длительного пренебрежения к нему, из-за пренебрежения к разуму, к тому, что касается искусства? Какими усилиями, какими стараниями сможете вы одолеть эти трудности? Это настолько тяжелый вопрос, что я волей-неволей должен пока отказаться от его обсуждения и возложить надежды на то, что изучение истории и ее памятников как-то в этом отношении поможет вам. Если вы обогатите вашу память знанием великих художественных произведений и великих эпох искусства, то, думается, вы сумеете кое-что разглядеть сквозь безобразное окружение, и ощутите недовольство существующей ныне бессмыслицей и бесчеловечностью, и, надеюсь, настолько возмутитесь всем дурным, что о примирении с близорукостью и безрассудством, с убожеством и грубостью, позорящими нашу сложную цивилизацию, уже не будет и речи.
Лондон, во всяком случае, замечателен тем, что его музеи открыты для широкой публики. Но я потребовал бы, чтобы они были открыты семь дней в неделю вместо шести или хотя бы в тот единственный день, когда обыкновенный труженик, один из содержащих их налогоплательщиков, имел бы возможность спокойно побродить по их залам. Любому, кто питает врожденную любовь к искусству, частое посещение музеев приносит пользу большую, чем это можно выразить словами. Однако необходимо кое-что предварительно разъяснять публике, иначе она не извлечет из хранимых в наших музеях бесценных художественных сокровищ достаточно пользы. Произведения искусства в музеях разрозненны. Музеи, кроме того, навевают обычно грустное настроение, — в частности, следами небрежности и разрушения на сберегаемых там художественных реликвиях.
Но у нас есть возможность изучать и более нам близкое, старинное искусство. Я имею в виду памятники нашей собственной страны. Правда, такая возможность открывается перед нами лишь изредка, ибо мы живем в мире из кирпича и строительного раствора, и нам приходится довольствоваться немногим — например, призраком великолепного Вестминстерского собора, экстерьер которого испорчен по глупости архитектора-реставратора, а интерьер изуродован фальшивой вычурностью, тщеславием и невежеством последних двух с половиной столетий. Немногое осталось и от находящегося неподалеку несравненного Вестминстер-холла. Но стоит выбраться из нашего прокопченного мира на лоно природы, как мы увидим все еще живые творения наших отцов, встроенные в природу и неразрывно слившиеся с нею.
Ибо не где-нибудь, а именно там, в сельской Англии, во времена, когда люди еще заботились о красоте, существовала полная гармония между творениями человека и природой того края, для которого они были созданы. Страна наша невелика, земли ее ограничены Ла-Маншем и Ирландским морем. Нет ни широких пространств, поражающих своим однообразием, ни уединенных глухих лесов, нет страшных непроходимых горных заслонов. Все соразмерно, смешано, разнообразно, всюду незаметные переходы ландшафта: маленькие речушки, небольшие долины, приподнятые и быстро исчезающие нагорья, и все окружено красивыми перелесками. Небольшие холмы, невысокие горы, окаймленные оградами пастбища для овец. Все невелико, но нет ни глупости, ни пустоты — все, скорее, серьезно и богато смыслом для того, кто склонен его искать: это не тюрьма и >не дворец, а уютный дом.
Все это я и не превозношу, и не принижаю, а просто говорю о том, что есть. Кое-кто чересчур восхваляет эту домашнюю атмосферу уюта, словно наша страна — это райский сад. Я далек от таких похвал, как и любой, не ослепленный гордостью собою и всем, что ему принадлежит. Другие, напротив, презирают нашу страну за ее неприметность. Но и к ним я также не принадлежу, — хотя и на самом деле было бы тяжко, если бы на свете не было ничего иного, никаких чудес, ничего устрашающего и никаких невыразимых красот. И все же, когда мы думаем, какое малое место в мировой истории, в ее прошлом, настоящем и будущем занимает страна, в которой мы живем, когда мы думаем о том, что еще меньшую роль играет она в истории искусств и что тем не менее наши предки были привязаны к этой земле и с заботой и старанием украшали ее — эту неромантичную и невзрачную землю Англии, — то, без сомнения, это также может тронуть наши сердца и оживить наши надежды.
Ибо какова была страна, таково было и ее искусство, когда народ как-то вообще заботился о них. Наше искусство не стремилось поразить людей пышностью или выдумкой, иногда оно становилось банальным, изредка достигало величественности, но никогда оно не подавляло, не было ни кошмарами раба, ни надменным бахвальством, а в лучших произведениях оно отличалось изобретательностью и самобытностью, и лучшее, что было в нем, в самом его сердце, — так же щедро отдавалось и дому иомена или убогой деревенской церкви, и дворцу феодала или величественному собору. Оно никогда не было грубым, хотя и бывало довольно примитивным, но всегда привлекательным, свежим и естественным. Это было скорее искусство крестьян, нежели крупных торговцев или придворных. И холодным, по-моему, должно быть сердце, которое не любит его, независимо от того, родился ли человек, как и мы, в этой стране или же пришел, восхищенный, к ее простоте от всего заморского великолепия. Это было, повторяю, крестьянское искусство, и оно прочно вошло в быт народа и все еще жило во многих местах, среди батраков и иоменов, когда крупные дома уже строились «по-французски и утонченно». Во многих местах еще жили причудливый ткацкий станок, ситценабивной пресс, игла вышивальщицы, когда глупая заморская напыщенность уничтожила естественность и свободу, а искусство стало, особенно во Франции, просто-напросто воплощением преуспевающего и торжествующего мошенничества и вовсе исчезло с глаз долой.
Таково было английское искусство, история которого лежит как бы прямо у нашего порога. Не так уж много произведений этого искусства сохранилось, но число их год от года заметно уменьшается не только из-за беспощадного разрушения, но также и по вине другого врага, имя которому — «реставрация».
Я не собираюсь подробно говорить об этом вопросе, но не могу и обойти его молчанием, поскольку сам настойчиво призывал вас к изучению старинных памятников. Суть дела в следующем: старинные здания меняли свой облик, и век за веком к ним присоединялись новые черты, нередко прекрасные, но всегда исторически значимые — именно в этом и состояла преимущественно их ценность. Почти всегда они страдали от пренебрежения, а часто и от грубого обращения (такие времена истории сами по себе отнюдь небезынтересны), но обыкновенный внешний ремонт почти всегда сохранял их нетронутыми частями природы и истории.
Но за последние годы великий подъем религиозного усердия, роста ученых занятий и — соответственно — знания средневековой архитектуры побудил людей тратить деньги на эти здания не просто с целью отремонтировать и сохранить их, сделать чистыми, недоступными для ветра и дождя, но с целью реставрировать их до некоего совершенного идеала, удалив, насколько возможно, все признаки того, что они претерпевали по крайней мере со времен Реформации, а часто и с более ранних времен. Иногда это делалось из явного пренебрежения к искусству, из религиозного рвения, но чаще всего с достаточно добрыми намерениями в отношении искусства. Все же вы не стали бы слушать меня в этот вечер, если бы не разделяли моего мнения, что такая реставрация невозможна, а попытка ее осуществить губит здания, к которым она применяется. Мне даже трудно представить, какая большая их часть стала почти бесполезной для изучения искусства и истории. Если бы вы достаточно хорошо знали архитектуру, то без труда поняли бы, какой ужасный вред нанесен этой опасной «малой осведомленностью». Но по крайней мере всякому должно быть ясно, что неосмотрительно обращаться с ценными национальными памятниками— значит оказывать стране услугу, достойную лишь сожаления. Ведь исчезновение этих памятников никаким великолепием современного искусства восполнить нельзя.
Из всего, что я говорил об изучении старинного искусства, вы можете заключить, что под образованием я понимаю нечто более широкое, чем обучение тому или иному искусству в художественных школах, и что им следует заниматься более или менее для себя, постоянно и сосредоточенно, думая об искусстве, изучая его всеми способами, тщательно и старательно практикуясь в нем и делая только то, что признано хорошим с точки зрения композиции и мастерства.
Конечно, все ремесленники должны до тонкости освоить мастерство рисования как средство и для этого изучения, о котором мы только что говорили, и для практической художественной деятельности. Ведь по-настоящему всех людей с нормальными умственными способностями следует учить рисовать. Но умение рисовать еще не есть искусство создавать художественные эскизы для изделий разного рода, оно лишь средство для одной цели — для общего художественного развития.
И я особенно хотел бы подчеркнуть, что композицию вообще нельзя преподавать в школе. Человеку, от природы склонному к искусству, помогут постоянная практика и неустанное изучение природы и искусства. Несомненно, людей, способных к художеству, достаточно много; им нужно, чтобы школа научила их определенной технике, так же как им нужны и инструменты. Кроме того, в наши дни, когда лучшая из школ — школа практики, существующая вокруг нас, — явно находится в упадке, этим людям, безусловно, необходимо изучение истории искусств. И технику рисования и историю искусств художественные школы преподавать могут. Столбовая же дорога освоения множества правил, опирающихся на псевдонауку рисования, которая сама в свою очередь составлена из множества правил, не ведет никуда или, вернее, возвращает к самому началу пути.
Существует единственный наилучший способ научить рисованию людей, занятых декоративной работой, — учить рисовать человеческую фигуру. Это и потому, что линии человеческого тела гораздо более утонченны, нежели что-либо другое, и потому, что вас легче проверить и поправить, если вы ошибаетесь. На мой взгляд, если бы этому можно было обучить всех желающих, то это значительно бы содействовало возрождению искусств. Для всех, в ком есть зерна творческого воображения, привычка различать между верным и неверным, чувство удовольствия от того, что нарисована правильная линия, действительно явятся, на мой взгляд, настоящим обучением в подлинном смысле этого слова. И все же, как уже сказано мною, в наше время было бы простым жеманством лицемерно закрывать глаза на искусство былых веков: его мы тоже должны изучать. Если другие обстоятельства, социальные и экономические, не преградят наш путь, — иными словами, если мир вообще позволит нам иметь декоративное искусство, то существуют два условия, при которых мы сможем его обрести: общее развитие умственных способностей и общее развитие остроты зрения и мастерства рук.
Вероятно, вам это кажется банальным советом и очень кружным путем, но тем не менее он, этот совет, надежен, если вы любой дорогой хотите прийти к новому искусству, о котором я говорил сегодня вечером. Если же вы этого не хотите и если пренебречь теми зернами творческого воображения, о которых я только что говорил и которые, несомненно, есть в людях, то законы природы и здесь, как и во всем другом, окажут свое действие, и сами художественные способности постепенно отомрут у всего человечества. Сможем ли мы, господа, приблизиться к совершенству, отказываясь от такой существенной части нашего интеллекта, которая делает нас людьми?
А теперь, прежде чем закончить, мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые явления, которые вследствие нашего пренебрежения к искусству и занятости другими делами преграждают нам путь. Это — такая помеха, что, пока мы не разделаемся с ней, трудно даже положить начало нашему делу. И если наш разговор покажется излишне серьезным для нашей темы, в чем я вовсе не убежден, то я прошу вас припомнить уже сказанное мною о нераздельности различных искусств. Существует одно искусство, о котором думал один старый архитектор{4} времен Эдуарда III{5}(речь идет об основателе Нью-Колледжа{6} в Оксфорде), который избрал для себя девизом изречение: «О человеке судят по его поведению в обществе». Под таким поведением он подразумевал искусство быть нравственным, искусство жить достойно, как подобает человеку. Я считаю себя вправе утверждать, что это искусство тоже имеет отношение к моей теме.
Мир полон множества поделок, пагубных для покупателя, еще более пагубных для продавца, если он только знает это, и уже совсем пагубных для того, кто их изготовляет. Какая прочная основа была бы заложена для безупречного декоративного искусства, если бы мы, его мастера, решились выпускать только великолепно выполненные изделия вместо тех весьма часто изготовляемых поделок, не всегда удовлетворяющих даже заниженным требованиям общепринятых стандартов.
За это я не порицаю ни один из классов в отдельности: я порицаю их все. Оставим в стороне наш собственный класс мастеров художественного ремесла, чьи недостатки нам с вами столь хорошо известны, что не стоит о них говорить; публика, в общем, бросается на дешевые вещи, в своем невежестве не понимая, что они отвратительны. Она так невежественна, что ее не беспокоит, стоят ли они запрашиваемой за них цены: так называемые фабриканты стремятся довести конкуренцию до предела, соревнуясь в дешевизне, а не в качестве. И они уступают свои никуда не годные товары по любой цене, предлагаемой им любителями выгодных сделок, причем добиваются этого средствами, которые можно назвать весьма противным словом: обман. В последнее время Англия была слишком занята всякими бухгалтерскими подсчетами и недостаточно делами мастерских, а в результате оказалось, что в настоящий момент бухгалтерским конторам явно недостает заказов.
Я сказал, что все классы нужно винить за такое положение. Вместе с тем я считаю, что исправить его могут только мастера художественного ремесла, которые в отношении качества товаров далеко не так невежественны, как покупатели, и, в отличие от фабрикантов и комиссионеров, не заражены ни жадностью, ни желанием обособиться; на них лежит почетная обязанность просветить широкие круги людей, а выполнить ее облегчат присущие им начала организованности и порядка.
Когда же они примутся за это, то помогут нам быть людьми, настойчиво проводя в жизнь самый значительный принцип искусства общественного поведения — наполнять свою жизнь наслаждением, доставляемым покупкой товаров по их настоящей цене; наслаждением, доставляемым продажей товаров, дешевизной и высоким качеством которых мы можем гордиться; наслаждением, доставляемым усердным и неторопливым трудом, производящим товары, которыми мы можем гордиться. Это доставляемое трудом наслаждение — величайшее из когда-либо испытанных человеком.
Не следует думать, что этот принцип этики не имеет отношения к моей теме. Наоборот, он особенно значителен, ибо я прошу вас учиться быть художниками, чтобы искусство не погибло и в нашей среде. Что же такое художник, если не труженик, который решил, что бы ни случилось, отлично выполнять свою работу, или, другими словами, — что такое красивый орнамент, если не воплощение радости, доставляемой человеку успешным трудом? Но какую же радость может принести плохая работа и безуспешный труд, зачем украшать плохое изделие? И как мы можем трудиться все время без всякого успеха?
В погоне за выгодой, желая получить то, что не заработано, мы загромождаем наш путь дрянными поделками. И огромные деньги, накопленные алчностью (а алчность, как все другие сильные страсти, упорно идет к цели), деньги, собранные в большие и малые груды, властно утверждают фальшивые различия между нами и воздвигают на пути искусства барьеры роскоши и показного блеска, а их преодолеть труднее, чем какие-либо иные препятствия. Самые образованные люди из высших классов не могут освободиться от этой вульгарности, а низшие классы — от притязаний на нее. Прошу вас отнестись к моим словам как к лекарству от этой заразы, прошу понять их смысл. Не может быть произведением искусства то, что бесполезно, или, иначе, что не помогает телу, управляемому разумом, что не развлекает и не утешает нас, не возвышает здоровый ум. От скольких тонн невообразимой рухляди, выдаваемой за художественные произведения, можно было бы очистить наши лондонские дома, если бы поняли эту мысль и претворили ее в действие! По-моему, лишь в редких случаях в богатых домах, если не считать кухню, можно найти предметы, которые приносили бы хоть какую-то пользу. Как правило, все так называемые украшения, встречающиеся в таких домах, предназначены пускать пыль в глаза, и вряд ли они кому-нибудь действительно нравятся. Эта глупость, повторяю, свойственна всем классам общества: шелковые занавески гостиной аристократу кажутся художественными произведениями не больше, чем пудра на волосах его лакея. Кухня в доме фермера — это обычно приятное и уютное место, гостиная же мрачна и бессмысленна.
Простота жизни, рождающая простоту вкуса, то есть любовь к приятному и возвышенному, более всего другого необходима для возникновения нового и благородного искусства, к которому мы стремимся. Простота должна быть всюду — и во дворце и в хижине.
Еще более нам повсюду нужна чистота и благопристойность и в хижине и во дворце. Их отсутствие — это серьезный недостаток, нарушающий принципы этики, и его необходимо ликвидировать, так же как и всяческое неравенство в жизни и веками накопленный беспорядок и неряшество, вызвавшие этот недостаток. И все же пока только очень немногие люди стали искать эффективное лекарство против него. Кто, например, обращает внимание на то, как уродуются коммерческой системой наши города? Кто пытается устранить их убожество и неприглядность? Всему виной беспечность, безрассудство и беспомощность людей; их жизнь слишком коротка, чтобы успеть сделать все самим, и у них нет ни мужества, ни прозорливости, чтобы начать эту работу и завещать ее следующим поколениям.
Так ли уж нужны эти деньги? Вырубите деревья, растущие между домами, сройте старинные, освященные веками здания ради денег, которые можно выручить за несколько квадратных ярдов лондонской земли. Загрязните реки, закройте солнце, отравите воздух копотью или чем-нибудь похуже — и никому нет до этого дела, никто и не подумает исправить зло, и это все, что нынешняя коммерция и пренебрегающая мастерской меняльная контора сделают здесь для нас.
А наука, которую мы так любим и которой так усердно занимаемся, — что сделает она? Боюсь, она слишком зависит от той же конторы и от военщины. Наука слишком занята, и она для нашего времени ничего не сделает. И все же какие-то нетрудные задачи она могла бы взять на себя, — в частности, научить Манчестер освободиться от своей копоти, или же научить Лидс, как избавиться от излишков черной краски, не выливая ее в реку, и это было бы так же достойно внимания науки, как производство тяжелого черного шелка или самых огромных из бесполезных орудий. Во всяком случае, как бы это ни происходило, пока люди, занимаясь каким-нибудь своим делом, не перестанут уродовать землю, — как могут они любовно относиться к искусству? Я знаю, потребуется немало времени и денег, чтобы хоть немного улучшить положение. Но лучший способ тратить деньги — тратить их так, чтобы сделать жизнь достойной и радостной для других и для самих себя. И неоценима для блага всей страны будет польза, если люди серьезно начнут заботиться об улучшении облика наших больших городов, даже если их деятельность и не сулит ничего особенно хорошего искусствам. Я не знаю, найдутся ли такие люди, но если бы они нашлись, я стал бы надеяться на лучшее. Но, повторяю, пока они не примутся за работу, мы едва ли можем даже начать надеяться на улучшение дел с искусством.
Если же мы не добьемся, чтобы облик наших домов и жилищ наших соседей радовал глаз и давал отдых уму, если не будет менее постыден контраст между полями, где обитают звери, и улицами, на которых живут люди, то занятие искусствами останется привилегией немногих весьма утонченных людей, которые часто посещают красивые места и благодаря образованию могут погружаться в размышления о былой славе мира, закрывая глаза на повседневное убожество, остающееся уделом большинства людей.
Искусство пребывает в таком близком содружестве с радостной свободой, открытым сердцем и жизнью, что оно не может жить в атмосфере замкнутости, оно чахнет в обстановке себялюбия и роскоши. Я пойду даже дальше и скажу, что и не желаю, чтобы оно жило в таких условиях. Я убежден, что честному художнику должно быть стыдно наслаждаться тем, что ему удалось нахватать из такого искусства, как должно быть стыдно богачу смаковать вкусные блюда на глазах у умирающих с голоду солдат осажденной крепости.
Я выступаю против искусства для немногих, так же как и против образования для немногих или свободы для немногих.
Право, уж лучше миру на какое-то время и в самом деле лишиться искусства полностью, нежели чтобы оно влачило убогое и тщедушное существование в среде немногих, исключительных людей, презирающих остальных за невежество, в котором сами они повинны, за грубость, с которой они не хотят бороться. Уж лучше пшенице лежать в земле, где она будет понемногу прорастать, чем ей гнить в амбаре скупца.
Я верю, однако, что искусства не исчезнут. Верю, что люди станут и более мудрыми и более образованными, что, оказавшись излишними, исчезнут многие сложности жизни, которыми мы сейчас гордимся больше, чем они заслуживают, — отчасти потому, что они для нас внове, отчасти же потому, что они пришли к нам, сопровождаемые некоторым благом. Я надеюсь, что мы начнем отдыхать и от войн — от коммерческой войны и от той, на которой рвутся снаряды и убивают штыками, — а также и от таких знаний, которые уже тяготят душу. Верю, что больше всего мы будем отдыхать от погони за богатством и не будем стремиться к тем необыкновенным привилегиям, которые на нем основаны. Я верю, что, подобно тому как уже теперь мы почти добились свободы, мы однажды добьемся равенства — а только оно одно и означает братство, — и тогда мы освободимся от нищеты, от всех ее жалких и тягостных забот.
И тогда, освободившись от этих забот, добившись простоты обновленной жизни, мы сможем спокойно подумать о нашей работе, о нашем верном друге, которого уже никто не назовет проклятым трудом. И тогда, несомненно, мы будем наслаждаться трудом, каждый на своем месте, и люди не будут завидовать друг другу. Никто не будет чьим-либо слугой, люди будут презирать даже возможность стать хозяином над другими. Труд даст людям счастье, и это счастье безусловно создаст благородное декоративное народное искусство.
Благодаря этому искусству наши улицы станут такими же красивыми, как леса, и пробудят такие же возвышенные чувства, как горные склоны. Все дома будут красивы и живописны, и это будет успокаивать ум и помогать в работе. Все наше окружение, все наши занятия сольются с природой, будут разумными и прекрасными; и в то же время все будет простым и серьезным, а не ребяческим, и наши общественные здания будут исполнены той красоты и великолепия, которые могут быть созданы умом и руками человека, точно так же как ни в одном из жилых домов не останется и следа пустого расточительства, показной пышности, и каждый получит свою долю подлинных богатств.
Вы можете сказать, что это мечта, что этого никогда не было и никогда не будет. Верно — этого никогда не было, но поэтому, так как мир живет и еще развивается, крепнет и моя надежда, что в один прекрасный день мечта станет явью. Да, это мечта, но еще недавно мы мечтали о таких вещах, что сегодня сбываются и приносят нам пользу и стали необходимы, и об этих вещах мы думаем теперь не больше, чем о дневном свете, хотя некогда люди должны были обходиться не только без них, но и без всякой надежды их получить.
Во всяком случае, пусть это и мечта, я прошу вас простить мне рассказ о ней, ибо она — самая основа всей моей работы в области декоративных искусств, и я никогда не перестану о ней думать. И я в этот вечер пришел к вам с просьбой помочь мне воплотить в жизнь эту мечту, эту надежду.
Возрождение художественного ремесла
Некоторое время назад возник большой интерес к тому, что на современном жаргоне называют художественной отделкой, а совсем недавно стала укрепляться уверенность, что на мало-мальски стоящей художественной отделке должна быть запечатлена индивидуальность ремесленника, а не только искусство художника, создавшего эскиз, но непосредственно не участвовавшего в его выполнении. Эта уверенность так укрепилась, что теперь мода на изделия ручного труда, даже если они никак не орнаментированы, — например, на вытканные вручную, а не на электрическом станке шерсть и холст, на связанные вручную трикотажные изделия и прочее. Нередко высказывается сожаление о ручном труде земледельца, быстро исчезающем даже в отдаленных уголках цивилизованного мира. Оплакиваются коса, серп и даже цеп, и многие весьма мрачно ждут, когда ручной плуг полностью исчезнет, как и ручная мельница, а грохот паровой машины заменит свист юного курчавою пахаря, звучавший некогда по всей стране. Люди, которые стремятся или воображают, что стремятся, подробно ознакомиться с искусствами, творящими простую жизнь, хотят полностью возродить ремесленные способы производства, а потому, вероятно, стоит подумать, результат ли это консервативных стремлений, которые нельзя претворить в жизнь, или же это, возможно, предчувствие действительно наступающих изменений в обычаях нашей жизни, изменений таких же неотвратимых, как и совсем недавние, приведшие к созданию системы машинного производства — системы, против которой пытаются теперь бунтовать.
В этой статье я предлагаю свести, насколько возможно, затронутую мною проблему к вопросу о том воздействии, какое замена ручного труда машинным производством оказала на искусство, причем это последнее слово я понимаю, по возможности, очень широко, включая в него все изделия, имеющие хоть какое-то право считаться красивыми. Я говорю: по возможности широко, ибо подобно тому как все дороги ведут в Рим, так жизнь, обычаи и стремления всех групп и классов общества основаны на экономических условиях, в которых живут массы людей, и потому при рассмотрении эстетики невозможно исключить общественно-политические вопросы. Хоть я и должен признаться, что разделяю вышеупомянутые консервативные сожаления, но с самого начала отрекаюсь от простой эстетической точки зрения, воспринимающей пахаря, его волов и плуг, жнеца, его труд, его жену и его обед как мотивы для прелестного гобелена, украшающего кабинет утонченного, склонного к созерцанию человека, ибо при таком подходе они, взятые сами по себе, лишаются всякого своеобразия и вызывают интерес разве только как красивая тема для картины. Наоборот, я хочу, чтобы жнец и его жена сами могли наслаждаться всей полнотой жизни, и я без всяких колебаний признаю справедливым, если они заставят меня нести часть своего бремени и тягот жизни, так чтобы мы вместе попытались покончить с ними, а не тащить поодиночке слишком тяжелый груз.
Возвращаясь к эстетике, отмечу, что, хотя в наши дни некоторая часть образованных классов огорчена исчезновением ремесел, они весьма смутно представляют, как и почему ремесла исчезают, как и почему они должны или могут возродиться. Ибо широкая публика чрезвычайно невежественна во всем, что касается способов и процессов промышленного производства. Разумеется, это одно из последствий машинной системы, о которой идет речь. Почти все товары создаются в отрыве от жизни их потребителей; мы не отвечаем за них, наша воля не принимала участия в их производстве, если только отвлечься от того, что мы являемся как бы частью рынка, которому эти товары навязываются ради прибыли капиталиста, израсходовавшего деньги на их изготовление. Рынок предполагает, что есть потребность в определенных товарах, и капиталист их производит, но сорт и качество этих товаров очень приблизительно соответствуют потребностям покупателей, ибо эти потребности подчинены интересам капиталистических хозяев рынка и они могут, если только захотят, заставить покупателя примириться с мало подходящими ему товарами, как они обычно и поступают. В результате получается, что хваленая индивидуальность наша — один обман, а люди, желающие хоть чуточку отклониться от проторенной дороги, должны либо тратить жизнь в изнурительном и бесплодном состязании с колоссальной системой, пренебрегающей их желаниями, либо же соглашаться, чтобы эти желания были подавлены, — лишь бы жить спокойно.
Возьмем несколько банальных, но достоверных примеров. Вам, скажем, нужна шляпа — приблизительно такая, какую вы носили в прошлом году; вы идете к торговцу шляпами, но видите, что не можете купить ее там. У вас не остается иного выхода, как смириться. Деньги сами по себе не могут купить шляпу, которая вам нужна; три месяца упорных усилий и двадцать фунтов уйдут на то, чтобы прибавить один дюйм к широкополой фетровой шляпе, ибо вам нужно пробиться к мелкому предпринимателю (а их осталось очень немного) и целым рядом сложных интриг и отчаянных поступков, которые снабдили бы материалом трехтомный роман, уговорить его ради этого случая превратить одного из своих работников в ремесленника, и — откровенно-то говоря — очень плохого ремесленника. Или вот другой пример. Я хожу с тростью. Как и всем здравомыслящим людям, мне нравится тяжелый наконечник, который позволяет описывать перед собой тростью полукруг. Год или два назад появилась мода срезать трости наподобие тощей моркови, и я на самом деле полагаю, что попытки достать палку привычной формы сократили мне жизнь, — столь трудными они были. Еще пример. Вам понадобилась какая-то мебель. Однако в интересах торговли (обратите внимание — торговли, а не ремесла!) мебель покрывают глупейшими и бездарными украшениями. Вы хотите избавиться от этого убожества и обращаетесь к драпировщику, который ворчливо соглашается выполнить вашу просьбу, но вы убеждаетесь, что за свой каприз и попытку избавиться от навязываемой торговлей отделки (я отказываюсь называть ее орнаментом) приходится платить двойную цену. И это все потому, что вы прибегли к помощи ремесла, а не машины. Таким образом большинство людей наталкиваются на запретительный тариф, накладываемый на ознакомление с производственными методами и процессами. Мы не знаем, как делается тот или иной товар, какие трудности возникают при его производстве, как он должен выглядеть, почему должен нравиться своим видом, фактурой, запахом и в какую цену обходиться, если не брать в расчет прибыль торгового посредника.
Мы утратили искусство торговать, и вместе с ним и необходимую близость с жизнью мастерской; существуй эта близость, она стала бы весьма ощутимой преградой для частных плутней.
Естественным следствием нашего незнания способов, которыми производятся товары, оказывается то, что даже те, кто восстает против чрезмерного разделения труда в важнейших профессиях и так или иначе желает возврата к ремеслам, не знают, какова же была жизнь ремесла, когда все производилось еще ручным трудом. Чтобы их протест оправдал хоть какие-то надежды, необходимо, чтобы они кое-что знали об этом. Я вынужден предположить, что многие, а возможно, и большинство моих читателей не знакомы с социалистической литературой, что лишь немногие прочли прекрасное описание различных промышленных эпох, которое содержится в великом труде Карла Маркса, озаглавленном «Капитал». Поэтому прошу позволения изложить очень кратко положения, выдвинутые главным образом Марксом, которые, будучи известны социалистам, не так уж хорошо знакомы вне их круга. Было три великих промышленных эпохи с начала средних веков. На первой, или средневековой, стадии все производство было по своему способу индивидуальным, потому что, хотя ремесленники и объединялись в большие группы для организации труда, они объединялись как граждане, а не просто как рабочие. Существовало лишь незначительное разделение труда или оно вовсе отсутствовало; механизмы, которыми тогда пользовались, представляли собой просто разнообразные инструменты, помогавшие труженику в ручном труде, но не заменявшие человека. Ремесленник трудился на себя, а не на капиталиста-нанимателя и соответственно он был хозяином своего труда и своего времени. Таков был период чистого ремесла. Когда во второй половине XVI века стали появляться капиталисты-наниматели и так называемые «свободные рабочие», ремесленников начали собирать в мастерские, прежние инструменты — машины — были улучшены и, наконец, в этих мастерских утвердилось изобретение — разделение труда. Разделение труда продолжало углубляться на протяжении всего XVII века и было усовершенствовано в XVIII, когда единицей труда стала группа, а не отдельный человек: другими словами, рабочий превратился в простой придаток машины, состоящей иногда целиком из людей, а иногда из людей в сочетании с экономящими труд машинами, которые к концу этого периода изобретались в изобилии. Летающий челнок может быть образцом такой машины. Вторая половина XVIII века увидела начало последней из известных миру промышленных эпох, когда автоматически действующие машины вытеснили ручной труд и превратили рабочего, который некогда был применявшим инструменты ремесленником, в придаток машины, а затем и в прислугу при машине.
И насколько мы можем видеть, революция в этом направлении, касающаяся качества достижений, теперь уже завершена, но что касается их уровня, то здесь, как указал в прошлом году г-н Дэвид А. Уэллс{1} (1887), обнаруживается тенденция ко все большему и большему замещению «мускульной силы».
Такова очень кратко история развития промышленности за последние пятьсот лет. И вот встает вопрос: вправе ли мы желать, чтобы ремесла в свою очередь снова заманили машины? Или, может быть, лучше спросить иначе: разовьется ли современное машинное производство в новое, столь независимое от человеческого труда, что мы этого не можем даже представить себе, или же оно разовьется в свою противоположность, в новый и лучший вид ремесленного производства? Вторая форма этого вопроса предпочтительнее, потому что помогает дать разумный ответ людям, которые, будучи озабочены судьбами красоты, наверняка спрашивают, — хорош или плох совершившийся переход от ремесла к машинам? И на этот вопрос можно ответить, по-моему, так, как сказал мой друг Белфорт Бэкс: в статике он плох, в динамике — хорош. Как условие жизни, машинное производство в целом есть зло, но как средство, обеспечивающее лучшие условия жизни, оно незаменимо и на некоторое время останется таковым.
Попытавшись, таким образом, отмежеваться от реакционного пессимизма, я попробую показать, почему же в статике ремесло, по моим понятиям, желательно и почему его гибель ведет к разложению жизни. Итак, я не удержусь прежде всего резко и прямо заявить, что машинное производство обязательно рождает уродливую утилитарность во всем, с чем имеет дело человеческий труд, а это — серьезное зло, ведущее к распаду человеческой жизни. Так это очевидно, что не многие отважутся отрицать справедливость последней части моего утверждения, хотя в глубине души большинство культурных и образованных людей не склонно считать машинное производство злом, ибо их собственный распад зашел уже так далеко, что своими глазами они неспособны отличить красоту от безобразия. Их признание желательности красоты — лишь условность, суеверный пережиток тех времен, когда красота была необходима всем людям. Мысль, что машинное производство рождает уродство, я не могу обсуждать с этими людьми, потому что они не только не знают, но и не желают знать, как отличается красота от уродства; а с теми, кто понимает, что значит красота, мне не к чему обсуждать это, поскольку им слишком известно, что продукция нашего машинного века безобразна и что повсюду, где что-либо из старого исчезает, появляется нечто новое, уступающее ему в красоте. Это относится, кстати, к нашим полям и вообще к природе. Искусство красиво делать любые обыкновенные предметы: повозки, ворота, ограды, лодки, сосуды и протее, не говоря уж о домах и общественных зданиях, — бессознательно и без всякого сопротивления кануло в прошлое; если что-нибудь из этих простых предметов нуждается в обновлении, то единственно, над чем задумываются, — это во что это обойдется, отделываясь таким образом от ответственности и перекладывая их исправление на следующее поколение.
Могут оказать — и я сам слышал это, — что поскольку в мире еще сохранилась какая-то красота и какие-то люди, которые восхищаются ею, то в эклектизме, признанном сегодняшним днем, есть определенная польза, ибо на фоне безобразия только и может быть оценена по достоинству столь редкая теперь красота. Подозреваю, что это всего лишь вариация идеи, воспринятой как якорь спасения самым ленивым и трусливым слоем наших образованных классов, идеи, согласно которой страдать ради меньшинства — это благо большинства. Но если кто-нибудь искренне опасается, что мы можем оказаться слишком счастливы, находясь в приятном окружении и имея возможность постоянно им наслаждаться, то я должен ответить, что страх этот неоправдан. Даже когда отлив и его волны унесут наконец нынешние убожество и вульгарность, то, мне кажется, понадобятся усилия многих поколений, чтобы усовершенствовать это преобразование. И когда наконец оно завершится, то прежде всего мы будем радоваться собственному успеху и победе, а затем нам придется долго пробираться через гнилое море уродливости, от которой мы в конце концов избавимся. Но ответ на это возражение, собственно, должен быть глубже. Насколько я понимаю, мы хотели бы, чтоб ни у кого не возникало сознательное желание создавать красоту ради самой красоты; именно оно порождает жеманство и изнеженность среди художников и их поклонников. В великие художественные эпохи сознательные усилия направлялись на то, чтобы создавать замечательные произведения во славу города, во имя торжества церкви, для воодушевления граждан или для оживления набожности и веры. Даже для самого возвышенного искусства целью была не красота, а историческая правда или наставление живым людям и их потомкам.
Малое же искусство, непосредственное и естественное, никак не вмешивалось в грубые дела жизни; оно помогало вообще всем людям понимать более благородные формы искусства и воспринимать их. Но как бы непосредственны ни были творцы этой простой красоты, они не хотели и не могли отказаться от наслаждения, доставляемого им трудом. И именно это, больше чем что-либо иное, поддерживает во мне надежду на возрождение ремесел. Я говорил это достаточно часто, но должен сказать еще раз, ибо это важный довод в пользу ремесла; пока человек мирится с тем, что его повседневная работа — лишь беспросветная нудная канитель, он напрасно ищет счастья. Я утверждаю далее, что самые кровавые деспоты былых времен никогда не угнетали народ так, как современные капитаны промышленности, которые отняли у рабочих радость труда. Кроме того, я совершенно убежден, что ремесленный труд в сочетании с некоторыми другими условиями, которые явятся в скором времени, будет создавать красоту и доставлять наслаждение, о котором я говорил. И если это произойдет, если двойное удовольствие от приятного окружения и радостного труда займет место двойной пытки убогим окружением и нудным трудом, — разве нет у нас разумных оснований желать, чтобы ремесла, если это возможно, снова заняли место машинного производства?
Я не закрываю глаза на те грандиозные перемены, которые ознаменовали бы этот переворот. Заповедь современной цивилизации состоятельному человеку гласит: «Избегайте забот! Пусть как можно больше ваших обязанностей исполняется за вас другими!» «Живи за счет других!» — таков клич нашей цивилизации, и мы, состоятельные и образованные люди, пока этот девиз в силе, живем без затруднений. Но как, например, обстоит дело с приходскими священниками, которые за скудное жалованье делают для нас несравненно больше, чем просто отслуживают мессы? Суждено ли им всегда перебиваться на таком жалованье? Пора наконец перестать перекладывать на других свою ответственность и самим нести свое бремя. Однако довольно говорить об этом: моя статья не посвящена политике; подойдем к моей теме с другой стороны. Какими несчастными кривобокими существами стали мы из-за чрезмерного разделения труда в различных профессиях! А как намереваемся мы распорядиться нашим временем, доведя до совершенства искусство жить за счет других, еще больше запутав проблему непрерывным созданием искусственных потребностей, которые мы отказываемся удовлетворять собственными усилиями? Собираемся ли мы все (я имею в виду нас, великий средний класс) стать философами, поэтами, эссеистами — словом, людьми гениальными, — если мы взираем на обычные обязанности жизни с таким же презрением, с каким хорошо воспитанные люди смотрят на отличный обед, хотя и поедают его с отменным аппетитом? Я содрогаюсь при одной мысли, как мы опостылей друг другу, когда достигнем в этом совершенства. К тому же, думаю, во всех областях культуры появилось гораздо больше гениев, чем мы можем прокормить, и нам скорее не хватает аудитории, нежели проповедников. Я прошу прощения у читателей, но все это столь прискорбно, что трудно не засмеяться сквозь слезы. Предаваясь своему пессимизму, мы чванимся собственной мудростью, и все-таки мы беспомощны перед лицом потребностей, которые сами себе создали и которые, несмотря на нашу озабоченность судьбой искусства, вынуждают нас пребывать одновременно и в роскоши, не очищенной красотой, и в убожестве, чуждом подлинной жизни или романтики, причем и то и другое однажды нас погубит.
Да, мы страшно нуждаемся в такой системе производства, которая предоставила бы нам и красивое окружение и приятную работу и которая имела бы целью превратить нас в добрые человеческие существа, способные делать кое-что для самих себя, так чтобы мы все вообще могли бы стать интеллигентами, а не делиться соответственно делениям на классы, с одной стороны, на тупых поденщиков или еще более тупых охотников за удовольствиями, а с другой — на пессимистически настроенных интеллигентов или претендентов на это звание. Совершенно несомненно, что нам нужно радоваться нашей повседневной работе и наслаждаться нашим каждодневным отдыхом, а ничего этого мы не сможем добиться, если свалим весь груз наших повседневных обязанностей на машины и их обслугу. Мы вправе желать, чтобы в мир вернулся одухотворенный ремесленный труд, который некогда даже жизнь среди войн, сумятицы и житейских превратностей делал терпимой и который, надо полагать, сделает нас счастливыми теперь, когда мы стали так миролюбивы и так внимательны к общему благополучию.
Затем встает вопрос — каким образом может быть осуществлена такая перемена? И здесь мы тотчас же сталкиваемся с тем печальным фактом, что недомогание и гибель ремесел — это, кажется, естественное выражение тенденции нашего века. Мы выбрали цель, а стало быть, и средства. С последних лет средневековья создание аристократии духа было, так сказать, заветной целью цивилизации — вместе с целью материальной — заменить аристократию крови аристократией богатства. Часть цены, которую цивилизация должна была уплатить за достижение этой цели (кое-кто может считать эту часть незначительной), состояла в том, что новая аристократия духа была вынуждена изжить свой интерес к красоте и романтике жизни, интерес, который некогда был присущ по крайней мере каждому ремесленнику, если не каждому труженику, и жить в окружении уродливой вульгарности, которой мир прежде, при всех переменах, не знал до нынешних дней. Не удивительно, что до самого недавнего времени мир не сознавал этого распада, и многим может показаться странным, что теперь он начал частично осознавать его. Теперь нередко можно слышать, как люди говорят о той или иной сельской местности или городском предместье: «Ах, год назад или около того здесь было так красиво, но вот это здание все испортило». Сорок лет назад, строя здание, думали еще подчеркнуть им красоту местности. А сейчас и осознав, что мы создаем уродство, мы продолжаем его создавать. Мы видим, во что обошлась нам наша аристократия духа, и даже сама эта аристократия весьма сожалеет об этой сделке и была бы рада сохранить свои преимущества, но не платить за них сполна. Отсюда — не только пустое ворчание по поводу неослабного наступления машин на умирающие ремесленное производство, но также и всевозможные изящные увертки, имеющие целью избавиться от последствий обретенного нами привилегированного положения. Однако все эти увертки имеют лишь временный и очень ограниченный успех. Огромная волна коммерческой необходимости сметает все благонамеренные попытки преградить ей путь — и кто поймет, куда эта волна устремляется?
И тем не менее в конце концов даже такие слабые проявления недовольства тиранией коммерции — это приметы революционной эпохи. Я далек от мысли, что машинное производство будет развиваться бесконечно — жизнь утратила бы тогда всякий смысл. Верно, конечно, что у образованного среднего класса при всем его могуществе нет сил воскресить красоту и романтику жизни, но это станет задачей нового общества, которое создаст, — да нет, уже создает — сама же без удержу развивающаяся коммерческая система. Образованный класс буржуазии — это класс рабовладельцев, и его стремление жить по собственному желанию ограничено необходимостью постоянно изыскивать работу и средства пропитания для рабов, которые поддерживают его существование. Только лишь общество равных может позволить себе выбрать жизнь по своему желанию и отказаться от вульгарной роскоши и низкопробной утилитарности во имя высшего наслаждения полнотой жизни. Я твердо уверен, что в конце концов мы создадим это общество равных, и когда оно наберет силу, то не потерпит, чтоб люди жили с помощью машин за счет других и, в отличие от общества нашего века, станет хозяином, а не слугой этих машин.
Поскольку нам придется пережить ряд общественно-политических событий, прежде чем мы обретем свободу жить по собственному выбору, мы должны приветствовать даже этот слабый, возникающий сейчас протест против опошления всей жизни, во-первых, потому, что он является одним из симптомов недуга современной цивилизации, и, во-вторых, потому, что он сохраняет живыми как воспоминания о прошлом — этот необходимый элемент будущей жизни, — так и те методы работы, утратить которые не может себе позволить ни одно общество. Словом, можно сказать, что хотя движение за возрождение художественных ремесел едва пробивается на поверхность перед лицом гигантской коммерческой системы, тем не менее в соединении с разворачивающимся ныне общим движением за свободную жизнь для всех оно знаменует восстание против духовного рабства и свидетельствует о приближении перемен, связанных с поворотом нашей цивилизации к социализму, и потому оно достойно внимания и вселяет в нас мужество.
Искусство и его творцы
То, что я должен рассказать, покажется вам, боюсь, хорошо известным, но, думается, для начала кампании за популяризацию и развитие прикладных искусств тема моей лекции очень важна. Для начала я предложу вам ее текст, чтобы вам заранее была ясна направленность моего выступления. Такой план, я надеюсь, сбережет и ваше и мое время.
Побуждение к труду связывают обычно с необходимостью зарабатывать себе средства к жизни. и так как в нашем современном обществе это действительно единственное побуждение для тех трудящихся, которые заняты производством товаров, имеющие некоторое отношение к искусству, то маловероятно, чтобы работающие таким образом люди могли создавать подлинные художественные произведения. Поэтому желательно, чтобы либо вообще подобные товары были без всякой претензии на художественность и чтобы к искусству относились лишь предметы, предназначенные быть произведениями искусства, например картины, скульптура и тому подобное, либо чтобы побуждение трудиться из-за необходимости было соединено с интересом к самой работе и стремлением насладиться ею.
Таковы мои основные положения, и я совершенно уверен, что вы сочтете нужным серьезно обдумать содержание моего доклада, если только намерены действовать, а не просто толковать об искусстве, для чего художественные произведения не нужны, ибо ныне и без того придумано множество изящных фраз, отвечающих на все житейские вопросы.
Во-первых, стоит ли делать вид, будто мы создаем архитектуру и архитектурные искусства, если на самом деле их не существует? Во-вторых, должны ли мы по беспечности либо с отчаяния в принципе от них отказаться, из-за того, что в действительности их нет? И в-третьих, стоит ли добиваться, чтобы они у нас были?
Утвердительно ответить на первый вопрос — значило бы признать, что мы были слишком беспечны и беспорядочны, чтобы всерьез его обдумать, независимо от того, не было ли это с нашей стороны глупостью (и весьма прискорбной). Утвердительный ответ на второй вопрос заставил бы признать в нас очень правдивых людей, решивших не обременять себя никакой ответственностью, даже если бы это обрекло нас на скучную и бессодержательную жизнь. Если же мы искренне ответили бы утвердительно на третий вопрос, то приняли бы на себя и ответственность за собственную жизнь и множество всяких забот, по крайней мере на некоторое время, но зато стали бы намного счастливей.
Боюсь, что хотя я и выдвинул перед вами второе из перечисленных решений ради внешней логической обстоятельности, но мы теперь не вольны сознательно принять его, хотя в конце концов нам придется это сделать. Сегодня, полагаю, для нас возможны только два решения: спокойно принять широко распространяющееся псевдоискусство, которое в действительности распространяется не дальше рекламных объявлений, или же начать бороться за такое искусство, которое проникло бы во всю нашу жизнь и сделало бы ее счастливей. Но так как это решение, если мы относимся к нему серьезно, повлечет за собою перестройку общества, то давайте сначала посмотрим, что собой действительно представляют архитектурные искусства и стоит ли о них беспокоиться, ибо если не стоит, то лучше все оставить так, как есть, и смириться с тем, что мы были просто очень глупы, заставив себя притворяться, будто мы нуждаемся в этих искусствах, тогда как они вовсе нам не нужны.
Цель архитектурных искусств, если они являются чем-то подлинным, — добавлять ко всем предметам домашнего обихода известную долю красоты, которая желательна и потребителю и мастеру. До сравнительно недавнего времени никто и не спрашивал, должны ли быть красивыми и интересными эти предметы, — это подразумевалось само собой, без какого-то бы ни было определенного требования со стороны потребителя и без сознательных стараний мастера. А псевдоискусство, о котором я говорил, — просто укрепившийся в нашей жизни пережиток. Это одна из причин, почему вы не можете отказаться от псевдоискусства тем простым и логичным способом, какой я только что предложил вам в качестве второго из возможных решений.
Целостность и подлинность архитектурного искусства, которые, заметьте, воплощаются мастером в его изделиях не только потому, что это его обязанность (работая, он не чувствует принуждения), но потому, что это ему нравится, хотя он и не всегда осознает, что наслаждается своим трудом, — такое подлинное архитектурное искусство зависит от товаров, с которыми оно составляет единое целое и которые производятся мастерами-ремесленниками для людей, понимающих в мастерстве толк. Потребитель предпочитает такие-то и такие товары, а мастер, выпускающий их, должен согласиться с его выбором. Форма изделий не должна навязываться ни потребителю, ни производителю; оба должны быть одного мнения и иметь возможность при легко вообразимых обстоятельствах обмениваться ролями потребителя и производителя. Сегодня столяр мастерит сундук для ювелира, а завтра ювелир отделывает чашку для столяра, и оба чувствуют в своей работе взаимное согласие, то есть столяр делает для своего друга-ювелира точно такой же сундук, какой сделал бы для себя, если бы он был ему нужен, чашка же ювелира точно такая, какую он сделал бы для себя, если бы она была нужна ему. Работая, каждый сознает, что делает вещь, которой будет пользоваться человек с такими же, как и у него, потребностями. Я прошу запомнить эти слова, ибо вскоре мне придется говорить и о различиях в условиях их работы. Тем временем заметьте, что декоративное или прикладное искусство не опрашивает, как, возможно, думает большинство людей, нужно или не нужно украшать или делать изящными беспомощные, безжизненные, но необходимые предметы нашего быта — дом, чашку, ложку и так далее. Сундук и чашка, дом или что-нибудь другое могут быть просты и неотделаны или же лишены того, что обычно называется орнаментом, но если они создаются в том настроении, о котором я говорил, то неизбежно окажутся произведениями искусства. В работе, выполненной так, интерес к одному занятию сменяется и должен сменяться интересом к другому занятию. Знание человеческих потребностей и сознательное стремление пойти навстречу желаниям людей — это необходимое условие подобной работы, и благодаря ей человечество обретает единство. Мир, покой, который несут с собой искусства, вырастает из корней именно такой работы, и он цветет даже посреди раздоров, тревог и сумятицы.
Таково прикладное искусство, которое, уверяю вас, стоит борьбы за то, чтобы оно действительно существовало. Да, я твердо убежден, что это искусство стоит борьбы, как бы тяжела она ни была. Есть такие вещи, которые достойны любой цены; превыше же всего я ценю сознательную мужественную жизнь, а искусства, во всяком случае, неотъемлемы от такой жизни.
Таково мое представление об условиях, в которых может создаваться подлинное архитектурное искусство, но мои рассуждения не просто воздушные замки, они основаны на изучении истории развития промышленных искусств. Поэтому мне теперь следует сделать беглый обзор моих взглядов на историю, хотя так часто это делалось раньше, что они должны быть известны многим, если не большинству из вас. На протяжении всей истории вплоть до конца средних веков даже и не возникал вопрос, следует ли придавать художественную форму изделиям, предназначавшимся существовать более или менее длительное время. Такая форма не увеличивала их стоимости и не требовала от мастера сознательных усилий при работе над ними. Просто художественная форма была присуща им, и возникала она так же естественно, как растет растение. На протяжении всех этих веков такие изделия целиком изготовлялись ручным трудом. Правда, в древнем мире большинство изделий создавалось системой рабского труда, и хотя положение рабов-ремесленников очень сильно отличалось от положения сельских батраков, тем не менее их рабство оставило заметный отпечаток на малых искусствах того периода в их буквально подобострастном подчинении более высокому искусству, которое создавалось художниками. Когда в Европе вместе с классическим миром умерло рабство, то вскоре, словно из котла Медеи{1} в котором перекипало все, что угодно, возникли средние века. Стоило появиться гильдиям, которые собрали вокруг себя и свободных и крепостных того времени, как эти работники, мастера всевозможных изделий, стали в своей работе свободны безотносительно к своему социальному положению. Декоративные искусства достигли небывалого расцвета, и, во всяком случае, миру как бы было дано предвкусить ту радость жизни, которая должна быть присуща обществу равных. В это время мастерство ремесленников достигло вершины. Общепризнанная цель ремесленных гильдий, как неопровержимо свидетельствуют их уставы, состояла в том, чтобы справедливо распределять работу среди ремесленников и приостановить в самом начале развитие капитализма и конкуренции внутри гильдии и в то же время производить изделия, критерием ценности которых было их действительное употребление и реальные потребности всех соседей, которые были заняты работой, выполняемой в таком же духе. Этот способ производства, имевший целью потребление, а не прибыль, принес должные плоды. Конечно, многое из того, что было создано гильдиями XIV и XV веков, погибло. Даже наиболее прочные их создания, например возведенные ими здания, были либо уничтожены, либо пришли в ветхость из-за невежества или нетерпимости, из-за легкомыслия или педантичной придирчивости последующих веков. Но то, что дошло до нас — и чаще всего благодаря простой случайности, — оказывается достаточным, чтобы преподать нам следующий урок: никакое развитие цивилизации, никакое вмешательство науки, покорившей в наши дни природу, пока эта наука не касается трудовой жизни рабочих, не способны заместить ни свободу рук и мысли в течение рабочего дня ремесленника, ни заинтересованность его в успехе самой работы. Кроме того, коллективный талант народа, воплощенный в свободном и гармоническом сотрудничестве, для архитектурного искусства гораздо более плодотворен, чем судорожные усилия величайшего индивидуального гения, ибо в первом случае жизнь и радость выражаются свободно, привычно и непосредственно, и это связано с традициями прошлого и, следовательно, столь же неизменно, как и труд самой природы.
Но этому обществу тружеников, этой вершине средневекового труда была суждена короткая жизнь. Ело тенденция к равенству была настолько полно уничтожена развивавшейся политической средой, в которой эта тенденция проявлялась, что о ее существовании едва ли догадывались до возникшей в наше время школы исторической критики. Люди, которые, пожалуй, невольно склонны терзать себя гаданиями о том, что могло бы произойти, пусть примут во внимание не менее существенные события, которые способствовали, по-видимому, той же перемене, и поразмыслить, что случилось бы, если бы Черная смерть{2} не опустошила половину северо-западной Европы, если бы Филипп ван Артевельде{3} со своими храбрыми воинами нанес бы поражение французскому рыцарству при Росбеке, как сделали их отцы при Куртре{4}, если бы рослые иомены Кента и Эссекса{5}, собравшись на «славном поле Майл-Энда», были бы не столь простодушны и не доверились бы молодому авантюристу, который совсем незадолго до того умертвил их вождя и покончил с крестьянской войной.
Все это приятные пустяки, но это и кое-что другое. Системе гильдий должен был неизбежно прийти конец. Как только созрела жажда новых знаний и большей власти над природой, как только двинулась более быстрыми темпами жизнь, развитие производительного труда должно было подняться на новую ступень. Гильдии оказались неспособными удовлетворить нужды в расширении производства и должны были исчезнуть, внеся значительный вклад в уничтожение феодальной иерархии и породив буржуазию, которая заняла ее место как господствующая в Европе сила. Капитализм начал созревать еще в недрах цеховой организации; в гильдиях впервые появился и наемный, так называемый свободный рабочий. Вне цехов, особенно в нашей стране, землю стали обрабатывать с целью получения прибыли фермеры-капиталисты, а не крестьяне — ради добывания средств пропитания, и таким образом была создана система производства, необходимая для развития современного общества — общества, покоящегося на договорных началах, а не на юридических установлениях. Эта система отличалась тем, что работник уже не был свободен в своей работе: над ним обязательно вставал хозяин, полностью контролирующий эту работу вследствие того, что ему принадлежали и сырье и орудия труда; появился и широкий рынок для продажи товаров, с которым работник не имел непосредственной связи и о существовании которого у него не было никакого представления. Постепенно он перестал быть искусным мастером, человеком, который, чтобы выполнять свою работу, обязательно должен интересоваться ею, поскольку он отвечал за качество изделий, которые ему приходилось производить и рынок для которых состоял преимущественно из его соседей, людей, чьи потребности он хорошо знал. Вместо искусного мастера, каким он был некогда, он становится наемным рабочим, не отвечающим ни за что и обязанным лишь выполнять указания своего мастера. Возможно, что в свободные часы он—смышленый гражданин, склонный разбираться в политике или тяготеющий к занятиям наукой или чем-нибудь в этом роде, но в свои рабочие часы он даже не машина, а какой-то небольшой придаток к этой громадной и почти чудодейственной машине — фабрике. Он человек, житейские интересы которого совершенно оторваны от предмета его труда — весь его труд стал «службой», то есть просто возможностью зарабатывать себе на пропитание в зависимости от воли какого-то другого человека. Обыкновенный рабочий при такой системе совершенно утратил всякий интерес к производству изделий, и этот интерес стал достоянием только организаторов его труда. Но такой интерес имеет обычно очень отдаленное отношение к производству товаров как предметов, которые держат в руках, рассматривают, которыми пользуются, — короче говоря, теперь эти товары — просто фишки в колоссальной игре мирового рынка. Мне представляется, что в этой громадной «производственной» области имеется немало «производителей», которые пришли бы в ужас, если б подумали, что им самим придется пользоваться товарами, которые они «произвели», и если бы они оказались свидетелями восторга их покупателей; и когда эти товары достигли бы конечной цели своего назначения, то они, вероятно, цинично усмехнулись бы.
В этом коротком обзоре я намеренно опустил ступени, через которые мы пришли к резкому различию между ремесленником средних веков и свободным рабочим наших дней, между производством изделий для непосредственного потребления и производством их как товаров для мирового рынка. Мне хотелось представить вам эти различия возможно отчетливее, но, предвидя возражения, я должен сказать, что отчетливо сознаю, что это превращение происходило постепенно, что свободный рабочий нового времени не должен был в самом начале резко менять способ работы, что система разделения труда коснулась его в XVII веке, что она была усовершенствована в XVIII и что, по мере того как эта система приближалась к совершенству, изобретение автоматически действующих машин еще раз изменило отношение рабочего к своей работе и в крупных промышленных отраслях превратило его из машины в сиделку при машине (мне кажется, это было для него достижением) и, с другой стороны, привело почти все уцелевшие до той поры ремесла под власть той же системы разделения труда и, таким образом, на некоторое время уничтожило мастерство среди тех классов, которые трудом зарабатывают себе на жизнь. Но их мастерство почти совсем вымерло, сохранившись только среди художников-профессионалов, претендующих на звание джентльменов.
Если мы серьезно хотим, чтобы архитектурные искусства утвердились в жизни, мы должны прямо взглянуть в лицо тем фактам, которые в первую очередь касаются рабочего. Но чтобы ясно представить себе действительное положение рабочего, производителя товаров, мы должны уяснить и положение их потребителя. Ибо, возможно, скажут, что если вы хотите, чтобы производились определенные изделия, то нужно лишь создать спрос на них — и производство наладится тогда совершенно естественно, снова преобразив рабочего в ремесленника. Это было бы совершенно верно, если допустить, что такой спрос действительно существует и что он достаточно широк, но затем встает вопрос, можно ли создать такой подлинный и широкий спрос и если можно, то как это сделать?
Нынешняя система производства, превратив ремесленника в лишенную собственной воли машину, превратила также и прежнего соседа с хорошими покупательными способностями в раба широкого рынка, то есть просто в кошелек. Девиз современного коммерсанта — «Не рынок для человека, а человек для рынка». Рынок, таким образом, хозяин, а человек — раб, что, по моим понятиям, прямо противоположно разумному порядку вещей. Посмотрим, так ли это. В наше время приходится сталкиваться с громадной проблемой правильного использования человеческого труда. Если мы не сможем так или иначе использовать труд, то он поглотит нас без остатка — независимо от того, что случится потом. Если нам не удастся применять его должным образом, мы, во всяком случае, должны быть готовы столкнуться лицом к лицу с развращенным и упадочным обществом. И лично я хотел бы, чтобы мы подумали всерьез о правильном применении труда, вместо того чтобы использовать его как-нибудь. Но при всех условиях, даже оставляя в стороне несколько сотен тысяч людей, которые независимо от направления нашей деятельности будут умирать с голоду или вынуждены будут идти в работный дом, мы все равно должны признать, что обязаны позаботиться об устройстве рабочей силы, иными словами — людей. Я только что оказал и настойчиво повторю опять, что подлинные наниматели (или, скажем, покупатели) рабочих — это люди трудящиеся, и если бы у них не было других покупателей, то я совершенно уверен, что в конечном счете рабочие были бы заняты только лишь производством полезных вещей, в число которых я, конечно, включаю и всякого рода художественные произведения. Но так как у рабочих есть и другие покупатели, то у меня такой уверенности нет, и я вижу, да и другие не могут не видеть, что они заняты производством множества хотя и ходких, но бесполезных товаров. Сами они отнюдь не столь хорошие покупатели своих товаров, какими должны бы быть, ибо они недостаточно богаты. Все товары, которые они покупают, низкого качества, поэтому круг покупателей должен быть расширен за счет состоятельных и богатых классов, а последние, надо думать, достаточно богаты, чтобы удовлетворять свои потребности действительно хорошими товарами. Благоразумные люди из их числа не стали бы требовать иных, худших товаров, если бы только могли сдержаться, но, насколько я могу видеть, сдержаться они не могут. Создается впечатление, что азартная игра в прибыль слишком затягивает, а потребность занять рабочую силу слишком настоятельна, чтобы они могли позволить себе покупать и потреблять только то, в чем они нуждаются. Они вынуждены покупать много вещей, в которых не нуждаются; у них, таким образом, обязательно появляется привычка к роскоши и блеску, и поэтому рынок, который пустовал из-за нищеты бедных, вполне может быть занят обслуживанием стремящихся к роскоши богачей. И вы должны понять, что, хотя все изготовленные товары должны быть потреблены, это потребление тем не менее не доказывает их полезности; их обязательно нужно использовать, иначе они пропадут зря; если же в них не будет нужды, то они и не могут быть использованы и должны пойти прахом.
Теперь, рассуждая о возможности широкого и настоящего спроса на декоративное искусство, мы сталкиваемся в самом начале с той трудностью, что рабочие, которые должны создавать это искусство, заняты большей частью расточительством своего труда двояким способом — с одной стороны, производя низкопробные товары, покупать которые их вынуждает собственное униженное положение, но на которые по-настоящему не должно быть никакого опроса, с другой же стороны — производя товары не для потребления, а для расточительной жизни богатых классов, причем на эти товары опять-таки не должно быть спроса. И оба вида такого злополучного спроса навязываются обоим этим классам, ибо им навязывается положение, побуждающее их к этому спросу. Широкий рынок, который должен быть нашим слугой, оказывается нашим хозяином и повелевает нами. Поэтому широкий и настоящий спрос на произведения декоративного искусства может создаваться только мастерами художественного ремесла, но он не возникнет при нынешней системе производства, ибо последнее не могло бы развиваться, если бы большая часть его товаров производилась ремесленным способом.
В конце концов мы вынуждены прийти к следующему заключению; интерес к работе и наслаждение ею обязательно должно сопровождать создание даже самого скромного произведения искусства.
Но наслаждение и интерес могут иметь место лишь при условии, что рабочий свободен в своем труде, то есть сознает, что он изготовляет вещи, отвечающие его собственным потребностям — потребностям здорового человека. Нынешняя же система машинного производства не допускает существования таких свободных рабочих, которые сознательно трудятся над производством товаров для себя и своих соседей; эта система препятствует возникновению широкого покупательского спроса на товары, создаваемые такими рабочими; поэтому, поскольку ни производители, ни потребители не свободны производить или требовать товары соответственно своим желаниям, мы при нынешней системе производства не можем развивать декоративные искусства, бороться за которые я вас призывал, и должны перестать притворяться, будто обладаем этими искусствами.
Что же нам делать, чтобы сбросить с себя этот позор, чтобы у нас было право оказать, что либо нам недостает в жизни искусства и никакая подмена не может нас удовлетворить, либо же мы и не хотим его и не собираемся его добиваться.
Если вы согласны с моими положениями, то практические выводы из них ясны: мы должны попытаться изменить систему производства товаров. Я не собираюсь тем самым утверждать, что мы должны стремиться к уничтожению всякого машинного оборудования. Какие-то изделия, которые создаются теперь вручную, я предпочел бы делать с помощью машин, а другие изделия, которые теперь производятся с помощью машин, я бы предпочел делать вручную. Короче говоря, мы должны стать повелителями наших машин, а не их рабами, как теперь. Мы хотим освободиться не от той или иной осязаемой стальной или медной машины, а от громадной неосязаемой машины коммерческой тирании, которая угнетает всех нас. Организацию бунта против засилья коммерческой системы я считаю достойным делом.
Не забывайте, что написано в тексте моего доклада и моих слов о том, что наша цель — присоединить к побуждению трудиться из необходимости интерес к самой работе и наслаждение ею.
Я выступаю не за то, чтобы производить в мире немного больше красоты, хотя я и люблю ее и многим готов пожертвовать ради нее. Я выступаю во имя жизни людей или, если хотите, — вместе с римским поэтом — во имя целей жизни{6}. В этом зале, возможно, не многие могут себе ясно представить, что значит повседневная нудная работа, чуждая другого результата, кроме продолжения нудной жизни, которая является уделом большинства людей нашей цивилизации. Понять все это можно только благодаря опыту или сильному воображению. Но сделайте все возможное, чтобы это понять, а затем — попытайтесь представить себе ту перемену, которая последует за превращением повседневной безнадежной лямки в повседневный радостный труд, ждущий от нас применения творческой энергии и озаренный сознанием его полезности и надеждой на одобрение друзей и соседей,, на благо которых он выполняется. Несомненно, если вы серьезно подумаете об этом, то еще раз признаете, что ради такой перемены стоит принести любые жертвы. Я снова скажу, как говорил не раз, что если человечество не в состоянии надеяться на то, чтобы наслаждаться своим трудам, то лучше ему совсем отказаться от всякой надежды на счастье.
Кроме того, цель тех, кто серьезно относится к народным искусствам, — стать хозяевами своего труда и обрести способность оказать, чем мы хотим обладать и что хотим делать. И, говоря совершенно откровенно, перестройка общества — вот цена, которую мы должны уплатить за достижение этой цели. Ибо эта механическая и деспотическая система производства, которую я осуждаю, столь тесно переплелась с обществом, частью которого мы являемся, что иногда она кажется его предпосылкой, а иногда — следствием, и во всяком случае она связана с этим обществом необходим остью.
Вы не сможете ликвидировать трущобы наших больших городов, не сможете добиться, чтобы сельские жители счастливо жили в опрятных и уютных домах на лоне природы, выполняя домашнюю работу или трудясь в период между посевом и жатвой в деревенской мастерской; не сможете, повторяю, добиться этого, пока не уничтожите причин, которые породили грубого обитателя трущоб и умирающего с голоду батрака. Действительные условия общества есть результат его векового развития, и они не могли не вызвать определенных последствий, устранить которые нельзя временными полумерами. Древнему обществу был присущ раб, средневековому — крепостной, а современному — безответственный наемный рабочий, находящийся под властью хозяина, и этот рабочий не может по чисто внешним причинами выполнять работу, которая выходит за рамки его зависимости от хозяина: ремесленник отвечает за свою работу, а зависимый рабочий может отвечать только за выполнение задачи, поставленной перед ним хозяином.
Но чтобы вы не подумали, будто я не указываю вам никакого иного пути, кроме стремления к сознательному переустройству общества на основе равенства, я скажу несколько слов о той работе, к которой вы можете приступить тотчас же не столько как граждане, сколько как художники. Есть небольшая группа людей, независимых в своей работе, и зовутся они так, как я только что сказал, — художниками. Как обособленная группа, они порождены коммерческой системой, которая не нашла применения независимым рабочим, а их отрыв от обычного производства обусловил неблагополучное состояние декоративного искусства. Во всяком случае, они существуют как независимые ремесленники, но уязвимо в их положении то, что они трудятся не для всего народа, а только для небольшой его части, которая вознаграждает их за такую замкнутость предоставлением им положения джентльменов. Мне кажется, единственное, что мы можем сделать, если не в силах содействовать переустройству общества, — это стать клиентами такой группы привилегированных художников. Но джентльмены-ремесленники для нас недосягаемы, пока мы не подойдем к этой проблеме с более широкой точки зрения, но мы можем попытаться заинтересовать художников прикладными искусствами, продукция которых выпускается сейчас безответственными машинами коммерческой системы, и заставить их понять, что они, художники, как бы велики они ни были, должны принять участие в производстве этой продукции.
В то же время те рабочие, которые теперь всего лишь машины, должны стать художниками, пусть и самыми скромными. Нам же следует попробовать оживить остатки ответственности и независимости, полузадушенные и зарытые под плотным массивом фабричной системы, чтобы установить, нет ли на службе у организаторов коммерческой системы каких-либо людей, являющихся художниками, предоставить этим людям возможность работать более непосредственно для широкой публики и помочь им завоевать похвалу и сочувствие собратьев-художников, к чему, естественно, стремится каждый хороший труженик. Мысль, что это можно сделать, принадлежит не только мне; высказывая ее перед вами, я выражаю подлинные начала нормальной системы труда. Я имею честь принадлежать к небольшому и непритязательному обществу, президентом которого является мистер Крейн{7} и которое под названием Общества содействия искусствам и ремеслам совсем недавно с успехом провело в Лондоне выставку так называемых «прикладных искусств» с определенным намерением приблизиться к цели, о которой я только что говорил. Некоторым из нас такая работа может показаться очень мелкой и лишенной героизма, особенно если они недавно лицом к лицу столкнулись с бессмысленной мерзостью и убожеством какого-нибудь громадного промышленного округа или же если они так долго жили в подлом аду огромного мирового коммерческого центра, что он уже сросся с их жизнью и они теперь «привыкли» к нему, то есть дошли в своем падении до предела. Но по крайней мере это хоть какая-то деятельность, ибо она предполагает поддерживать до лучших времен искру жизни в архитектурных искусствах, — которые иначе могли бы быть полностью истреблены коммерческим производством, — ведь не так уж много лет назад казалось, что это бедствие вот-вот готово разразиться. Но, думается, эта незначительная работа вовсе не будет нам мешать, а скорее продвинет нас к участию в более широком и важном деле, направляя наши лучшие усилия к воплощению в жизнь того общества равных, которое, как я уже говорил, создаст единственные условия, когда подлинное мастерство станет основой производства и возникнет новая форма труда, которая позволит нам испытывать наслаждение от применения наших творческих способностей и ощущать нашу общность со стремлениями и целями наших соседей — иначе говоря, со стремлениями и целями всего человечества.
Искусства и ремесла наших дней
«Прикладное искусство»{1} — вот название, избранное вашим Обществом для тех искусств, о которых мне придется говорить с вами. Что понимать под этим названием? Я должен ответить, что под прикладным искусством Общество подразумевает те декоративные качества, которые люди по своему желанию добавляют к предметам домашнего обихода. Отвлеченно рассуждая, можно обойтись и без орнамента, и искусство тогда перестанет быть «прикладным»: оно будет существовать, полагаю, как некое отвлеченное понятие. Но хотя предметы нашего обихода могут и обойтись без украшений, люди никогда вплоть до настоящего времени без них не обходились и, возможно, никогда не смогут обходиться. Во всяком случае, и в наше время люди ничего подобного не предлагают и, как мы увидим, четкого представления о применении этого искусства у них нет. Не стоит ли нам прежде всего ответить на вопрос, почему человеку никогда не приходило в голову отказываться от работы, осложнявшей тот труд, которым он добывал себе пищу и жилье, — от работы, удовлетворявшей его тяготение к умственной деятельности? По-моему, стоит, потому что тогда нам легче будет поставить тот важный вопрос, на который я еще раз попытаюсь ответить: «Каково сейчас наше отношение к прикладным искусствам, чем они могут стать в будущем?»
Для меня нет сомнений, что цель применения искусства к предметам нашего быта — двояка: во-первых, придать красоту изделиям человеческого труда, которые иначе были бы уродливы, а во-вторых, сделать саму работу радостной, а иначе она будет просто мучительна и противна. Если это так, то нечего удивляться, что человек всегда стремится покрывать орнаментом те изделия своих рук, которые ему приходится видеть вокруг себя ежедневно и ежечасно, и что он стремится превратить муки труда в наслаждение каждый раз, когда это кажется ему возможным.
Что касается первой дели, то я сказал, что изделие человеческого труда неизбежно будет уродливым, если к нему не приложить искусство; я применяю слово «уродливое» как самое выразительное и резкое в нашем языке. Если эти изделия некрасивы, то их уродство опасно — оно унижает наше человеческое достоинство, причем настолько сильно, что мы просто привыкаем к этому и вот-вот начнем опускаться все ниже и ниже. Мне особенно хочется заронить в вас мысль об активном вреде труда, чуждого искусству. И потому я повторяю: если вы откажетесь применять искусство к предметам первой необходимости, то получите отнюдь не безобидные вещи, а вещи, причиняющие такой же вред, как, скажем, одеяла, которыми покрывались больные оспой или скарлатиной, и каждый шаг нашей материальной жизни и весь «прогресс» поведут к духовной смерти человечества.
Вы, конечно, поймете, что, говоря о труде людей, я отнюдь не забываю о таком самом необходимом, но неприятном труде, к которому невозможно применить искусство в том значении слова, в каком мы его употребляем. Но это лишь означает, что сама природа взяла на себя обязанность придавать красоту этому труду. В большинстве случаев процесс труда сам по себе красив, если только наша глупость не добавляет к нему горе и тревогу. Вот скользит по волнам рыбачья лодка, плуг проводит борозду для будущего урожая, идет косьба в июне, летит стружка из-под рубанка плотника, — все это само по себе красиво, и все эти занятия доставляли бы наслаждение, если бы с недавних пор человек даже в нашем цивилизованном обществе не поглупел и, по сути дела, не признал, что эта работа, без которой мы в несколько дней протянули бы ноги, — удел рабов и голодных, тогда как работа разрушительная, распри и анархия — достояние отборной части человеческого рода, то есть джентльменов.
Но если эти прикладные искусства необходимы (а я в этом убежден), чтобы не дать человечеству превратиться в безобразный и омерзительный нарыв на поверхности земли, которая иначе была бы несомненно прекрасна, то другое их назначение — делать труд радостным — по крайней мере так же необходимо и, если можно отделить одно назначение от другого, даже более благотворно и незаменимо. Ибо если верно (а я в этом убежден), что назначение искусства — сделать труд счастливым, то что же с нами произойдет, если искусство исчезнет? Нас тогда ждет одно из двух бедствий: либо необходимый труд будет выполняться жалкой толпой рабов для немногих возвышенно мыслящих интеллигентов, либо, если мы решимся, как нам и следует сделать, и распределим равномерно тяжесть проклятого труда между всеми членами общества, то даже тогда он останется бременем, отравляя всем священный дар жизни, мельчайшей долей которого мы, если б были мудрыми, должны были бы дорожить как сокровищем и пользоваться им так, чтобы было радостно применять наши способности, припадая тем самым к роднику подлинного счастья.
Позвольте обратить ваше внимание на сходство между назначением прикладных искусств и тем даром природы, без которого человечество было бы много несчастнее и который так хорошо знаком нам, что для его обозначения у нас нет отдельного подходящего слова и приходится употреблять целую фразу: наслаждение от утоления голода. Аппетит — вот единственное подходящее здесь слово, но, несомненно, оно не очень определенно и точно. Однако давайте его употреблять теперь, когда нам стало ясно, что мы под ним подразумеваем.
Кстати, нужно ли мне извиняться за то, что я говорю о столь низменных вещах, как еда и питье? Наверно, некоторые считают, что я должен это сделать, и дожидаются того дня, когда функция питания в условиях будущей цивилизации сведется к проглатыванию весьма концентрированной пилюли, скажем, раз в год или даже раз в жизни, а все остальное время мы будем свободны упражнять свой интеллект, если у нас останется тогда хоть какая-то его доля. При всей возвышенности и утонченности этих стремлений я готов почтительно повиниться в несогласии с такими людьми, ибо со всей серьезностью и ни в коей мере не шутки ради я утверждаю, что ежедневная встреча членов семьи за столом, чтобы в атмосфере отдыха и доброты вместе поесть, восстанавливая едой затраченную энергию, — такая встреча должна считаться своего рода священным обрядом, и его следует как можно лучше обставлять с помощью искусства. Еще раз прошу извинения, но я снова напомню, что множество людей живут такой жалкой, убогой и тревожной жизнью, что не могут должным образом обставить этот обряд. Мы должны помнить, что такие лишения — это зло, и мы обязаны уничтожать, а не замалчивать его. Следовательно, как еда становится скучной, если отсутствует аппетит, то есть наслаждение ею, так и производство предметов первой необходимости становится скучным, если работа не доставляет наслаждения и, следовательно, не носит творческого характера. Сэма природа требует, чтобы мы стремились к наслаждению, украшающему наш повседневный труд. Я склонен думать, что в конце концов человечество не сможет без него обойтись, но если это окажется ложным пророчеством, то я могу лишь сказать, что тогда придется отыскивать какую-то замену ему, иначе жизнь станет нестерпимой, а существование человеческого общества невозможным. Разумно и целесообразно, чтобы люди стремились предметы первой необходимости делать красивыми, как делает все природа и, кроме того, чтобы они стремились и сам процесс производства сделать приятным для себя, как и природа делает приятным для чувствующих существ выполнение необходимых функций. Присоединять искусство к предметам нашего быта — это не легкомысленное занятие, а серьезное дело жизни.
Теперь рассмотрим несколько подробнее, с чем имеет дело прикладное искусство. На мой взгляд, мы только из соображений удобства отделяем живопись и скульптуру от прикладного искусства; по сути дела, синоним прикладного искусства — это архитектура, и я должен сказать, что живопись и скульптура в жизни применяются мало; исключить надо лишь случаи, когда произведения этих искусств входят как часть в архитектурный ансамбль. Человек, понимающий искусство архитектуры, в сущности, всегда смотрит на любую картину и любую статую именно с этой точки зрения. Даже о картине самого отвлеченного содержания он непременно подумает — в какую рамку ее заключить и куда поместить. Что касается скульптуры, то она превращается просто в игрушку, в tour de force[20], если не составляет непременной части здания, отдаленной от нас на определенную высоту, чтобы ее было видно при определенном освещении. И если так обстоит с произведениями искусства, которые в известной мере могут быть обособлены от их окружения, то это a forteriori[21] относится и к менее возвышенным вещам. Короче говоря, законченным произведением прикладного искусства, подлинным его выразителем является дом с соответствующими ему украшениями и обстановкой; по собственному опыту я знаю, что невозможно украшать должным образом уродливое или вульгарное здание. С другой стороны, я вынужден признать, что славное искусство домостроительства само по себе так удовлетворяет нас, что есть множество зданий, которые нуждаются лишь в небольшом декоре, зданий, где, чтобы радоваться им, недостает лишь нескольких признаков того, что люди живут в них счастливо и в согласии друг с другом. Прочный стол, несколько старомодных стульев, горшок с цветами украшают гостиную старинного дома английского иомена гораздо лучше, чем множество картин Рубенса — галерею в Бленхейм-парке{2}.
Но не забывайте, что простота и сдержанная красота вовсе не обязательно чужды искусству. Если вам встречается старый дом, который выглядит вполне прилично, и если тут нет следов работы вдумчивого современного художника, то хорошее впечатление от этого дома — следствие неосознанной, но живой традиции. А когда отсутствует традиция, тогда шагает по земле тлетворное уродство, о котором я говорил раньше. В своей неприглядной претенциозности и отвратительной вульгарности оно испортит и красоту готического здания в Сомерсетшире и романтический вид четырехугольной башни на берегу шотландского залива, и, чтобы вернуть хоть часть этой красоты и романтики (полностью вы их никогда не вернете), вы вынуждены будете обратиться к смышленому художнику наших дней, основная задача которого будет заключаться, однако, лишь в том, чтобы удалить надоевший хлам и свободно пройтись кистью с белилами.
Произведение искусства, к которому я привлекаю ваше внимание, — это дом, где живут какие-то люди, дом хорошо построенный, красивый, отвечающий своему назначению, должным образом украшенный и обставленный так, что это характеризует образ жизни его обитателей. Или это может быть какое-нибудь благородное и великолепное общественное здание, построенное на столетия, и оно так же соответственно орнаментировано, чтобы отобразить жизнь и стремления граждан. Само по себе такое здание — это большой кусок истории, рассказывающей о стремлении граждан воздвигнуть дом, достойный их благородной жизни, и его скромный орнамент — это эпическая поэма, созданная на радость и для просвещения не только нынешнего поколения, но и многих будущих. Это настоящее произведение искусства (я чуть было не сказал — подлинной цивилизации, но этим словом настолько злоупотребляют, что я не стану им пользоваться), подлинный шедевр разумных и мужественных людей, сознающих, как важно для каждого члена общества все, что он создает.
Это, полагаю, и есть произведения искусства — вот этот дом, эта церковь, эта ратуша — все, построенное и украшенное совместными усилиями свободных людей. Ни при каких условиях не мог бы создать их один человек, как бы ни был он одарен, даже если предположить, что архитектор был в то же время и великим живописцем или великим скульптором, автором безупречных эскизов металлических изделий, мастером искусства мозаики, ткацкого дела и прочего. Даже если бы он мог создать эскизы всего этого, он не был бы в состоянии осуществить их в материале. Что-то от его дарования должно быть присуще и другим членам громадного коллектива, который сооружает все здание целиком: миллионы ударов молотка и долота, движений стамески, кисти или ткацкого челнока воплощаются в этом произведении искусства, и у каждого из его создателей — либо разум, помогающий архитектору осуществить его замысел, либо глупость, безнадежно сбивающая его с толку. Сами каменщики, день за днем складывающие свой рассказ из булыжника и тесаного камня, могут помочь архитектору наполнить довольством души людей, взирающих на это здание, или же вконец испортить вычерненный на бумаге план, и, несмотря на громадный талант архитектора и своего руководителя, и эти каменщики и другие рабочие могут довести строительство до катастрофического состояния, если они не исполнены духом разумной традиции. Если же такой традиции нет, то, вопреки всем претензиям на художественность, их труд будет бесполезен. Но если они работают в духе разумной традиции, то в их труде скажутся и дружное сотрудничество и его радость. Такой труд вберет в себя малейшие находки ума, и они будут так подчинены целому и так использованы, что никто, начиная с художника-проектировщика, не сможет сказать: «Это моя работа», но все вправе воскликнуть: «Это наша работа». Попытайтесь представить себе то громадное наслаждение, которое доставит, возможно, на много, много лет (ибо такая работа не делается в спешке) процесс создания такого произведения искусства всем, кто в нем участвовал, а когда оно закончено — вот оно, перед вами — и всегда радостно на него смотреть, пользоваться им, беречь его — изо дня в день, из года в год.
Не мечта ли это идеалиста? — Нет, нисколько. Подобные произведения искусства создавались в прошлом, когда на этих островах жило еще очень мало людей, и они вели тяжелую и, как кажется теперь многим (но только не мне), жалкую жизнь при блистательном отсутствии многих — да нет, большинства — так называемых удобств цивилизации. Вот таким-то образом были созданы известные всеми миру здания; но полностью этот дух общего и дружного труда выразился лишь в сравнительно короткий период развитого средневековья, когда рабочие окончательно объединились в ремесленные цеха.
А теперь, если позволите, я поставлю несколько вопросов и сам же на них отвечу.
1. Желаем ли мы иметь такие художественные произведения? — Я должен ответить, что мы, здесь собравшиеся, наверняка желаем этого, хотя и не могу поручиться за широкие круги общества.
2. Почему нам следует желать их? — Потому что (если вы следили до сих пор за моими рассуждениями) создание их доставило бы наслаждение и производителям и потребителям. Ибо если бы мы добились этого, то все наши изделия выпускались бы красивыми и достойными своего назначения и в результате большая часть труда перестала бы быть бременем.
3. Можем ли мы получать такие произведения искусства при нынешнем положении вещей? Способна ли нынешняя Британская империя со всем своим могуществом и разумом производить то, что разрозненное, полудикое, невежественное и суеверное население этих островов производило, по-видимому, без особых усилий несколько столетий назад? — Нет, при нынешнем положении дел мы не можем их получать, никакое мыслимое сочетание таланта и энтузиазма не может теперь создавать их.
Почему же? — Видите ли, прежде всего потому, что по крайней мере целое столетие мы обременяли землю громадной массой так называемых «утилитарных» домов, от которых мы не можем избавляться в спешке. Мы должны где-то жить, и наши дома существуют для нас, а я оказал, что украшать уродливые дома нельзя. Разумеется, вам это покажется печальным.
Но предположим, мы снесли эти «утилитарные» дома, — выстроим ли мы заново лучшие? — Боюсь, нет, несмотря на то, что наш вкус в последние годы заметно улучшился, и одним из показателей этого служит, надеюсь, данное собрание.
Если бы эти безобразные «утилитарные» дома были бы снесены и мы решились бы строить вместо них другие, то новые здания, несомненно, были бы двух типов. К первому относились бы здания, которые все еще действительно носили бы утилитарный характер, хотя на них в какой-то степени могли бы повлиять различные направления декоративного стиля, и были бы такими же скверными, как и те, вместо которых их построили, а в некоторых отношениях даже хуже большинства прежних зданий: менее прочные, более безвкусные и вульгарные, чем здания раннего утилитарного стиля. Ко второму виду относились бы здания, построенные по проектам квалифицированных архитекторов, людей, наделенных чувством красоты и знающих историю искусства. Здания эти были бы безусловно лучше по форме, чем «утилитарные» уроды, о которых мы говорили, но и им был бы чужд дух старинной архитектуры. Но оставим сейчас эту тему, — вскоре я к ней возвращусь.
Одно, уверен, тотчас же поразило бы нас в нашем городе, если бы его перестроили в конце XIX века. Громадное большинство зданий относилось бы к утилитарному типу, и только кое-где вы нашли бы образцы тщательной и тонкой работы образованных архитекторов — образцы эклектического стиля, если позволите так его называть. И это все, к чему приведет наша перестройка, и мы окажемся примерно на том же самом месте, где и теперь, разве только мы утратим несколько прочных и откровенно безобразных зданий, но приобретем несколько вычурных сооружений, «недоступных пониманию народа».
В чем же дело? — Ответ на этот вопрос будет также ответом и на первый из трех сформулированных раньше.
Во всей основной массе наши дома останутся утилитарными и безобразными, даже если мы решимся строить их заново, потому что традиция в конце концов обеспечила-таки нам положение строителей, возводящих вульгарные и уродливые здания. И если мы хотим строить по-иному, нам следует попытаться подражать работе, которая выполнялась людьми, по традиции строившими красиво. Это, на мой взгляд, не внушает особенно больших надежд.
Я только что сказал, что те немногие отличные здания, которые могут быть возведены при перестройке наших домов и которые и теперь строятся довольно часто, будут чужды или теперь уже чужды духу средневековой архитектуры, о котором я говорил. Очевидно одно. Они далеки от сооружений, части которых сочетаются гармонично и которые выполнены настолько непринужденно, насколько это вообще может быть присуще художественной работе. В самом лучшем случае они, даже самые удачные из них, — результат постоянных столкновений всех традиций времени. Как правило, единственный человек, связанный с архитектурным искусством и понимающий, что от него требуют, — это сам архитектор. На каждом шагу он вынужден вносить поправки, противодействовать привычкам каменщика, столяра, краснодеревщика, резчика и т. д. и пытаться заставить их мучительно подражать навыкам рабочих четырнадцатого века, отказываясь при этом не только от собственных привычек, сформировавшихся в их личном повседневном опыте, но и от унаследованных ими на протяжении по крайней мере более двух столетий физических навыкав и склада мышления. При всех этих трудностях было бы чудом, если бы эти изысканные здания не обнаруживали перед взорами людей своей эклектической природы. И в самом деле, невежды, раскрыв рот, таращат на них глаза, глупцы из племени Подснэпа{3} смеются над ними, суровые критики изрекают по их адресу язвительные сентенции. Не будем уподобляться всем им! Когда все будет сказано, эти критики воздадут должное и тем, кто создал их проекты, и тем, кто воплотил их в жизнь наперекор громадным трудностям. Часто здания эти красивы в своем эклектическом стиле, но ведь их всегда и предполагалось сделать красивыми. Стоит ли обвинять проектировщиков за стремление сделать их отличными от массы викторианской архитектуры? Если была предпринята какая-нибудь попытка сделать их красивыми, то это отличие и эта оригинальность были необходимы. Похвалим же эту оригинальность и не будем презирать ее — ведь наша-то тенденция — возводить дома, оскверняющие прекрасный лик земли и оскорбляющие здравый смысл образованного человечества XIX столетия! Позвольте мне одно отступление. Когда я вижу опрятных и упитанных людей среднего класса из этого смешанного и курьезного племени, которое мы по привычке зовем англосаксами (независимо от того, живут ли они по эту сторону Атлантики или по другую), когда я вижу этих благородных людей — высоких, широкоплечих, ладно скроенных, со светлыми глазами и правильными чертами лица, людей, исполненных мужества, энергии и способностей, — меня поражает облик их домов, которые они посчитали достаточно хорошими для себя, и ничтожность тех занятий, которые они посчитали достойными своей энергии. Вид, например, рослого человека, который ломает себе голову над точной шириной каймы на набивной материи (что не имеет ничего общего с ее художественностью), которого терзает страх, что кайма может не удовлетворить требованиям какого-то отдаленного рынка, который мучается из-за капризов томной креолки или воображаемого негра, — это зрелище заставляет меня стыдиться моего цивилизованного собрата по среднему классу, которому нет дела до качества поставляемых им товаров, но который самым серьезным образом озабочен прибылью, извлекаемой из этих товаров.
Это отступление, к теме которого я вскоре вернусь, вынуждает меня отметить, что вся моя беседа посвящена преимущественно архитектуре, потому что я считаю ее прежде всего основанием всех искусств, а затем — и искусством всеохватывающим. Все оформление и декор, которые присущи самостоятельному произведению этого искусства — соответствующим образом орнаментированному зданию, — в той или иной степени сопряжены с трудностями, возникающими в наше время при постройке удобного и красивого дома. Художник декоративного искусства — мастер мозаики, витражист, краснодеревщик, обойщик, гончар, ткач — все они вынуждены бороться с традиционными тенденциями эпохи при попытках создать красоту, а не рыночный броский товар, придать своей работе отделку художественную, а не отделку, необходимую рынку. Надеюсь, что моя собственная жизнь на протяжении последних тридцати лет предоставила мне обширные возможности узнать, сколь утомительна и горька эта борьба.
Ибо, если капитан промышленности (как можно теперь называть человека, занимающегося производством) думает не о товарах, которые он должен поставить на широкий рынок, а о прибыли, которую должен получить, то ремесленник, приставленный им к машине в качестве ее придатка, также не думает о производимых им (и машиной) товарах, а озабочен лишь тем, как добыть себе средства пропитания. Условия труда привели его к следующему: вместо того чтобы воплотить свои собственные представления о том, какими должны быть производимые им изделия, ему следует приноровиться к взглядам своего хозяина о ходкости товаров. И вам следует понять, что у рабочего иного выхода нет. Работать — значит для него добывать для себя средства к существованию. Работать по-иному — значит обрекать себя на голодную смерть. Это означает, прошу заметить, что подлинное качество товаров приносится в жертву коммерческим подделкам, если вы не сочтете такое выражение слишком уж резким. Фабрикант, как мы его называем, не может выпускать совершенно пустячное изделие и предлагать его для продажи. По крайней мере это касается предметов потребления. В сущности, он выпускает подделку того товара, который требуется покупателю, и посредством так называемого «меча дешевизны» он не только может навязать эту подделку покупателю, но и воспрепятствовать (что он и делает) получению им настоящего товара. Вскоре после того как рынку навязывается псевдотовар, настоящий товар перестает производиться.
Не будем больше терзать себя другими видами подделок, как бы ни омрачали они радость жизни. Пусть те оправдывают их, кто на них наживается. Но если вам нравится пить сладкое пиво вместо пива на солоде и есть маргарин вместо масла, если это вас удовлетворяет, то по крайней мере спросите самих себя, что, кроме испытаний терпения, дает вам псевдоискусство.
Я начал с утверждения, что для человека естественно и разумно украшать простые предметы домашнего обихода, а не довольствоваться простой утилитарностью. Но, разумеется, я предположил, что орнамент должен быть настоящим, что он не должен быть ниже определенного уровня и утрачивать качеств, присущих украшениям. Псевдоискусство же как раз и не удовлетворяет всему этому. Оно, действительно, есть просто бесплодный труд.
Попытайтесь понять, что я имею в виду: вам нужен, скажем, таз и кувшин — вы идете в магазин и покупаете то, что вам нужно. Возможно, вам не удается купить белый таз и белый кувшин — просто вы едва ли найдете набор белого цвета. Ну что же, вы просмотрите несколько наборов, причем ни один вам не нравится, — и тогда довольно-таки безразлично вы окажете: «Ладно, этот сойдет». И вот вы уже обладатель посуды с мазней из листьев папоротника и вьюнка над ними. Эта-то мазня и представляет собой «орнамент». Но он вовсе не радует вас и неспособен вызвать какие-то мысли. Он только вызывает в вас какие-то представления (и весьма скучные) о спальне. Ручка кувшина поражает своей невообразимой нелепостью и снова напоминает о спальне; короче говоря, вы примиряетесь с этим орнаментом, за исключением, возможно, тех дней, когда страдаете разлитием желчи или просто нездоровы. Вам затем придет в голову мысль, если вас вообще посещают мысли, что упомянутый орнамент явно не выполнил своего назначения. И все-таки это не так. Этот орнамент, который выразился в неумелом изображении папоротника и в нелепой ручке, помог продать таких туалетных наборов на десятки комплектов больше, чем других, и вот для чего он здесь нарисован, а не для того, чтобы вам понравиться. Вы знаете, что это не искусство, но вам неизвестно, что такова вообще рыночная отделка, исключительно полезная — для всех, кроме потребителя этой посуды и ее действительного производителя.
Но так ли уж это не служит ничьим целям, кроме предпринимателя, грузоотправителя, посредника, торговца и т. д.? Безобразен орнамент, и глуп, и неумело сделан, — пусть, но я все же не могу согласиться, что он бесцелен. Если верно изречение, что лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели, то этот ничтожный образчик рыночной отделки — та дань, которую торговля платит искусству. Он — свидетельство, что искусство некогда применялось для украшения предметов домашнего обихода, к удовольствию и их производителей и потребителей.
Теперь мы убедились, что прикладное искусство достойно забот о нем, и собрались мы здесь, чтобы его развивать. Однако вполне ясно и то, что при существующих условиях его развитие будет по меньшей мере нелегким. Ибо нынешние условия жизни, когда искусство «прикладывается» к предметам потребления, свидетельствуют, что весьма серьезные перемены произошли с того времени, когда эти изделия объединенных искусств производились в средние века, что, думаю, мало кто сейчас способен по-настоящему понять.
Говоря коротко, эта перемена свелась к тому, что традиция от искусства перешла к коммерции — той коммерции, которая ныне занята очень старой войной, так же как и производством товаров. Цель коммерции — вызвать на рынке спрос, а затем удовлетворить его во имя индивидуальной добычи прибыли, тогда как цель искусства — применительно к предметам потребления, производство которых существовало еще до появления торговли, — удовлетворить действительные, непосредственные потребности публики и обеспечить производителям заработок на пропитание. Сопоставьте только эти концепции производства, и вы убедитесь, сколь далеки они друг от друга. Для производителя-коммерсанта сами по себе товары — ничто, их путь на рынке — все. А для ремесленника сами товары — все, а что касается рынка, то ему нет нужды о нем заботиться, потому что другие художники просят его делать то, что именно он и делает, к чему побуждают его собственные способности.
Этика коммерсанта (приспособленная, конечно, к его потребностям) побуждает его как можно меньше давать публике и как можно больше у нее забирать. Этика художника побуждает его вкладывать как можно больше самого себя в каждое создаваемое им произведение. Коммерсант поэтому постоянно имеет дело с широким кругом врагов. Художник же, наоборот, имеет дело с широким кругом друзей и соседей{4}.
С другой стороны, ясно, что коммерсант должен направлять свою энергию преимущественно на ту войну, которую он ведет. Товары, с которыми он имеет дело, должны создаваться машинами — по возможности, машинами без желаний и страстей: машинами-автоматами, как мы их называем. Если это невозможно и он вынужден использовать вместо машин хорошо обученные человеческие существа, то для его успеха необходимо, чтобы они на протяжении часов труда уподоблялись бесстрастным машинам. Человеческие чувства, которые могут оказаться неистребимыми, воспринимаются коммерсантом как песок или трещины в его машинах, то есть как неприятность, от которой следует избавиться. Нужно ли говорить, что от таких машиноподобных людей напрасно требовать художественного творчества? Какова бы ни была их любовь к искусству, они должны приберегать это свое чувство для досуга, то есть для тех немногих часов в неделю, когда они пытаются отдохнуть после работы и не спят, или же до тех злосчастных дней, когда они лишатся своей работы и их будет терзать острейшая забота, как добыть средства к существованию.
От этих людей, полагаю, вы не вправе ждать, чтобы они жили, прилагая искусство к предметам потребления. Для коммерческих целей они могут прибегать лишь к псевдоискусству, и по опыту я могу представить себе, какая масса дарований растрачивается при этом впустую. Мои слова и вам и рабочим могут показаться довольно жестокими. Но я могу возразить и вам и им, что это правда, от которой нельзя отворачиваться. Это — одна из сторон бессилия рабочего класса, и я призываю его серьезно над этим подумать.
Поэтому (как я говорил в прошлом году в Ливерпуле) от громадного числа людей, которые производят предметы потребления и которым запрещено применять к ним искусство, я должен обратиться к более малочисленной труппе — к группе действительно очень небольшой. Я должен обратиться к группе людей, не работающих под властью хозяев для широкого рынка, свободно распоряжающихся своим трудом в соответствии со своими желаниями, работающих на рынок, который они могут видеть и понимать, какие бы ограничения ни встречались в их работе. Иными словами, речь идет о художниках.
Они составляют небольшую и слабую группу, которая находится в очевидной оппозиции к общей тенденции века. Поэтому, как я уже сказал, они лишены возможности сотрудничать с ремеслами, и вследствие такой изоляции, их шансы в общей погоне за успехом крайне ненадежны. Традиция совместного труда ставит художника с самого начала его деятельности в такое положение, когда он освобождается (что было бы невозможно при других условиях) от тяжкой необходимости изучать громадное количество мелочей. Ведь поле, которое он должен вспахать, — это не часть девственной прерии, а земля, превращенная в плодородную и хорошо обработанную трудом бесчисленных прошлых поколений. Короче говоря, не что иное, как ученичество у веков, рождает художника для мастерской мира.
Мы, художники сегодняшнего дня, не настолько счастливы, чтобы как следует проходить через это ученичество, ибо лучшую часть наших жизней мы должны тратить на овладение каким-нибудь «стилем», который стал бы для нас естественным, и слишком часто мы терпим неудачу в наших попытках этого добиться. Но, вероятно, еще чаще, выработав собственный «стиль», то есть собственный способ выражения, мы оказываемся настолько зачарованными обретенными средствами, что забываем о цели и обнаруживаем, что нам нечего выразить, кроме удовлетворенности собственными весьма несовершенными средствами. Поэтому вы можете встретить в наше время умных и одаренных людей, которые поддерживают теорию, что у искусства есть только одна функция — выявление превосходных выразительных средств, а потому одна тема ничем не лучше другой. И такая теория{5} (что вовсе не удивительно) приводит к практике создания картин, которые мы могли бы признать умными, если бы были в состоянии понять, что они означают, но о смысле их мы можем только догадываться и предполагать, что они предназначены передать страдающему большой близорукостью человеку впечатление от каких-то бесформенных сцен, которые можно разглядеть в лондонском тумане.
Я признаю, что отступил от своей темы, ибо тема моя — прикладное искусство, а искусство, о котором я только что говорил, ни к чему не прикладывается. Но, боюсь, само оно может быть воспринято как обыкновенный ходкий товар.
Таким образом, мы, художники нашего времени, отрезаны от традиции совместного труда, но я не вправе говорить, что мы отрезаны от всех традиций. И хотя нельзя отрицать, что мы в разладе с основной тенденцией нашего века — тенденцией коммерческой наживы, все же существует (иногда даже бессознательно) гармония между нами и тем пониманием истории, которое и есть подлинный продукт нашего времени, компенсирующий некоторым из нас вульгарность и грубость, осаждающие нас со всех сторон: именно через это чувство истории мы связаны с традицией прошлых времен.
Прошлых времен... уж не реакционеры ли мы в таком случае, бросившие якорь в мертвом прошлом? Надеюсь, что нет: вместе с тем я не могу не сказать, что большая часть прошлого действительно мертва. Я вижу вокруг себя свидетельства возрождения идей, которые были оттеснены на задний план. Мир гонится за некоей желанной вещью, рьяно стремится к ней, вот, кажется, схватывает ее — и отбрасывает прочь — как котенок, играющий с мячом, скажете вы. Нет, не совсем так. Желаемое достигнуто, но снова за чем-то еще надо гнаться, и часто за тем, что некогда казалось достигнутым и снова на какое-то время было упущено.
И все же мир не обратился вспять, ибо и в прошлом желания удовлетворялись лишь в той мере, насколько позволяли обстоятельства времени. В результате достигнутое всегда оказывалось несовершенным. Времена теперь изменились и позволяют нам сделать еще один шаг вперед к совершенству. Мир действительно не идет вспять по собственным следам, хотя некоторым и кажется, что он поступает именно так. Пошел ли мир, например, вспять, когда остатки древних цивилизаций были уничтожены варварством, заложившим основание современной Европы? Мы все можем видеть, что это не так. Пошел ли он вспять, когда в XVI веке упорядоченное общество средних веков должно было уступить место анархии зарождающейся торговой системы? Опять же, каким бы безобразным и катастрофическим это изменение ни представлялось на поверхности, я все же не считаю его возвращением вспять, к доисторической анархии, а шагом вперед, по опирали. Как сказал мой друг Бэкс{6}, подлинная линия прогресса — спираль, а вовсе не прямая.
Итак, если в будущем, которое последует немедленно вслед за теперешним настоящим, мы должны будем вновь обратиться к идеям, которые сегодня кажутся принадлежащими лишь прошлому, это в действительности будет не возвращением по пройденному следу, а стремлением пойти по пути прогресса, начиная с того места, с которого мы отступили некоторое время назад. С нашей точки зрения, с точки зрения искусства, мы не добились прогресса, мы обманули надежды периода, как раз предшествовавшего времени нашего отступления. Погибли ли эти надежды или же они просто погрузились в сон, ожидая времени, когда мы, наши сыновья или внуки, разбудим их вновь?
Я должен сказать в заключение, что наши надежды некогда будут разбужены. Надежда на жизнь, облагороженную радостным применением наших способностей, не мертва, хотя на какое-то время про нее забыли. Я не обвиняю нашу эпоху в бесполезности. Несомненно, было необходимо, чтобы цивилизованные люди взяли на себя долг покорить природу и достичь таких материальных выгод, о которых не смели и мечтать в былые времена. Но в воздухе носятся знамения того, что, в отличие от прошлого, люди не полностью посвящают свои силы этой битве жизни. Люди начинают роптать: «Что же, мы выиграли битву с природой, — где же теперь наша награда за победу? Мы все боролись и боролись, но неужели нам никогда не придется наслаждаться? Человек, который некогда был слаб, теперь стал чрезвычайно могуществен. Но стал ли он счастливее, и если да, то в чем же? Кто покажет нам это счастье, кто измерит его? Совершили ли мы нечто большее, чем просто заменили одну форму несчастья другой, один вид анархии — другим? Мы видим орудия, созданные цивилизацией, — что она намерена с ними делать? Создавать их во все большем и большем количестве? Ради чего? Если бы она хоть пользовалась ими, тогда еще можно считать кое-что совершенным. Между тем что же делает цивилизация? День ото дня мир становится все безобразнее, и в чем именно находим мы вознаграждение за это? Полупокоренная природа вынуждала нас трудиться все-таки за нечто большее, чем просто поддержание жизни, наполненной одним только трудом. Теперь природа покорена, но есть ли нужда по-прежнему трудиться за ту же скудную неблагодарную плату? Мы завоевали несметные богатства, но мы все еще так же далеки от благосостояния, как и прежде, а может быть, и еще дальше. Ну что ж, пока у нас есть силы, попробуем еще, попытаемся сделать хоть что-нибудь достойное, даже если наша попытка обречена на неудачу! Сделаем счастливее мир, в котором мы живем!»
Именно такие речи слышу я вокруг себя — и они звучат в устах не только бедных и угнетенных людей, но в устах тех, кто пользуется значительной долей достижений цивилизации. Не знаю, выражались ли такие чувства в прежние времена, но я уверен, что они рождены недовольством и надеждой, отчасти неосознанной, на лучшие дни. И я осмелюсь сказать, что дух творческого недовольства, бунта или, иными словами, дух надежды — характерен для завершающего периода нашего столетия. И мы, художники, — участники этого бунта. И хотя нас немного, и хотя мы, эти немногие, — просто лишь дилетанты в сравнении с высоким мастерством художников прошлых времен, все же мы внесем полезный вклад в движение, направленное к обретению благосостояния, то есть к тому, чтобы сделать наше искусство полезным.
Ибо мы по крайней мере помним то, что забыто большинством людей — среди бесплодного и непривлекательного труда в этот век псевдоискусства, — что возможно быть счастливым, что труд может доставлять радость, что и сама эта радость заключена в труде, если только он должным образом организован, иными славами, направлен на выполнение тех функций, которые желательны нормальным и мудрым людям, если, следовательно, главным рычагом труда становится взаимное сотрудничество.
Итак, мы, художники, должны показать миру, что радость, доставляемая приложением нашей энергии, — это и есть цель жизни, предпосылка счастья. Поступая так, мы покажем миру, во что должно вылиться недовольство современной жизнью, чтобы принести благие плоды. Мне кажется, нам следует остро почувствовать свою ответственность. Верно, что мы не можем не погрузиться в нищету этого века псевдоискусства, и, боюсь, мы долго еще будем оставаться всего лишь дилетантами. Но в меру своих сил мы все и каждый в отдельности можем бороться против псевдоискусства. Например, возвращаясь к проблемам нашей профессии, если рисунок — наше слабое место, постараемся усовершенствоваться в нем и не утверждать, будто рисунок ничего не значит и будто главное — преобладающий тон. Или же, если мы плохие колористы, то давайте терпеливо учиться класть краски свободно и непринужденно (уверяю вас, этому можно выучиться), но не смеяться над теми, кто легко и привычно дает прекрасные краски. Или же, если мы невежественны в истории и нечувствительны к романтике, то не надо пытаться выдавать эти недостатки за достоинства и возводить на пьедестал уродство и нелепость. Оставим все это недостойное убожество филистерам и пессимистам, которые, естественно, стремятся принизить каждого до собственного уровня.
Короче говоря, мы, художники, по своему положению — представители художественного ремесла, которое почти вымерло в производстве товаров для рынка. Приложим же все усилия, чтобы стать, насколько возможно, хорошими мастерами художественного ремесла, и если это недоступно нам на высочайшем уровне, спустимся на ступеньку ниже, найдем доступный для нас уровень в искусствах и постараемся тогда хорошо работать и на этом уровне. Если мы вообще художники, то несомненно должны найти, что именно мы способны делать хорошо, даже если нам и не удается делать это легко. Давайте же воспитаем себя так, чтобы стать во всяком случае хорошими тружениками, и это пробудит в нас подлинное сочувствие ко всему достойному в искусстве, освободит нас из-под зависимости от творческой мощи труда всех прошлых столетий и подготовит к приятию уверенно возникающего нового коллективного искусства жизни, в котором не будет ни рабов, ни униженных, и хотя будет обязательно существовать субординация дарований, но каждый отдельный человек будет сознавать, что он принадлежит к корпорации людей, работающих согласованно, один ради всех и все ради одного, и это создаст подлинное и счастливое равенство.
Готическая архитектура
Под словом «архитектура» обычно понимается искусство орнаментированного строительства, в таком смысле я и буду употреблять это слово. Все же мне бы хотелось, чтобы вы не думали о произведениях архитектуры просто как о хорошо построенных зданиях, в которых соблюдены нормальные пропорции и каждое из которых передается архитектором для окончательной отделки другим художникам, после того как его проекты претворены в жизнь группой работающих механически и не имеющих никакого отношения к художествам тружеников. Истинное произведение архитектуры — это, скорее, дом, обставленный всей необходимой мебелью, покрытый орнаментом в соответствии с его назначением, качеством и достоинством, начиная от лепных украшений и общих линий вплоть до монументальных скульптурных и живописных работ, которые могут существовать только как благородные украшения подобных зданий. При таком подходе произведение архитектуры — это плод гармоничного и коллективного искусства, охватывающего все серьезные виды художеств, не занятые производством простых безделок или случайных побрякушек.
В этих произведениях искусства отражено устоявшееся отношение человека к смыслу жизни, а создание их, в свою очередь, наполняет смыслом жизнь человека, и поскольку они могут создаваться лишь при общей доброжелательности и содействии со стороны населения, строительство таких сооружений или же существование подлинного архитектурного искусства говорит об устойчивости общества, какие бы зародыши перемен ни таились в его недрах, ибо такое общество покоится на творческой энергии полезнейшей части его населения.
Трудно сказать, что в конечном счете может знаменовать собою отсутствие архитектурного искусства, поскольку подобное явление характерно лишь для сравнительно недавнего периода мировой истории, который мы еще не способны отчетливо понять, ибо он слишком близок нам по времени. Однако очевидно, что это отсутствие архитектурного искусства говорит об обращении интересов цивилизованных людей от развития разумной человеческой энергии к развитию в обществе энергии чисто механической. Если эта тенденция будет и дальше развиваться логически последовательно, то, нужно думать, она уничтожит искусство проектирования и все, что ему соответствует в искусстве литературы. Но историческое развитие — или, я бы сказал, коллективная воля людей — часто встает на пути очевидных тенденций и не дает созреть их логическим плодам. И если надежда меня не обманывает, то я мог бы сказать, что такой процесс уже начался, что уже разгорелся бунт против утилитарности, которая грозит уничтожить искусства, и что он пустил более глубокие корни, чем это присуще просто преходящей моде. Сам я не очень-то верю, что этот бунт окажется особенно действенным, пока продолжает существовать нынешний общественный строй. Но я уверен, что близятся великие перемены, которые породят новое общественное устройство, и потому очень важно, чтобы объединились все недовольные или же по крайней мере чтобы между ними возникло понимание. Новое общество (а само оно будет результатом сложного развития многовековых традиций), возникнув, обнаружит, что мир отрезан от всех художественных традиций, от стремлений к красоте, которую может творить человек, как он уже это и доказал. Тогда в поисках нового пути для искусства будет потеряна бездна времени. Множество людей не будет знать человеческих радостей, утрата которых непозволительна даже на короткое время. И все, что я скажу в этот раз, я прошу воспринять как мой вклад в борьбу против утилитарности, как попытку подхватить едва видимую нить традиции прежде, чем станет слишком поздно.
Гармоническое произведение архитектурного искусства, вобравшее в себя различные виды художественного творчества, — не пустой звон. Я говорил уже, что оно исчезло лишь в недавнее время. До возникновения современного общества без того или иного проявления этого искусства не обходилась ни одна цивилизация и ни одна эпоха варварства. Но полного развития это искусство достигло в средние века, в эпоху, которая гораздо более далека от современной жизни с ее образом мышления и обычаями, чем от более древних цивилизаций, хотя в нашей стране люди, казалось бы, одной с нами крови играли в жизни той эпохи важнейшую роль. Но как бы ни были далеки от нас те времена, если мы вообще хотим, чтобы существовало искусство архитектуры, мы должны подхватить нить традиции именно здесь и нигде более, потому что готическая архитектура — это наиболее полная и органическая форма искусства из всех, какие когда-либо видел мир. Разрыв преемственной нити традиции мог произойти только там. Все более ранние формы архитектуры стремились в своем развитии именно к готическому искусству, и попытка, игнорируя это, подхватить нить преемственности там, где еще не была достигнута эта точка развития, окажется весьма искусственной и поведет не к возрождению искусства, а к его разложению из-за пустой прихоти пококетничать древностью традиции.
Чтобы моя позиция стала ясной, я должен, с вашего позволения, очень коротко остановиться на исторических событиях, которые привели к возвышению и упадку готической архитектуры, и я прошу прощения за упоминание известных и элементарных фактов, необходимых для моей дели. Я должен также добавить, что при этом в большинстве случаев для иллюстрации будут привлекаться сооружения, которые по своему облику скорее принадлежат к категории декоративных зданий, нежели к сооружениям того полного и органически единого искусства, о котором я говорил. Но такая обособленность чисто внешняя — для лиц, их изучающих, они окажутся произведениями органического архитектурного искусства, а органичности им недостает только по давности времен и по неразумению людей, которые не понимали их подлинной сути и, полагая, будто пользуются ими, на самом деле плохо использовали их именно как произведения искусства. В итоге они искажали подлинное назначение этих сооружений, используя их для целей, связанных с скоропреходящими страстями и злобой дня.
Историю архитектурного искусства мы можем разделить на два периода: древний и средневековый. В древнем периоде выделяются два стиля: варварский (сточки зрения древних греков) и классический. Таким образом, нам надлежит рассмотреть три стиля: варварский, классический и средневековый{1}. Два первых стиля частично совпадали во времени. Когда на сцене доступного нам исторического знания впервые поднимается занавес, нашему взору предстает небольшой, обособленный островок высшей цивилизации, где господствовали эллинская мысль и наука, которым соответствовал вполне определенный и гармоничный стиль архитектуры. Стиль этот представляется нам одним из высших воплощений утонченного искусства, и, вероятно, таким казался он и тем, кто изначально в своей деятельности выступали его создателями. Более того, эта украшенная скульптурами архитектура даже в ранний период своего существования далеко пошла по пути совершенства и быстро оттачивала свою великолепную технику. И все-таки это искусство является, собственно, частью общего стиля архитектуры варварского мира, превосходит его лишь великолепием своей скульптуры и изяществом. Но самый его костяк, его чисто архитектурная сторона, лишь немногим отличается от варварского, первоначального способа строительства, который заключался в простом накладывании строительных блоков один на другой или же в их соединении, что не создавало ощущения возвышенности самого здания, равно как и возвышенности стиля.
Единственная греческая форма здания, с которой мы действительно знакомы, — это храм с колоннадой. Хотя обычно он и строится из каменных плит, но, несомненно, он происходил от деревянной обители бога или храма, который был неотъемлемой частью города еще незадолго до времен Перикла. Если город стал явно отличаться от племенного поселения и если возникло резкое различие между культом города (подлинной религией греков) и племенным культом предков, то храм не подвергся столь же сильным изменениям и новшества в храмовом строительстве не были столь значительны.
Строгий консерватизм формы — это неотъемлемая черта греческой архитектуры, насколько она нам знакома. Из этого консерватизма формы возникло расхождение между самим зданием и его благородным орнаментом. В ранние времена, когда здоровое в своей основе варварство еще только тянулось к скульптуре, это расхождение не было ощутимо, но, по мере того как развивающаяся цивилизация требовала от скульпторов больше натурализма и меньше сдержанности, расхождение это становилось все более очевидным, более досадным, пока наконец скульптура перестала быть частью архитектуры и превратилась в самостоятельное искусство, связанное с архитектурой лишь в силу привычки и предрассудков. По своей форме украшенное орнаментом архитектурное сооружение греков было очень ограниченно, не обнаруживало склонности к дальнейшему развитию и стремилось отстранить от себя принадлежавший миру эпоса и более возвышенный по своей природе орнамент. Что следует сказать о духе, который повелевал этой формой? Близорукая и суеверная привязанность к форме греческого храма не была случайна, но была выражением сущности древнегреческого ума, которому были свойственны сознание своей исключительности и высокомерная аристократичность. В результате, естественно, возникло педантическое совершенство всех частей и деталей здания, так что менее значительные элементы орнамента рабски подчинялись наиболее важным, и при этом в декоративной работе не допускалось ни выдумки, ни индивидуальности. Отсюда — известная бедность и обнаженность орнамента, то есть полное отсутствие романтики и эмоциональности, что не лишает эти сооружения интереса как драгоценных памятников былой истории, но препятствует воспринять их стиль как возможную основу будущего архитектурного стиля. Следует также помнить, что попытка добиться абсолютного совершенства вскоре обернулась для греческой архитектуры ловушкой, ибо стремления этого не могло хватить на долгое время. Можно было, действительно, добиться совершенного исполнения зубчатого или прямоугольного орнамента, но не так-то легко добиться совершенства более тонких орнаментальных мотивов, так что энергия греков не могла достичь высшей точки, а требование абсолютного совершенства превратилось, скорее, в требование абсолютной благовидности, которое очень скоро затянуло архитектурные искусства на путь обыкновенного академизма.
Но задолго до того, как классическое искусство пришло в упадок, оно породило другой стиль архитектуры — римский, который с самого начала отличался от греческого обязательным применением арки. На мой взгляд, органическая архитектура — архитектура, способная к непременному внутреннему развитию, — начинается с обыкновения применять арку, ибо если принять во внимание и ее целесообразность и красоту, арка должна быть признана величайшим изобретением человечества. До того как люди не только изобрели арку, но и осмелились применять ее и считать непременным атрибутом здания, архитектура была настолько ограничена в своих возможностях, что развиваться всерьез она не могла. Вполне естественно, что люди вынуждены были тогда остановиться на первой удобной форме здания, на какую им удалось натолкнуться, или же, подобно грекам, принять какую-нибудь традиционную форму, не изобретая чего-либо более сложного и интересного. Пока в архитектуре не появилась арка, зодчие находились в рабской зависимости от климата, строительных материалов, привычных способов труда и так далее. Но стоило арке стать доступной, как в мире домостроительства человек побеждает природу. Он может теперь бросить вызов любому климату, если люди могут жить в нем с известным комфортом. Ему не нужны великолепные материалы, он может добиться хорошего результата даже с помощью скромного дробного материала. Если он стремится построить здание с широким размахом, он не нуждается в захваченном в плен и вынужденном на него работать стаде рабов. Свободные граждане (если такие бывали) могут сделать все необходимое, не истощая своей жизненной энергии преждевременно. Арка удовлетворяет все запросы архитектуры, и с той поры, как арка вошла в обиход строительства, основная художественная задача архитектуры должна сводиться к декоративному применению арки. Единственно достойный стиль — это сталь, который не скрывает подлинного назначения арки, а украшает и превозносит ее. Но римская архитектура, первой использовавшая арку, этого не сделала. С простотой и искренностью она использовала арку в определенной части своих сооружений, но не заботилась об ее украшении. Эта сторона римского здания должна быть названа скорее инженерной, нежели архитектурной, хотя она в своем простом и уверенном достоинстве являет удивительный контраст на фоне ужасного и сумбурного современного инженерного строительства. Римская архитектура применяла и украшала арку в другой сфере — в орнаментике, но назначение арки затушевывалось, и обычно делали вид, будто здание зависит лишь от формы перекрытия. Ибо у римлян не было своего собственного стиля орнаментации здания (вероятно, нужно бы сказать, никакого собственного искусства), и потому они приспосабливали к своим массивным сооружениям принципы греческих архитекторов-скульпторов. И подобно тому как греки выставляли выразительную искусную скульптуру на стенах прославленного храма своих предков, так и римляне добавляли скульптуру, храмовые украшения и все прочее к своему величественному инженерному сооружению. Этот вид фасадного строительства или облицовки составлял, по существу, основную задачу римской орнаментики: само строительство и орнаментика не были пересекающимися сферами, и теперь нам представляется сомнительным, достигал ли римский строитель какого-либо успеха, когда он облицовывал мрамором добротно я красиво сложенную стену из кирпича и камня, ибо другие использовали мрамор намного лучше, но никому так не удавалась стена или арка. Сам по себе римский орнамент не стоил того, чтобы приносить ему в жертву конструкцию здания. Греческий орнамент был жестоко ограничен и традиционен, но все, что с ним сочеталось, было естественным, все было обосновано, хотя само это обоснование могло покоиться на предрассудке. Но римская орнаментика была не столь свободна, как греческая, тем более что она утратила логику последней. Она отличается богатством и красотой, и в этом все ее оправдание. Выполнение орнамента и его художественный эскиз не сливались вместе, хотя в то же время нельзя себе представить греческий орнамент независимо от его исполнения. Когда римский орнамент находит применение во всех значительных сооружениях, испытываешь едва ли не сожаление, что он столь отлично выполнен, ибо в противном случае к его совершенной декоративной красоте можно было бы добавить что-нибудь новое и таинственное. Но орнаментика эта — неотъемлемый отрезок нашей истории, и критика ее с позиций сегодняшнего дня походила бы на попытки обвинять в чем-либо какую-нибудь геологическую эру. Кого не тронет зрелище развалившихся и крошащихся руин среди ужасного нагромождения современных домов, в атмосфере суеты, пошлости и убожества современного города? Если я отважился привлечь ваше внимание к тому, что некогда было архитектурой, то это потому, что архитектурным искусством долго пренебрегали, и такое отношение сохранилось вплоть до наших дней. Но необходимо все-таки указать, что оно не содержало в себе существенных черт, которые могли бы теперь послужить основанием для какого-либо возрождения искусств. В те далекие времена архитектурное искусство на протяжении целых столетий было единственной областью, которая не позволяла классическому академизму впасть в полное ничтожество. Можно с почти полной уверенностью сказать, что это архитектурное искусство погибло еще до наступления перемен, тем не менее в самой его гибели обнаруживались признаки этих наступавших перемен, которые приближались столь же медленно, как и падение самой Римской империи. Впервые признаки недовольства обнаружились в римском искусстве в тот идиллический период римской истории, когда деятельность по обложению налогами достигла высшей точки, — во дворце Спалато, который выстроил в последние годы своего правления Диоклетиан{2} (ум. в 313 г. н. э.), после того как он, пресытившись властью, пожелал отдохнуть. Именно тогда строители отвергли особую роль перекрытия и поняли, что арка может без него обойтись.
Это были первые проблески готической, или органической, архитектуры, которая вплоть до начала современной эпохи развивалась непрерывно, хотя и медленно. Поначалу развитие шло довольно постепенно: потребовалось два столетия, чтобы органическая архитектура смогла освободиться от цепей, которыми сковали ее века академизма, и прежде чем она смогла обрести свободу, Римская империя перестала существовать. Но наступило наконец и полное преобразование, и на свет явилась архитектура, по логике вещей призванная заменить первоначальную, где столь важную роль играло перекрытие, а наивысшим достижением был греческий стиль. Архитектура стала органической, и потому для нее был немыслим какой-либо период академизма, и только лишь сама смерть смогла пресечь ее развитие.
Первым выражением достигнутой свободы явилось так называемое византийское искусство, и едва ли можно сомневаться в справедливости такого названия. В течение столетий Византия оставалась центром свободного искусства, и первое громадное его сооружение в этом городе — собор св. Софии, построенный Юстинианом в 540 году, — остается величайшим произведением этого стиля. Стиль Обретает неожиданное совершенство в этом исключительно красивом здании, и — заметим, кстати, — от более раннего времени сохранилось не много сооружений, имеющих большее значение. Что касается начального периода этого стиля, то, разумеется, возводились сооружения и во времена упадка классического искусства, и все еще были живы традиционные формы архитектуры и способы работы. Эти традиции, которые к тому времени включили в себя формы римского строительства, стали снова достоянием греков. И столкнулись со многими традициями, идущими из разных источников. В Сирии, где соприкасалось столь много народов и традиций, Восток смешался с Западом, и в итоге на свет появилось византийское искусство. Характерные черты его — простота конструкции и внешнего облика, удивительное изящество орнамента и отвращение ко всякой неопределенности. Оно характеризуется яркостью и ясностью красок, чистотой линий, ненавистью к пустоте и неопределенности. Это искусство очень насыщенно, но чуждо цветистости и по духу является полной противоположностью римской архитектуре, хотя восприняло многие из его форм и вдохнуло в них новую жизнь. Лучшие произведения этого искусства остались непревзойденными по красоте, но при всей своей величественной живописности и спокойствии они сохранили для последующих времен значение примера неукротимой энергии, ибо, начиная с сооружения св. Софии, готической архитектуре предстояло жить еще целое тысячелетие. На Востоке и на Западе она пустила глубокие корни всюду, где только люди возводили здания, опираясь на какие-либо исторические традиции. На Востоке она смешалась с традициями местных народов, что особенно касается Персии периода Сасанидов{3}, и произвела на свет целое искусство, которое мы весьма ошибочно называем арабским (ибо у арабов никогда не было собственного искусства){4} и которое получило распространение от Исфагана до Гренады. На Западе она распространилась в тех частях Италии, которую покорил Юстиниан, особенно в Равенне, а затем уже пришла в Венецию. Из Италии, а возможно, и из самой Византии она пришла в Германию и в Англию, которую еще не покорили тогда норманны, и достигла даже Ирландии и Скандинавии. Рим также воспринял это искусство, и оттуда оно проникло на юг Франции, где испытало влияние провинциальной римской архитектуры, и таким образом на свет появился весьма выразительный, исполненный гармонии и внутренней логики, подчиненный ему стиль, какой могли бы создать древние римляне, если бы нашли силы противостоять покоренным ими грекам, у которых сами оказались в плену. Оттуда распространилось оно по всей Франции, став первым проявлением архитектурного искусства у народа, снискавшего особую славу своей любовью к этому виду творчества. На севере этой страны это искусство оказалось под влиянием скандинавских и тевтонских племен и породило последний из готических стилей. Стиль этот с характерной для него круглой аркой мы называем норманнским, и энергичные войны норманнских племен принесли его с собой в Сицилию, где он смешался с византийским стилем сарацинов, произведя на свет превосходные сооружения. Но лучше всего мы познаем это на примере нашей собственной страны, ибо вездесущие монахи герцога Уильяма{5} распространяли его повсюду, изгоняя английский стиль, заимствованный в свое время из Византии через Германию.
И вот здесь-то накануне новых и весьма важных изменений формы (но не сущности самого искусства) мы можем остановиться, чтобы еще раз поразмыслить, в чем состояли основные черты нового стиля. Со времени изобретения арки это был первый стиль, который воздавал ей должное и, вместо того чтобы ее прятать, вполне обоснованно ее декорировал. Это было уже немало, но нечто большее заключалось в той полноте свободы, которую он обрел и которая действительно оказалась источником его своеобразия. Он сбросил с себя цепи греческой аристократичности и предрассудков, как и оковы римской педантичности, и, хотя у него были свои собственные закономерности, необходимые каждому самостоятельному стилю, он тем не менее бессознательно или по собственному усмотрению позаимствовал некоторые присущие им черты. Лицемерная простота, то есть обнаженность и бедность, его не затронули. Подобно самой природе, этот стиль не стыдился избытка материала или чрезмерного обилия украшений. По своей настроенности искусство этого стиля могло создавать и изящную хрупкость и уверенную прочность. Строительный материал перестал быть над ним хозяином, превратившись в его слугу. Для его красоты мрамор стал излишен — было достаточно камня, кирпича или дерева. Если отсутствовала резьба, то соединялись вместе яркие по цвету и блестящие кусочки стекла, набрасывая на каждую часть интерьера великолепный волшебный покрав или же придавая обыкновенному гипсу неповторимую по своему сложному рисунку форму, от которой, однако, благодаря ее изяществу и выразительности линий никогда не уставал взор. Стиль этот любит отточенность, самую изощреннейшую отделку, на которую только способны человеческие руки, но если недоставало материала или же мастерства, то допускалось и нечто менее изящное, что также могло удовлетворить своей находчивостью. Ибо железный канон классического периода, порабощавший всех, за исключением какого-нибудь великого художника, канул в прошлое, а его место заняла свобода, но свобода, исполненная, гармонии. Подчинение существует, но такое подчинение, в основе которого лежит сознательное стремление к единой цели, а не однообразие приемов, — подчинение истинное и необходимое, но не формальное и не вынужденное.
Готическая архитектура не обрела полной свободы до той поры, пока она не оказалась в руках тружеников, тех работников гильдий в свободных городах Европы, которые во многих кровавых сражениях доказали, как высоко ценили они свою корпорацию, доказали своим благородным мужеством, рискуя жизнью при защите своих прав. Но с самого начала такая свобода стала возможна благодаря тенденции, которая предполагала свободу рук и ума при подчиненности их слаженной, коллективной деятельности. Таков дух готической архитектуры.
Проследим еще один небольшой отрезок нашей истории. Вплоть до этого времени развитие шло с Востока на Запад, то есть Восток заставлял Запад принимать новшества. Теперь Запад сам должен был идти на Восток, чтобы учиться там новому. Одной из причин пробуждения энергии на заре средних веков в Европе было возрождение религии, которая, возбуждая желание созерцать святые места, понуждала многих идти на Восток, считавшийся центром культа. Среди народов, отнюдь не готовых подставлять свою щеку обидчику, возникают воинственные паломнические движения, вылившиеся в крестовые походы. Следует признать, однако, что стремление крайнего Запада проникнуть на Восток возникло не непосредственно накануне крестовых походов. Потоки пилигримов с давних пор направлялись на Восток, а скандинавы пришли в Византию не как паломники, а как воины, и Феринпс, одной с ними крови телохранитель греческого императора, защищал трон последнего. Многие скандинавы, возвратившись домой, принесли с собой кое-какие впечатления от искусства, которые не пропали зря в их немногочисленном, но энергичном народе. Но крестовые походы принесли куда более значительные плоды: одним из них, на мой взгляд, была обусловленная определенными представлениями об искусстве трансформация готики с круглой аркой в остроконечную готику. В те времена (как, вероятно, и в наши дни) было правилом, что осевшие в новой стране завоеватели признавали только ту общественную систему, в которой родились сами. Поэтому покоренная Сирия получила феодальную систему управления во главе с царем Иерусалима, ставшим ее сюзереном, и по возвещению герольдов ему единственному дозволялось носить стальные доспехи. Несмотря на это, люди, пришедшие с Запада и поселившиеся в этом новом царстве, при всей своей малочисленности охотно воспринимали искусство, которое видели вокруг себя, — то сарацино-византийское искусство, которое в конечном счете как-то согласовывалось с их собственным мировосприятием, и именно их восприятия и привели к переменам. Ибо не нужно думать, что постепенный переход от архитектуры с круглой аркой к готике с острой аркой объясняется прямым заимствованием восточных форм! Со всей очевидностью сказывалось здесь влияние родственного стиля, высшая легкость и изящество которого в какой-то мере осветили дорогу, по которой могло бы пойти развитие.
Несомненно, эта совершившаяся в форме перемена была поразительна. После того как завершился непродолжительный и исключительно красивый переход, готика с острой аркой явилась исполненной юности и энергии. В этом стиле было предельное единство силы и изящества. Иногда можно даже подумать, что строители зашли слишком далеко в стремлении создать эффект воздушности, — в частности, при сооружении интерьеров Солсберийского собора{6}. Если бы какой-нибудь аббат или монах XI века смог увидеть церковь, перестроенную в XIII веке, то они могли бы счесть, что произошло чудо: громадные цилиндрические или квадратные столбы превратились в тонкие колонны, вместо узких полукруглых окон появились высокие и широкие стрельчатые окна, на которых видна ажурная резьба XII века; к тому же они изящно покрыты глазурью с рисунком, подчиненным общей теме. Вместо плоского деревенского потолка прошлых времен появился смелый свод, перекрывший широкий неф. В каждой части собора взору представало исключительное богатство лепных украшений, изящество и гармоничность скульптур, превосходный рисунок резьбы. Короче говоря, это был логически завершенный стиль без всяких изъянов, вызывающий благоговейное чувство и требующий при восприятии непременною участия воображения. Развитая готическая архитектура, стряхнувшая с себя помехи византийского и римского стилей, достигала своей славной вершины постепенно, без всякой сознательной погони за новшеством и не порывая линии традиции, идущей от стен Тиринфа и усыпальницы в Микенах{7}.
Развитие достигло своей высшей точки в условиях конфликта, о подробностях и тенденциях которого умалчивали историки XVIII века и рассказали нам лишь историки современной эволюционной школы. В XII веке ремесленники столкнулись лицом к лицу с ассоциациями свободных граждан, которые представляли собой пережиток племенного общества Европы. Несмотря на противодействие этих привилегированных обществ, ремесленники стали объединяться в гильдии и требовать устранения узаконенного и неузаконенного гнета, а также предоставления им прав в управлении городом. К концу XIII века они повсюду добились для себя таких прав. В последующие пятьдесят или шестьдесят лет во главе городов стояли представители ремесленных гильдий, и их ассоциации включали в себя все ремесла. Период их триумфа был отмечен помимо других событий битвой при Куртрэ, где рыцарство Франции обратилось в бегство под напором фламандских ткачей, и именно в этот период готическая архитектура достигла вершины своего развития. В продолжение этого периода, думается, главными странами, где развивалось искусство архитектуры, стали Франция и Англия, но и по всему цивилизованному миру распространялось это великолепное, радостное и сверкающее искусство, достигшее теперь вершины изящества и красоты. Что же касается отделки и украшения зданий, о чем я говорил раньше, то мастерство в этой области распределялось между странами Европы по-разному. И разрешите мне попутно заметить, что обычное представление о бесцветности и невзрачности готического интерьера, который будто бы определялся только лишь архитектурными формами, так же далеко от действительности, как подобное этому представление о греческом храме, возвышающемся во всей чистоте белоснежного мрамора. Наоборот, мы должны отметить, что тот и другой были убраны нарядом, а благороднейшей частью этого наряда были великие эпические картины, повесть которых взывала к сердцам и умам людей. И особенно сейчас, в текущей половине нашего столетия, каждая деталь готического сооружения — стены, окна, пол — стала восприниматься как элемент единого пространства, повествующего о великой истории человечества со всеми ее событиями, так, как она представлялась воображению живших тогда людей, и пространство это щедро и с открытым сердцем отдавалось искусству, и всюду, где можно было нарисовать картину, такая картина рисовалась.
Готическая архитектура завершила теперь свое оформление. Из мира литературы тут представлены Данте, Чосер, Петрарка, германский эпос и французский рыцарский роман, английские лесные баллады, которые по праву называют бунтарским эпосом{8}, исландские саги, Фруассар{9} и другие авторы хроник. Живопись охватывает целый сонм великих имен, главным образом итальянцев и фламандцев, и во главе этого списка стоят Джотто{10} и ван Эйк{11}, хотя в каждой деревне был свой живописец, свои резчики и даже свои актеры. Каждый, кто создавал изделия ручного труда, был художником. Некоторые пощаженные временем предметы домашнего обихода — подлинное чудо красоты. Тканая одежда и вышивка не уступают великолепнейшему зданию, картины и иллюстрированные книги сами по себе вполне достойны составить великую эпоху в искусстве. До такой степени великолепны они по эпичности своего замысла, по безупречному совершенству декора, по чудесному мастерству рук! Короче говоря, эти шедевры благородного строительства, эти образцы архитектуры, созерцание которых превращает в праздник нашу сегодняшнюю жизнь, представляют обычный уровень всего искусства того времени — повесть о том, какого совершенства достигло в ту пору художественное творчество, и в то же время грустную повесть о последующих событиях. Ибо когда что-нибудь истинно человеческое достигает высшего совершенства, то вслед за этим наступает упадок и гибель, для того чтобы вместо умирающего могло родиться нечто новое. Великолепное вдохновенное искусство средних веков отнюдь не избежало общей участи.
В середине XIV века над Европой навис мистический ужас Черной смерти (подобный же ужас, видимо, подстерегает и современный мир). Вместе с этим на людей обрушилась не менее мистическая чума коммерческой и бюрократической системы. Это несчастье явилось поворотным пунктом средних веков. Вновь назревало великое преобразование.
Искусство сделало все возможное, чтобы отметить рождение и первые шаги возникающих перемен. В годы, которые последовали сразу за Великой Чумой, готическая архитектура начала изменять свою сущность: восторженность стиля и щедрое богатство красоты, которые она источала в зените своего расцвета, стали истощаться. В некоторых странах, например в Англии, она утрачивала свой ясно очерченный облик и иногда даже становилась довольно-таки банальной. В других странах, например во Франции, архитектура лишалась гармонии, зрелости и чистоты линий. Но еще на протяжении долгого времени она сохраняла жизненность и энергию и даже обнаружила еще большую, чем прежде, способность приноровиться к потребностям развивающегося общества. К тому же перемена стиля повредила не всем видам искусства, — в частности, фламандское ремесло гобелена и английская резьба по дереву в течение многих последующих лет характеризовались скорее новыми достижениями, чем упадком мастерства.
Наконец, к концу XV века великая перемена стала совершенно очевидна. Но мы должны помнить, что речь идет не о поверхностном изменении формы, а о переменах в мире самого духа, неизбежно затрагивающих каждую форму. Эти перемены несколько хвастливо, а что касается искусств, то и просто неверно, мы назвали Возрождением. Но посмотрим, что оно означает.
Общество готовилось полностью изменить свою структуру: средневековое общество статуса находилось в процессе перехода в современное общество договора. Возникали новые классы, которые могли бы удовлетворить новую систему производства — самую основу этого общества. Наряду с возрождением бюрократии снова развернулась политическая жизнь. На политическую арену явились новые нации, отличавшиеся от наций исторических, и это соответствовало интересам бюрократического слоя, необходимого для новой системы. В то же время начала создаваться новая религия, которая бы могла подойти для навой философии жизни. Короче говоря, зарождалась эпоха коммерции.
Думают, что все эти перемены стали для мира источником нищеты и деградации еще в то время, что они все еще и теперь продолжают вызывать нищету и деградацию и что поэтому эта система непременно должна уступить место лучшей системе. И все же мы должны признать, что эта перемена сыграла и благотворную роль: наряду с принесенными ею анархией и безобразием она явилась необходимым орудием развития свободомыслия и способностей человека подчинять природу своим материальным потребностям. Эта великая, перемена, думается, была необходима и неизбежна, и она принесла с собою подлинное возрождение торговли, науки и политики. С этой точки зрения она была обращена не назад, а вперед. В прошлом не было ничего подобного, в ее основании не было окостеневшего образца. Наставник ее — не каприз, а необходимость.
Но странно, что к этому живому телу социального, политического, религиозного и научного Возрождения оказался привязан труп былого искусства. Во всех других отношениях Возрождение побуждало людей искать тех или иных перемен, в хорошую или дурную сторону. В мире же искусства оно с неумолимым педантизмом учителя заставляло людей оглядываться назад — мимо тех времен, когда жили «прославленные мужи и предки, породившие нас»{12}, и через их голову — на искусство, которое умерло еще тысячу лет назад. До этих пор прошлое было прошлым, для настоящего в нем не было ничего живого, в том числе и для людей настоящего. С этой же поры прошлое стало нашим настоящим, и голая стена этого мертвого прошлого должна была отгородить от нас будущее. Ныне есть на свете много художников, которые не могут по достоинству оценить всю гнусность и чудовищность этой перемены, понять, насколько тесно она связана с викторианской архитектурой кирпичной коробки и шиферного колпака, насколько она нас отупляет. Вы вправе опросить, каким образом могли так измениться народные представления о красоте. Хорошо, но разве это изменились представления о красоте? Разве не произошло так, что красота, пусть и бессознательно, перестала быть целью, к которой бы стремились люди того времени?
Некогда я был в недоумении, созерцая один из так называемых шедевров Возрождения — возвращенного к жизни классического стиля, — речь идет о таком сооружении, как собор св. Павла в Лондоне{13}. Мне было трудно настроиться на такой лад, чтобы воспринять это сооружение как нечто равносильное даже самому недавнему и худшему готическому зданию. Подобный вкус напоминает вкус человека, который пожелал бы, чтобы его возлюбленная облысела. Но теперь я знаю, что это не зависело от тех, кто жил в ту пору и умел наслаждаться красотой. Если бы вся эта перемена была обусловлена тягой к красоте, ее вообще нельзя было бы объяснить. Но дело было вовсе не в этом. В ранние дни Ренессанса жили художники, наделенные огромными достоинствами, но эти великие люди, слава которых, заметьте, обязана произведениям живописи и скульптуры, созданным их сугубо индивидуальными усилиями, в действительности были рождены периодом наибольшего процветания — готическим периодом. Это было в полную меру доказано последующим развитием Возрождения, которое произвело на свет всего лишь безжизненное, хоть и более или менее благовидное, искусство. Было несколько действительно великих художников, но художники уже тогда не были просто мастерами, потому что люди перестали быть художниками: мастера искусства превратились в педантов. Соборы св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне строились не из соображений красоты или удобства. Они строились не для того, чтобы стать домом для горожан, приходящих сюда в состоянии душевной сосредоточенности, в состоянии величайшего горя или надежды, а строились они в духе приличия и благопристойности. И потому эти соборы несут на себе печать культуры и знания тех времен и тех людей, которые, одни только, по понятиям их невежественных строителей, не были невежественными варварами. Они строились для того, чтобы стать обителью респектабельного и утратившего энтузиазм духовенства. Строители этих соборов не стремились ни к красоте, ни к романтике. Но иначе это и не могло быть, ибо красота архитектурного искусства — это плод сложного и разумного сотрудничества большой группы людей, тружеников. Но к тому времени, когда Возрождение из водимого за ручку ребенка превратилось в энергичного шалуна, таких тружеников уже более не существовало. К этому времени Европа начала превращать армию ремесленников-художников, создававших красоту ее городов, ее церкви, помещичьи усадьбы и коттеджи, в громадное множество человекоподобных машин, которые едва ли могли надеяться заработать даже на самое скромное пропитание, если бы задумывались над тем, что именно они делают. Этих людей не просили думать, им не платили, чтобы они могли думать, им не разрешалось думать. В наше время это изобретение доведено до предела, и оно должно вскоре уступить место чему-то новому. И это хорошо, ибо, пока распространено это новшество, нам не нужно морочить себе голову архитектурой: она, как выражение нашей жизни, то есть как нечто подлинное, для нас просто недостижима.
Но в данный момент я не намерен говорить о прямых средствах борьбы с ужасными последствиями Возрождения. Я могу только сказать, что следовало бы сделать, если бы у вас были возможности. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно: из нашего краткого обзора истории искусств следует, что сегодня имеется лишь один стиль архитектуры, на котором можно возводить настоящее живое искусство, свободное и способное приспосабливаться к изменяющимся условиям социальной жизни, климата и прочего, и стиль этот представлен готической архитектурой. Большая часть того, что мы ныне называем архитектурой, — всего-навсего имитация другой имитации, плод исполненной унылой респектабельности традиции или глупой прихоти, лишенной корней и внутреннего развития.
Вот пример столь распространенного в нашем искусстве консервативного педантизма. Древнегреческий храм с колоннадой некогда был сооружением, имевшим вполне определенное назначение, — колоннада была священной оградой, окружавшей святыню. Людям тех времен такие храмы были нужны, и, неся на себе печать людских склонностей, сооружения в климатических условиях Греции, естественно, принимали форму греческого храма. Но нужны ли нам сейчас такие сооружения? Если да, то я хотел бы знать, для чего. И если мы притворяемся, будто они нам нужны, и навязываем современному городу здания в виде греческих храмов, то тем самым получается нелепость и уродство, в чем легко, в частности, убедиться, если окинуть взором заливы Эдинбурга. На наших островах нужны дома с крышей и стенами, в которых прорублены окна, а греческий храм не может заменить такие дома.
Удовлетворит ли наши потребности здание в римском стиле? — Да, но лишь при условии, что мы будем стыдиться стен, кровли и окон наших домов и делать вид, будто их вовсе и нет, но это опять-таки всего лишь сумасбродная претензия имитировать греческий храм.
Удовлетворит ли наши потребности здание в неоклассическом стиле? — Приблизительно на тех же условиях, что и здание в римском стиле. Мы должны будем делать вид, будто у нас нет ни крыши, ни стен, ни окон, что у нас вообще нет ничего, кроме имитации римской пародии на греческий храм.
В готическом здании есть стены, которых оно не стыдится, и в этих стенах вы можете прорубить окна, где вам заблагорассудится. Если угодно, вы можете украсить их и показать тем самым, что вам за них не стыдно. Необходимые вам окна станут украшением вашего дома, и вам не нужно будет, вопреки всем доводам разума, сидеть в вашем собственном доме в кромешной тьме, как это было бы, если бы вы жили в доме псевдоримского стиля. Наши окна — отныне уже не уступка человеческой слабости, не уродливая необходимость (как, говоря по совести, обычно бывает), а гордость домостроительного искусства. Теперь поговорим о крыше в этом псевдостиле. Если по недомыслию строится здание греческого стиля, то вы вынуждены делать вид, будто живете в стране с жарким климатом, где нет надобности ни в чем, кроме навеса, будто на наших островах никогда не льет дождь и не выпадает снег. Между тем в готическом здании кровля как снаружи, так и изнутри (особенно изнутри) — венец красоты, средоточие возможностей готического стиля.
Присмотритесь к фасадам наших зданий, которые никто не может рассматривать просто как свою личную собственность, если только не строит своего дома в глухом лесу. Изначальный стиль, от которого пошла наша неоклассическая архитектура, предполагал отделку мрамором в сухой и солнечной стране, где под влиянием климата мрамор приобретал золотые тона. Но нравятся ли вам здания в неоклассическом стиле, фасад которых изменяется от непогоды на протяжении сотен моросящих английских зим и весен в период с октября до июня? А с другой стороны, кого из нас не тронет выветренный фасад готического здания, если только ему удалось избежать прикосновения рук реставраторов? Разве не ясно, что такое здание — шедевр самой природы, проявление того прекрасного настроя природы, при котором желания людей и их руки становятся ее созидательными орудиями?
Время не позволяет мне коснуться многих различий между архитектурой, которая остается мертвой подделкой некогда живого искусства, и архитектурой, которая после многих столетий непрерывного развития все еще не утратила, на мой взгляд, способности к новым поискам, хотя ее жизнь и была сокращена необоснованным возвратом к стилю, давным-давно утратившему все необходимое для жизни и развития. Наверно, современный мир в конце концов убедится, что эклектизм нынешнего искусства совершенно бесплоден, что оно нуждается в новом стиле и что этот будущий архитектурный стиль, повторяю еще раз, может стать конструктивным элементом столь же широкого и глубокого обновления, как и то, что свело в могилу феодализм. И если мир придет к такому выводу, то архитектурный стиль снова должен будет стать историческим в подлинном смысле этого слова. Он не обойдется без традиции. Он не сможет предпринять что-либо радикально расходящееся с бывшим прежде. И все же независимо от формы, которую он примет, дух его будет соответствовать потребностям и стремлениям его собственного времени, а не желанию воскресить давно умершие потребности и стремления. И, таким образом, этот стиль станет напоминанием об историческом прошлом и подготовкой к историческому будущему. Что же касается формы, то я убежден, что она, равно как и его дух, могут быть только готическими. Органический стиль не возникает из эклектического, но может быть рожден только органическим. Поэтому наша архитектура должна в будущем стать по своему стилю готической.
Но что делать нам в промежутке, пока то время еще не наступило, если и сейчас мир нуждается в архитектуре? — В промежутке? — Но, в конце концов, существует ли этот промежуток? Разве мы теперь не требуем готической архитектуры и не взываем во всеуслышание о новом Возрождении? Мне представляется, что это именно так. Это верно, что мир теперь более безобразен, чем пятьдесят лет назад. Но тогда это безобразие представлялось людям чем-то желательным, они смотрели на него снисходительно, как на несомненное проявление успехов цивилизации. Но ныне мы уже более не снисходительны. Мы ворчим, — пусть слабо и в одиночку. Мы ощущаем утрату. И если только мы действительно люди, если только мы не беспомощны, то немедленно предпримем попытки восполнить эту потерю. Искусство может умереть, пока мы страдаем от его отсутствия. И хотя, вероятно, мы, исполненные благого намерения восполнить потерю, не раз окажемся на ложном пути, снова возвращаясь к исходному месту, все же в конце концов мы непременно найдем правильный путь и убедимся, что, вопреки всем потерям и риску, положили конец рабской и безотрадной работе. И в тот желанный день готическая архитектура будет с нами рядом и мы поймем, чем она была и чем остается.
Монополия, или ограбление труда
Представьте себе хотя бы в общих чертах нынешнее положение трудящихся классов; не отвлекайтесь на размышления, могли ли они или не могли достигнуть большего за последние пять столетий или последние пять десятилетий, но посмотрите, каково их положение сравнительно с другими классами нашего общества. При этом мне хотелось бы воздержаться от какого-либо преувеличения привилегированности высших и средних классов, с одной стороны, и невыгоды положения трудящихся классов — с другой. Да и нет никакой необходимости в преувеличении; даже если принять все возможные допущения, контраст остается достаточно разительным. В конечном счете нет надобности идти дальше простого утверждения, которое легко выразить несколькими словами: рабочие унижены сравнительно с неработающими.
Когда мы вспоминаем такое, например, утверждение, согласно которому труд есть источник богатства, или, иначе говоря, — человек должен трудиться для того, чтобы жить, — и это для людей закон природы, — то легко увидеть, сколь ужасающ сам факт, что уровень жизни работающих ниже уровня неработающих. Но как бы поразителен этот факт ни был, возможно, он взволнует воображение некоторых из нас, во всяком случае, людей состоятельных, если я кратко остановлюсь на некоторых чертах этого позорного явления и окажу прямо, что оно означает.
Начнем с самого начала. В сравнении с неработающими рабочие хуже едят и хуже одеваются. Это верно относительно всего класса, но значительная его часть настолько плохо питается, что не только вынуждена поддерживать свое существование куда более грубой и куда более скверной пищей по сравнению с людьми, ничего не производящими, но им даже этой пищи не хватает, чтобы должным образом поддерживать свою жизненную энергию, и вследствие полуголодного существования они подвержены болезням и ранней смерти. Но зачем говорить «полуголодное существование»? Давайте скажем напрямик, что большинство рабочих умирает с голоду. Что касается их одежды, то они одеты так плохо, что зловонная грязь их одеяний неотъемлема от их жизни и оказывает рабочим услугу по части защиты их от непогоды согласно древней пословице «грязь да кожа — все платье бедняка».
Кроме того, жилища рабочих — и это касается даже наиболее состоятельного их слоя — намного хуже питания и одежды. Лучшие из их домов или комнат не годятся для того, чтобы в них жили человеческие существа, так они переполнены. Они и не годились бы, даже если бы их двери выходили в сады или перед ними открывались виды на приятную сельскую местность или красивые скверы; но когда думаешь о жутком убожестве и тесноте улиц и проулков, где расположены эти лачуги, то почти непроизвольно пытаешься притупить свое представление о пригодности и приличиях — настолько жалки эти улицы. Что касается жилищ беднейшей части наших городских рабочих, то я, признаться, знаю о них только понаслышке и не дерзаю столкнуться с ними лицом к лицу, хотя, кажется, мое воображение, рисуя их, может достаточно далеко меня завести. Когда я проходил через бедные городские кварталы, меня всегда поражало одно — шум и сумятица, которые не дают сосредоточиться мысли и которые составляют такой контраст с достойным спокойствием кварталов, где живут те, кто может позволить себе такое благословенное существование.
Итак, пища, одежда и жилье — вот три важных статьи в материальном положении людей, и я напрямик утверждаю, что в этом отношении контраст между неработающими и работающими ужасен, и слово это — не преувеличение. Но разве нет контраста и в чем-либо другом — в образовании, например? Некоторые из нас привыкли хвастаться существующим у нас начальным образованием. Возможно, что в нем представятся и свои хорошие стороны (а может, и плохие), но это требуется доказать. Но почему же не пойти дальше? Почему оно — начальное, или элементарное? В обычной речи элементарное образование противопоставляется широкому. Вам известно, что среди лиц свободных профессий, принадлежащих к паразитическому классу, к которому и сам я принадлежу, если кто не умеет читать на латыни и хотя бы немножко не понимает по-французски или по-немецки, то старается скрывать это от всех как нечто постыдное, если только он не обнаруживает настоящих способностей к математике или физике, компенсирующих его невежество в истории и классической филологии. В то же время, если рабочий немножко понимал бы латынь или французский, то на него смотрели бы как на весьма незаурядного человека, своего рода гения, — и он заслуживал бы этого, если учесть окружающие его трудности. И это еще одно свидетельство явного и недвусмысленного различия в положении людей.
Но в конце концов не только кое-какие обрывки плохо переваренных знаний оказываются для нас наглядным свидетельством такого различия. Оно выражается еще больше в склонности и привычке к чтению, в способности наслаждаться утонченной мыслью и ее выражением, что является достоянием более состоятельного класса (несмотря на постыдное несовершенство его образования) и чего, к сожалению, недостает трудящемуся и несостоятельному классу. Непосредственная причина отсутствия этих качеств мне достаточно хорошо известна, и это еще один штрих в указанном контрасте: она — в единстве досуга и домашнего простора, что в глазах состоятельного класса является его прирожденным правом, а без этих условий образование, как мне часто приходилось говорить, — пустая насмешка. Рабочий класс лишен и досуга и домашнего простора, и даже «социальные реформаторы» надеются, что он примирится с их отсутствием. Вы, конечно, понимаете, что, говоря об этом, я думаю о самостоятельном ремесленнике, а не об убогом, за дерганном,, ослепленном нищетой и отчаянием бедняге из самого низшего трудового сословия, то есть сословия самого многочисленного.
Подумайте и над тем, какое резкое различие существует просто в отношении отпусков. Тот же досуг! Если интеллигент-профессионал (такой, скажем, как я) сделает немного больше, чем положенную на каждый день работу, — боже мой, какую суматошную заботливость начинают проявлять о нем друзья! Как они постоянно убеждают его не перенапрягаться, уделять внимание своему бесценному здоровью, необходимости отдыха и все в таком роде! И вам известно, что если те же самые люди увидят, как какой-нибудь нанятый ими ремесленник мечтает о будущем отпуске, то они начнут сурово порицать его за такую жажду отдыха. Они начнут обзывать его (возможно, заглазно) пропойцей, лодырем, дадут ему и другие прозвища. И если он получает этот отпуск, то в ущерб своему карману и своей совести, в то время как в среде людей свободных профессий ежегодный отпуск считается частью положенной оплаты за службу. Еще раз обратите внимание на различие критерия в отношении рабочего и не рабочего!
Что мне оказать об общедоступных развлечениях и не оскорбить при этом ваших чувств настолько, что вы откажетесь меня слушать? Во всяком случае, одно я должен сказать во что бы то ни стало, а именно, что не многое огорчает меня так, как развлечения, которые признаются достаточно хорошими для рабочих. Какая это бездарная трата — мало того, уничтожение — немногих крох их скудного досуга! И если вы возразите, что между развлечениями рабочих и средних классов нет резкого различия, то я должен с этим согласиться, присовокупив, однако, следующее: из-за самой природы развлечений, по необходимости общественных и предполагающих единый метод их организации и восприятия, более низкий уровень тянет за собой все наши публичные развлечения и превращает, в частности, наши театральные представления в такую жалкую демонстрацию актерской игры, какой никто, пожалуй, еще не видел.
Или другая близкая проблема — нынешнее состояние английского языка{1}. Как часто мне говорили, что не следует писать литературно, если я хочу, чтобы меня понимал трудовой люд! Теперь на первый взгляд кажется, будто рабочий в этом отношении находится в лучшем положении, ибо язык наших гостиных или язык передовых статей представляет собой такую жалкую жаргонную мешанину, которая вряд ли может быть признана английским языком или языком вообще, и a priori можно было бы думать, что рабочие ждут, чтобы к ним обращались на чистом родном языке, но, увы, дело обстоит совсем наоборот. Мне говорят со всех сторон, что мой язык слишком прост, чтобы его понимали рабочие, и если я хочу быть понятым ими, то должен употреблять низкопробный газетный жаргон, язык (так сказать!) критиков и чиновников, и я почти вынужден верить этому, когда слышу, на каком языке говорят кандидаты во время предвыборной кампании и вообще политические деятели, хотя, разумеется, дело осложняется тем, что эти джентльмены вовсе не желают, чтобы смысл их слов был слишком ясным.
Итак, мне хотелось бы по возможности твердо держаться той мысли, с которой я начал, а именно что существует резкое различие между положением рабочего класса и классов, чуждых всякому труду, и что рабские находятся во всех отношениях в более низком положении. И тут мы сталкиваемся с так называемыми друзьями трудовых классов, которые говорят, что люди, занятые на производстве, находятся в таком плачевном состоянии, что если мы хотим добиться от них понимания наших целей, то должны снизойти в наших разговорах до их рабского состояния, а не говорить с ними просто как с друзьями или соседями, — как с людьми, словом. Я не могу и не хочу принять этот совет, но предполагаемая необходимость такого подхода обнаруживает, что, несмотря на все ханжество, классу хозяев достаточно хорошо известно одно: люди, которых они нанимают, — их рабы.
А это значит, что в сравнении с высшим и средним классами рабочие пребывают в условиях нищеты, и даже если бы их положение могло быть улучшено, даже если бы их заработная плата была удвоена, а их рабочий день сокращен наполовину, то все равно они будут находиться в состоянии нищеты, пока сохраняется их неравноправие сравнительно с другим классом, пока они находятся в зависимости от этого-класса, если только тот факт, что производство полезных товаров неизбежно связано с унизительными условиями жизни самих производителей, не стал законом природы.
Теперь я снова прошу вас серьезно задуматься над тем, что это значит, и, поразмыслив, вы отчетливо поймете, что такое положение обусловлено способом организации промышленности и той жестокой силой, которая поддерживает эту организацию. И дело, очевидно, не в наследственных различиях: в жилах аристократа этой страны, что бы он ни говорил, течет та же кровь, что и у приказчика в его имении или у сына его садовника. Внук или даже сын «человека, вышедшего в люди», может быть точно таким же утонченным, — а также таким же бездеятельным и глупым, — как и лицо, насчитывающее среди предков двадцать поколений титулованных глупцов. Равным образом никак нельзя сказать, как говорят некоторые, что все зависит от индивидуального дарования или энергии. Кто это говорит, тот фактически утверждает, что трудящиеся классы целиком состоят из людей, которые по своим личным качествам не поднимаются над низшим уровнем, а все лица, принадлежащие к буржуазному классу, выше этого уровня. Но, кажется, мне не удастся найти сторонников такой точки зрения среди тех, кто сам не опустился ниже самого низкого уровня. Нет, если вы задумаетесь над различием в положении производящих и непроизводящих классов, то будете вынуждены допустить, во-первых, что это зло, а во-вторых, что оно вызвано искусственными причинами, привычками, которые могут быть направлены человеческими законами по более разумному руслу и могут быть ликвидированы, что предоставит нам свободу работать и жить в соответствии с законами природы. И если вы придете к этим двум выводам, то в таком случае вы либо должны принять социализм как базис для создания нового положения вещей, либо должны будете найти вместо него какую-то лучшую основу; с нынешним социальным базисом вы можете примириться, если решитесь сказать, что не ищете лекарства от недуга, который, как вам хорошо известно, поддается исцелению. Позвольте мне еще раз обрисовать существующее положение по возможности четко, а затем попытаемся выяснить, к какому же лекарству прибегнуть.
Общество сегодня разделено на два класса: на тех, кто полезен обществу, и на тех, кто бесполезен. Те, кто полезен, находятся в неравном положении в сравнении с теми, кто бесполезен. Среди людей полезного класса существуют различные градации, начиная с положения, худшего чем у дикаря в странах с хорошим климатом, вплоть до положения, которое не намного ниже низшего уровня бесполезного класса. Однако общее правило таково: чем безусловно полезнее труд человека, тем хуже его положение, — например, сельскохозяйственные рабочие, занятые выращиванием для нас совершенно необходимых продуктов питания, беднее всех наших рабов.
Представители этого униженного и полезного класса не лишены, однако, надежды. Надежда эта в том, что если им повезет, то они, возможно, перестанут быть полезными и в этом случае будут вознаграждены привилегированным положением с присущими ему беспечностью, удобствами и уважением и, как наследство, смогут передать это положение своим детям. Проповедники из среды бесполезного класса (который управляет всем обществом) весьма красноречивы, призывая представителей полезного класса к реализации этой надежды как к долгу благочестия. Среди всякой бессвязной болтовни они говорят: «Друзья мои, бережливость и трудолюбие — величайшие из всех добродетелей, самым неустанным образом укрепляйтесь в них, и наградой вам будет положение, которое даст вам возможность отбросить как бережливость, так и трудолюбие».
Ясно, однако, что представители бесполезного класса не стали бы проповедовать такую доктрину, если б она находила широкое применение, ибо это привело бы к все большему и большему сокращению полезного класса и мир погиб бы из-за того, что никого не осталось бы, кто производил бы товары. Короче говоря, приходится сказать об этой надежде: «Что проку в ней для столь многих?» И все-таки эта иллюзия доставляет утешение тем, кто бесполезен.
Существующее социальное устройство представляется мне заблуждением (я не хочу употреблять более резких слов) — в такой мере заблуждением, что даже если бы его изображали как неповторимое, то и тогда все равно я настаивал бы, что каждый честный человек обязан выступать против такого устройства. Примириться с ним могут, с одной стороны, лишь коварные деспоты, заинтересованные в нем, а с другой стороны, малодушные и беспомощные рабы этих деспотов, причем презрения достойны и те и другие. Этот мир, если его нельзя перестроить, не нуждается в иной преисподней.
Но обратите внимание на то, что все люди действительно допускают возможность перестройки мира. Только некоторые не хотят этого, потому что живется им в нем легко и бездумно, а другие так изнемогают от работы и живут столь убого, что у них нет времени думать и не хватает душевных сил на что-то надеяться. И все же я скажу вам, что если бы между двумя этими группами людей не было вражды, то мир мог бы быть исцелен, и тогда даже родился бы новый мир. Но посудите сами, сколько смертей и крушений, огня и крови сопровождало бы рождение нового мира.
Доводы и призывы поразмыслить об этом и оказать сознательную помощь рождению лучшего мира должны быть обращены к людям, находящимся между двумя этими ужасными порождениями нашей системы — слепым деспотом и его слепым рабом. Я обращаюсь поэтому к тем представителям бесполезного класса, кому стыдно за свое положение, кто начинает понимать, что преступно жить, ничего не производя, и кто посвятил бы себя плодотворному труду, если бы только сумел. Вместе с тем я обращаюсь к тем людям из полезного класса, которые, может быть, по особому счастью или, скорее, благодаря решимости, благодаря тому, что они жертвуют небольшим досугом или немногими радостями, оставленными им нашей системой, в состоянии размышлять о своем положении и ощущать неудовлетворенность им.
Всем этим людям я говорю: «Вам хорошо известно, что против нынешнего социального недуга должно существовать лекарство. Природа повелевает всем людям трудиться, чтобы жить, и от этого может уклониться лишь человек или класс, который заставляет других работать вместо себя; и, на самом деле, существует меньшинство, которое принуждает, и большинство, которое заставляют трудиться, и действительно это большинство должно работать, иначе мир застынет на месте. Лекарство, несомненно, находится здесь, в пределах вашего зрения, ибо с какой стати большинство должно позволять меньшинству принуждать его делать то, что сама природа повелевает делать всем? Ведь только из-за предрассудков и невежества люди могут с этим соглашаться, ибо, заметьте, существование привилегированного класса, живущего за счет другого, предполагает, что между ними идет постоянная борьба. Все, что низший класс может сделать, дабы улучшить свое положение за счет привилегированного класса, он может и должен сделать подобно растению, которое само собой тянется к свету. Но цели этого класса должны быть соразмерны его свободе от предрассудков и его знаниям. Если он невежествен и полон предрассудков, то будет стремиться всего лишь в той или иной мере улучшить свое рабство; когда же он перестанет быть невежественным, то поставит своей целью сбросить с себя рабство раз и навсегда.»
Теперь я могу допустить, что божественное предначертание, чтобы нищета и деградация были спутниками труда, — это предрассудок, уже утративший силу среди рабочих. Более того, признание рабочими обязанности содействовать возвышению своего класса безотносительно к своему личному преуспеванию распространяется среди рабочих все шире и шире. Я допускаю, что большинство рабочих сознают неравноправное положение своего класса, хотя они не осознают и не могут осознавать полностью потерь, которые они и весь мир в целом в результате этого несут, поскольку они не могут ни видеть, ни чувствовать той жизни, которой еще не жили. Но прежде, чем они начнут искать средство изменить свои условия, им нужно добавить к знанию своего положения и к недовольству последним знание и тех средств, с помощью которых вопреки их воле их удерживают в этом положении. Такое знание должны дать им мы, социалисты, и когда они овладеют им, тогда наступят перемены.
Можно легко представить себе рабочего, который думает: «Вот я, полезный обществу человек, плотник, кузнец, наборщик, ткач, шахтер, пахарь, да и все, что угодно, и тем не менее, пока я тружусь, принося какую-то пользу, я принадлежу к низшему классу, и меня не так уважают, как вон того помещика или хозяйского сына, который ничего не делает, того джентльмена, который раз в четверть года получает свои доходы, вон того юриста или солдата, которые приносят больший вред, чем если бы они ничего не делали, или вон того фабриканта, как он себя называет, который платит своим управляющим и мастерам за работу, которую будто бы делает сам. Во всех отношениях я живу хуже, чем он, а ведь я тружусь, а он живет на мои труды. И, кроме того, мне известно, что я знаю не только работу, которая приходится на мою долю, но и то, что если бы я объединился со своими товарищами-рабочими, то мы бы сами могли продолжать производство и хорошо зарабатывать на жизнь, и обошлись бы без охоты на куропаток, которой занимается помещик, без джентльменского выколачивания прибылей, без крючкотворства юристов, без тупости солдат или дрязг между соперничающими предпринимателями. Почему же в таком случае я нахожусь в худшем положении в сравнении с человеком, который не приносит никакой пользы и находится, как это очевидно, на моем содержании? Он говорит, что приносит пользу мне, но я знаю, что это я приношу ему пользу, иначе он не нанимал бы меня, и я не понимаю, в чем же состоит его польза. Что бы случилось, если бы мне пришлось оставить его совершенно одного и дать ему возможность жить за свой собственный счет, между тем как я жил бы за свой счет и трудился вместе с теми, кто приносит пользу тем, кто полезен? Почему я не могу сделать это?»
Друг мой, да потому, что, живя собственным трудом, ты не свободен. И если ты опросишь меня, кто твой хозяин и кто владеет тобою, я отвечу: «Монополия. Освободись от монополии, и ты свергнешь теперешнего тирана, ты сможешь жить, как тебе захочется, в пределах, которые предначертала тебе природа, когда она была твоим хозяином, и которые ты, будучи человеком, расширил настолько, что почти превратил ее в свою служанку».
Но что мы понимаем под словом «монополия»? Я встречал определение, согласно которому монополия есть продажа товаров по повышенной цене при условии, что продавец не добавляет к ним никакой новой ценности. По-другому это можно сформулировать следующим образом: монополия — это привычка получать вознаграждение за услуги, которые никогда не оказывались и которые никогда не предполагалось оказывать, — короче говоря, привычка к вознаграждению за воображаемые услуги.
Это определение выльется вот во что: монополист — это мошенник с большой буквы. Но в таком определении отсутствует один момент, и мы должны его внести. Мы можем защитить себя от этого мошенника, если будем сообразительны и поймем, что услуги его воображаемые, и откажемся иметь с ним дело, ибо он прибегает к сущему обману. Мне следует расширить определение, подчеркнув, что монополист — это человек, обладающий привилегией заставлять нас платить за свои воображаемые услуги. Поэтому он более опасен, чем простой обманщик, против которого мы можем принять меры предосторожности, ибо монополист стремится лишить нас заработанного нами, и он прибегает отнюдь не к простому обману, а к обману в сочетании с насилием. Пока за ним сохраняются привилегии, мы беззащитны; если мы хотим заниматься делом так, как соответствует его интересам, то должны платить ему дань, требовать которую позволяют ему его привилегии, в противном же случае нам придется отказаться от товаров, которые мы намеревались купить. В частности, если бы существовала монополия на шампанское, бархат, лайковые перчатки или куклы с закрывающимися глазами, то вы, желая что-либо из этого купить, должны были бы уплатить дань монополисту, который наверняка взял бы столько, сколько бы пожелал, сверх расходов на производство и на продажу. Воображаю, какая страшная паника началась бы как в стенах парламента, так и за его стенами, если бы в наши дни была разоблачена такая монополия. И все же тот факт, что все наше нынешнее общество находится во власти монополии, вызывает лишь небольшой шум. Монополия — это хозяин, но мы этого не подозреваем.
Ибо привилегии наших монополистов дают им не только возможность облагать данью несколько предметов роскоши или любопытные побрякушки, без которых люди вполне могут обойтись. Я говорил, и вы должны согласиться, что каждый, кто хочет жить, обязан работать, если в его распоряжении нет кого-нибудь, кто за него выполнял бы его долю работы, то есть если бы он не был практически чьим-то иждивенцем. Но большинство людей не может находиться на иждивении других; поэтому они должны трудиться, чтобы удовлетворять свои потребности. Но чтобы с пользой трудиться, необходимы два условия: во-первых, физические и умственные способности, развитые благодаря их применению, навыку и традиции, а во-вторых, сырье, к которому можно было бы приложить эти способности, и орудия, которые могут оказать помощь человеку в его труде. Второе условие совершенно необходимо связано с первым; если они не слиты воедино, то никаких товаров производить нельзя. Поэтому те, кому необходимо трудиться, чтобы жить, и кому приходится обращаться к другим за позволением применять орудия труда, являются людьми не свободными, а зависящими от других, то есть рабами, ибо товары, которые они должны покупать у монополистов, значат для них не меньше, чем сама жизнь.
Теперь я прошу вас представить себе общество, в котором все здоровые и нормальные люди могут добывать из сырья посредством труда и соответствующих орудий достаточные и вполне приличные средства к жизни, причем общество это владеет необходимым количеством и сырья и орудий. Сочтете ли вы неразумным или несправедливым, если такое общество будет настаивать, чтобы каждый нормальный и здоровый человек занимался созданием богатства, а не обременял бы общество, или же, с другой стороны, если последнее будет гарантировать обеспеченное существование каждому, кто честно зарабатывает себе средства к жизни, — существование, при котором не будет нужды в том, что необходимо для развития здорового человеческого существа со всей его удивительной сложностью интеллектуальных и моральных привычек и стремлений?
Что же касается сырья и орудий, необходимых обществу для его существования, то сочтете ли вы неразумным, если оно будет настаивать, чтобы эти драгоценные и необходимые предметы, без которых оно не может жить, употреблялись бы с пользой, а не во зло? Сырье и орудия могут применяться только для производства чего-то полезного, а не бесполезного; так, в частности, вспаханное поле не следует засеивать чертополохом, щавелем и повиликой, а тюк шерсти не следует сжигать под окном у вашего соседа, чтобы напакостить ему, — все это и есть употребление не на пользу, а во зло, и мне кажется, наше общество вправе запретить подобное злоупотребление.
И опять же, — будет ли для общества неразумным утверждать, что этими средствами производства, если они будут употребляться на пользу, а не во зло, должны непременно пользоваться те, кто умеет ими пользоваться, — иными словами, все нормальные и здоровые люди, которые сообща зарабатывают себе на жизнь? Будет ли неразумным утверждать, что их нужно использовать в соответствии с естественными и справедливыми принципами, принятыми всем обществом, находящимся в здравом уме, и что, кроме того, поскольку ими должны пользоваться все, то они не могут находиться в чьем-то исключительном владении, то есть принадлежать лишь некоторым, ибо, если какие-нибудь частные лица или группы их обладают правом исключительной собственности на эти средства, то они могут отказать в праве пользования ими тем, кто мог бы ими пользоваться, за исключением тех случаев, когда они поставят полезных людей в неравноправное положение по сравнению с людьми бесполезными, — иными словами, когда они станут их хозяевами и будут навязывать им образ жизни по своему усмотрению. Поэтому, на мой взгляд, сырье и орудия должны принадлежать всему обществу в целом и использоваться всеми его членами на условии, что они сами исправляют ущерб, наносимый средствами производства, и не присваивают себе сырье и орудия в неположенном размере.
Таково, следовательно, наше разумное общество, где все могут заниматься производством и все действительно им занимаются, никто не платит подушного налога, чтобы получить позволение трудиться, то есть жить, и где никто не налагает на себя никаких тягот иначе как по собственной воле. Таково общество, цель которого — приспособить преобладающее число естественных условий и естественной среды для благ всех и каждого. Людей такого общества я называю разумными, но их называли также всякими прозвищами, к примеру — нарушители восьмой заповеди (да и всех заповедей вообще), разбойники, убийцы, ненасытные грабители, враги общества — словом, социалисты.
Взгляните на иное общество и решите, не понравится ли оно вам больше. В нем, как и в нашем первом обществе, все нормальные и здоровые люди могут производить богатство своим трудом, используя сырье и орудия. В этом обществе достаточно сырья и орудий, и тем не менее на этом сходство кончается, ибо часть людей, которые могли бы выполнять полезную работу, не хочет работать, другая же часть — не может. Кое-кто из второй группы людей не находит никакой работы и явно голодает, другие не могут найти ничего, кроме бесполезной работы, и тем самым помогают своим братьям умирать с голоду, а все, кто хоть что-нибудь производит, как мы уже видели раньше, находятся в унизительном положении в сравнении с теми, кто ничего не производит.
Закон природы, согласно которому пропитание дается трудом, таким образом, перевертывается, поскольку усердно работающие люди получают мизерную плату, в то время как почти не работающие катаются как сыр в масле. Разумно ли это? И тем не менее это прямой и необходимый результат тех прав на собственность, которые поддерживаются общими усилиями всей нашей армии, флота, полиции, судей, адвокатов, священнослужителей и других, готовых на любую ложь и насилие ради ограждения этой собственности. Это — плоды монополии. Поля теперь уже не используются только для первоначальной цели, для выращивания хлеба, откорма скота, для постройки домов, но используются также и во зло, как механизмы для выжимания ренты ради мнимого блага отдельных лиц. И приблизительно так же обстоит дело с орудиями труда: накопленный труд прошлых поколений, машинное оборудование, средства передвижения — все это теперь отнюдь не используется просто как средства производства. Теперь это стало их второстепенным назначением, а закон совершенно не обеспокоен этим обстоятельством, потому что теперь он покровительствует именно подобному неправильному применению орудий (а оно ныне стало первостепенным их назначением) в интересах хозяев, применяющих эти орудия во зло — для выжимания из производителей ренты, процентов и прибылей.
Лица, которые, следуя, таким образом, десяти заповедям (буржуазии), озабочены предотвращением того, что они называют воровством, и есть, следовательно, при нашей теперешней системе, хозяева или даже повелители всего общества, а помимо них нет вообще ничего, кроме машин — стальных и человеческих, которые позволяют этим хозяевам производить не наибольшее благосостояние, а наибольшую прибыль. Когда же хозяевам не удается получить необходимое по их расчетам количество прибыли, доставляемой упомянутыми мною машинами, они говорят, что времена плохи, даже если товарные склады и амбары набиты битком, а способность производить богатства при уменьшающихся затратах труда день ото дня увеличивается. Высокие цены для них, а также, к сожалению, и для принадлежащих им человеческих машин означают процветание, ибо эти последние ни малейшим образом не вознаграждаются за производство благосостояния для себя, а лишь за производство прибылей для своих хозяев. Уничтожение богатства войной и другими бедствиями благоприятно для выколачивания прибылей, и потому у нас бывают войны. Пустое расточительство труда при производстве всех видов глупости и бессмыслицы благоприятствует торговле, и поэтому у нас есть псевдолитература, псевдоискусство, псевдонаслаждения, газеты, рекламы, юбилейные торжества и все необходимое, чтобы помочь нашей ослабевшей системе проковылять еще немного и чтобы вместо нас нашим сыновьям пришлось столкнуться с ее неизбежным крушением, которое повлечет за собой возникновение грядущего мира.
Каков же выход из всего этого? Я уже говорил о рабочих как о безответных машинах коммерции, и они останутся беспомощными, пока апатично взирают на себя как на простые машины в руках хозяев общества. И все-таки именно им предстоит осуществить переворот и смести монополию. Капиталисты еще более, чем они, беспомощны совершить какие-либо коренные перемены, потому что как капиталисты, как класс, они могут себе представить только один способ жизни: быть иждивенцами других, и их долг, их религия — противостоять всем переменам, направленным на изменение этого положения. Но и как отдельные личности они не смогут зарабатывать себе на жизнь, если вы прекратите обычную выдачу им средств жизни, прежде чем начнете строить новый мир, в котором они, как все другие, смогут найти место и для себя. Поэтому невозможно, чтобы изменения были проведены сверху. Нет, это классы, необходимые, чтобы поддерживать то здоровое, что существует еще перед лицом чудовищной машины капитализма, это сами рабочие должны осуществить переворот. Во всяком случае, непременная цель социалистической пропаганды — разъяснять, что эти перемены должны быть насколько возможно вызваны или по крайней мере направлялись бы разумом сознательных рабочих, а не были бы отданы во власть слепым силам голода, нищеты и отчаяния, которые капиталистическая система так настойчиво нагромождает на свою же погибель. Независимо от всей сознательной политики, от тех или иных успехов, независимо от полувымершего торизма и смутной неоформленной демократии, которая несомненно пробивает дорогу революции, приближается время, когда монополия на средства производства перестанет играть важную роль, и наниматели перестанут нанимать рабочих. Конкуренция не на жизнь, а на смерть, постоянное удешевление средств производства и истощающиеся рынки, с одной стороны, и непрерывная борьба рабочих с целью улучшить свое положение за счет капиталистов, с другой стороны, будут создавать все большие трудности для предоставления и получения работы во имя прибыли и наконец приведут к тупику, к катастрофе, несмотря ли на какие временные улучшения торговой конъюнктуры. Но если рабочие научатся понимать свое положение, если они, иными словами, научатся пользоваться плодами природы, которую они же и покоряли, вопреки искусственным ограничениям труда, во имя выгоды определенного класса, им тогда уже нечего бояться наступающего кризиса. То самое увеличение производительности труда, которое погубит капитализм, сделает возможным социализм, и нельзя сомневаться, что дальнейшее удешевление производства двинется громадными шагами в первые же дни существования нового общественного устройства, и мы увидим, что станет довольно легко жить спустя всего лишь несколько лет после того времени, когда было столь тяжко заниматься производством прибыли.
Тем не менее я был бы неоткровенен с вами, если бы пытался создать впечатление, будто ликвидация монополии и искусственных ограничений производства совершится без всяких трудностей, вполне мирно и без напряженных усилий всякого рода. Теперешнее положение дел не вдохновляет нас на такие мысли: там, где движение кажется слабым и ограниченным по своей цели, оно наталкивается на лицемерие; там, где оно кажется угрожающим и тщательно подготавливается, — оно безжалостно и бессовестно подавляется. Нет никаких признаков, что хоть кто-нибудь способен добровольно отдать хотя бы крупицу своих привилегий. И вам не следует забывать, что и наш закон и вся власть, начиная с парламента и кончая судом графства, принялись теперь за изощренную защиту той самой монополии, смести которую — наш долг. Если бы весь класс рабочих мог убедиться в один прекрасный день или в один прекрасный год в необходимости ликвидации монополии, она исчезла бы словно ночная мгла. Однако потребности обездоленных людей и стремления людей разумных обгонят медленный процесс постепенного превращения, и противники монополии окажутся в положении, когда они будут вынуждены овладеть исполнительной властью, чтобы разрушить капитализм и подвергнуть перестройке общество, но не ради того, чтобы управлять с помощью исполнительной власти таким же Образом, каким она управляет теперь. Другими славами, им придется устранить все искусственные преграды, стоящие на пути свободного труда, и сделать это теми или другими средствами. Те, кто предвидит необходимость этого, несомненно, спорят сейчас о средствах, с помощью которых это будет сделано. Но они по крайней мере должны согласиться, и, когда придет время действовать, они согласятся, что хороши любые средства, которые человечны и эффективны.
Итак, я пытался указать вам на то, что производящий или полезный класс находится в неравном положении в сравнении с непроизводящим, бесполезным классом, и что это извращает закон природы, который повелевает всем трудиться, чтобы жить. Я попытался доказать также, что это извращение — неизбежный результат того, что частным лицам дозволено считать средства, необходимые, чтобы сделать труд плодотворным, своей собственностью и злоупотреблять ими как орудиями принуждения, заставляя рабочего платить дань за возможность жить. Я призывал вас согласиться с нами, социалистами, что необходимо ликвидировать монополию, объединиться для ее ликвидации и для перестройки общества на основе свободного труда и уничтожения всех привилегий. Мне следует далее добавить, что трудящиеся классы примут только такую программу, которая не будет чинить препон уничтожению частной собственности на средства производства. Всякая иная программа бесчестна и лишь сбивает с толку, ибо она двулика, — причем один ее лик, обращенный к рабочему классу, говорит: «это — социализм или, уж во всяком случае, его начало» (что вовсе не соответствует истине), тогда как другой обращается к капиталисту: «это — не социализм, и если вы добьетесь, чтобы рабочие или хотя бы их часть его восприняли, это породило бы новый низший слой буржуазии, — своего рода буфер, который окажется одинаково близок и к привилегиям и к социализму и спасет вас, пусть даже и ненадолго».
Но истинную программу, предполагающую ликвидацию привилегий, мы приемлем, ибо она должна привести и действительно приведет к полному социализму. Она вырвет у капиталистического дракона зубы и сделает возможным общество равенства — такое общество, в котором мы будем жить не среди врагов и, в сущности, в условиях военного перемирия, а среди друзей и соседей, с которыми мы иногда из-за наших страстей или по глупости можем ссориться, но интересы которых на самом деле никогда не смогут быть противопоставлены нашим собственным.
Будущее архитектуры в условиях цивилизации
...ужасной концепции, согласно которой эта вселенная — кошмар Кокни, ни одно существо на свете не должно ни верить, ни внимать.
Томас КарлейльДля большинства из вас, полагаю, слово «архитектура» означает искусство строить благородно и красиво. Я уверен, что занятие этим искусством — одно из наиболее важных, что раздумья о нем достойны внимания серьезных людей не на один только час, но на протяжении значительной части их жизни, даже если они и не должны иметь с ним дело как профессионалы.
Но хотя это искусство благородно само по себе и как никакое другое является искусством цивилизации, оно само по себе никогда не могло и не может ни жить, ни развиваться. Оно должно взращивать все ремесла и взращиваться ими — теми ремеслами, с помощью которых люди создают то, что, по их замыслу, должно быть красивым и чье существование должно длиться долее текущего дня.
Под архитектурой я привык понимать союз искусств, связанных узами взаимного сотрудничества и гармоничного взаимоподчинения, и когда я сегодня буду употреблять это слово, то именно в этом значении, а вовсе не в каком-либо более узком.
Это действительно большая тема, ибо она требует внимания ко всему внешнему окружению человеческой жизни. Мы не можем уйти от нее, не можем от нее отвернуться, даже если и захотим, покуда продолжаем принадлежать цивилизации, ибо архитектура означает формирование и изменение самого облика нашей земли в согласии с человеческими потребностями — всюду, кроме необитаемых пустынь.
Мы не можем передоверить наш интерес к этому делу небольшой кучке ученых, людей, которые бы искали, открывали и создавали, а мы бы оставались в стороне, восхищаясь их работой и мало-помалу узнавая, как это все было сделано. Нет, именно мы сами — каждый из нас — должны оберегать красоту земли. Каждый должен вносить свою лепту в ее сохранение, отдавая этому свою душу и труд собственных рук, дабы передать нашим сыновьям не меньшее сокровище, чем сами мы получили от своих отцов.
У нас не такой уж избыток времени, чтобы мы могли позволить себе пренебречь этим делом при нашей жизни или предоставить его нашим сыновьям, ибо человечество настолько занято и нетерпеливо, что сегодняшние желания побуждают нас полностью забывать желания и достижения вчерашнего дня, и каждый раз, когда в погоне за какой-либо целью мы перестаем стремиться к совершенству, несомненный и быстрый распад уводит нас от жизни к смерти и вскоре все превращается в прах и забывается. Для многого может оказаться достаточно времени — для заселения пустынь, для устранения преград между народами, для постижения глубочайших тайн устройства нашей души и тела, воздуха, которым мы дышим, и земли, по которой ходим. Может оказаться достаточно времени для подчинения нашим материальным потребностям всех сил природы, но не хватает времени, чтобы утолить свое томление по красоте земли.
Нас вновь и вновь захлестывает волна человеческих потребностей, превращая землю даже не в ту многообещающую пустыню, какой она была некогда, а в тюрьму без надежды, и каждый раз человек обнаруживает, что он трудился и стремился, покорял и топтал ногами все на свете с одной лишь целью — сделать жизнь несчастной.
Верно, конечно, что цивилизация в суматохе или по беспечности уродует каждый кусок земной поверхности, и представляется тяжелым трудом — да что там, трудом непостижимым — найти против этого какое-нибудь средство, ибо готовность жить в любых условиях, вселенная в нас природой, и вследствие этого чудовищно быстрое размножение рода человеческого изгоняет из людских умов всякий проблеск надежды, словно бы воздвигая на нашем пути железную стену, и лишь сила, равная той, что обезобразила землю, способна восстановить и возвратить цивилизации природу, которую она же сама искалечила, или пробудить новую надежду.
Поэтому я призываю вас настроиться на размышления о том, что обещает нам архитектура, поразмыслить о красоте земли вокруг человеческих жилищ, ибо надежда на будущее архитектуры и страх за ее судьбу будут нас преследовать, даже если мы попытаемся отделаться от этих чувств. Это касается нас всех, требует нашего содействия, и мы должны выполнять свой долг тотчас же, ибо каждый день нашего пренебрежения этим громоздит гору неприятностей, которую возводит перед нами слепая сила, и если это нас не встревожит, то дело зайдет настолько далеко, что в скором будущем мы вынуждены будем призывать не к миру и процветанию, а к насилию и разрушению, дабы освободиться от этих неприятностей.
Обращаясь к вам с этим призывом, я далек от предположения, что кто-либо из вас отказывается признать себя ответственным перед потомством за то, что происходит в наше время с красотой земли, — другими словами, за то, что мы делаем для развития архитектуры. Если такие люди и бывают в среде образованной публики, то мне до них нет дела, ибо меня они слушать не будут, да я и не знаю, что им сказать.
С другой стороны, некоторые из присутствующих могут и сознавать свою ответственность, но обязанности, из нее вытекающие, представляются им легкими, поскольку они вполне удовлетворены теперешним состоянием архитектуры. Полагаю, они не преминут отметить резкий контраст между красотой, все еще присущей некоторым домам, и тем уродством, которое обычно для других, но этот контраст представляется им естественным и неизбежным, а потому и не тревожит их. Они выполняют свой долг перед цивилизацией и искусствами, отправляясь иногда поглядеть на красивые места, и привозят с собой напоминающие им об этих местах безделушки, чтобы украсить ими безобразные дома, в которых они живут. Что касается остального, то они не испытывают никаких сомнений в естественности и закономерности того, что старинные дома в старинных городах красивы и романтичны, а все современные города уродливы и банальны. Они не думают, что этот контраст имеет для цивилизации какое-то значение и что он свидетельствует о чем-то ином помимо древности одного города и современности облика другого. Если же они мысленно увлекаются дальше, глубже присматриваясь к этому контрасту между искусством старинным и современным, то эти наблюдения не колеблют общего довольства. Они, возможно, видят, что повсюду необходимы перемены, но полагают, или, — позвольте мне сказать — принимают как само собой разумеющееся, что искусство живет полнокровной жизнью, находится на верном пути и что, следуя этим путем, оно и дальше будет жить так же полнокровно.
Не будет несправедливо сказать, что такое вялое благодушие характерно сейчас для общего отношения образованной публики к искусствам. Разумеется, если бы ей когда-нибудь пришлось задуматься над этим всерьез, она была бы к собственному неудовольствию поражена мыслью, что цивилизация, такая, как сейчас, неизбежно несет в мир безобразие. Несомненно, это неестественно и неправильно. Она поняла бы, что не к этому стремилась цивилизация в решающие дни своей борьбы. Но никто не размышляет об искусствах всерьез, потому что до сих пор людей защищал закон природы, не позволяющий им разглядеть зло, которое они еще не готовы устранить.
До сих пор, — сказал я! Но есть признаки того, что в один прекрасный день этот закон может их подвести, и долг всех настоящих художников, всех людей, любящих тревоги жизни даже больше, чем спокойствие смерти, — прорвать эту защиту, уязвить и образованный и необразованный мир, пробуждая в нем недовольство и сознание необходимости борьбы.
Поэтому я готов утверждать, что контраст между искусством былым и искусством современным, между повсеместной красотой человеческих жилищ, создававшихся ранее, и их повсеместным уродством, как они создаются теперь, весьма показателен для цивилизации и говорит о многом. Этот контраст говорит о слепой и жестокой силе, которая уничтожит искусство, даже если и пощадит что-либо другое. Искусство охвачено недугом, оно едва дышит, сбилось с пути, и если пойдет и впредь той же дорогой, то очень скоро расстанется с жизнью.
Ну, а теперь вы, возможно, скажете, что, разглядев в отношении образованных людей к искусствам явное безразличие к такому нездоровому состоянию дел, я тем самым утверждаю, что эти образованные люди к искусству равнодушны и что перспектива его гибели не очень-то их страшит, даже если эта угроза основана на реальных фактах, и, стало быть, те, кто стремится возбудить в обществе недовольство и страсть к борьбе, — всего лишь сотрясают воздух.
Что же, я буду говорить откровенно, хотя и рискую вас обидеть. Да, я утверждаю — и это представляется мне сугубой правдой, — что образованным людям, в общем, нет никакого дела до искусств, но тем не менее я готов ответить на возможные сомнения в полезности пробуждения интереса к искусствам: людям нет дела до искусств, потому что они не знают, что значат искусства и что они теряют, лишаясь их. Образованные — или, иначе, богатые — также по тяжкой необходимости пребывают в бедственном положении, будучи беспощадно подстегиваемы системой конкурентной коммерции, которая, надеюсь, близится сейчас к завершению, а следовательно, к собственной своей гибели и к новым переменам. Многие миллионы людей в цивилизованном обществе при нынешней организации труда едва ли могут думать о чем-нибудь другом, кроме способа заработать кусок хлеба насущного. Им неведомо искусство, оно вообще не коснулось их жизни. Немногие тысячи образованных людей, которых судьба, не всегда такая уж добрая к ним, как кажется, поставила выше материальной необходимости вести эту тяжелую борьбу, духовно тоже порабощены цивилизацией. Хоть и отраженно, но их также обременяет тревога, грызущая тех, кто трудится ради того, чтобы жить, а живет ради того, чтобы работать, и это бремя не позволяет им воспринимать искусство как нечто серьезное, и они смотрят на него только как на игрушку, а не как на серьезное подспорье жизни. Такое, каким они знают его, искусство не может снять бремя с совести богатых, как не может уменьшить усталость бедняков. Им неведомо, что такое искусство. Они думают, что коль скоро труд теперь организован, то искусство может так или иначе существовать, оставаясь в том же виде, в каком оно существует теперь, будучи занятием немногих для немногих, добавляя незначительный интерес и немного утонченности к жизни тех людей, которые привыкли считать интеллектуальные интересы и духовную утонченность своим прирожденным правом.
Нет, нет, этому не бывать. Поверьте, если бы было возможно, чтобы человечество долго жило при условиях, когда один класс обладает высшей утонченностью, а другой прозябает в совершенном варварстве, то искусство встало бы преградой и не позволило бы существовать такому чудовищному обществу. Такой утонченности пришлось бы обходиться без поддержки искусства. Искусство может умереть, но невозможно, чтобы оно стало рабом богатых и символом бесконечного рабства бедняков. Если миру суждено вследствие гибели искусства погрязнуть в варварстве, то удел одичания вместе с бедными постигнет и богатых.
И сейчас, я знаю, существуют незлобивые люди, как существовали они во все века, и эти люди составили себе такое мнение об искусстве, будто оно развивается бок о бок с роскошью, — мало того, будто оно совершенно равнозначно роскоши. Но мысль эта неверна в самом корне и в высшей степени вредна для искусства, и это я мог бы доказать вам на многих примерах, будь у меня время; из-за недостатка его я ограничусь одним только примером, которого, надеюсь, окажется достаточно.
Мы живем в богатейшем городе богатейшей страны в богатейший период истории. Никакая роскошь былых времен не может сравниться с нашей роскошью, и все-таки, если вы сбросите с ваших глаз привычные шоры, то должны будете признать, что нет ни одного преступления против искусства, ни одного проявления безобразия или вульгарности, в которых нельзя было бы с полным основанием и в равной мере обвинить и теперешние трущобы Бетнал-Грина и нынешние дворцы Уест-Энда. Но, далее, если вы внимательнее и серьезнее продумаете суть дела, то не станете об этом сожалеть и, проходя мимо одного из упомянутых дворцов, не без радости скажете: «Так это все, что деньги и роскошь в силах сделать ради утонченности!»
И если в последнее время в отношении будущего искусств наметились перемены к лучшему, если делались упорные попытки сбросить оковы мертвой и бессильной традиции и понять мысли и стремления тех, для кого эти традиции были некогда живой, властной и плодотворной силой, если всюду обнаруживается дух сопротивления лавине убогого безобразия, порожденного современной цивилизацией, сделавшей убогим свой облик, — одним словом, если у кого-нибудь из нас есть мужество возмутиться тем, что искусство погибает, и в то же время надеяться на его возрождение, то это оттого, что другие выказали недовольство и стали надеяться на успех в отношении других дел, помимо искусств. Я искреннейшим образом убежден, что неуклонное развитие тех, кого в силу их материального, политического и социального положения языковая нелепость вынуждает именовать «низшими классами», было истинной поддержкой для нас во всем, что мы делали или же на что надеялись, хотя и те, кто помогал, и те, которым помогали, очень мало сознавали это.
И, полный веры в это, веры в благодатный прогресс цивилизации, я отваживаюсь выступать перед вами с призывом постичь подлинный смысл искусств, которые, несомненно выражая преклонение перед природой, украшают ее, как украшают и жизнь человека на земле.
И, полный веры, я надеюсь побудить вас — не скажу согласиться со всем, к чему я вас призываю, — но по крайней мере подумать об этом предмете, достойном наших раздумий о нем. И если вы согласитесь со мной, то, значит, я завоюю ваши симпатии. Возможно, многое из того, что кажется мне красивым, вы сочтете не стоящим внимания, более того, какие-то вещи, представляющиеся мне пошлыми и безобразными, не будут досаждать вашему глазу и раздражать ваш ум, но в одном, я знаю, ни один из вас не захочет признать себя виновным — в слепоте к естественной красоте земли, той красоте, единственно возможный страж которой — искусство.
Ни один из вас не может не знать, какой ущерб этой сокровищнице человечества нанесен пренебрежением к искусствам. Земля была прекрасна еще до того, как на ней появился человек. На протяжении многих веков ее красота росла вместе с ростом мощи и численности людей. А сейчас красота земли день ото дня утрачивается и безобразие быстрее возрастает именно там, где цивилизация достигает наибольшей мощи. Это совершенно бесспорно, и никто не может это отрицать. Но готовы ли вы смириться с тем, что так будет и впредь?
Наверно, не всех присутствующих лично коснулись эти обезобразившие землю перемены. Но большинство из вас отлично меня поймет, если я попрошу вас припомнить те чувства боли и страха, которые мы испытываем, когда вновь посещаем какую-нибудь сельскую местность, в прошлом особенно милую нашему сердцу. После утомительного труда к нам возвращались там свежие силы, после тревог мы находили там утешение, но теперь, стоит только свернуть с дороги или перевалить через холм, как нам бросятся в глаза прежде всего крытая голубым шифером кровля, а затем испещренная пятнами и покрытая грязной краской штукатурка, плохо построенные стены или скверная кирпичная кладка новых строений. Когда же вы подходите ближе и видите высохшие и претенциозные садики, ужасные железные заборы, убожество невзрачных пристроек на фоне свежих лугов и бесчисленных оград нашей старинной спокойной деревушки, не падает ли в нашей груди сердце, не охватывает ли нас тяжелое и отнюдь не такое уже эгоистическое чувство, не приходит ли нам в голову мысль, как мало было нужно беспечности, чтобы разрушить мир наслаждения и восторга, который теперь уже, что бы ни случилось, никогда не восстановить?
Что же, а можем ли мы ощутить в сердце ту тяжесть и боль, которые должен в один из будущих дней испытать весь мир, обнаружив полный крах своих надежд, которыми мы сегодня пренебрегаем? Ибо не этого ждала цивилизация. Новый дом, выстроенный в старой деревушке, — какая в этом беда? Разве это потеря, а не достижение, не символ роста и процветания, которое должно было бы наполнить ваших друзей восторгом? Новая семья, прибывшая сюда в цветущем здоровье, в надежде разделить скромные радости и труды любимого нами места! Это должно было бы вызывать в вас не скорбь, а живую радость!
Да, некогда так было. Новый дом, действительно, занимал небольшой клочок благоуханного зеленого луга, несколько ярдов тесного огороженного пастбища, но новая гармония и красота воцарялись на месте прежних. Естественные цветы полей лишь уступали место цветам, созданным руками и разумом человека. Дуб, окруженный оградой, расцветал новой красотой как дерево, поднявшееся над крышей дома, как дерево, ветви которого заглядывают в окна и двери. Новый дом казался юным и свежим рядом с давно построенными домами и старинкой церковью — старинной даже в те дни. И все же и он мог стать в будущем частью истории, и его милые стены светло-кремового цвета были поистине одним из бесчисленных звеньев той длинной цепи, начало которой нам неведомо, но именно в этой могучей цепи отдельными звеньями являются при всех их чудесах и блеске и многоколонный дворец Афины Паллады, и величественный купол св. Софии.
Таким, я полагаю, может быть новый дом, таким он был. И дом, о котором я думаю, — вовсе не идеал. Это отнюдь не редкостное чудо искусства, не немногое из даров, преподносимых лучшим временам и странам, это и не дворец, и даже не помещичий дом, а в лучшем случае усадьба иомена или даже хижина его пастуха. Дома эти стоят и по сей день во многих частях Англии — таких десятки. Один из таких домов, совсем небольшой, возникает перед моими глазами сейчас, когда я это говорю. Он стоит у самой дороги, на западном склоне Котсуолда. Вершины громадных деревьев вблизи от дома смотрят на далекие горы, расположенные на границе Уэльса, а в лежащем между ними пространстве — громадное царство холмов и волнующихся лесов, лугов и равнин, где расположены многие знаменитые поля сражений, на которых бились когда-то наши отважные предки. В правой стороне колышется темно-синее облако дыма, идущее от Вустера, но дым Ившема, хотя и расположенного неподалеку, не виден глазу, настолько он мал. Еще дальше длинная полоса едва различимого тумана обнаруживает место, где Эйвон направляет свои воды к Северну, далее — гора Бредон закрывает собой и Эйвон и дым Тьюксбери. И еще ниже по обеим сторонам Бродвея расположились серые домики этой деревни, заканчивающейся живописным домом XIV века. А наверху змеей вьется дорога вплоть до крутых гор, с гребня которых виден расстилающийся к западу ландшафт, который я только что описал, а на востоке с него можно увидеть Оксфордшир{1} и там же воды, впадающие в Темзу. Кругом красивые своими очертаниями склоны, на которых играет солнце, покрытые ковром цветов и сочных трав, с возвышающимися здесь и там стройными, прекрасными деревьями. Прекрасный сельский край, не лишенный достоинства и романтики, но в высшей степени знакомый нам.
И вот там стоит небольшой дом, который некогда был новым, — домик обыкновенного труженика, построенный из известняка Котсуолда. Стены и крыша его приобрели уже приятный и радующий глаз сероватый цвет, хотя в прежние дни он был покрыт светло-кремовой краской. Ни одна линия этого дома ничуть не повредила красоте Котсуолда. Все в нем прочно и надежно. Он с умом задуман и имеет отличные пропорции, на арке входа видна четкая и изящная резьба. В каждой детали дома чувствуется забота. Он по-настоящему красив, этот дом. Он — произведение искусства и самой природы, никак не меньше. Нет человека, который бы мог, принимая в расчет расположение и назначение дома, построить нечто лучшее.
Кто же его в таком случае построил? Отнюдь не диковинное племя, но обычный каменщик из деревни Бродвей. Такой же возводит теперь там же три или четыре домика, отличающихся столь хорошо нам знакомой убогой внешностью. Он не просил архитектора из Лондона или даже Вустера{2} начертить его план. Мне кажется, этому дому всего лишь двести лет. В то время, хотя красота и продолжала существовать в крестьянских домах, наши ученые архитекторы возводили дома для крупных землевладельцев, довольно безобразные, но прочные и хорошо построенные. И нельзя сказать, чтобы материалы для такого дома приходилось доставать издалека. С соседнего поля привозили камни для обнесения стен, и на вершине горы люди и теперь добывают тот же отличный камень.
Нет, не требовалось никаких особых усилий и не было никакого чуда в постройке такого дома, хотя красота его и теперь вызывает наше удивление.
Так готовы ли вы смириться с утратой всего этого, с утратой этой простой, безобидной красоты, которая никому не доставляет тревог, ни для кого не помеха, которая лишь приумножила красоту земли, вместо того чтобы ее губить?
Вы не можете с этим смириться. Вы можете лишь попробовать забыть об этом и сказать, что подобные явления — неизбежные и необходимые последствия цивилизации. Но так ли это? Утрата красоты — несомненно зло. Однако цивилизация в своей глубинной сути не могла замыслить зло против человечества. Утрата красоты — случайный плод цивилизации, результат ее беспечности, но не злого умысла. Мы же, если хотим остаться людьми, а не превратиться в машины, должны искать способов исправить это зло. В противном случае и сама цивилизация погибнет.
Но теперь, чтобы не погрузиться в дремоту и не предаться снам о былых временах, давайте оставим солнечные склоны Котсуолда и подумаем о пригородах Лондона, которые не невзрачны и не неприятны, в которых мы наверняка еще в силах что-то сделать. Позвольте напомнить, что происходит с красотой земли, когда какой-нибудь расположенный возле нас большой дом обращается в конечном счете в звонкую монету. Этот дом испытал многие превратности судьбы, постигающие жилище богатого коммерсанта. Он был школой, больницей, чем угодно — теперь продается А., который сдает его Б., собирающемуся построить здесь дом, чтобы продать его В., а тот, в свою очередь, отдаст его внаем Г. и прочим буквам алфавита. Итак, старый дом подлежит сносу, это предполагалось и ранее и, возможно, не очень-то вас волнует. Этот дом никогда не был произведением искусства, он всегда отличался нелепостью своего облика. С самого начала в нем отсутствовала игра воображения, хотя он был надежно и без претензии построен. Но вот его начинают разрушать, до вас доносится стук топора, опускающегося па деревья в великолепном саду, который окружал дом. Даже проходить мимо него было наслаждением. Человек и природа долго терпеливо трудились здесь рука об руку на благо всех ваших соседей. И вот вы видите уже мальчишек, которые тащат по улице крупные ветки цветущего боярышника, вы догадываетесь, что происходит. На другое утро, встав, вы бросаете взгляд в сторону громадного платана, который был вам таким другом и в солнечную погоду, и в дождь, и в бурю, который сам по себе был целым миром, полным событий и красоты. Но теперь на этом месте пустота — платана и след простыл. На другое утро приходит черед большим широким полосам тени, которые отбрасывали древние кедры, эти сокровища красоты и романтики. Исчезли и они. У вас еще есть слабая надежда на то, что по крайней мере будет пощажена густая заросль сирени возле вашего дома, поскольку, может быть, ваши новые соседи любят сирень. Но в полдень исчезает и сирень, и на следующий день, когда с ноющим сердцем вы выглядываете наружу, вы видите, что некогда прекрасный и громадный сад превратился в жалкий, убогий запачканный глиной двор, и все готово для последнего достижения викторианской архитектуры, которая спустя два месяца, как ей и положено, восстанет из пепла.
Нравится ли вам все это? Нравится ли это даже тем из вас, которые не изучали искусство и которым нет особого дела до него?
Посмотрите на эти дома. Их много! Я не буду спрашивать, красивы ли они, ибо вы утверждаете, что вам безразлично, красивы они или нет. Но только взгляните на эти жалкие грошовые строительные материалы, на эти жилища, на этот скудный орнамент. Если бы во всем этом была хоть маленькая крупица великодушия, благородной гордости, желания доставить удовольствие, я бы разом все простил. Но тут нет ничего похожего на это, — ничего! Так для этого принесены в жертву кедры, платаны и боярышники, которые, я верю, вы на самом деле любили? Вы довольны?
Нет, у вас не может быть ощущения довольства. Вам остается только пойти и заняться делом, поговорить с членами вашей семьи, есть, пить и спать, стараясь забыть про это, но каждый раз, вспомнив, вы не сможете не думать, что вы и ваши соседи понесли утрату, ничего не получив взамен.
Пренебрежение к искусствам еще раз сделало свое дело. Ибо, хотя и можно себе представить, что исчезновение открытого пространства по соседству обернулось для вас утратой, все же постройка нового квартала в городе не должна оказываться столь уж полным бедствием. Когда-то она и не была бедствием. Ведь строители (во всяком случае, не все из них) вырубают теперь деревья не из-за каких-то пустяковых денег, которые они могут выручить за стволы, но потому, что слишком уж хлопотливо приспосабливать их к планированию домов. Для начала можно было бы сберечь большинство ваших деревьев; я намеренно говорю: «ваших деревьев», ибо они по крайней мере столь же принадлежат вам, кто их любил и хотел бы спасти, как и тем, кто ими пренебрег и срубил. Как вознаграждение за потерю любого участка земли, за неизбежное разрушение естественной растительности вы могли в былые художественные времена получить гармоничную красоту, несущую на себе видимые знаки изобретательности человека, его восторга как перед произведениями природы, так и перед созданиями собственных рук.
Да, действительно, в былые времена в Венеции, когда застраивался островок за островком, мы, даже будучи купцами и богачами, не пережили бы очень уж большого недовольства, наблюдая, как все ближе и ближе надвигаются на нас греческие колоннады и ломбардская резьба, загораживая Эуганейские холмы или Северные горы.
Но возвратимся в наши родные места. Я могу себе представить, что успел бы полюбить поросшие ивняком луга между водами Темзы и Черуэлла, и все же я не стал бы возмущаться при виде того, как Оксфорд расползается к северу от Осенея, Рели и Касла, как новые здания — Дом гражданина, Зал ученых, большой университетский Колледж и великолепная церковь с каждым годом все больше и больше занимают цветущие зеленые луга Оксфордшира[22].
Это был естественный ход событий: когда люди что-либо строили, они не могли поступить иначе. Они несли миру дар красоты. Теперь же все стало наоборот, и когда люди строят, то уничтожают какой-нибудь дар красоты, принесенный миру природой или их собственными предками.
Поистине удивляет и ошеломляет, что такое положение рождено стремлением цивилизации к совершенству. Ошеломляет настолько, что кажется иногда, что цивилизация принялась пожирать своих собственных детей и начала с искусств.
Я не склонен это утверждать: время чревато многими переменами, и наверняка найдется какое-то средство избавления, но найдется ли оно или нет, во всяком случае, лучше умереть в поисках такого, чем махнуть на все рукой и ничего не делать.
Я спрашивал, удовлетворены ли вы, и предположил, что вы не удовлетворены, хотя многим может показаться, что вы по крайней мере беспомощны. И все-таки, если имеются достаточные основания предполагать, что вы недовольны, это кое-что значит, и даже весьма много. Пятьдесят, тридцать, возможно, двадцать лет назад было бы бесполезно задавать такой вопрос. Ибо мог последовать только один ответ: «Мы вполне удовлетворены». Между тем сейчас можно хотя бы надеяться, что недовольство будет расти, пока не найдется какое-нибудь средство.
И если его удастся найти, то не окажется ли оно, по крайней мере в Англии, столь же малоэффективно, как и то, которое уже найдено и уже действует? На первый взгляд это похоже на правду, ибо я могу, не боясь впасть в противоречие, сказать, что мы, средние классы Англии, образуем самую могущественную корпорацию людей, какую когда-либо видел мир, и что мы добьемся любой цели, которую поставим перед собой в глубине сердца. И все же, когда нам приходится лицом к лицу сталкиваться с этой проблемой, мы не можем не видеть, что даже для нас, при всей нашей силе, обеспечить возрождение искусства — дело трудное. Ибо между нами и грядущим — если искусству не суждено погибнуть — лежит нечто живое и грозное. Оно подобно огненному потоку, который суровому испытанию подвергает каждого, кто пытается переплыть его. Он отпугивает тех, в чьих душах страх еще не вытеснен жаждой истины и предвидением счастливых времен, ожидающих нас на другом берегу.
Этот огонь — не что иное, как анархия жизни, рождаемая все большим и большим совершенствованием системы конкурентной коммерции. А мы, представители средних классов Англии, завоевав для себя политическую свободу, поставили себе целью развивать именно эту систему с невиданной в истории энергией, страстностью и прямолинейностью. Нас не смущали никакие преграды, мы ни к кому не обращались за помощью, мы думали только об одном и забывали обо всем остальном, — мы добились осуществления нашего желания, и из сердца самой могущественной части человечества мы создали нечто ужасающее.
Я ни в коей мере не предполагаю, что слабого недовольства этим нашим созданием, о котором я только что говорил, окажется достаточно, чтобы совладать с его мощью. Да, и так будет до тех пор, пока наше недовольство не перерастет в очень сильное возмущение. И все же как были мы слепы к разрушительной силе создания наших рук и даже теперь еще не понимаем, что она такое, точно так же, может случиться, мы будем слепы к заключенной в нем созидательной силе. Но однажды мы снова получим возможность столкнуться с ней и тогда обратим ее на осуществление нашего нового, более достойного желания. Тогда, по крайней мере поняв, чего мы действительно хотим, давайте трудиться не менее напряженно и мужественно — не для того, чтобы уничтожить наше создание, а чтобы заставить его сжечь самого себя, — трудиться как тогда, когда мы пробуждали и поддерживали в нем жизнь.
Между тем, если бы мы только могли избавиться от известных застарелых предрассудков и заблуждений относительно искусств, мы бы быстрее достигли вершины недовольства, которое побудило бы нас к действию. Речь идет о таком, например, предрассудке, как представление, будто роскошь способствует процветанию искусств и в особенности искусства архитектуры, или же о родственном этому предрассудку заблуждении, согласно которому искусства более всего процветают в богатой стране, то есть там, где контраст между богатыми и бедными наиболее разителен. Речь идет также об утверждении иерархии интеллекта в искусствах — наихудшем из заблуждений, поскольку выглядит оно очень правдоподобно. Поистине оно — старый враг в новом обличье. Оно было рождено как раз в те времена, когда был нанесен смертельный удар по политическим и социальным иерархиям. Но это заблуждение вновь провозгласило божественность меньшинства и подчиненности большинства, так что будто бы настоятельно необходимо, чтобы не один человек жертвовал собою на благо народа, но чтобы народ был жертвой ради блага одного человека{3}.
Теперь, вероятно, все очевиднее, что все три вида иерархии, как бы они ни были различны с виду, предполагают одно и то же, а именно деспотизм. Но как бы то ни было, ясно одно: если современному больному искусству суждено еще жить, то в будущем оно должно стать делом народа для блага народа. Искусству должно быть понятно все, и его должны понимать все. Ответом на притязания деспотии должно быть равенство, и если оно не будет достигнуто, то искусство погибнет.
Былое искусство, существовавшее в странах, которые создали европейскую цивилизацию в пору упадка древних классических народов, возникло как плод инстинкта, продолживший непрерывную цепь традиции. Оно питалось не знанием, а надеждой, и хотя к этой надежде примешивались многие странные и дикие иллюзии, тем не менее оно всегда оставалось человечным и плодотворным. Оно несло утешение многим, и даже рабов оно раскрепощало духовно. Оно дарило безграничное наслаждение и своим творцам и потребителям. Оно существовало долгие, долгие годы, причем факел надежды переходил из рук в руки, но лишь немногое сохранилось из его лучших и благороднейших произведений — и именно потому, что оно не было склонно творить для себя королей и деспотов. Оно находило применение мастерству рук и движению души каждого — независимо от того, принадлежал ли он к верхам или низам общества, и все люди, по крайней мере духовно, были свободны. Это искусство не ограничивалось созданием все более совершенных художественных произведений, оно приумножало нечто иное помимо этих произведений — свободу мысли и слова, жажду света и знания, стремление к будущему, которое призвано было его погубить. И, наконец, оно умерло в час своей величайшей надежды, незадолго до того, как этот мир покинули величайшие люди, вышедшие из его недр. Теперь оно мертво, никакими силами нам не удастся вернуть его к жизни, и даже отзвука его не слышно среди народов, которым некогда оно давало счастье.
Но кто решится пророчить, какое искусство придет ему на смену? Из сопоставления прошлого с той неразберихой, в гуще которой мы силимся теперь пробиться к мерцающему сквозь мглу свету, видно по крайней мере одно: искусство грядущих дней уже не будет более плодом инстинкта, детищем невежества, живущего надеждой выучиться и видеть, — ведь невежество в наши дни уже несовместимо с надеждой. В этом и во многих других отношениях искусство грядущих веков может отличаться от искусства прошлого, но в одном оно по необходимости должно быть на него похоже: оно не станет эзотерической тайной, доступной лишь немногим посвященным. Оно будет не более иерархичным, чем искусство былых времен, но, подобно ему, будет даром народа народу, оно принесет с собою произведения, понятные каждому и во всех сердцах пробуждающие любовь. Оно сольется с жизнью всех людей и никому ни в чем не будет помехой.
Ибо такова сущность искусства, его неизменный вечный дух, каким бы преходящим и случайным не было все остальное.
Итак, вы видите, где блуждает искусство, — или, я бы сказал, — где оно заблудилось: оно серьезно больно из-за угнетающего его деспотизма, и теперь ему приходится напрягать все свои силы, чтобы добиться равенства.
Нам предстоит нелегкое дело — побудить всех простых людей заботиться об искусстве, добиться, чтобы искусство вошло в их жизнь, что бы ни сталось потом с той системой коммерции и труда, которая некоторыми из нас считается совершенной.
Как приобщим мы их к душе искусства, без которого все люди — хуже, чем дикари? Если бы они смогли тогда привлечь нас к помощи им! Но где и когда найдутся силы, которые побудят их на это?
Так на долгое будущее обстоит дело с искусством и, — да, я утверждаю это, ибо считаю бесспорным, — таков и долг самой цивилизации. Но как приступить к выполнению этого долга? Как дадим мы народу, лишенному художественных традиций, глаза, чтобы он мог увидеть произведения, которые мы создаем, стремясь тронуть его душу? Разве можем мы обеспечить ему отдых от труда и забот, чтобы он мог хотя бы поразмыслить над тем влечением к красоте, с которым рождаются даже, как говорится, на лондонских улицах? И главнее, поскольку достижение этого быстро и несомненно повлечет за собою и другие достижения, — как зародим мы в людях надежду, как сделаем радостным их повседневный труд?
Поистине трудные вопросы! Но если мы не намерены искать на них ответа, то наше искусство останется только игрушкой, которая может иногда забавлять, но неспособна оказать нам поддержку, когда мы будем в ней нуждаться. Образованные классы, как их называют, почувствуют, как искусство ускользает от них, некоторые станут над ним потешаться как над бесполезной вещью, а другие, стоя неподалеку, увидят в нем лишь причуду интеллекта, бесполезную, хотя и забавную. Как долго сможет просуществовать искусство при таких условиях? А ведь его положение уже и сейчас было бы таковым, если бы не надежда, о которой я намерен сейчас сказать, — надежда на рождение искусства, умеющего выразить душу народа.
Поэтому я утверждаю, что ныне нам, людям цивилизации, предстоит выбрать: отбросим ли мы искусство прочь или сохраним его? Если мы решим отбросить искусство, то мне больше нечего сказать, разве только, что нам необходимо тогда поискать ему какую-нибудь замену, которая тоже доставляла бы человечеству утешение и радость. Но, полагаю, мы вряд ли найдем ее. Если же мы не захотим отказаться от искусства, то придется все-таки поискать ответа на ряд трудных вопросов, из которых первый будет заключаться вот в чем.
С чего начать, чтобы лишенные традиций искусств люди обрели глаза, способные видеть художественные произведения? Несомненно, потребуется много лет поисков и упорной деятельности, прежде чем мы сможем полностью ответить на этот вопрос; если же мы будем стремиться выполнить свой долг, то еще задолго до того, как этот вопрос будет решен, среди нас утвердится какая-то форма народного искусства. Можно не торопиться с ответом, который каждый художник должен дать на этот вопрос в части, касающейся лично его. Но на всех нас, очевидно, лежит общий долг, и состоит он в том, чтобы все мы приложили усилия к защите естественной красоты земли. Ущерб естественной красоте, этому общему достоянию всех людей, мы должны воспринимать как преступление против наших собратьев. Единственное оправдание этому преступлению — невежество. Если мы не можем больше оправдывать невежество, то едва ли меньшее преступление — видеть, как какие-то люди уродуют естественную красоту земли, и ничего не предпринимать против этого.
К счастью, нетрудно выполнить нашу обязанность — возвратить людям способность видеть. С нами будут все добропорядочные люди, готовые беречь народное благо. К тому же при всей скромности начинания кое-что в этом направлении уже сделано, а если вспомнить, сколь безнадежным представлялось положение дел лет двадцать назад, то мы безусловно имеем все основания утверждать, что и происшедшая перемена кажется сказочной! Но и при всем том, если нам суждено избавиться от терзающих нас тревог, то нашим потомкам покажется просто чудом, что жители этого богатейшего в мире города гордились даже тем, что среди них оказались представители небольшого, скромного и довольно-таки непритязательного, хотя, я должен сказать, полезного общества, которые сочли долгом закрыть глаза на видимую безнадежность борьбы собственными слабыми средствами против осознанного ими зла и сумели пробудить в широких кругах населения должное отношение к этому злу.
Я призываю вас решительно поддержать такие ассоциации, как Общество борьбы за красоту и Общество сохранения общин. Я убежден, что первые их шаги были верны, ибо ни боги, ни правительства не помогут тем, кто сам себе не помогает, и, борясь с мерзостью и убожеством, которые царят в наших больших городах и особенно в Лондоне и за которые ответственна вся страна, мы должны полагаться только на самих себя. Но не следует забывать, что трудности на нашем пути и слишком велики и слишком распространены, чтобы их можно было одолеть лишь частными усилиями.
На любые наши попытки в этой области мы должны смотреть не как на временную меру, предназначенную смягчить невыносимое положение, а как на свидетельство нашего намерения вернуть нашей стране природную красоту ее земли, расхищение которой жжет нас мучительным стыдом. Это главный наш долг — возбуждать чувство стыда, усиливать боль, рождаемую в сердцах наших собратьев расхищением красоты. Полагаю, это одна из главных обязанностей человека, и если мы будем делать это со всей решимостью, то сможем содействовать возбуждению в людях сильнейшей жажды красоты, жажды такой неодолимой, что она приведет к созданию национальных организаций, которые сметут любые препятствия на нашем пути к достойной жизни, хотя препятствия эти — как то представляется весьма вероятным — возрастут тысячекратно.
Да, свет засияет, даже если ни мы, ни наши внуки не увидим его, даже если цивилизация на какое-то время и погрузится в мглу. Да, несомненно, наступит день, когда в сознании великого народа созидание будет более почетно и достойно, нежели разрушение.
Странно, прискорбно и непостижимо, если мы отнесемся не как люди, а как бездушные машины к тому факту, что после всех достижений цивилизации достаточно ничтожного официального разговора или росчерка на листке бумаги, чтобы пустить в ход чудовищную машину, которая без всякого участия с нашей стороны будет уничтожать десятки тысяч людей и разрушать жизнь бог знает какого количества семей. В то время, когда надо нанести удар прискорбному гибельному злу, которое стучится в наши двери, злу, которое чувствует и оплакивает каждый мыслящий человек и за которое мы один в ответе, не только не существует никаких национальных механизмов для его устранения, хотя оно с каждым годом разрастается все больше и больше, но любой намек на возможность таких механизмов вызывает насмешку, ужас или же открытое суровое осуждение. Право собственности, нормы морали, предписания религии — вот священные и трусливые принципы, вынуждающие нас молчать!
Господа, я говорил о людях мыслящих, сознающих это зло. Но представьте себе миллионы людей, которых взрастила наша цивилизация, которые не являются мыслящими людьми и лишены малейшей возможности мыслить. Как же можете вы не признавать за собою долга оберегать красоту земли? И в чем же тогда польза от нашей культуры, если она превращает нас в трусов? Давайте ответим на вопросы, которые робко задает отчаяние, и признаем, что мы сами — обладатели собственности, обманом похищаемой у нас деспотизмом и нищетой, что мы сами — носители морали, попираемой его низостью, что мы — приверженцы религии, которая не более чем посмешище для деспотизма.
Ваше содействие усилиям вернуть народу зрение, которое мы же у него и отняли, может показаться столь малым, что его нелегко и заметить, так как они главным образом полезны тем, кто вновь начинает видеть собственными глазами, то есть тем людям, кто, оставаясь даже вне художественной традиции, способен изучить те могучие силы, которые некогда вели за собою народы и весь род человеческий. Именно этим людям музеи и художественное просвещение могут принести пользу. Но, очевидно, музеи и художественное просвещение едва ли могут стать доступны широким массам, которые ныне лишь таращат на них глаза, разинув от изумления рот.
Пока наши улицы не примут опрятный и благопристойный вид, пока городские сады не затопят в зелени здания из кирпича и извести и не будут доступны всем людям, пока наши луга даже в предместьях городов не станут свежими и красивыми и не будут обезображены заплатами нищеты, пока над головами нашими не засияет чистое небо, а под нашими подошвами не будет расти зеленая трава, пока великая драма чередования времен года не будет наполнять душу тружеников иными ощущениями, чем предчувствия трудностей зимы и усталости, которую несет с собой лето, — пока все это не произойдет, наши музеи и художественные училища останутся всего лишь развлечением для богатых, но вскоре они перестанут быть нужны даже и богачам, если последние не приложат усилий к тому, чтобы возвратить нам красоту земли.
Говоря это, я думал особенно о том долге, который лежит на нас как людях культурных. Культурные люди не могут стоять в стороне от усилий добиться этой цели, как и от всех других такого рода усилий. И в то же время трудно стараться открыть людям глаза, пока они сами во всеуслышание не попросят нас об этом. Не сомневаюсь, что намерение бороться с убожеством нашей теперешней городской жизни и одолеть его не выходит из головы наших тружеников, как и из нашей собственной головы. Но намерение это, с другой стороны, весьма смутно и нуждается в руководстве, — столь мал досуг наших тружеников и в таком убожестве они живут. Таким образом, мы подходим ко второму из наших вопросов: каким путем широкие круги людей могут получить достаточный отдых от труда и от тревог, чтобы дать волю своему врожденному влечению к красоте?
Но справедливость требует, чтобы одновременно мы ответили и на другой вопрос: каким образом они могут получить достойную работу?
Громадные перемены, которые принесла в мир благодаря своим успехам конкурентная коммерция — безотносительно к тому, что она смогла уничтожить, — бессознательно привели по крайней мере к одному: из ее недр родилось постоянно растущее могущество рабочего класса. Не сомневаюсь, что возникшая из этого могущества решимость рабочих сплотиться как класс пробьет себе дорогу либо благодаря нашему стремлению к благу, либо даже вопреки ему. Но мне представляется, что и рабочему классу и особенно нам самим важно, чтобы мы преисполнились к нему добрых чувств, чтобы мы оказали ему посильную помощь нашей готовностью относиться к труженикам справедливо, даже если эта справедливость потребует от нас известных жертв. Я счастлив, что время неразумного и слепого протеста против тред-юнионов миновало, сменившись надеждой, что когда-нибудь при хорошей организации, при хорошем отношении к ним и при оказываемой им серьезной поддержке — так, насколько я знаю, и будет — эти крупные ассоциации найдут для себя и иную работу, кроме временной поддержки своих членов и упорядочения заработной платы для людей различных занятий. Если эта надежда начнет осуществляться и тред-юнионы почувствуют, что могут получить помощь от нас, отдельных представителей образованных классов, то, уверен, они уже ни в коем случае не станут пренебрегать требованиями искусства, — во всяком случае, поскольку и мы и они начнем понимать смысл самого слова «искусство».
Что касается нас, кого называют «художниками» (к глубокому сожалению, это слово сейчас означает совсем не то, что «мастер художественного ремесла»), то мы, кто либо собственными своими руками создаст художественные произведения, либо так любит их, что может понять сокровенные чувства их творцов, должны ответить и на наш последний вопрос, который и других побудит задуматься: каким образом мы можем сделать повседневный труд широкого круга людей обнадеживающим и радостным, чтобы в будущем слово «искусство» было бы правильно понято?
Из всего, что я должен вам сказать, мне представляется наиболее важным следующее. Наш повседневный труд, которого мы не могли бы избежать, даже если бы и захотели, и от которого мы не отказались бы, даже если бы и могли, этот труд должен быть человечным, серьезным и радостным, не механическим, не банальным и не скорбным. Я считаю, это не только подлинным фундаментом архитектуры в полном смысле слова, но и подлинной основой счастья при любых жизненных условиях. Разрешите, прежде чем продолжить мою мысль, сказать, что, хотя я нисколько не стыжусь повтора слова моих предшественников, более глубоких, чем я, — я бы устыдился, если бы забыл об их трудах, на которых основаны мои собственные работы. Самое главное из того, что я говорю сегодня, было впервые сказано Рёскином много лет назад в «Камнях Венеции», в главе «О природе готики» — и сказано очень ясно и красноречиво — никто не мог бы так сказать!
Его мысли кажутся мне настолько важными, что их, по-моему, следует знать во всех художественных школах нашей страны — более того, во всех ассоциациях говорящих по-английски людей, объявляющих себя покровителями культуры. Простите, что мне приходится говорить это. Оправдать то, что я только повторяю слова Рёскина, может одно — на них обращают меньше внимания, чем на все сказанное им — наверно, из опасения, что правда, в них заключенная, неотвязно запала бы в сознание и либо побудила бы людей действовать соответственно собственным их сокровенным помыслам, либо вынудила бы признаться в собственной лени и малодушии.
Но не стану притворяться, будто это меня удивляет. Ведь если бы люди хоть однажды признали правду, то было бы только делом справедливости, если бы каждый человек получил возможность трудиться с надеждой и радостью. Люди обязаны стремиться к осуществлению перемен, которые это обеспечат, но вся история показывает, что никогда в жизни не было ничего более значительного, чем эти перемены. С какими бы трудностями они ни были связаны, архитектура в условиях цивилизации не имеет будущего, пока они не осуществятся.
И сегодня моя цель — не скажу, убедить вас, но хотя бы заронить в вас зерно сомнения, которое побудит вас задуматься о справедливости сказанного, уже уйдя отсюда. Если бы мне это удалось, то, значит, я достиг, к чему стремился.
Но чтобы не показалось, будто мы своими словами лишь сотрясаем воздух, давайте, однако, присмотримся, каким углом зрения воспринимают эту проблему люди образованные, не чуждые серьезных размышлений о жизни. И если уж я дал вам пример такого образа мыслей, то мне хотелось бы как можно лучше ответить на поставленный мною вопрос, чтобы укрепить в вас сомнения, возмущение и дух бунтарства.
Несколько месяцев назад я прочитал в газете отчет о докладе, сделанном от имени известной фирмы перед собранием рабочих. Речь эта была богата мыслями, исполнена гуманности, а произнес ее один из ведущих представителей современной мысли. Фирма, к труженикам которой была обращена эта речь, известна не только своими коммерческими успехами, но и вниманием и доброжелательным обращением со своими тружениками — мужчинами и женщинами. Нет ничего удивительного поэтому в том, что эту речь приятно было читать, ибо по тону своему она напоминала беседу с друзьями, которые способны хорошо понять говорящего и от которых ему нечего скрывать. Но в конце этой речи я натолкнулся на одну фразу, которая заставила меня так серьезно задуматься, что я забыл обо всем, что было до того. Именно такое впечатление произвели на меня слова, которые выглядели приблизительно так: «Ни один человек не пожелал бы трудиться, если бы не надеялся трудом заработать себе отдых». А из контекста ясно, что мысль эта развивалась как сама собою разумеющаяся истина.
Многие годы я размышлял над тем, что стало для меня аксиомой, которую можно сформулировать так: «Если работа не доставляет радости, то ее не стоит делать». И вы легко поймете, в какое замешательство привели меня слова человека ученого и серьезного, который с таким убеждением и спокойствием высказывает совершенно противоположную точку зрения. Какой небольшой эффект, подумал я, произвело все огненное красноречие Рёскина, стремившегося внушить людям столь великую, столь плодотворную по своим последствиям истину!
Снова и снова я возвращался мысленно к фразе, вертевшейся в моей голове: «Ни один человек не стал бы работать, если бы он не надеялся трудом заработать себе отдых». И я увидел, что ее можно сформулировать иным способом: во-первых, вся работа на свете осуществляется вопреки желанию труженика, а во-вторых, то, что человек делает во время своего «досуга», не есть работа.
Надежда на подобный досуг — это скудный аванс, если он к тому же сочетается с другим стимулом к труду — страхом перед голодной смертью. Да, скудный аванс, ибо большинство из них, например ткачи и прядильщики йоркшира (а еще больше людей находится в гораздо более тяжелом положении даже в сравнении с ними), трудятся, получая в вознаграждение так мало досуга, что невольно скажешь: если в этом вся их надежда, то у них похищают ее самым коварным образом!
Если бы, подумал я далее, это было действительно так, если бы ни один человек не стал бы трудиться без надежды заработать отдых, то нет большой нужды в преисподней богословов, ибо густо населенная цивилизованная страна, где люди непременно должны над чем-то трудиться, достаточная замена этого ада. И все же мнение о неизбежной и всеобщей ненавистности груда широко распространено и разделяется людьми разных слоев, которые при всем этом пребывают в веселом расположении духа и обрастают жиром, не становясь, однако, бесчувственными монстрами.
Чтобы объяснить себе эту загадку, я начал размышлять о жизни одного человека, о котором я кое-что знал, — то есть о собственной жизни, которая переворачивала такое представление вверх дном.
Я попытался представить, что со мной произошло бы, если бы мне было запрещено заниматься обычным повседневным трудом, и пришел к выводу, что умер бы с тоски и отчаяния, не примись я сразу же за какое-нибудь другое дело, которое стало бы моей повседневной работой. И мне стало ясно, что меньше всего другого на свете я тружусь ради отдыха, но что частично меня подталкивает страх перед голодом или совесть, а частично — и это серьезнейший стимул — любовь к самой работе. Что же касается досуга, то мне пришлось признаться, что часть его я и в самом деле провожу, как пристало бы собаке, — скажем, в размышлениях, — и мне это нравится. Но часть досуга я провожу опять-таки в работе, и она приносит мне такое же наслаждение, как и работа ради куска хлеба насущного — ни больше и ни меньше, — а потому во время моей повседневной работы не может быть и речи об авансе или надежде на отдых.
Затем мои мысли обратились к моим друзьям — простым художникам, а вам известно, что их считают людьми ленивыми. Я обнаружил, что работа — единственная вещь, доставляющая им наслаждение, а в приятные часы праздности они только и помышляют о работе, и эти размышления столь же полезны миру, как и их повседневный труд. Они отличаются от меня только тем, что меньше любят тот род досуга, к которому стремится пес, но больше меня любят достойный человека труд.
Я пришел к тому же, когда мысленно обратился от простых художников к более важным особам — общественным деятелям: мне не удалось обнаружить хоть какие-либо признаки, что они трудятся всего лишь ради предстоящего отдыха. Все они видят смысл в самой работе, в самих своих действиях. Ради ли отдыха ночь напролет заседают богатые джентльмены в палате общин? А господин Гладстон?{4} По всей видимости, он не очень-то преуспел, стремясь довольно-таки напряженным трудом заслужить порядочный отдых. Полученный им отдых — я уверен — он мог бы добывать на сравнительно более легких условиях.
Но в таком случае не означает ли это, что для кого-то или даже для целой прослойки повседневный труд, без которого они, вероятно, и обойтись не могут, приносит им прежде всего наслаждение? В то же время каким-то иным слоям населения их повседневный труд целиком и полностью неприятен, но выносится им потому, что они надеются заработать небольшой досуг в конце рабочего дня.
Если бы это было действительно так, то контраст между двумя образами жизни был бы еще резче, чем контраст между совершенной изнеженностью и чрезвычайными лишениями, между жизнью, полной спокойствия, и жизнью, наполненной тревогами. Контраст был бы буквально неизмерим.
Но если бы у меня и было желание преувеличить зло, на борьбу с которым я призываю, то я бы на это не отважился. Не совсем верно, будто между жизнью различных классов существует такой несоизмеримый контраст, иначе мир едва ли дожил бы до середины нашего столетия: нищета, жадность и деспотизм уничтожили бы нас всех.
Даже при наихудших обстоятельствах неравенство не столь уж велико. Всякое занятие, при котором та или иная вещь может быть сделана лучше или хуже, заключает в себе удовольствие, ибо всем людям более или менее нравится делать то, что они могут сделать хорошо. Некоторым людям (в их числе и мне самому) даже механический труд приятен, если только он не совершенно механический.
Хотя и не совсем верно, что повседневный труд некоторых людей просто приятен, а труд других просто мучителен, все-таки теперешнему труду лишь в очень небольшой степени свойственно доставлять удовольствие, и если люди не откроют вовремя глаза на это, то положение станет быстро ухудшаться. Почти всякая работа, выполняемая ремесленниками, слишком механична, а занятые ею люди либо должны мысленно целиком от нее отвлекаться, и тогда они во время работы всего-навсего машины, либо же им приходится выносить при работе такую смертную скуку, что трудно даже представить ее. Да, природа желает, чтобы мы по крайней мере жили, но, полагаю, не часто она допустила бы столь унылый труд. Потому-то рабочие, выполняющие чисто механический труд, как правило, превращаются в машины. И как я совершенно убежден, что никакое искусство, даже самое неприметное, самое примитивное и мало одухотворенное, не может явиться плодом такой работы, то так же я убежден, что подобная работа лишает рабочего человеческого достоинства И, как это ни несправедливо, как это ни прискорбно, вынуждает его опускаться. И эту человеческую деградацию нечем восполнить ни нам, ни ему самому. Я специально обращаю ваше внимание на то, что эта опасность инстинктивно ощущалась уже при самых истоках так называемых промышленных искусств. Когда человек вращал гончарный круг, бросал челнок или бил по наковальне, от него ждали большего, чем просто изготовления кувшина, ткани или ножа: предполагалось, что он создаст также произведение искусства. И едва ли это было преувеличенное требование, ибо тогда он действительно был способен создать произведение редчайшей красоты. Художественное творчество было совершенно необходимо для душевного спокойствия как создателя, так и потребителя. Именно искусство превращения необходимых предметов повседневного обихода в художественные произведения я назвал архитектурой.
Когда мы размышляем об этом, то, несомненно, упомянутый выше контраст между художественной и механической работой представляется не менее разительным, и я совершенно уверен, что ремеслам, создающим товары повседневного обихода, такие радостные ощущения нужны не меньше, чем во времена ранних фараонов. Но мы забыли об этой необходимости — и в результате привели ремесло к такому упадку, что даже ученый, мыслящий и гуманный человек может утверждать, будто каждый трудится только для того, чтобы заработать себе отдых.
Однако забудем теперь все привычные взгляды на труд, производящий предметы нашей повседневной жизни, — взгляды, которые возникают частично из-за убогого состояния искусств в наше время, а отчасти из-за отвращения к ремеслу, во все века преследовавшего некоторые умы. Забудем об этом и попытаемся выяснить, как в действительности обстоит дело с различными ремеслами.
На мой взгляд, занятия декоративным ремеслом можно разделить на три вида. К первому относится чисто механическая работа. Люди, занятые ею, всего лишь машины, и чем меньше они думают о том, что делают, тем лучше для работы, если они, конечно, соответствующим образом обучены. Говоря откровенно, цель такой работы не производство товаров всякого рода, а то, что, с одной стороны, называется обеспечением рабочих занятиями, с другой же стороны, то, что называется производством прибыли. Иными словами, цель состоит в увеличении армии механических тружеников и умножении богатств того человека, который заставляет их работать и вследствие какого-то извращения понятий называется на нашем современном языке «фабрикантом»[23]. Назовем этот вид работы механическим трудом.
Второй вид — более или менее — в зависимости от конкретных обстоятельств механический труд, но он всегда может выполняться лучше или хуже. Если он должен быть выполнен хорошо, то это требует от рабочего внимания, и тогда на работе остается отпечаток его индивидуальности. В изделии тогда будет заключено больше или меньше искусства, что, во всяком случае, зависит от самого рабочего. Он будет работать так над своим изделием отчасти для того, чтобы заработать свой хлеб не слишком тяжелым или противным способом и сделать радостным даже свой рабочий день, отчасти же чтобы произвести на свет вполне достойные товары — предметы, которые заслужат похвалу и которыми люди будут наслаждаться. Такой труд я назвал бы осмысленным трудом.
Третий вид труда содержит очень мало механических элементов, если они вообще в нем есть. Он совершенно индивидуален, то есть создаваемый им продукт никогда не мог бы быть сделан каким-либо другим человеком. Собственно говоря, эта работа доставляет наслаждение, она, правда, приносит и страдания и усталость, в ней есть и трудности, но все это — заботы прекрасной жизни, темные пятна, благодаря которым еще ярче свет, романтика труда, которая лишь возвышает, а не угнетает труженика. Я назвал бы такую работу творческим трудом.
На первый взгляд вам может показаться, будто между творческим и осмысленным трудом больше различия, чем между осмысленным и механическим. Но это не так. Различие между осмысленным и механическим трудом — это различие между светом и тьмой, Ормуздом и Ариманом, а различие между осмысленным трудом и той работой, которую я, за неимением лучшего слова, называю творческим трудом, сводится лишь к степени. В период расцвета высокого искусства резкого разрыва цепи между изделием самого скромного осмысленного груда и самым выдающимся произведением творческого труда не существовало. От бедного ткача, который радуется при виде красок своей ткани, вплоть до великого художника, терзающегося сомнениями и беспокойством, сможет ли он выразить в картине все свое миропонимание или только девять десятых его, все они — художники, то есть люди, тогда как механический работник, не отличающий ярких красок от тусклых и знающий их только по номерам, в процессе своей работы является не человеком, а машиной. Если осмысленный труд сочетается с творческим, то между ними нельзя провести четкой грани; в самые лучшие и благодатные времена развития искусства едва ли существует осмысленный труд, который не является также творческим, и даже в самом выдающемся творческом труде обнаруживаются едва заметные усилия, сомнения или признаки невыраженных желаний; благословенное равенство возвышает меньшее искусство и придает спокойствие более высокому.
Механический труд порожден спешкой и безрассудством цивилизации, которую с таким успехом насаждали средние классы нашей страны. По видимости, он враждебен цивилизации, он — проклятие, которое цивилизация породила на свою голову, и у нее уже нет возможности ни ликвидировать этот механический труд, ни ввести его в определенные рамки. Таким представляется теперь этот труд, но, поскольку он несет с собою перемены, перемены громадные, вполне может статься, что он несет с собой нечто большее, чем простой ущерб. Несомненно, он уничтожит искусство в нашем теперешнем его понимании, если только он сам не будет уничтожен искусством будущего. Но, кроме того, вероятно, этот труд уничтожит и то, что отравляет искусство. А кончит он самоубийством, расчистив пути для нового искусства, о формах которого мы ничего не знаем.
Осмысленный труд — это дитя борющейся, преисполненной надежды и передовой цивилизации. Назначение его — придать новый интерес простой и бедной событиями жизни, успокоить тревогу невинной радостью, вдохновляющей на полезные для человечества дела, подарить миллионам тружеников надежду, которая ежедневно возобновляется и не чревата разочарованиями.
Творческий труд — цветок торжествующей, многообещающей цивилизации. Он вызывает в людях стремление к совершенству. Любая претворенная им в жизнь надежда рождает новую. Самая сердцевина этого труда — это достоинство и смысл жизни, он побуждает к всеобщему пониманию, к преодолению страха и ненависти, — одним словом, это и символ, и таинство мужества мира.
Но теперь с этими тремя видами труда дело обстоит так: механический труд поглотил осмысленный и весь нижний слой творческого труда. Невообразимая, громадная масса несчастных тружеников противостоит теперь немногочисленному, но все еще сверкающему доспехами воинству избранников. Все, что осталось от искусства, сплачивается вместе в цитадели высшего интеллектуального искусства и отчаянно там защищается.
На первый взгляд надежда этого искусства на победу очень смутна, и все же нам, ныне живущим, кажется, что человек не утратил еще всю ту часть своей души, которая жаждет красоты. Более того, мы не можем не надеяться, что искусство еще не умирает. Если нам не суждено обмануться в этой надежде, если искусство наших дней и в самом деле выйдет живым из того безысходного болота, которое мы называем XVIII веком, оно несомненно, развиваясь, наберет силу и обогатится новыми формами духовной жизни и надежды, которые теперь едва ли известны, а затем, каким бы изменениям ему ни пришлось подвергаться, оно в конце концов одержит победу и принесет человечеству непреходящую радость. Некоторые полагают, однако, что если оно будет лишь отражением и слабым отблеском той славной осени, которой завершился расцвет могучего средневекового искусства, то немного понадобится, чтобы убить его: механический труд уничтожит художественное ремесло, и искусство погибнет.
Я слишком поглощен собственным делом, чтобы очень уж тревожиться из-за того, что может произойти после. Могу сказать лишь одно: если даже вы не много знаете об искусстве и не слишком озабочены его судьбой, но вам все-таки тягостно думать об этой бессодержательной пустоте, то не заглушайте мысль о нем, вновь и вновь размышляйте об искусстве, бейте тревогу, пока это будущее не представится вам нестерпимым, и тогда примите решение, что вы не станете с ним мириться. Если даже вы не верите в современных художников, расчищайте дорогу для художников будущего. И тогда мы не будем видеть в вас врагов, как бы жестоко вы ни обращались с нами.
Я говорил о самой важной стороне вашей задачи. Я убеждал вас серьезно подумать о том, как сохранить то, что осталось, и восстановить то, что утрачено естественной красотой земли. С не меньшим усердием убеждаю я вас сделать все возможное, чтобы создать хотя бы островок твердой земли среди громадного потока механического труда, чтобы отвоевать для самих себя и ваших товарищей человеческий и радостный труд.
Но если трудно сберечь красоту земли, то эта задача намного труднее. Я не могу притворяться, будто мы способны пойти против нашего врага в прямое наступление. Все же, несомненно, можно сделать кое-что или по крайней мере заложить фундамент для чего-то нового.
Ибо искусство рождает искусство, а достойно сделанное, выполненное изделие, доставляющее наслаждение и исполнителю и потребителю, рождает желание создать еще лучшее, и поскольку механический труд не в силах создать художественное произведение, то потребность в подлинном искусстве будет означать потребность в осмысленном труде, который, продлись его существование, сумеет эту потребность должным образом удовлетворить. По крайней мере я на это надеюсь.
Кого действительно заботит искусство, тот, думается, легко со мной в этом согласится, но, говоря откровенно, такие люди лишь изредка встречаются даже в среде образованных. Следует признать, что в условиях нашей цивилизации средние классы искусству предпочитают роскошь и в своей слепоте и невежестве цепляются за нее, оскорбляя этим память о славных мужах прошлого и глумясь над ними, ибо те не были обременены нелепыми хлопотами об этой роскоши, которые мы по глупой привычке считаем необходимыми. Поверьте, мы не будем готовы принять искусство будущего, пока не очистим от всего этого наше сознание, пока не освободимся от бесполезной роскоши (иногда называемой комфортом), которая делает наши тесные дома, где задыхается искусство, более первобытными, чем крааль зулуса или снежная хижина эскимоса на востоке Гренландии.
Я глубоко убежден, что многие люди жаждут приложить свои силы на развитие этого искусства, но не решаются приняться за дело. Я уверен, есть простые люди, которые думают, что у них нет художественных способностей, но их действительно утомляет и приводит в недоумение нелепая пышность роскоши, и если не от них, то по крайней мере от их детей можем мы ждать первых усилий, которые создадут будущее искусство.
Ну пока это не станет явью, давайте хотя бы решительно примемся за разоружение псевдоискусства, а это, безусловно, одно из проклятий нашего времени, что если у людей нет ни времени, ни способности увидеть ту подлинную вещь, которую они желают, ни денег на ее покупку, то они вынуждены покупать изготовленную механически подделку под нее. Именно наша привычка к малодушию и лени питает и взращивает механический труд, содействуя его процветанию и обрекая людей на все виды духовного и физического рабства. Именно из этой глупости рождается и желание людей перехитрить торговцев, с которыми они имеют дело, и решимость торговцев (обычно успешная) перехитрить покупателей. Отсюда же — и ядовитые насмешки, которые недавно (не без основания) обрушились на британского торговца и британского рабочего — людей, как и мы с вами, честных, если мы не вынуждаем их обманывать нас и не награждаем их за это.
Если бы публика что-либо понимала в искусстве, различала бы мастерство в сделанных человеком вещах, то она не мирилась бы с поделками, и если было бы невозможно приобрести подлинно художественную вещь, то публика научилась бы обходиться без нее и не считала бы, что этим воздержанием оскорблены ее претензии на изысканность.
Простота жизни, даже совершенно неприкрашенная, вовсе не нищета, а самая основа утонченности. Что, по-вашему, более утонченно, какое из жилищ вы сочли бы более подходящим для джентльмена: дом ли с земляным полом и побеленными стенами, окруженный зеленью и цветущими лугами, с живым родником вблизи, или же грязный дворец в облаке копоти с армией служанок, всегда пытающихся прикрыть грязь так, чтобы она стала незаметной?
Итак, говорю я, если вы не научитесь любить подлинное искусство, то выучитесь по крайней мере ненавидеть и отвергать псевдоискусство. Когда я призываю вас отбрасывать убогие изделия, то это не столько потому, что они безобразны, нелепы и бесполезны, сколько потому, что эти свойства лишь внешнее проявление скрытой в них отравы. Присмотритесь к ним внимательно, и вы поймете, что сопровождало их создание. Вы увидите, какой пустой труд, какая скука и стыд с самого начала были их компаньонами, и все это ради тех пустяковых безделушек, в которых никто по-настоящему не нуждается.
Учитесь обходиться без них. В этом — добродетель, сила, которая при правильном употреблении задушит и спрос на механический труд и предложение его, и вынудит его заниматься свойственным ему делом — производством машин.
И тогда из простоты жизни родится стремление к красоте, все еще живущее в душах людей, а мы знаем, что утолить жажду красоты может только осмысленный труд, постепенно перерастающий в труд творческий, который превратит всех «станочников» в тружеников, в художников, в людей.
Итак, я старался показать вам, как суетность современной цивилизации и деспотическая система труда, необходимая для полного развития конкурентной торговли, отняли у людей в целом — благородных и простых — глаза, умеющие различать, руки, способные творить то народное искусство, которое некогда было для мира главным его утешением и радостью. Я призвал вас воспринимать этот факт не как пустяк, а как прискорбнейшее из несчастий. Я призвал вас к исправлению этого зла, во-первых, ревностным сохранением того, что осталось, и серьезным желанием восстановить то, что утрачено красотой земли, а во-вторых, отказом от роскоши, чтобы вы могли принять, если на то способны, искусство, или же, если вы за свою короткую жизнь не научитесь понимать значение искусства, то чтобы вы могли по крайней мере жить простой, достойной человека жизнью.
И во всем, что я говорил, на чем я поистине настаивал, — это необходимость уважения к жизни Человека на Земле. Пусть прошлое останется прошлому со всем, что в нем умерло. Пусть мертвые хранят мертвых, а мы обратимся к жизни и с безграничным мужеством и надеждой, на какую только способны, не позволим, чтобы в будущем земля была безрадостной.
На что мы можем надеяться или чего опасаться в будущем? Вспомним, ведь уже в былые времена, когда искусство так почиталось, забылось многое из того, что было создано благодаря жизни человека на земле. Вероятно, из мести за такое пренебрежение искусство перешло в наши руки, чтобы мы его изувечили. Оно было передано нам, ослепленным нетерпеливой погоней за тем, что презиралось нашими предками, и за тем, что нередко открывалось нам в этой погоне и было, вероятно, всего лишь миражем.
И не все, к чему мы были слепы, было вовсе ничтожно. Более того, многое из того, что мы не видели, пустило глубокие корни в душах людей, стало неотъемлемой частью их жизни на земле и все еще вызывает наше уважение. Присоединим же это знание к другим нашим знаниям, и тогда у искусств еще сохранится будущее. Запомним это, и среди простоты жизни обратим наши взгляды на подлинную и доступную всем красоту. И хотя жизнь, возможно, ухудшится и для нашего поучения не останется ни клочка от прежнего искусства, все же в нашей среде может возникнуть новое искусство, и даже если у него будут руки ребенка, а сердце удрученного человека, оно будет в силах вместо нас донести до лучших времен символ нашего уважения к жизни Человека на Земле. Ибо мы, освобожденные от пут глупой привычки к назойливой роскоши, тогда наконец обретем глаза, чтобы видеть. И мы поведаем друг другу многое о радости окружающей нас жизни: о людях, встречающихся на улице, об их лицах, несущих печать веселья, печали и надежды и рассказывающих всю историю их жизни; о тех клочках природы, куда удается иногда вырваться и самым занятым из нас; о птицах и диких зверях и о том маленьком мире, где они обитают; даже о небе над самым городом, над нашей головой; об облаках, плывущих по небу; о том, как колышет ветер тонкие стволы деревьев; о шелесте их ветвей; обо всех вновь и вновь возникающих явлениях природы. Дорога и река близ наших домов не смогут не рассказать о том, что происходит на лоне природы, о делах людей на полях и на пустырях. А между тем мы тогда начали бы размышлять и о прошлом, когда все в природе казалось чудом людям, которые настолько преклонялись перед нею, что разные ее проявления называли человеческими именами и приписывали ей человеческие поступки. И не однажды перед нами вставала бы память о былых делах, о стремлениях тех могучих людей, чья смерть явилась началом нашей жизни, чьи печали — началом наших радостей.
Как мы могли бы умолчать обо всем этом? И какой иной голос, кроме голоса искусства, мог бы рассказать об этом? И какая аудитория слушателей такого сказа могла бы удовлетворить нас, кроме той, которая состояла бы из всех живущих на земле людей?
Вот чем должна стать архитектура. Она обретет либо такую жизнь, либо смерть. И от нас, живущих ныне между прошлым и будущим, зависит и ее жизнь и ее смерть.
Английская школа прерафаэлитов
Выступление на выставке картин представителей английской школы прерафаэлитов в городском Бирмингемском музее и картинной галерее в пятницу 24 октября 1891 г.
Мистер Кенрик предуведомил, что я намереваюсь говорить об искусстве, но, очевидно, тема эта слишком обширна и я должен весьма значительно ее сузить. Даже если бы мне пришлось говорить обо всех выставленных здесь картинах, то все равно тема оказалась бы слишком обширной и неисчерпаемой. Итак, мне надлежит еще более ограничить свой предмет. Поэтому, учитывая возможность воспользоваться дневным светом, я намерен почти целиком посвятить свое выступление школе живописцев, которых некогда назвали прерафаэлитами и, вероятно, следует называть так впредь. Основания сделать такой выбор представляются мне тем более вескими, что взгляды этой школы были широко распространены; они серьезно повлияли на современное поколение, по крайней мере, в Англии, а до известной степени — на французских художников. Они весьма ощутимо воздействуют на новейшее искусство. Иначе говоря, даже независимо от великолепных произведений, принадлежащих основателям этой школы, сама она оставила заметный след в искусстве нашего времени.
Давайте посмотрим, кто такие прерафаэлиты. Они, как известно, составляли очень небольшую группировку. Первоначально ею руководили, возглавляя братство прерафаэлитов{1}, как вам известно Данте Габриэль Россетти{2}, Эверит Милле{3} и Хольман Хент{4}; но были и другие представители этой школы, хотя формально они и не входили в состав братства. Наиболее видными живописцами при возникновении школы были Форд Мэдокс Браун{5} и Артур Хьюз{6}. Позднее другом и собратом этих художников стал уроженец вашего города Бёрн-Джонс{7}. Можно назвать еще нескольких других, но упомянутые художники оказались не только самыми крупными, но и наиболее характерными представителями школы.
Эта группа никому не известных до той поры молодых людей предприняла поистине дерзкую попытку пробиться вперед и буквально вынудила публику признать себя; они подняли настоящий бунт против академического искусства, из лона которого рождались все художественные школы тогдашней Европы. В сущности, я полагаю, мы должны рассматривать бунт прерафаэлитов как часть общего протеста против академизма в литературе и в искусстве. В литературе бунт этот начался значительно раньше. На это было много причин, но, как мне представляется, важнее всего тот факт, что искусство живописи гораздо теснее связано с формальной техникой, чем литература и, следовательно, гораздо больше, нежели литература, зависит от традиции. Причем как бы далеко эта традиция ни отошла от своего первоначального смысла, какой бы убогой она ни оказалась, насколько бы ни утратила своей утверждающей, созидательной силы, она не лишилась своей негативности и консерватизма, препятствуя всяким попыткам изменить общую направленность искусства; сестра же живописи— литература меньше зависит от традиции, она более индивидуалистична, хотя все же не в такой степени, как принято думать, и потому потребность протеста ощущается в литературе быстрее, а результаты его более очевидны, более явственны.
Сначала я хотел бы напомнить кое-какие, пускай приблизительные даты. Если я ошибусь, в этом зале присутствует, по крайней мере, один человек, мой друг, который сможет меня поправить. По-моему, совместное публичное выступление прерафаэлитов впервые имело место приблизительно в 1848 году.
Посмотрим же, какова была их главная, основная доктрина, в чем особенность их точки зрения? Ведь во всяком бунте наличествует особое своеобразное начало, которое, так сказать, поглощает все остальные и оказывается столь всеобъемлющим, что бунтари обычно видят лишь одну сторону своей деятельности, а именно ту, которая воплощает в себе эту их особую доктрину. Кажется, не так уж трудно сформулировать основную доктрину прерафаэлитов. Ее можно охарактеризовать одним словом — «натурализм».
Вот с чего начинали прерафаэлиты: «Перед нами природа, следует только подражать природе, и тогда вы произведете на свет нечто такое, что наверняка привлечет к себе внимание людей». На первый взгляд такое утверждение представляется самоочевидным. Но следует вспомнить, что я сейчас только говорил о той обветшавшей традиции, которая господствовала тогда над всеми художественными школами Европы. Помню совершенно отчетливо, что когда мне в детстве попадались на глаза какие-нибудь картины, я вообще не мог сообразить, что на них изображено. Я говорил: «Что ж, это неплохо. Тут есть нечто, вполне уместное в картине. Разумеется, против всего этого нечего возразить. Мне трудно утверждать, что сам я сделал бы тут что-нибудь иначе, ибо безусловно все сделано правильно». Но по правде-то меня это очень мало интересовало и, кажется, таким же было восприятие девятисот девяноста девяти человек из каждой тысячи, если они не получили специального художественного образования и не были профессиональными художниками. Я хотел сказать и сегодня, но мой друг мистер Уоллис успел поправить меня, что даже в наше время большинство людей, которых я назвал бы непосвященными в искусстве, не испытывает подлинного восторга перед картинами старых мастеров живописи. Если бы им без предварительных пояснений показали картину старинного мастера, то, смею утверждать, она бы их в той или иной степени разочаровала.
Так вот, прерафаэлиты, в сущности, заявили следующее: «Мы намерены порвать с убогой и одряхлевшей традицией, которая столь долго над нами властвовала. Мы намерены предложить вашему вниманию картины, которые верны природе». И, надо сказать, они так и поступили. Они писали свои картины в духе натурализма, причем полностью преуспели в этом, и всякий из нас мог бы подумать, что публика восприняла эту попытку с восторгом и радостью, что она готова была воскликнуть: «Наконец перед нами что-то понятное. Вот настоящее стадо овец; вот вещи, которые мы видели и видим каждый день, они поразительно похожи. Возможно, тут есть кое-какие недостатки, но в конце концов общий смысл всего этого нам понятнее. Это сделано для нас, для публики, а не только для художников, приверженных к тем или иным традициям.»
Но, как ни странно, публика откликнулась совсем иначе и была далека от восторга. На самом деле она говорила: «Все изображенное на этих картинах чудовищно. Тут нет ничего естественного». Однако по сути дела публика имела в виду не это, она хотела сказать: «Картины прерафаэлитов не похожи на картины». И они действительно не были похожи на картины, ибо, как вы вероятно догадываетесь, были похожи на природу. И все-таки, говорю вам, публика восприняла эти картины так, как обычно воспринимается всякое бунтарство молодых людей, — насмешливо и глумливо, ибо публика также находилась под влиянием академической традиции.
Но нашелся по крайней мере один человек, который без всякой предвзятости воспринял картины прерафаэлитов, хотя сам был воспитан в духе совершенно иной, резко отличавшейся от прерафаэлитов школы, которую я назвал бы старомодной (я отнюдь не стремлюсь вложить в это название какой-либо презрительный оттенок, а употребляю его ради простоты), и хотя учителем его был вам хорошо известный Дж.-Д. Гардинг. Этого человека едва ли надо и называть. То был Джон Рёскин{8}. Он тотчас же выступил в поддержку этих молодых художников. А им, без сомнения, была очень нужна такая поддержка.
Итак, они пошли по избранному ими пути и в конце концов одержали победу, каждый в отдельности завоевал громадную, вполне заслуженную популярность, большого успеха добилась и школа в целом; претворив в жизнь свой главный принцип — принцип натурализма, — они одолели дряхлую академическую традицию.
Но теперь следует чуть подробней остановиться на так называемом «натурализме». Как, вероятно, и большинство из вас, я могу вообразить некую разновидность натурализма, которая не представляет особого интереса. Сейчас о таком натурализме много говорят. Он предполагает лишь простую фиксацию реальности в искусстве живописи, но мне кажется, что картины, которые пишутся с такой целью, едва ли могут считаться художественным произведением, если только — а это, кстати, нередко случается, — они не содержат в себе чего-либо плодотворного, и идущего вразрез с теорией. Такие картины оказываются где-то на грани между произведениями искусства и научными постулатами. Картины прерафаэлитов во всяком случае были отнюдь не таковы, ибо помимо обычного воспроизведения явлений природы они стремились и к другой, более важной цели. Эти художники стремились, разумеется одни больше, другие меньше, к честному воспроизведению происходящего. Иначе говоря, они решительно пришли к выводу, что необходимо не только хорошо рисовать, но сам рисунок, отличная техника, острая наблюдательность, тщательность, мастерство и все прочее должны служить средством некоего общения со зрителем. В этом заключается полнота натурализма. Вас признают художником-натуралистом лишь при условии, что вам есть что сказать и вы выражаете это средствами живописи.
Конечно, в начале деятельности прерафаэлитов было модно, по крайней мере в разговорах, порицать условность тех картин, которые создавались в противовес упомянутому господству бедной, убогой, низменной условности. Но на самом-то деле всякое художественное произведение, будь оно подражательным или новаторским, неизбежно предполагает ту или иную условность. Мне кажется, что существо дела — и, думается, прерафаэлиты отлично это понимали — заключается в том, чтобы условность эта была, так сказать, условной условностью. Условностью является то, что вы так или иначе для себя открыли — путем ли изучения истории или проникновения в глубь той или иной проблемы собственным природным инстинктом. Во всяком случае — и это надлежит помнить, — совершенно невозможно дать буквальное изображение природы. Приходится прибегать к определенным условностям. Вам известен, наверно, рассказ о Паррасии и Зевкисе{9}. Паррасий говорил: «Зевкис обманул птиц, но я обманул Зевкиса». Этот рассказ, поучительный во многих отношениях, однако, содержит в себе ошибку. Зевкис никогда не смог бы обмануть птиц: самого Зевкиса оказалось намного легче обмануть, чем птиц, потому что Зевкис был человеком и обладал воображением, которое всю жизнь рисовало ему нечто, и это было связано с событиями, происходившими перед его глазами. Натурализм прерафаэлитов, не довольствуясь простым научным выражением факта, шел дальше этого и сознательно искал в жизни явления, необходимые для создания художественного произведения. Он был основан на подлинно натуралистических условностях.
До сих пор я говорил о двух сторонах тех качеств, которые необходимы, чтобы создать великое произведение в сфере изобразительного искусства: о подражании природе и общении со зрителем. Но есть еще третья сторона, которая столь же необходима: правда, публика обращала на нее меньше внимания и вообще с трудом ее понимала. Я имею в виду декоративный элемент в искусстве. Мне кажется, ни одна картина не может считаться законченной, если в ней всего лишь показана природа и кое-что выражено. Картина должна также обладать некоей гармоничной, осознанной красотой. Она должна быть декоративна. Вполне возможно, что она послужит украшением комнаты, зала или церкви. Из первых прерафаэлитов тоньше всех чувствовал эту сторону искусства Россетти: все его картины непременно имеют декоративный элемент, что естественно и отнюдь не случайно, ибо среди всех своих собратьев он обладал наиболее развитым ощущением исторической преемственности искусств. Ум его сформировался в результате внимательного изучения истории, что вообще представляет собой характерную черту общего бунтарства против академизма: любой человек, изучающий историю, придет к мысли, что живое искусство всегда должно быть декоративно.
Но, для того, чтобы развить декоративность в школе прерафаэлитов, туда предстояло прийти другому человеку — уроженцу вашего города Бёрн-Джонсу, о котором мне очень трудно говорить объективно, ибо это мой близкий друг. Но я должен сказать, что именно он внес в искусство элемент декоративного совершенства. В сущности, только приход этого художника завершил формирование прерафаэлитов, прояснил значение и характер этого направления, о котором говорит само его название. Оно явилось продолжением искусства, распространенного по всей Европе до Рафаэля, с именем которого связывается начало академического периода — иными словами, периода неорганического искусства, или так называемого Ренессанса.
Стало совершенно ясно, что «новая», осыпанная в свое время градом насмешек, но энергично прокладывавшая себе путь школа была ни более и ни менее как ветвью великого готического искусства, некогда распространенного по всей Европе. У готического искусства было три характерных черты, которые я сейчас перечислю. Первая заключалась в любви к природе — прошу заметить, не к мертвой, внешней ее форме, — к природе, которая служит единственным средством что-либо выразить. Любовь к природе — это первый составной элемент готического искусства; затем следует его близость к эпической культуре, и в дополнение к этим двум чертам следует присоединить его декоративность, которая очень часто воспринимается как единственная его особенность. Эти свойства готического искусства заимствованы им у органических школ, которые существовали еще в древности, прежде всего — у древних греков; так или иначе (хотя мне кажется, что готическое искусство превосходило их в декоративности и в близости к эпической культуре) по крайней мере одна черта отличает его от них, а именно — романтическое начало, как я вынужден это назвать за неимением лучшего слова; это качество и характерно как для Россетти, так и для Бёрн-Джонса, в особенности для последнего. Оно отчасти входит в понятие эпической культуры (что мы видим, например, у Гомера), но не заполняет его целиком; оно необходимо, чтобы декоративная сторона искусства отличалась определенной утонченностью, великолепием и захватывающей красотой. Правда, черту эту скорее можно почувствовать, чем определить.
Как можно увидеть на протяжении всей истории искусств, когда художник стремится сознательно воспроизвести некий сюжет, произведения его оказываются гораздо более красивыми, гораздо более подходят для украшения общественных зданий, нежели в том случае, когда он пытается создать декоративные произведения в обычном смысле. Слишком долго было бы объяснять, каким образом это происходит, но дело обстоит именно так. Пожалуй, на первый взгляд это может показаться парадоксом. Боюсь, однако, что я должен добавить к этому и другой парадокс, заключающийся в том, что, когда люди особенно много толкуют о произведениях искусства, они, вообще говоря, при этом в искусстве менее всего создают. Последнее мы должны принять на свой счет, ибо, в конце концов, находимся именно в таком положении. Мы вынуждены признать, что слишком отстали и не сможем быстро наверстать упущенное. Мы вынуждены толковать об искусстве отнюдь не потому, что состояние его удовлетворительно, а как раз потому, что его положение весьма плачевно, — иначе с какой стати нам вообще рассуждать об этом?
Скажу несколько общих слов относительно отдельных представителей школы прерафаэлитов. Как чистый натуралист, заботящийся не столько о сюжете, сколько об естественности изображения, Милле был первым, а остальные трое — Данте Габриэль Россетти, Хольман Хент и Форд Мэдокс Браун — в равной мере обращали внимание и на проблему точности изображения. Рассматривая их картины, неизменно обнаруживаешь, что в этом отношении они добиваются предельного мастерства: на картине всегда что-то происходит, всегда что-то совершается. Они говорят: «Вот оно — событие», и в лучших своих образцах они добиваются того же, чего пытается добиться любой подлинный художник, а именно убеждают зрителя, что события, которые здесь изображены, могли произойти только так и отнюдь не иначе. Это и есть подлинная цель того искусства, которое я за неимением лучшего слова называю «драматическим», пожалуй, еще лучше назвать его «эпическим». Россетти и Бёрн-Джонс являются представителями этой школы, у которых правдивость изображения осуществляется через романтический сюжет в романтическом духе, и именно вследствие этого декоративность оказывается существенной чертой их творчества.
Я должен теперь хотя бы кратко упомянуть, что Россетти и Бёрн-Джонс мало интересовались обычными сценами современной жизни, происходящими перед нашими глазами. Для художника-романтика это часто считалось недостатком. Если говорить совершенно откровенно, я тоже считаю эту черту их творчества серьезным недостатком. Но объясняется ли этот недостаток индивидуальным пристрастием художника или он возник в угоду желаниям широкой публики? По моему мнению, справедливо последнее. Если художник действительно остро чувствует красоту, он не может буквально передать событие, которое происходит в нашей современности. Он должен что-то добавить, чтобы умерить или смягчить безобразие и убогость окружающей нас действительности. Позвольте сказать, что так обстоит дело не только с живописью, но и с произведениями литературы. Два примера приходят мне на память. Возьмем романы Харди{10} или других писателей, работающих приблизительно в той же манере. Считается, что в своих романах они изображают сцены современной жизни. Но так ли это? Я утверждаю, что не так, ибо они стремятся представить эти современные сцены в атмосфере уединенной сельской жизни, которой мы сами никогда и ни при каких обстоятельствах не увидим. Если вы окажетесь в сельской местности, то, смею заверить, вы не увидите там героев и героинь Харди. Вашему взору предстанет совершенно иная картина при встрече с обыкновенным английским фермером или обыкновенным сельскохозяйственным рабочим или в особенности — прошу меня извинить — с их женами и дочерьми. Как ни печально, но это именно так. Должен сказать, что живописец оказывается в еще более трудном положении. В живописи вы не можете так сильно удалиться от фактов, как, например, в литературе. Тем не менее, я полагаю, те из нас, кто видел картины Уокера{11} (а всякий зритель восхищается ими, потому что картины эти удивительно красивы и выполнены с удивительным мастерством), могли бы подумать, что изображенные им деревенские жители, косари, возчики и все прочие — вовсе не современные косари, а сошедшие на землю с фриза Парфенона. Житель сельской Англии выглядит совсем иначе, или, во всяком случае, таких людей можно увидеть очень редко. Иногда вы встретите их среди бездомных бродяг, пожалуй, среди цыган, но никогда — среди простых тружеников. Конечно, каждый волен заниматься искусством по-своему, и если кто-либо действительно увлечен современным сюжетом, не следует ему мешать стараться сделать это наилучшим способом, в меру своего таланта. Но, с другой стороны, я считаю, что такой человек не вправе в данном случае, тем более, что ему самому неизбежно приходится прибегать к уловке, укорять своего собрата-художника, который вновь обратился к прошлому; или вернее, естественным образом, поскольку создания его воображения должны быть облечены в те или иные наряды, естественно берет одеяния определенного времени, когда жизнь протекала в красивом, а не в безобразном окружении.
Итак, я пытался в меру своих сил дать вам некоторое представление об общих принципах школы прерафаэлитов. И коль скоро принципы эти сводились к чистому натурализму, я считаю, что они осуществлены более или менее успешно: иными словами, появилась новая школа. Что касается претворения в жизнь принципа правдивого изображения, — а это составляло главную особенность прерафаэлитов, — то здесь успех оказался не столь значителен, поскольку в конечном счете для создания произведений такого рода либо необходимы своеобразные и исключительные дарования, которые едва ли могут одновременно родиться в какую-то эпоху, либо здесь нужна более широкая школа единой традиции, способная объединить разнообразные качества отдельных людей, сливая их в одно гармоничное целое. Еще меньший след оставили попытки прерафаэлитов добиться декоративности. Удивительного тут ничего нет, декоративная сторона искусства в конечном счете составляет часть архитектуры, а архитектура может процветать только как непроизвольное выражение радости и стремлений всего народа. Но давайте признаем следующее: кстати, отчасти именно этим объясняется, почему такой большой интерес для нас представляют наши галереи, по стенам которых развешены картины, из которых каждая — завершенное произведение; все, что можно сейчас получить от искусства, создается не совместными усилиями широкого круга людей, а работой и выражением индивидуального дарования, индивидуальных способностей, направленных к особой цели. Но я должен вернуться к тому, о чем говорил, и повторить, что одна из причин, по которым искусство, изображающее жизнь прошлого, или, вернее сказать, погруженное в мир воображения самого художника, выдвигается на передний план, в том и состоит, что лишь таким путем художник может опереться на облеченные в историческую форму традиционные художественные представления, которые некогда были достоянием всего народа. В этом же, по-моему, состоит и подлинная внутренняя подоплека того, почему так трудно изображать окружающую нас повседневную жизнь.
В заключение я должен повторить, что это явно представляет собой недостаток нашего искусства, который, мне кажется, мы должны стремиться изжить всеми возможными способами. Я не собираюсь слишком подробно распространяться о пользе учреждений, подобных тому, в каком мы сейчас находимся: музеев, художественных галерей и всего прочего. Ведь музеи и галереи не могут принести ни малейшей пользы публике, если у нее нет никакого представления об искусстве, оформившегося еще до посещения музеев и галерей. Разумеется, невозможно дать образование человеку, который сам искренне не пожелает получить образование; это бесспорный факт. Но если такое желание существует — а оно, разумеется, должно существовать, пускай и не повсеместно, пускай лишь изредка, — то все же при наличии такого желания всяческие музеи и картинные галереи, если только картины удачно подобраны, могут принести громадную пользу людям, желающим в меру своих сил подняться до уровня великих художников прошлого и настоящего. В самом деле, если человек любит искусство, то под влиянием этой своей любви он будет стремиться к постоянному созерцанию художественных произведений, не только признанных великими, но и таких, в которых он сам сразу же может найти нечто прекрасное. Иногда утверждают, будто первый попавшийся, я хочу сказать, принадлежащий к любому сословию человек способен вынести справедливое суждение о художественном произведении. Утверждают, что его восприятие не искажено и все такое прочее. Давайте же взглянем фактам в глаза. Будь это так, мы могли бы только радоваться; было бы замечательно, если б всякий человек мог судить об искусстве. Но будь это так, все усилия, которых теперь требует художественное просвещение, были бы излишни. На самом деле первый встречный уже обладает искаженным восприятием. Более того, он с головой погряз в тех отбросах искусства, которые на каждом шагу встречаются вокруг нас. Разве не так обстоят дела везде и всюду? Я совершенно уверен, что именно так. Вероятно, я не вправе говорить о музыке, поскольку не очень-то в ней разбираюсь, но я глубоко убежден, что музыкальные произведения, которые предпочитает человек с «неискаженным восприятием» — отнюдь не лучшие образцы этого искусства, а обычные, пошлые банальные мотивчики, которые режут ухо на каждом перекрестке. Это вполне естественно. Ведь все люди склонны подпадать под власть какой-либо традиции, и если исчезают традиции, более возвышенные и более чистые, люди само собой оказываются во власти традиций примитивных и низкопробных. Поэтому давайте раз и навсегда откажемся от мысли, будто широкие массы обладают интуитивным знанием искусства, что возможно только если они связаны непосредственно с великими традициями прошлого и каждый день созерцают красивые и подлинно художественные произведения. Мне кажется (и я даже уверен в этом), что люди, не занимающиеся искусством, не жаждущие его созерцать, в конце концов утратят всякое стремление заниматься искусством или желание созерцать его. Тогда вообще исчезнет то чувство прекрасного, которое было до сих пор одним из важнейших чувств человека. Поскольку искусство станет не нужно человечеству, оно отомрет точно так же, как люди постепенно утратили бы вкус или осязание, если бы не нуждались постоянно во вкусовых ощущениях или в осязании. Давайте же сделаем все возможное, чтобы возродить и сохранить лучшие художественные традиции. Несомненно, мы должны приспособить их к современности. И тогда они помогут нам создать нечто такое, чего людям до сих пор создать не удавалось. Мы не можем создать искусство, уже некогда созданное. Мы не хотим этого, но если мы бы даже могли это сделать, в этом не было бы никакого смысла, хотим мы того или нет, — совершенно ясно, что для нас это недостижимо. Однако безусловно просвещение в этой сфере породит новые потребности, а новые потребности создадут новое искусство. И в этом смысле город Бирмингем заслуживает всяческой похвалы. Жители вашего города решили, создавая музеи и художественные галереи, внести свою лепту в развитие искусства{12}.
Заканчивая, я хотел бы сказать слово благодарности людям, которые предоставили на время в распоряжение города принадлежащие им художественные произведения. Я не хотел бы останавливаться на этом слишком долго, ибо отдаю себе отчет в том, что обладатель художественного шедевра несет обязанности, неизбежно становится как бы опекуном над публикой. Учитывая, сколь редко люди исполняют свой долг, мне думается, все вы присоединитесь к благодарности, которую я выражаю владельцам этих картин за согласие предоставлять их для выставок как теперь, так и впредь.
И, наконец, несколько заключительных слов о прерафаэлитах, о которых сказано было крайне мало, ибо это, в самом деле, очень трудная тема: она заключает в себе множество проблем, и потребовалось бы слишком много времени, чтобы сказать обо всем этом подробно. Я бы только хотел представить присутствующим здесь молодым художникам основателей школы прерафаэлитов как образец терпения, прилежности, мужества и того усердия, которое всегда действует рука об руку с настоящим дарованием; только благодаря этим качествам могли они добиться успеха в своем трудном деле. Трудность же, заметьте, была немалая и состояла в том, чтобы увлечь довольно значительную часть публики, которая не слишком-то жаловала какое-либо искусство и готова была принять любую банальность в искусстве, что только и было ей доступно до того, как появились эти люди, и нужно было заставить ее понять сущность этой школы, оценить достижения художников, дать им возможность зарабатывать своим искусством средства для жизни (это тоже ведь важно) и, наконец, донести до потомков имена, которые, действительно, оказались достойны своей страны. Присутствующие здесь молодые художники, несомненно, поймут, что им тоже необходимо учиться терпеливо, прилежно, не считая себя мастерами в то время, когда они еще только подмастерья. Банальная истина, скажете вы. Да, но ее прежде всего необходимо помнить в нашу бурную, беспорядочную эпоху. Весьма полезно в период ученичества наблюдать порой за работой какого-нибудь большого художника, а в некотором смысле даже идти по его стопам; все же для каждого должна наступить пора приняться за собственный труд, труд, который был бы не просто подражанием какому-либо выдающемуся художнику, — в противном случае лучше вообще отказаться от занятий искусством. Ибо даже не очень значительные художники, если только они следуют своему призванию, вносят в свою работу нечто самобытное. Это хорошо поймут люди, которые мужественно борются против трудностей, упорно стремясь стать художниками. Они знают, конечно, как трудно, восхищаясь работой великого художника, вместе с тем не следовать его манере, и отлично понимают, надеюсь, что единственная польза от такого подражания отнюдь не в подражательстве, а в поисках пути, чтобы стать самобытным художником, который подарит миру нечто новое, до него не существовавшее.
Итак, леди и джентльмены, мне остается только призвать вас и впредь изучать наследие этих мастеров и всех великих художников, произведения которых могут быть выставлены, но делать это с новых позиций. Не останавливайтесь перед картиной лишь для того, чтобы просто сказать себе, что она вам нравится, поскольку принадлежит кисти знаменитого художника, но постарайтесь понять, нравится ли она вам сама по себе или нет, и если вы неспособны ее оценить по достоинству, я не стану уверять вас, будто тут нечего стыдиться, потому что стыд часто приносит пользу, но, во всяком случае, признайтесь хоть про себя, если не во всеуслышание, что ваше художественное образование неполно, и постарайтесь наверстать упущенное.
Манифест Общества защиты старинных зданий
Общество с указанным названием обращается к широким кругам населения, а потому оно обязано объяснить, как и почему предлагает защищать старинные здания, которые, как полагает большинство людей, имеют такое множество прекрасных попечителей. Нижеследующее мы и предлагаем в качестве объяснения.
Не подлежит сомнению, что на протяжении последнего пятидесятилетия старинные памятники искусства привлекали к себе особый интерес. Эти памятники стали одним из увлекательнейших предметов изучения: они вызвали духовный энтузиазм, пробудили увлеченность историей и искусством — это бесспорное достижение нашего времени. И тем не менее мы считаем, что, если продлится нынешнее отношение к ним, эти памятники станут бесполезны для изучения и охладят любой энтузиазм. Мы считаем, что прошедшие полвека пробуждающегося внимания и накопления знаний повлекли за собою большее разрушение этих памятников, чем все предшествующие столетия потрясений и насилия, когда к ним относились с пренебрежением.
Ибо одновременно с широким распространением познаний в области средневекового искусства архитектура, давно уже клонившаяся к упадку, перестала существовать как народное искусство. В итоге, несмотря на расширение познаний о художественных стилях прошлых веков, цивилизованный мир XIX столетия лишился собственного стиля. И вот из-за отсутствия собственного стиля и благодаря обретенным познаниям художественного прошлого в умах зародилась странная идея реставрации старинных зданий. Это действительно странная и в высшей степени губительная идея, ибо теперь признается возможным уничтожить в здании те или иные следы истории, иначе говоря — следы жизни самого здания, а затем в какой-то произвольный момент остановиться. Эта идея основана на предположении, будто после такой операции в здании сохраняется жизнь, сохраняется его историческая значимость и, даже более, будто бы оно после этого остается таким же, каким было некогда.
Прежде подобная подделка была невозможна — и именно потому, что строителям недоставало знаний, а быть может, и потому еще, что их удерживал врожденный инстинкт. Если здание нуждалось в ремонте, если честолюбие или набожность вызывали в людях желание перестроек, то в самих перестройках непременно безошибочно отражался стиль того времени. Церковь XI века могла быть расширена или подвергнута изменениям в XII, XIII, XIV, XV, XVI, даже в XVII и XVIII веках, но любое изменение, какой бы слой истории оно ни уничтожало, сохраняло определенный отпечаток истории и в то же время одухотворялось своей собственной творческой природой. В результате часто возникало здание, в котором множество изменений, пусть даже грубоватых и достаточно явных, было в силу своей контрастности интересно и уж ни в коей мере не выглядело обманом. Но люди, которые теперь совершают изменения, именуемые реставрацией, и ставят перед собой цель восстановить внешний облик здания, который был присущ лучшим временам его истории, произвольно, по собственному капризу определяют, что в здании прекрасно и чем можно пренебречь. В то же время само существо стоящей перед ними задачи вынуждает их кое-что уничтожать, а на место уничтоженного накладывать то, что, согласно их фантазии, должно или могло быть характерно для манеры строителей прошлого. К тому же при этом двойном процессе разрушения и восстановления обязательно портится наружный вид здания. Сохранившиеся его элементы утрачивают приметы древности, и созерцающий его человек и заподозрить не в состоянии, что же в итоге этих перемен было утрачено. Короче говоря, окончательный результат всех этих напрасных усилий — сомнительное и безжизненное псевдоискусство.
Нередко люди, наделенные дарованием, достойным лучшего применения, но глухие к голосу поэзии и истории, именно так и в Англии и на континенте обращались с большинством громадных монастырских церквей и со значительным числом более скромных сооружений, и это печальный факт.
Но кое-что сохранилось, и мы призываем наших архитекторов, официальных попечителей зданий и широкие круги населения подумать, как много памятников нашего прошлого, воплощавших верования, мысли и обычаи, было подвергнуто реставрации почти без всякого согласия широкой общественности. Мы призываем всех задуматься над тем, возможно ли вообще восстановить эти здания, живой дух которых — и это следует неустанно повторять — был неотъемлем от веры, идей и обычаев прошлого. Со своей стороны, мы твердо убеждены, что из всех до сих пор предпринимавшихся реставрационных работ наихудшие приводили к безжалостному удалению наиболее существенных и выразительных черт здания, тогда как наилучшие в точности уподоблялись попыткам реставрации старой картины, когда частично погибшее произведение художника прошлых эпох становится гладким и зализанным под ловкой рукой бездумного и бездарного поденщика наших дней. Если нас попросят конкретно указать, какой вид или какую часть искусства, какой стиль или иные интересные особенности здания следует сохранять, то мы ответим: необходимо сохранить все, что художественно, живописно, существенно, что создано в прошлые века и имеет исторический интерес. Короче говоря, необходимо сохранить любое произведение зодчества, которое вообще, по мнению образованных и наделенных художественным вкусом людей, достойно внимания.
Поэтому, чтобы сохранить все здания всех времен и всех стилей, мы призываем людей, имеющих к ним отношение, стремиться не реставрировать их, а охранять, каждодневными стараниями предотвращать непрерывное разрушение зданий, возводить подпорки для падающих стен или чинить протекающую крышу, как это со всею очевидностью необходимо, не претендуя при этом на некую особую художественность. Мы призываем также противодействовать любым попыткам изменить фундамент здания или его декор, пока они еще держатся. Если здание становится неудобно для его дальнейшего использования, то вместо его перестройки или расширения следует строить другое здание. Мы призываем, наконец, воспринимать наши древние сооружения как памятники былого искусства, применявшего отошедшие в прошлое методы, ибо современное искусство не может вторгаться в них, одновременно их не разрушая.
Так, и только так, сможем мы избежать нелепого положения, когда наши познания толкают нас на действия, смешные с точки зрения самих этих познаний. Так, и только так, мы сможем сберечь наши старинные сооружения и передать их для изучения и почитания своим потомкам.
Архитектура и история
Нам, членам этого Общества, во всяком случае, известно, как прекрасен фасад древнего здания, изменившийся под воздействием времени и непогоды, и каждый из нас пережил чувство скорби, видя, как исчезает этот фасад под руками «реставратора». Но хотя все мы достаточно глубоко переживаем это, некоторые, возможно, затруднятся объяснить широкому кругу людей, в чем именно состоит особая ценность изначальной поверхности древнего здания. Дело не только в том, что эта поверхность красива и живописна, хотя и это важно. И дело не в том только, что древние строители привносили в заботы о фасаде здания свои чувства, лишь смутно сознавая, что многие последующие поколения будут созерцать его. Как прекрасно сказал Рёскин об одном из старинных зданий Франции, теперь уже, вероятно, превращенном в академический муляж, обаяние его камней таится и в том, что они воспринимаются как «те самые камни, которые поднимали и водружали на место на глазах св. Людовика». Это чувство говорит о многом, но далеко не обо всем. Оно лишь отчасти соответствует той особой ценности, на которую мне бы хотелось обратить ваше внимание. Говоря коротко, нетронутая поверхность древнего здания запечатлевает развитие человеческих идей, непрерывность истории и, таким образом, становится поучительной — даже более, она служит целям воспитания новых поколений, повествуя не только о стремлениях уже ушедших из жизни людей, но также и о том, что ожидает нас в грядущем, — в этом ее ценность.
Вы все знаете, что теперь историю оживотворил иной дух, отличный от того, который возбуждал обычно интерес людей думающих. Было время, и не такое уж далекое, когда историю писал некий умный эссеист{1} (но менее всего историк), окруженный книгами, в которых он больше ценил их соответствие общепринятому критерию литературного совершенства, чем насыщенность сведениями, позволяющими заглянуть в прошлое. При таком отношении к книгам историки не умели открыть громадные залежи знаний, которые оставались сокрыты в этих книгах и которые обнаруживаются, если их изучать, пользуясь историческим методом. Правда, эти книги писались по большей части для иных целей, а вовсе не для того, чтобы дать знания грядущим поколениям. Даже самые честные из писателей были вынуждены воспринимать жизнь сквозь призму традиционной морали своего времени, а писатели бесчестные оказывались подобострастными льстецами, живущими на подачки властей предержащих. Но все же, хотя искусство лжи всегда тщательно растилось людьми, особенно теми, которые живут за счет чужого труда, вершин этого искусства достигали лишь немногие, а потому человек добросовестный, приложив достаточно стараний, может обычно разглядеть сквозь вуаль софистики подлинную жизнь, таящуюся в письменных памятниках прошлого. К тому же самую ложь, природа которой всегда проста и груба, часто можно разложить и выпарить из нее субстанцию истории — что послужит негативным, так сказать, подтверждением действительных фактов.
Но академические историки, о которых я говорил, не могли справиться с такой задачей: над ними тяготело проклятие хоть и бессознательного, но рокового искажения правды. Историческое прошлое, которое они рисовали себе, было нереальным. По их мнению, было лишь два периода устойчивости, организованности и упорядоченной жизни: один из них — классическая история Греции и Рима, второй — эпоха, начавшаяся с пробуждения интереса к античности и продолжающаяся еще сейчас. Все остальное виделось им нагромождением случайностей, бессмысленными междоусобицами племен и народов, до которых им не было никакого дела и которые напоминали сражения бизоньих стад. Целые тысячелетия были, по их мнению, лишены творческого духа и загромождены всякого рода препятствиями; выделялись, как я сказал, лишь два периода, которые были исполнены совершенства, и предстали они в полном облачении, как Афина Паллада, явившаяся из головы Зевса. Право, это была странная концепция истории «славных мужей и отцов нашего рода», которая, однако, не могла долго противостоять социальному развитию и растущим знаниям. Туман педантической учености медленно рассеивался, вырисовывалась иная картина: в отдаленнейшие времена возникало зачаточное общественное устройство, различное в разных странах и среди разных народов, но направлялось всегда одними и теми же законами и всегда развивалось в нечто совершенно противоположное изначальному; тем не менее первоначальное общественное устройство никогда не умирало и продолжало существовать в новом, постепенно формируя его так, что в нем возрождалась прежняя сущность. Нетрудно видеть, насколько иной дух создается таким подходом к истории. Нет уже более поверхностной насмешки над ошибками и заблуждениями прошлого с высот так называемой «цивилизации», а есть глубокое понимание полуосознанных целей прошлого, идущего к этим целям, вопреки всем препонам и недостаткам, которые мы не без горести осознаем сейчас. Это действительно новый дух в истории. И я склонен думать, что знание принесло нам скромность, а скромность — надежду на достижение совершенства, от которого мы, очевидно, еще очень далеки.
Что касается средств для такого нового постижения истории, то их преимущественно два: изучение языка и изучение археологии, — иными словами, первое исследует выражение мыслей человека посредством речи, второе —посредством изделий ручного труда, то есть летописи творческих свершений человека. Меня очень привлекает первое средство, особенно та его сторона, которая тяготеет к сравнительной мифологии и столь отчетливо обнаруживает единство человечества, но у меня недостаточно знаний, чтобы говорить о нем, даже если бы я и располагал временем. Что же касается второго средства — археологии, то я обязан о нем говорить, ибо первоочередная задача нашего Общества — показать публике значение археологии как средства изучения истории. Именно археология, говоря без преувеличения, приводит нас к решению всех мучительных социальных и политических проблем.
Я тем более должен говорить об археологии, что, несмотря на власть, которую новый дух изучения истории обрел над образованными умами, мы не должны забывать о неразвитости очень многих умов, а ведь именно над ними еще властвует дух педантизма. И вы должны понять, что когда я говорю о неразвитых умах, то имею в виду не низшие классы, как мы невежливо, но слишком правильно называем их, а множество тех, кто занимает ответственные посты и кто особенно ответствен за сохранность наших старинных зданий. Отвечая на возможное возражение, скажу, что я могу понять человека, утверждающего, что педантическое и невежественное отношение к старинным зданиям само по себе явление историческое. Я могу признать определенную логичность такого возражения. Разрушение, увы, — одна из форм развития, а доктринеры-историки, о которых я говорил, также порождение истории, и любопытно было бы выяснить, чего сам я не могу сделать, насколько их разрушительный педантизм является признаком силы в сравнении с робостью наших разумных исследований. Повторяю, мне это не совсем ясно, хотя, думаю, решение этого вопроса подведет некоторых людей к заключениям удивительным. Я же твердо знаю лишь одно: если узость суждений и вульгарность помыслов (мне не приходят в голову более мягкие выражения), характерные для такого обращения с нашими древними памятниками, будто бы у искусства не было прошлого и нет будущего, тоже порождены историческим развитием, то им же порождено и стремление, вдохновляющее нас сопротивляться этой вульгарности: «сан я принял, дабы помимо иного стремиться и к этому».
Я уверен, что вы, как члены нашего Общества, до сих пор со мной соглашались. Вы не позволите себе сомневаться в том, что так или иначе фасад старинного здания, то есть труд древнего ремесленника, представляет собою высшую ценность и должен быть сохранен, и все мы, я уверен, инстинктивно чувствуем, что этот фасад теперь нельзя восстановить, что попытка реставрации лишает нас не только памятника истории, но и произведения искусства. В дальнейшем я попытаюсь доказать, что невозможность воссоздания не случайна, ибо она вытекает из условий нынешней жизни. Она следствие всего исторического процесса, а вовсе не преходящего вкуса или временной моды. И, следовательно, ни один человек, ни одно общество, какими бы учеными познаниями древнего искусства они ни обладали, независимо от их умения создавать художественные проекты и от их любви к прекрасному, не в состоянии, даже посулив хорошую плату, убедить или принудить современных рабочих выполнить точно такую же работу, какую делали ремесленники во времена Эдуарда I{2}. Разбудите Теодориха Остготского{3} от его векового сна и посадите его на трон Италии, превратите нынешнюю палату общин в витенагемот, в собрание мудрецов при короле Альфреде Великом{4}, — не меньшим подвигом явилась бы в наше время реставрация старинного здания.
Так вот, чтобы показать вам, что это необходимо и неизбежно, я вынужден хоть кратко коснуться условий, при которых, начиная с классической древности, совершалась ремесленная работа. При рассказе об этом я не смогу не коснуться некоторых социальных проблем, относительно решения которых многие из вас, возможно, не согласятся со мной. В этом случае я просил бы вас не упускать из виду, что хотя руководящий Комитет Общества и просил меня выступить перед вами с этим докладом, тем не менее он не может считаться ответственным за любое мое мнение, если оно выходит за рамки принципов, провозглашенных в опубликованных им документах. Само Общество нельзя считать опасным, разве что опасно оно лишь для забав сельских пасторов и эсквайров, их жен и дочерей.
Итак, следует признать, что любое произведение архитектуры — это плод коллективного труда. Автор первоначального проекта, пусть и очень самобытный, платит дань этой неизбежности, ибо он в той или иной форме находится под влиянием традиции: умершие водят его рукой даже тогда, когда он забывает о том, что они вообще существовали. Далее, его идеи должны претворить в жизнь другие люди — ни один человек не может построить здание только своими собственными руками. Каждый из таких людей с самого начала своей работы зависит от кого-либо еще. Каждый — лишь часть общего механизма. Части сами могут быть всего лишь машинами или же могут быть разумными существами, но в любом случае они должны согласовать свои действия со всей машиной в целом. Очевидно, что люди, занятые этой работой, должны испытывать на себе влияние условий жизни, а руководитель этих людей должен ясно отдавать себе отчет, что он может рассчитывать только на такой труд, который порожден этими условиями. Нелепо ожидать энтузиазма и стремления создать нечто замечательное от людей, которые на протяжении двух поколений привыкли под давлением обстоятельств работать нерадиво. Еще более нелепо ждать понимания прекрасного от людей, которым на протяжении десятка поколений не представлялось возможности творить прекрасное. Мастерство коллективного труда в каждом его создании принадлежит определенному периоду и обусловливается им. Постарайтесь четко понять это положение, которому я теперь придам иную форму: архитектурный труд в целом должен быть коллективным; законченные создания этого коллективного труда не могут быть по качеству лучше, чем позволяют его самые не важные, самые простые или самые обычные части, которые также в высшей степени существенны. Содержание и качество произведения — произведения обыкновенного ремесленника — определяются общественными условиями, в которых он живет и которые сильно изменяются от века к веку.
Посмотрим же в таком случае, как эти условия различаются, и постараемся выяснить, как эти различия влияют на искусство. А в ходе этого изучения мы должны будем особое внимание уделить зрелому средневековью, архитектурными сооружениями которого наше Общество интересуется больше, нежели зданиями какого-либо другого периода.
В классическую эпоху ремесленное производство осуществлялось преимущественно рабами, которые вместе со своей продукцией принадлежали своему господину, а их жизнь поддерживалась на уровне, отвечавшем интересам этого самого господина. При таких обстоятельствах, естественно, само производство презиралось. В условиях, во всяком случае, греческой цивилизации обычная жизнь свободных граждан, аристократии, по существу, была проста. Климат страны не требовал усиленной работы для удовлетворения потребности в одежде и жилье. Народ был еще молод, жизнелюбив и физически прекрасен. У аристократии, освобожденной благодаря рабам, которые выполняли всю работу, от тяжелого и изнурительного труда и лишь в небольшой мере обремененной заботами о хлебе насущном, несмотря па постоянные раздоры и пиратские набеги, составлявшие тогдашнюю внешнюю историю, были и склонность и досуг, чтобы развивать изящные искусства в тех пределах, которые врожденная любовь к реальности и пренебрежение к романтике предписывали ей. Между тем малые искусства находились в суровой и поистине рабской зависимости от изящных искусств, что было естественно. Позвольте прервать мой рассказ и попросить вас подумать вот над чем. А что, если бы какой-нибудь афинский аристократ времен Перикла вздумал построить готический собор? Какое содействие оказал бы ему рабский труд тех дней и какое сооружение готического искусства создали бы ему его рабы?
Итак, одержав величественные и внушительные победы, присущий грекам художественный идеал сохранялся и на протяжении всей истории Рима, хотя была уже изобретена и применялась в архитектуре арка; а рядом с этим идеалом рабский труд при относительно изменившихся условиях по-прежнему производил необходимые для жизни предметы. Презрение к плодам ремесленного производства, открыто выраженное высокоученым Плинием{5}, было ли оно исконным или же искусственно выведенным из общепринятой философии, отлично характеризует условия, при которых в позднеклассический период существовали малые искусства, создаваемые рабским трудом.
Между тем во времена Плиния изящные искусства классического периода уже прошли высшую точку своего расцвета и должны были увядать на протяжении унылых столетий академизма, от которого они наконец избавились, но не путем возврата индивидуального духа к ранним временам человечества, а через распад самого классического общества: это повлекло за собой преобразование системы рабства, на которой покоилось классическое общество, в систему крепостного права, на которой покоился феодализм. Период варварства или неупорядоченности длился между этими двумя периодами организованности несомненно долго, но новое общество, блестящее и свободное, возникло из него в конце концов, а общественное устройство с гражданами-аристократами и бесправными рабами, при котором господствовал культ города (являвшийся идеалом, религией классического общества), уступило место системе обязанностей и прав личности, системе личного служения и покровительства, подчиненной условным представлениям о долге, диктуемом людям невидимыми силами вселенной.
Как было естественно для этой иерархической системы, религиозные здания, предназначенные воплощать перед несовершенными людьми высокий иерархический идеал, бесспорно выполняли в искусстве на заре средних веков среди крепостных и их сеньоров те же функции, которые в эпоху классической древности образованный свободный гражданин Греции выполнял среди множества услужающих ему рабов. Но условия жизни крепостного весьма отличались от условий, в которых жил раб: крепостной, выполнив для своего сеньора определенные повинности, был свободен (по крайней мере в теории) зарабатывать себе на пропитание столько, сколько мог в пределах своего дома. Раб как отдельная личность мог надеяться на получение вольной грамоты, но для всех рабов в совокупности была одна надежда — насильственно ниспровергнуть общество, основанное на их угнетении. Иное дело — крепостной, который самими условиями своего труда был вынужден стремиться к совершенствованию своей личности. Вместе с другими крепостными он вскоре стал добывать себе некоторые права, пользуясь столкновениями интересов короля, феодала и бюргера. Кроме того, уже на заре средних веков начала зарождаться новая могущественная сила, которая способствовала развитию труда и являла первые признаки делового сотрудничества свободных людей, производителей и посредников.
То были гильдии, впервые появившиеся в Англии еще до норманнского завоевания. Хотя они и полностью признавали иерархическую структуру общества, а в свой начальный период весьма часто имели в виду главным образом религиозные цели, появились они вовсе не благодаря церковному укладу. Более того, по всей вероятности, свои первые корни они пустили именно среди тех народов Европы, которые ничего не восприняли от Рима или общественных институтов его временного владычества. Англия и Дания оказались наиболее продвинувшимися в развитии гильдий, которые в латинизированных странах пустили корни позднее и слабее.
Дух сотрудничества возрастал. Гильдии, которые, по сути дела, были скорее обществами взаимопомощи или клубами, нежели чем-либо другим, вскоре превратились в ассоциации по развитию свободы торговли и затем переросли в могущественные торговые союзы. Когда они достигли вершины своего могущества, в их недрах образовался целый ряд новых гильдий, чьей целью было упорядочить занятия ремеслами, обеспечив им свободу от феодального принуждения. Более старые купеческие гильдии оказывали новым такое упорное сопротивление, что в Германии между ними возникла отчаянная и кровавая война. Великое восстание в Генте — результат этой вражды — было, как утверждает Фруассар, подготовлено малыми ремеслами, и вы можете вспомнить, что промышленный город Гент был исполнен бунтарского духа, тогда как торговый город Брюгге{6} отличался консервативностью. В Англии перемены в торговых гильдиях происходили более мирно. Они становились в основном городскими корпорациями, а ремесленные гильдии, занимая их место, налаживали различные производства и оказывали им покровительство. К началу XIV столетия господство ремесленных гильдий стало полным, и, в то время по крайней мере, их устав был насквозь демократичен. Наемных работников не существовало, а подмастерья были, как правило, уверены, что займут место мастера, как только освоют ремесло.
Прежде чем говорить об упадке и исчезновении гильдий, посмотрим, как в то время работали ремесленники. Сначала — несколько слов об условиях их жизни. Должен очень коротко сказать, что тогда ремесленник жил хоть и нелегко, но, во всяком случае, гораздо более сносно, чем его нынешние потомки. Работал он не на хозяина, а на людей; все, что он делал, он делал от начала до конца своими собственными руками и сам продавал свои изделия людям, которые собирались пользоваться ими. Так обстояло дело почти со всеми изделиями, которые производились в Англии. Кое-какие более редкие изделия, например шелковые ткани, поступали на рынок, существовавший все-таки, несмотря на то, что изделия любого края становились товарами неподалеку от места их производства. Но даже более редкие изделия производились прежде всего для домашнего потребления, и только излишки попадали в руки торговца. Что касается последнего, то следует помнить, что он не был, как в наше время, просто игроком в прихотливом переплетении спроса и предложения, а был незаменимым поставщиком товаров. Ему платили за труды по доставке товаров из того места, где был их излишек, туда, где их было недостаточно, и этим дело ограничивалось. Законы против скупщиков и перекупщиков дают представление о том, как в средние века смотрели на торговлю. Ее воспринимали именно как торговлю, а не как прибыльную махинацию. Скупщик покупал продукты труда, чтобы попридержать их до момента, когда их можно будет продать по более дорогой цене. Перекупщик покупал и продавал изделия на том же самом рынке или неподалеку от него. Что касается пользы для общины от скупщика, то, думается, на этом вряд ли стоит останавливаться. Что касается перекупщика, то в те времена люди, подвыпивши, высказывали мнение, что не столь уж полезен обществу человек, который покупает, скажем, сто фунтов сыра в девять часов утра по два пенни за фунт, а в одиннадцать продает его же по три пенни. Признаюсь, я достаточно консервативен и старомоден и соглашаюсь с ними, хотя и не могу не видеть, что весь так называемый «бизнес» сводится в настоящее время к скупке и перепродаже, и все мы — рабы этих простых и восхитительных занятий, так что преступники одного столетия в другом становятся благодетельными господами.
Во всяком случае, благодаря прямому общению между производителями и потребителями товаров получалось, что население в целом знало толк в производившихся товарах, и, следовательно, искусство, или, вернее, культ фальсификации, было тогда совсем неизвестно. По крайней мере было нетрудно завоевать славу не только служителя, но и мученика этого благородного культа.
Что же касается самого способа труда, то тогда в любом ремесле разделение труда было либо слабо, либо вообще отсутствовало: это, по-моему, несколько уменьшало зло, каким я считаю это разделение, ибо я понимаю человека, на протяжении всей своей жизни привязанного (как это происходит и сейчас) к одному и тому же делу: да, несколько уменьшало зло, ибо, в конце концов, чрезвычайно разнообразна была работа, которую человек выполнял целиком, вместо того чтобы всю жизнь трудиться над какой-нибудь деталью другой детали. Кроме того, следует помнить, что свободные люди гильдий, как и вообще любой вольный человек, имели тогда право пасти скот на общинных пастбищах. Порт-Медоуз близ Оксфорда, например, был таким общинным пастбищем для скота всех свободных граждан этого города.
Таковы условия жизни и труда английских ремесленников XIV века. Полагаю, большинство из нас откажется принять на веру картину жизни того времени, которую рисуют полуневежественные и обманывающие нас доктринеры, о которых я уже говорил. Знакомясь с остатками изделий тогдашнего ремесленника, мы и без всяких дальнейших исследований давно уж инстинктивно почувствовали, что он был человеком думающим и энергичным и в некотором смысле и свободным, а не угнетенным религией и забитым дикарем. Это ощущение в значительной степени подтвердилось такими усердными исследователями прошлого, как г-н Торольд Роджерс{7}. Ныне нам известно, что ремесленник гильдии жил, трудясь и наслаждаясь своим трудом, и это запечатлелось на том, что он производил. Работал он не для прибыли своего хозяина, но для своего собственного пропитания, причем, повторяю, добывать последнее было нетрудно, так что у него бывало и много досуга. И так как он был хозяином своего времени, своих орудий и материала, ничто не заставляло его делать работу кое-как и он мог позволить себе позабавиться, придавая своим изделиям художественную отделку. И сколь же отлична она от той механической рыночной отделки, производить которую обучились, наверно, некоторые из нас, быть может, через крестные муки! Да, тогдашняя художественная отделка или орнамент не рассчитывались на продажу, отделка была подарком публике, которая, я склонен думать, платила за нее интересом к ней и пониманием самой работы, что, право же, было хорошей платой в те времена, когда человек мог обойтись без платы более явной и ощутимой. Ибо здесь я должен признаться, что «платой за оформление», как ее теперь называют, строители наших старинных зданий совершенно пренебрегали, а искусство, по справедливому замечанию Торольда Роджерса, было широко распространено, и мастерство было не исключением, а правилом. И, как правило, люди, которые были в состоянии заплатить за постройку дома, несомненно, сами были тогда способны составить план и проект, очевидно, потому, что встречали естественную, дружескую помощь и понимание среди строителей, которых они нанимали. Например, башню капеллы Мертон-колледжа{8} в Оксфорде создали обыкновенные каменщики под присмотром членов этого колледжа. Но, глядя, как при попустительстве нынешних братьев ужасно чинят принадлежащую им красивую пристройку — Зал св. Олбана, я теперь не решился бы доверить такую работу присмотру досточтимых братьев той же самой коллегии.
Итак, распространенное в искусстве того времени мастерство свидетельствует, что бедняги, которые обладали и вкусом и талантом, отсутствовавшими у их собратьев по ремеслу, и для которых работа поэтому была более приятна, должны были мириться с весьма умеренной дополнительной платой, а в некоторых случаях обходиться и без нее. По-видимому, они не могли обосновать претензию, ныне обоснованную, на то, будто у этой часто оскорбляемой и многогрешной компании гениев строение желудков и кожи иное, чем у других людей, и потому им необходимо больше есть и пить и иное платье, чем у их ближних. Говоря совершенно серьезно, когда мы слышим — и довольно часто — утверждение, будто для создания великих художественных произведений при любых обстоятельствах необходима дополнительная плата, будто бы люди особо одаренные не применят своих талантов, если не получат взятку в виде грубого материального вознаграждения, мы знаем, что отвечать. Мы можем обратиться к свидетельству дошедших до нас прекрасных произведений, подаренных миру их безвестными и безымянными творцами без всякой добавочной платы, кроме наслаждения своей работой и понимания ее полезности.
Таким образом, теперь я должен сказать, что так жившие и так трудившиеся ремесленники, работавшие простыми орудиями и инструментами, которыми они в совершенстве владели, располагали весьма значительными преимуществами для создания архитектурного искусства, употребляя это слово в его самом широком значении, и, рассуждая a priori, мы ждем от их работы сознательности и изобретательности, слияния независимости и дружного сотрудничества — и действительно все это находим в ней. И все же, несмотря на свободу художественной мысли средневекового труженика — или, скорее, благодаря ей, — он все еще был вынужден трудиться только так, как повелевала традиция. Если бы кому-либо в XIV веке пришло в голову построить на берегах Темзы новый Парфенон{9} или Эрехтейон{10}, то насколько, вы думаете, его собрат-строитель оказался бы способен выполнить эту нелепую затею?
Но оставим на некоторое время XIV век, возвратимся к нашему рассказу о судьбе труженика. Я говорил, что устав ремесленной гильдии был поначалу демократическим или братским, но это продолжалось недолго. По мере того как города росли и население в них увеличивалось за счет освобождаемых крепостных и других ресурсов, прежние ремесленники вместе с имевшими некоторые льготы подмастерьями начали составлять особую привилегированную прослойку. Наконец, появляются наемные работники. Спустя некоторое время они попытались образовать в недрах самой ремесленной организации свои гильдии, подобно тому как ремесленная организация некогда возникла в составе торговых гильдий. Но экономические условия того времени, которые все более возбуждали стремление к производству прибыли, им в этом препятствовали, и они потерпели поражение. Тем не менее условия труда заметно не изменились. Мастеров ограничивали выступавшие на стороне наемных работников законы, и на протяжении всего XV века оплата труда скорее росла, чем падала. А разделение труда появилось лишь значительно позже, так что ремесленник повсюду еще оставался художником.
Начало новых перемен пришло вместе с Тюдорами{11}в первой четверти XVI века, когда из земледельческой страны, добывавшей средства пропитания, Англия превратилась в землю животноводства, развивающегося ради прибыли. Интересующийся может прочитать повесть об этих переменах и бедствиях в сочинениях Мора и Латимера{12}. Мне остается только сказать, что эти перемены оказали самое прямое влияние на жизнь и методы труда ремесленников, ибо в ремесла теперь хлынули толпы безземельных, лишенных всего, кроме физической силы, с помощью которой они вынуждены были добывать себе пропитание. Изо дня в день они должны были продавать свою силу за какую-то плату тем, кто, наверно, не купил бы их труд в качестве товара, если бы сделка не обещала прибыли. Жестокие хищения, сопровождавшие в Англии религиозные реформы, своевольное разрушение наших общественных зданий, сопровождавшее ограбление общественных земель, несомненно сыграли свою роль в уничтожении искусства, которое все еще могло существовать при новых условиях труда.
Но сама Реформация была лишь одним из проявлений нового духа времени, порожденного великими экономическими переменами, гораздо более решительно повлиявшими на искусство, его творцов и их труд, чем любой иной ряд событий, как бы значительны они ни были. Перемены в условиях труда продолжали быстро нарастать, хотя все еще имело место так называемое домашнее производство. Работники в городах оказывались во все большей зависимости от своих нанимателей. Появлялось все больше и больше простых наемных работников, и серьезные перемены все больше затрагивали сам способ труда. Простое объединение рабочих в больших мастерских, во главе которых стал один мастер-хозяин, само по себе приносило экономию в расходах на помещение, освещение, отопление и прочее, равно как и сокращение ренты. Но это лишь прелюдия к еще более серьезным переменам. Возникло и быстро набирало темпы разделение труда. При старых средневековых условиях основной единицей труда был ремесленный мастер, который знал свое дело от начала до конца. Помогали ему простые подмастерья, которые, изучая свое ремесло, не были обречены прислуживать всю жизнь. Но при новой системе, включавшей в себя хозяина и работников, произошло также и такое изменение, при котором основной единицей труда стала группа, где каждый член зависел в своей работе от другого, а в одиночку работник оказывался беспомощным. При такой системе, именуемой системой разделения труда, человек может быть обречен и часто действительно обрекается всю свою жизнь производить пустяковую часть какого-либо пустякового рыночного товара. Я употребляю здесь настоящее время, потому что система разделения труда все еще развивается бок о бок с современным развитием производства, рассчитанного на получение прибыли, о чем я буду говорить подробнее в другом месте.
Вам следует понять, что появление и развитие системы разделения труда — не случайность, не проявление какой-то преходящей и необъяснимой моды, вызывавшей у людей желание работать именно таким способом. Это было вызвано экономическими переменами, которые вынуждали человека заниматься производством не ради своего пропитания, как в прошлом, а ради прибыли. Почти все изделия, кроме тех, что создавались совершенно домашним способом, должны были теперь проходить через рынок, прежде чем попасть в руки потребителя. Они производились теперь для продажи, а не главным образом для потребления, и когда я говорю «они», я имею в виду их совокупность. Художественная отделка, как и очевидная полезность вещи, стала теперь предметом рынка, и допускалась она скудно, в соответствии с интересами капиталиста, использующего труди машиноподобного рабочего и художника, окованных потребностями прибыли. Ибо, поймите, к этому времени разделение труда привело к тому, что, в отличие от прежнего времени, когда все рабочие были также и художниками, произошло деление на рабочих, которые не являются художниками, и на художников, не являющихся рабочими.
Эта перемена завершилась или почти завершилась к середине XVIII века, и мне не кажется необходимым прослеживать постепенный упадок искусств, начиная с XV века вплоть до этого времени. Достаточно сказать, что очевидный упадок искусств шел неуклонно. Лишь там, где люди остались вне могучего потока цивилизации, где жизнь сохраняла первозданность, а производство продолжало оставаться домашним, в произведениях искусства сохранялись еще кое-какие следы пережитого человеком наслаждения. Повсюду же безраздельно царило доктринерство. Лишь немногие из живописцев, которые обычно словно бы сквозь раскрытые ими окна показывали жизнь и подвиги святых и героев, даже более — самые небеса и град божий, пребывающий над любезным их сердцу земным градом, сумели не превратиться в претенциозных пачкунов, в светских льстецов высокородных некрасивых дам и глупых высокомерных аристократов. И чего же можно было ожидать для архитектурных искусств от какой-нибудь группы машиноподобных людей, которые, правда, объединялись, но лишь ради более быстрых темпов и точности процессов производства? Чего же можно было ожидать для декоративного искусства от его создателей, в лучшем случае педантов, презиравших человеческую жизнь, а в худшем — механически работающих поденщиков, не многим отличавшихся от несчастных тружеников? Вопреки всяким расчетам, в конце концов была создана всего лишь масса нелепых побрякушек, дорогостоящей роскоши и показной пышности, получивших с той поры в высшей степени заслуженное унизительное наименование «декора».
Завершается ли этим повесть об упадке искусств? Нет, предстоит еще и другой акт той же драмы, которому суждено стать либо хорошим, либо дурным в зависимости от того, готовы ли вы воспринять его как финал или же вам хочется возмутиться, то есть обрести надежду на что-нибудь лучшее. Я рассказывал о том, каким образом рабочий превратился в машину. Мне остается рассказать, как он был сброшен даже с этого шаткого возвышения, на котором он все же сохранял чувство собственного достоинства.
В конце XVIII века Англия была страной, занятой промышленным производством наравне с другими странами. Промышленность все еще занимала второстепенное место в сравнении с обыкновенной сельской жизнью и была неотделима от неё. В течение полувека всё это изменилось. Англия стала подлинно промышленной страной — мастерской мира, с гордостью называемой так ее патриотически настроенными сыновьями. Это удивительная и в высшей степени важная революция была порождена машинами{13}. Производство, обусловленное успехами и переменами в мире, о которых было бы слишком долго говорить, даже если б я ограничился сжатым рассказом, было навязано населению нашей страны. Вы вправе воспринять эту огромную машинную промышленность, с одной стороны просто как продукт полного развития производства ради прибыли, а не ради пропитания, что началось еще во времена Томаса Мора, а с другой стороны — просто как революционное последствие простого разделения труда. В ходе личных моих занятий я по необходимости достаточно углубился в изучение системы мастерских XVIII века, чтобы отчетливо увидеть, сколь серьезно отличается она от фабричной системы нашего времени, с которой, однако, обычно смешивают систему мастерских. Поэтому я с неприкрытым сочувствием вникал в объяснение смысла и тенденций этой перемены, содержащееся в произведениях великого человека{14}, которого, думается, я не должен называть в этом собрании, но который помог мне понять достаточно сложные проблемы (их тоже не следует здесь упоминать), касающиеся сущности труда и его продукции. Но одно по крайней мере я должен сказать. Если в условиях разделения труда XVIII века люди вынуждены были неизменно трудиться над какой-нибудь пустяковой деталью примитивным механическим способом, который они столь же примитивно понимали, то при фабричной системе и при почти автоматическом машинном оборудовании, характерных для нашей теперешней жизни, рабочий довольно часто может менять свою работу, может переводиться с одной машины на другую, едва ли даже зная, что он вообще производит. Другими словами, в условиях XVIII века рабочий был низведен до положения машины, при нынешней же системе он превратился в раба машины. Именно машина под страхом голодной смерти приказывает ему делать то или иное. Да, и это отнюдь не метафора: если машине угодно, если ей по нутру спешка, то она может заставить рабочего пройти тридцать миль в день вместо двадцати или же, если он откажется, послать его в работный дом.
Если вы спросите меня, что хуже, быть ли машиноподобным рабочим XVIII века или же рабом машины XIX, то я вынужден ответить, что второе хуже. Если бы я привел свои доводы, то немногие из вас согласились бы со мною, и я не уверен, что вы разрешили бы мне закончить мое рассуждение. Во всяком случае, эти доводы довольно сложны. Но на вопрос, у какой из этих двух групп рабочих продукция будет лучше, ответить не так уж сложно. Машиноподобный рабочий, даже выполняя свое примитивное задание, должен быть весьма искусен, — рабу же машины нужно лишь очень мало мастерства, практически его легко замещают женщины и дети, и если при такой работе требуется какая-нибудь квалификация, то лишь для надзора за трудом последних. Короче говоря, нынешняя система фабрик и властвующих машин обнаруживает тенденцию к уничтожению квалифицированного труда вообще.
В этом потрясающее различие между ремесленником средних веков и нынешним рабочим, и его-то я совершенно серьезно приглашаю вас обдумать. Средневековый ремесленник приступает к работе, когда находит нужным. Работает он у себя дома, возможно, он сам делает свои инструменты, орудия или простой механизм еще до того, как принимается за пряжу, ком глины и т. д. Он сам решает, какой орнамент подходит для законченной им работы. Своим умом, своей рукой он набрасывает эскиз и воплощает его в жизнь. Руководит и помогает ему традиция, иными словами — ум и мысли всех ремесленников предшествующих поколений, воплотившиеся в навыках и обычаях его ремесла. Мы не должны забывать также, что если ремесленник живет даже в городе, то дом его находится невдалеке от полей, от прекрасной природы. Время от времени он работает в поле. Не раз и не дважды в жизни приходится ему брать свой лук или снимать со стены свою потемневшую алебарду и на полях сражений лицом к лицу встречать неведомую судьбу, а еще чаще участвует он в ссорах, затеваемых другими, а иногда и сам затевает ссору, не всегда, впрочем, оканчивающуюся для него благополучно.
А что же труженик, пришедший ему на смену, — как он работает и как живет? Кое-что мы все знаем об этом. Он должен быть у фабричных ворот ко времени, когда прозвучит гудок. В противном случае его оштрафуют или отошлют вон, «на подножный корм». Мало того, не всегда будут открыты для него и фабричные ворота. Если только хозяин, подчиняющийся рынку (о котором сам он знает мало, а его рабочий вообще ничего не знает), не выделит ему места, где он мог бы трудиться, и станок, за которым он мог бы работать, то он должен вернуться на улицу и, подобно тысячам людей в нынешней Англии, слоняться без дела. Но представьте его, счастливо стоящего у машины, при которой он должен изо дня в день находиться неотлучно, — много ли мыслей может он посвящать чему-либо помимо работы? Мысли его не пойдут дальше того, чтобы узнать, что же, собственно, производит его машина (а вовсе не сам он). Какое ему дело до эскиза и орнамента? Он может обслуживать машину, выпускающую более или менее красивые предметы или же оказаться соучастником (весьма, впрочем, незаметным) выпуска кричащих изделий обмана и мошенничества. За то и другое он получит одинаковую плату, но ни то, ни другое ни в малейшей степени не подчиняется его контролю. Религия, мораль, филантропия и свобода XIX века, взятые вместе, неспособны избавить его от этого позора. Нужно ли говорить, где и в каких условиях он живет? Он помещается в собачьей конуре со спертым воздухом, отделенной такими же протянувшимися на целые мили конурами от прекрасных полей той страны, которую он точно в насмешку называет «своей». Иногда в праздники этот бедняк погружается в поезд, чтобы взглянуть на эти поля и вечером снова вернуться в тот же мрачный ад. Бедняга!
Скажите, можно ли вырвать такого человека из привычной для него жизни и предложить ему подражать работе свободных цеховых ремесленников XIV века? Можно ли надеяться, что его работа окажется близкой по качеству к той работе?
Чтобы не ослаблять своих доводов преувеличения, я допущу, что хотя громадное количество так называемых художественных изделий выпускается рабом машины под давлением того или иного безрассудного рынка, — ремесла, связанные со строительством, не претерпели в промышленной революции столь значительных изменений. Это ремёсла как бы иллюстрируют моё утверждение, что характерная для XVIII века система разделения труда еще существует и действует бок о бок с фабричной системой и машинным производством. Все же и в этих ремеслах упадок теперь очевиден, тогда как в XVIII веке среди строителей удерживались остатки традиций, унаследованных от времен ныне утраченного мастерства. Теперь в строительстве, начиная от архитектора до подносчика, глубоко укоренилось разделение труда, и качество мастерства, такое, далекое от обычного для цехового рабочего стандарта, в наше время упало значительно ниже того, который требовался от угнетенного разделением труда рабочего XVIII века, и нисколько не выше того, которого можно ждать от неквалифицированного рабочего крупной индустрии. Короче говоря, этот рабочий крупной машинной промышленности — типичный представитель труда наших дней.
Готовые смеяться над странной мыслью, что строитель греческих зданий мог бы возвести здание готическое или же строитель готических сооружений — здание греческого стиля, мы не видим ничего несообразного в том, что строитель викторианской эпохи{15} сооружает готическое здание.
У нас есть немало образцов архитектуры эпохи Возрождения, когда существовала теория, что рабочие, послушные педантичным и ретроспективным устремлениям времени, способны подражать классическим античным сооружениям. В действительности же, подражая, они упрямо воспроизводили характерные черты собственной эпохи и усваивали все их достоинства и, возможно (что любопытно отметить), тогда же в их сооружениях запечатлелся и один из самых печальных признаков слабости современного искусства. Достичь воскрешения мертвых столетий нам помогло то самое знание истории, о котором я говорил и которого недоставало ученым педантам Ренессанса и XVIII столетия. Но, с моей точки зрения, весьма странно использовать знание истории и возможность проникнуть в ее глубины для рискованных путешествий в прошлое с целью вернуться к нему, вместо того чтобы воспринимать это знание как слабый свет, помогающий прозреть будущее. Да, поистине странен такой взгляд на непрерывность исторического развития, который игнорирует перемены, составляющие самую сущность этого развития. И действительно, искусство прошлого, искусство Ренессанса, которое едва мерцало среди тусклой пачкотни дилетантизма времен последних Георгов{16}, в своей высокомерной самоуверенности, о которой я упоминал раньше, абсолютно запрещало подражание какому-либо стилю, кроме одного, а этот один оно считало своей принадлежностью. Но оно могло избирать не больше, чем греческое или готическое искусство. Оно полностью, хотя и молчаливо, приняло перемены, которые нес с собой исторический процесс, признало рожденного разделением труда рабочего и таким образом постаралось создать и создало жизнь очень серую, но в какой-то мере отражающую хоть и неразумное, но бесстрашное возвышение среднего класса, которое составляло самую сущность того времени.
А мы, говорю я, мы отказываемся признавать движение истории! Мы приставляем нашего раба к машине, чтобы он без всякой охоты выполнял труд то ли средневекового ремесленника, то ли рабочего переходного периода. Лучше, чем в какое-либо другое время, мы выучились наряжаться в одежды, сброшенные другими, и продолжаем участвовать в странном и лицемерном театральном представлении скорее с какой-то вялой застенчивостью, чем с высокомерной самоуверенностью, решившись закрывать глаза на все особенно неприятное и не обращать внимания на безмолвное движение подлинной истории, происходящее за кулисами нашего театра марионеток.
Несомненно, такое положение — показатель перемены, по-видимому, быстрой и безусловно завершающей один цикл и начинающей другой. Ибо, как ни странно, перед нами общество, культурный слой которого лишен четких собственных черт. Оно дрейфует то туда, то сюда: часть его умов к красоте прошлого, часть — к логичности будущего. И каждая сторона по крайней мере молчаливо верит, что нужно всего лишь пересчитать по головам число своих сторонников и создать союз, который будет править миром наперекор истории и логике, пренебрегая необходимостью, приведшей их к теперешнему состоянию слабости и слепоты. И в то же время под поверхностью этого культурного слоя действует громадная коммерческая система, на которую образованные люди смотрят как на свою служанку и связующую силу общества хотя на самом деле она — их повелительница и разрушительница общества. Потому что по самой своей сущности эта система сулит войны и способна изменить свою природу лишь путем собственной гибели. Человек против человека, класс — против класса, и их девиз: «Я получил — ты потерял». Эта война должна длиться до тех пор, пока не наступит великое преобразование, цель которого — мир, а не война.
А кто же мы, собравшиеся здесь после семи лет достаточно смиренного стремления существовать и хоть что-то делать? Просто ли мы соломинки в океане полусознательного лицемерия, которое зовется цивилизованным обществом? — Нет, надеюсь, не так. Во всяком случае, мы не отрекаемся от уроков истории и не говорим, что вот это плохо, а то хорошо, это нам нравится, а то — нет. Мы говорим — да, то была жизнь, и материальное свидетельство ее — творения наших отцов. Эта жизнь продолжается в вас, хотя вы о ней забыли. На материальные свидетельства о ней теперь мы не обращаем внимания, в будущем же будем разыскивать их. И та необходимость, которая даже сейчас формирует общество будущего и в один прекрасный день провозгласит его, заставляет нас, кроме всего прочего, приложить все усилия, чтобы сберечь их — эти свидетельства жизни прошлого и настоящего. Общество наших дней при всей его анархичности рождает новый социальный строй, частью которого мы должны быть и будем — вместе со всеми теми, у кого хватит мужества принять подлинное и отвергнуть поддельное. И в конце концов наш труд, каким бы безнадежным он иногда нам ни казался, не будет совершенно напрасен. Ибо на что направлены все наши усилия? — На утверждение подлинности искусства, иными словами, на утверждение человеческого счастья. Тенденция коммерческого или конкурентного общества, развивающегося на протяжении более трех столетий, направлена на уничтожение радостей жизни. Но это конкурентное общество развилось наконец так, что все больше и больше приближаются и его изменение и смерть, и предвестием этого можно считать то, что уничтожение радостей жизни начинает представляться многим из нас уже не необходимостью, а явлением, против которого следует бороться. От искренности и неподдельности этой надежды зависит существование нашего Общества. Поверьте, небольшая кучка образованных людей не сможет в нынешних условиях, когда многие ведут жалкую и безотрадную борьбу за существование, а немногие вяло прогуливаются по жизни, поддерживать интерес к искусству и памятникам прошлого. Но когда вся жизнь будет перестроена так, что все люди обретут возможность жить, разумно работая и достаточно отдыхая, тогда все, а не только наше Общество, решатся защищать древние здания от всякого — намеренного или случайного — разрушения, ибо тогда наконец все начнут понимать, что эти старинные здания — неотъемлемая часть их жизни и часть их самих. Это произойдет тогда, когда время созреет, теперь же, даже если б люди осознали свои потери, они не могли бы их предотвратить, ибо живут они в состоянии войны, иначе говоря, бессмысленного расточительства.
Несомненно, до сознания членов этого Общества довольно часто доходило, что все сказанное — правда. Мы часто должны были признавать, что если разрушение или грубое обращение с древними памятниками искусства и истории касалось «вопроса денег», то было бесполезно бороться с этими явлениями. Не будем же столь слабы и малодушны, чтобы уклоняться от встречи с действительностью, ибо, хотя наша роль в деле создания будущего общества и скромна, мы не можем пойти ни на какие уступки. Признаем же, что мы живем в эпоху варварства между двумя периодами социального устройства — обществом прошлого и обществом будущего. Некоторые думают (как и я), что конец варварства близится, другие считают, что до конца еще весьма далеко, и все же мы все, и оптимисты и пессимисты, можем трудиться совместно, чтобы во имя просвещения, радости и надежды общества будущего сберечь старинные реликвии, которые еще сохранились от прежних времен. И пусть время нынешнего раздора будет менее разрушительным, а эпоха грядущего мира более плодотворной!
Речь на собрании Общества борьбы за красоту в Кенсингтоне
Полагаю, есть известная трудность в том, чтобы отстаивать требования Общества борьбы за красоту, ищущего общественной поддержки. Его дело исключительно благородно, и это, собственно, не нужно доказывать. Только так, по-моему, и следует оценить его, и эту оценку невозможно оспаривать. У общества, ставящего такие цели, нет врагов. У него их нет, и я бы сказал, и не может быть, а потому нет и надобности обращаться к самому эффективному способу привлечения общественного внимания, а именно к хорошей потасовке с собственными собратьями, со своими же соотечественниками. И если вообще нелегко говорить пространно на эту мирную тему, то это особенно трудно для меня, так как я принадлежу и к другим Обществам, которые считаются особенно агрессивными — враги их насчитываются тысячами, а друзей у них единицы. Поэтому теперь, когда приходится выступать в вашем в высшей степени миролюбивом и в высшей степени полезном Обществе, я чувствую себя словно рыба, вынутая из воды, и могу сказать только одно — это Общество полезно. Но все же вы должны понять, что слово «враги» я употребляю здесь в весьма узком смысле, имея в виду просто раздраженных людей. Но наше Общество встречает врагов и в ином смысле этого слова. Они — действительно враги всего рода человеческого, а в наше время и, возможно, в нашей собственной стране имена им — неряшливость, убожество и безобразие.
Общество борьбы за красоту было основано, чтобы бороться с этими врагами, и оно боролось против них робко и терпеливо, а теперь оно пытается и вас поднять на борьбу против этих врагов и призывает вас оказать посильную помощь в его своеобразной борьбе против этих удручающих пороков, пороков, которые современная цивилизация изменила по форме, но не по существу, — пороков, которые порождены системой огромных городов, и прежде всего этим громадным городом, или, вернее сказать, целым миром кирпича и строительного раствора, называемым Лондоном. Каким омерзительным местом казался мне этот город, когда еще мальчиком я иногда приезжал сюда! Мы уже привыкли к нему и не можем видеть его таким, каков он есть, но если бы мы могли хоть несколько часов воспринимать его в истинном свете, каким кошмаром предстал бы он перед нами! Поневоле думаешь, что следовало бы махнуть рукой на многое представляющееся нам теперь важным, и приложить все усилия к тому, чтобы уничтожить это зло.
Ведь у нас имеется множество различных способов исправить эти пороки и избавиться от убожества и уродства, которые явились как следствие беспечности или чувства безнадежности. Наиболее простой путь — закрыть на все глаза и сказать, а то и подумать, будто эти пороки вообще не существуют. И людей, избирающих этот путь, я называю счастливыми, даже слишком счастливыми, чтобы оказаться многочисленными. Правда, сам я лично не знаком ни с одним из таких счастливцев.
Кроме этих людей есть и другие — те, которые наперед допускают существование зла. Они говорят: было бы хорошо избавиться от этих пороков, но коль скоро они — неотъемлемая характеристика жизни XIX века и всех грядущих столетий и мы не можем от них избавиться, нам остается лишь через силу терпеть зло или же по возможности про него забыть. И на самом деле множество таких беззаботных людей ухитряются довольно-таки легко относиться к неприятностям, постигающим их соседей. Видимо, про них тоже можно сказать, что они счастливцы. И все же разве не странно положение, когда никто не дает себе труда подумать, что и пороки — тоже нечто живое, что, как все живое, они подчиняются законам жизни и тоже растут? А эти люди ни разу не подумали, во что в конце концов могут вырасти эти пороки и с какими рожденными от них ужасными чудовищами может столкнуться в один прекрасный день общество, стряхнувшее с себя наконец апатию.
Есть еще один путь избавиться от этих пороков, и он мне более понятен, чем всякий иной. Некоторые из нас знают, как эти пороки реальны и тягостны, как они угнетают нас, какие огорчения причиняют, даже когда мы счастливы, а наша жизнь обеспечена. И вместе с тем ни на миг невозможно себе представить, что они непременная часть вечного порядка вещей, что они неотделимы от поступательного движения человечества на его пути от варварства к цивилизации. Легче подумать, что они возникли из-за слепоты и суетливости недальновидных людей, которые, настраиваясь искать что-либо одно, волей-неволей забывают о другом. Все это мы знаем, чувствуем, а потому и жаждем перемены к лучшему, надеемся на нее, вспоминая движение истории.
И все же сама острота, с которой мы переживаем преступления цивилизации и убожество, которым она окружает жизнь большинства людей, способна обречь нас на бездействие. Различие между тем, что необходимо сделать и что возможно сделать сейчас же, настолько громадно, что нас покидает решимость.
Ибо вообразите себе только возвышенный идеал общества, изменившегося к лучшему. Вспомните, как надеемся мы на будущее, когда нищета станет просто названием ужасного призрака прошлого, когда грубость бедняков и высокомерие богачей уступят место надежде и доступной всем радости, когда представители самых утонченных профессий — ученый, художник, врач — будут разговаривать на общепонятном языке с человеком, выполняющим самую тяжелую работу, и при этом они смогут объяснить ему самую запутанную проблему. Подумайте о времени, когда сам Лондон, давно уже с отвращением названный Коббеттом{1} сущим жировиком, станет символом и итогом всех этих перемен, превратится в восхитительную обитель, исполненную красоты и чуждую убожества.
Обо всем этом мы могли бы думать как о вполне возможном, если бы широкие круги людей раз навсегда настроились на стремление к этой цели, считая ее достижимой, независимо от того, какая пропасть лежит между нами и этим будущим. Но неизвестно, с чего начать работу, чтобы перебросить мост через эту бездну возможных насилий, мятежей и горьких разочарований. Да, нам предстоит громадная работа, но мы даже не знаем, что для начала бросить туда, чтобы заложить основание для моста, который когда-нибудь будет построен. И мы, может быть, более других жаждущие наступления времени, когда осуществится наш идеал, не знаем, даже отвлекаясь от обычных наших повседневных забот, в какую сторону направить свои усилия, чтобы хоть на один шаг приблизить то желанное время.
Итак, как бы ни были счастливы неспособные видеть и беспечные, мы-то не можем быть счастливы. Я бы сказал, что мы по крайней мере обладаем счастьем быть недовольными. И если только нам суждено жить и умереть в этом состоянии недовольства, нам не остается ничего другого, как делать все, что у нас под рукой, предпринимать любые возможные шаги, отдавая этому все наши силы, не боясь, что идеал ускользнет из поля нашего видения, и не удручаясь, что доступные нам дела незначительны по сравнению с глыбой, которую нужно сдвинуть. Ибо нас укрепит вера, что, когда мы выполним свою долю работы, другие подхватят и продолжат то, что сделано нами: дело нуждается в нас, оно питается нашими силами, и не застынет на одном месте после нашей смерти, и, начатое нами, будет завершено другими.
Мне кажется, что именно этим путем желает идти Общество борьбы за красоту. Именно в таком духе оно ведет свою работу, о подробностях которой другие смогут рассказать лучше меня. Но я призываю и вас думать об этой работе и, чтобы вдохновить осужденных на пожизненную каторгу среди убогих улиц Лондона, попробовать сделать все, что только возможно, и постараться разбудить дремлющую в душах большинства людей жажду красоты. Нашему Обществу уже удалось кое-что сделать в этом направлении, и это явствует и из постоянной потребности в его услугах и из того, что оно уже привлекло к себе внимание широкой публики.
И я должен, с вашего позволения, сказать, что если кто-нибудь думает, будто это очень незначительный вклад в дело усовершенствования нашей цивилизации, то такой человек не имеет понятия, откуда берет начало искусство и какова его цель. Цель искусства — сделать жизнь достойной и счастливой для всех. А чтобы искусство достигло этой цели, разве не требуется, чтобы оно рождалось и свободно развивалось в среде народа? Поверьте, если сейчас с этим обстоит иначе, если искусство находит себе убежище только среди людей высокого интеллекта и большой культуры, то это потому, что оно стало консервативным и покоится лишь на воспоминаниях о былой творческой энергии народа. И если положение не изменится, если народ не будет настаивать на своем праве способствовать его развитию, то, без сомнения, искусство в мире цивилизации погибнет. И хотелось бы только знать, сможет ли цивилизация продолжать свое существование, когда искусство умрет.
Хотя поддерживаемая мною резолюция ничего не говорит об одной большой инициативе, с которой выступает Общество, я отнюдь не уклоняюсь от ее обсуждения. Речь идет о смелой попытке спасти лоно природы от кирпича и извести, сделать его неприкосновенным для всякой грязи и свалок, ибо мне представляется очевидным — как, надеюсь, и вам, коль скоро вы задумаетесь над этим, — что бессмысленно говорить о популяризации искусства, пока нет готовности популяризовать как в среде богатых, так и бедняков и уважение к природе. Можете ли вы ждать, что люди серьезно воспримут ваши призывы любить искусство и развивать его, если они видят вашу алчность, видят, как вы дрожите за свои торговые интересы и ни малейшего внимания не уделяете величайшему из всех благ мира, самому источнику красоты, естественной красоте земли? Что касается меня — и, уверен, вы разделите мои чувства, — мне не хватило бы слов, чтобы выразить свою благодарность каждому, кто спас для нас в Лондоне хотя бы одно дерево, хоть одну зеленую лужайку.
Я убежден, что деятельность Общества борьбы за красоту во многих отношениях заслуживает признания, но если какой-нибудь слишком оптимистически настроенный или нетерпеливый человек посчитает его достижения незначительными, то я бы просил подумать о том, как важна деятельность Общества по привлечению внимания широкой публики к этим вопросам: зло, о котором я говорил, рождено не дурным умыслом и не недоброй волей, а всего лишь беспечностью. Нужно помнить, что люди совершали удивительные дела, когда у них было к тому желание. Какую почти невероятную энергию и изобретательность проявили наши соотечественники, осуществляя некоторые начинания, на которые они твердо решились, — хотя иногда, к сожалению, с небольшой пользой для себя и мира! Подумайте обо всем этом и скажите, прав ли я, когда утверждаю, что, если уж невозможно превратить нынешний Лондон, этот позор цивилизации, в живописную обитель для людей, если невозможно превратить его в «прекрасный Лондон», о котором поется в старинной балладе, то лишь потому, что нельзя убедить наших соотечественников в благотворности и долгожданности этих перемен.
Я знаю, сколь нелегок, сколь тяжек труд уничтожения наших врагов — Неряшливости, Убожества и Уродства. Но именно потому, что я далек от мысли считать это невозможным, что я никогда не соглашусь поддаться голосу отчаяния и верю в реальность благого будущего, я выступаю здесь перед вами и от всего сердца призываю утвердить эту резолюцию.
Выступление в ноттингемском Обществе борьбы за красоту
Будучи жителем Лондона, я не без робости выступаю перед гражданами древнего и знаменитого города с темой, которая, говоря по правде, в самом Лондоне не очень-то уместна. Но ведь промышленные города, подобные вашему, имеют большие преимущества в сравнении с разбухшим миром кирпича и извести, который называется Лондоном. Я не буду говорить о своей сокровенной надежде на то, чтобы Лондон встревожил такие города своим примером, но в чем я на самом деле хотел бы убедиться, так это в том, что они сами побудят Лондон к определенным действиям, ибо, какие бы иные обоснованные или необоснованные интересы мы ни питали к этим городам, в одном отношении они для нас, несомненно, интересны — в них люди заняты конкретным делом.
Мы, лондонцы, находимся в невыгодных условиях сравнительно с жителями этих городов, ибо они в основном занимаются каким-либо производством, создавая осязаемые изделия, или товары, как мы их выразительно называем. Лондон — биржа, а Ноттингем и подобные ему города — мастерские, и я, по своим занятиям сам труженик мастерской, не могу не питать гораздо большего интереса к мастерским, нежели к бирже. Во всяком случае, я искренне надеюсь, что мастерские Англии помогут людям биржи жить несколько более достойно, чем то было характерно для них последнее время, и даже настойчиво, по-дружески принудят их к этому.
Я уже говорил в других случаях и не упускаю возможности повторить вновь, что безотносительно к надеждам на будущее, которые есть у нас, художников, судьба искусства определяется людьми, непосредственно занятыми производством изделий. Нам не помогут люди несчастные, живущие серой жизнью, привыкшие воспринимать свое окружение как должное и видящие в искусстве своего рода каприз цивилизации, мистическое порождение болезненных умов. Похвала этих людей, как и осуждение, ничего для нас не значат. Кажется, даже заработанные ими деньги непременно должны превратиться в прелые листья или черные камешки, как нечестно добытое золото в волшебных сказках. Искусство — самая высшая реальность, выражение самых глубинных слоев бытия — может рассчитывать на содействие лишь тех людей, чья повседневная жизнь соприкасается с миром реальностей, людей, достоинство и благосостояние, даже ежедневное пропитание которых зависят от того, насколько проницательно они вглядываются в сущность вещей. Ведь именно практический ум этих людей дает нам право говорить, разглядывая создания человеческих рук, что вот это смастерили отлично, неподдельно, а вот то сработано плохо, претенциозно.
Именно к этим людям, я уверен, должно обратиться за поддержкой нынешнее искусство. Люди эти различны: среди них есть и обладающие высшими как интеллектуальными, так и практическими способностями. Но, надеюсь, я никого из присутствующих не обижу, если напомню о громадной массе работающих руками людей, превращенных из-за этого в то, что ныне зовется рабочим классом, — людей, на которых опираются все, кто что-либо делает. И наш призыв в конечном счете должен быть обращен к этим людям, идет ли речь об искусстве или о других проблемах. Если они будут лишены благ искусства, то и мы, образованные и богатые, также будем их лишены. Если они лишены искусства, если наша социальная система не позволяет им овладеть искусством, — не сомневайтесь, недалек день, когда образованная часть нашего общества также откажется от искусства, станет совершенно слепа к нему.
Я не верю, что такая беда возможна, ибо, надеюсь, представители всех классов объединят усилия, дабы ее предотвратить. Однако если они не сделают этого, то подобный конец не только возможен, но и неминуем. И разве не достойна нас цель — содействовать сплочению всех мыслящих людей во имя сопротивления этому возврату варварства — и даже хуже, возврату к упадку, лишенному и тех надежд, которыми жили люди в варварские времена? Именно такова действительная цель Общества по благоустройству городов, и оно начинает свою деятельность с намерения показать рабочему классу, что искусство реально, что рабочий класс должен направить свою добрую волю, равно как и добрую волю более обеспеченных людей, на развитие искусства, дабы осуществилось стремление человечества идти по пути прогресса и совершенства.
Некоторые могут подумать, что это лишь громкие слова, прикрывающие ничтожные дела, малые начинания. С этим мы должны согласиться, но хорошо известно, что и великие дела вырастают из крохотных ростков, если только последние рождены самой природой и посажены в землю так, как требует природа.
И хотя это Общество не просто преследует цель развития художеств и его деятельность не сводится просто к развитию искусства, тем не менее, на мой взгляд, все художники сочтут необходимым высказать ему благодарность за правильную инициативу. Все мы слышали споры по поводу того, возможно ли искусство ради искусства, должно ли искусство быть самоцелью или же должно стремиться к какой-нибудь определенной цели. Эти споры, должен сказать, совершенно бесплодны, они не более чем результат смешения понятий. Не подлежит сомнению, что подлинный художник делает свое дело из любви к нему, но, когда он доведет его до конца — и художник это знает, — оно станет благословением для людей.
Если бы я был Робинзоном Крузо и у меня достало бы решимости и терпения изготовить те красивые горшки, о которых все мы читаем с таким удовольствием, то, несомненно, я бы нарисовал или вырезал что-либо на их поверхности. И я не был бы настоящим моряком, если бы не изобразил там своего попугая, свою собаку и кошку или какое-то подобие знакомой мне рощи. И все-таки временами я тяжко вздыхал бы, вспоминая, что рядом нет никого, кто мог бы разделить со мною радость и хотя бы частично мою гордость за проворство моих рук. Временами я мечтал бы о том, что в один прекрасный день увидят творение моих рук в Англии и, подталкивая друг друга локтем, скажут: «Посмотри-ка, что этот горемыка один смастерил на своем необитаемом острове! Вот как нужно рисовать кошку на сырой глине!»
Любое художественное произведение хорошо само по себе, даже если его никто не видит, но если кто-нибудь видит его, оно воздействует на жизнь и умы людей, приводя их к чему-то такому, о чем едва ли мог догадаться сам творец этого произведения. Нет на свете такого рынка, где можно было бы купить себялюбивое искусство — такого вообще не существует. Вы можете приукрасить произведение, принуждая других приобрести его, — тем хуже и для вас и для тех, кто будет вами обманут, ибо природа отомстит и за обман и за насилие, но не называйте искусство вором и тираном, потому что те, кто называет его так, — сами воры и тираны. Тут просто путаница понятий.
Все настоящие художники — благодетели человечества, ибо они множат богатство мира. Тот хорошо служит искусству и миру, кто ясно видит, что к искусству, если оно здоровое, должны приобщиться все, кто непосредственно и своевременно, наперекор всем обескураживающим преградам, приступает к делу, чтобы, насколько это возможно и насколько не противоречит природе, равномерно распределить это благо. Именно так поступили основатели Общества, действуя без нажима, ненавязчиво, но все же, полагаю, отнюдь не безуспешно — если учесть громадные трудности, стоящие на его пути с самого начала, даже когда люди поистине не теряют надежды.
Я уже сказал, что искусство должно привлечь на свою сторону добрую волю трудящихся, чтобы иметь основание надеяться на будущее. Именно это — главная цель Общества. Но я утверждаю, что достичь ее нелегко. Разве трудно представить, как бы вы сами относились к искусству, если бы вам довелось родиться в среде обездоленных? Возможно, вы сначала просто не понимали бы, что означает это слово. Но если бы вы представляли себе, что оно значит, то в вашей груди должно было бы биться поистине мужественное сердце, если бы, живя в лондонских трущобах, вы могли хоть немного надеяться, что приобщитесь к искусству. Да что там, хоть это и ужасно говорить, хоть мои слова и могут быть восприняты как страшная угроза прочности общества, — но наиболее вероятно, что врожденное чувство красоты, которое вы в себе обнаружите, вызовет в вас лишь ненависть и вражду к искусству. И если бы только врожденная доброта не превозмогла эту ненависть, последняя породила бы в вас безмолвную (вероятно, безмолвную) злобу против малоизвестного и недоступного для вас блага. Боюсь, что у многих, пожалуй, даже у большинства, этим бы и ограничилось отношение к искусству, если бы никто не попытался помочь нам выбраться из страшных пут убожества. Когда я, сидя у себя дома, работаю или же отдыхаю в условиях комфорта, которым, вероятно, одарила меня сущая случайность, с улицы часто доносятся грубые и пьяные голоса, сквернословием и неприятными песнями портящие прекрасное весеннее воскресенье, и из глубины моей души поднимается озлобление, которое могло бы разразиться яростью, если бы мне не приходило в голову, что эти люди — мои собратья, что они не хуже меня, но просто им меньше повезло, чем мне. И тогда я удивляюсь странному стечению обстоятельств, позволившему мне оказаться в атмосфере изысканности, которую я вовсе не сам создал, но в которой рожден. Именно этому, повторяю, я удивляюсь, но не картинам дикости, которые самым ужасным образом бесчестят наши улицы, не тому, что ломают деревья, вырывают с корнем цветы, оставляют на деревьях зарубки, — не тем заурядным фактам нашей жизни, которые стали бы очень редки, если бы мы постарались вникнуть в причины, их вызывающие. На все это время от времени отваживаются люди, которые лишены настоящих развлечений, но неизменно сохраняют склонность к взрывам буйства.
И в эти минуты стыда, когда меня терзает собственная совесть, призывая к ответственности за все это, я чувствую особую благодарность к тем пионерам надежды, которые показали нам, что положение можно исправить, к тем людям, которые, глубоко переживая эту постыдную сторону нашей цивилизации, менее других подавлены страхом. Доверившись внутреннему стремлению к добру, которое обильно проявляется жителями наших больших городов, несмотря на все окружающее их убожество, эти люди решились сделать то, что многим представляется совершенно несущественным, а им самим — и вовсе недостаточным. Я не сомневаюсь, что их социальный идеал гуманен, в высшей степени гуманен, но я не думаю, что они рассматривают свою практическую деятельность как способ лишь временно улучшить теперешнее положение, которое они совсем не считают неизбежным и длительным. Да и во времена уныния, когда надежда на коренные перемены была для них более далекой, они могли сказать: «Мы сделали счастливыми хоть несколько людей нашей страны, а это, во всяком случае, кое-что значит». Это было не более чем утешение в обстановке всеобщего бессилия. На что они действительно рассчитывали — так это на то, что каждый, кого они сумели просветить, кому открыли существование искусства, кого убедили в возможности даже для бедных людей получать от него радость, каждый, кому они помогли с большим наслаждением взирать иногда на траву, листья и цветы, должен стать своего рода миссионером красоты. Ибо их доверие основывалось на той любви к красоте, которая не просто спутник высокой образованности, но врождена каждому являющемуся в мир человеку, и чувство это становится бесплодным только тогда, когда его насильственно душат. И я вовсе не считаю, что эта вера обманет их. Те, кому они помогли, не останутся в благодарном бездействии, они захотят подбодрить своих соседей и скажут: «Посмотрите-ка на эту и вот эту красоту. И это может быть нашим, если мы дадим себе труд выйти из дому и позаботиться о собственных интересах».
Но если эти люди достигли подобного успеха, то, думаю, только благодаря мудрости и благоразумию, проявленным в этом трудном и деликатном предприятии: ибо волей-неволей это Общество вступило на рискованный путь дарителей и филантропов. Я сказал,что этот путь опасен, ибо дарение — тоже искусство, и при нарушении его правил дар приносит вред и тому, кто дает, и тому, кто принимает, — нередко оказываясь поводом для их ссоры. Беспечность, корыстолюбие, жажда покровительства — вот ловушки, которые здесь подстерегают, но, мне кажется, наше Общество сумело их благополучно избежать, и доказательство этому — подлинная открытость сердца, с которой его дары были приняты: в выигрыше оказались обе стороны.
Может быть, члены этого Общества позволят мне высказать одно предостерегающее замечание дарителям: «Если вы даете другому что-то, что для вас самих не имеет цены, то это едва ли можно считать подарком». Это всем очень хорошо известно. Но все же так приятно бывает что-то создать и преподнести как подарок, это такое большое удовольствие, что иногда восхищение собственной работой становится слишком велико и ослепляет. Короче говоря, нам следует очень опасаться, чтобы декоративные изделия, создаваемые нашими руками, не приближались к уровню ходких товаров, нам следует стараться, насколько возможно, чтобы они были подальше от рыночного уровня. Мы не должны думать, будто изделия наших рук достаточно хороши для широкого круга людей только потому, что они, неискушенные в искусстве, принимают то, что им предлагается. Поистине только подлинное искусство приносит благо всем.
Но значительная часть осуществляемой Обществом деятельности такова, что почти каждый сочтет ее полезной, хотя, насколько она полезна здесь, в Ноттингеме, я не могу сказать — здесь я почти чужеземец. Я имею в виду усилия Общества, направленные на то, чтобы дать больше света и воздуха нашим большим городам, и особенно нашему любимому, но столь повинному в дурных деяниях Лондону. Отрадно видеть, что в целом общественное мнение по этому вопросу заодно с нами. Можно утверждать, что широкие круги населения твердо решились освободиться от копоти и создать множество открытых озелененных мест, — во всяком случае, если этого можно добиться без особых забот и без больших затрат. Но я не представляю себе, как это может быть сделано без того и другого, и потому я против создания Обществом подкомитета, цель которого — решить вопрос, каким образом можно провести в жизнь невозможное. И все же я признаю, что сделан значительный шаг вперед, если люди вообще начали задумываться и стали в той или иной мере стыдиться копоти и убожества наших больших городов. Было время, когда мы даже гордились этим. Будем же надеяться, что следующий шаг в не очень отдаленном будущем приведет большое число людей к готовности принести значительные жертвы в смысле затрат времени и денег для достижения благоустроенной жизни. А еще следующий шаг, и, вероятно, очень еще от нас не близкий, приведет к тому, что только незначительное меньшинство откажется принести эти жертвы — такое незначительное меньшинство, что народ попросит своих представителей установить законы, предоставляющие этому меньшинству право пользоваться подобным преимуществом и находить для себя слуг, которые бы заботились о его существовании, лишь при условии не причинять при этом вред ни единому человеку.
Что же, я знаю, нам придется пройти долгий путь, прежде чем подойти к этому, но к тому времени, когда такие законы будут провозглашены, во всяком случае, лишь очень немногие обнаружат склонность нарушать эти законы. Задолго до этого любой капиталист будет так же стыдиться коптить трубами своей фабрики небо, как теперь он стыдился бы грабить на большой дороге. Железнодорожные компании будут не больше стремиться проводить дороги через места, где люди отдыхают, чем теперь через Букингемский дворец{1}. На площадях сады будут цвести без всяких оград, и никто не будет их портить, — мало того, даже в самых бедных кварталах будут разбиты большие или маленькие сады, общественные или частные, но доступные всем. Ни один землевладелец не станет ругать гуляющих по его парку или полям, лишь бы они не топтали посевы и не вредили его стаду. Никому в голову не придет ходить там, где можно нанести какой-либо ущерб. Строитель не срубит ни единого деревца, пока он не истощит своей изобретательности, стараясь при проектировании дома избежать порубки деревьев.
Я уверен, что такой день наступит, как я уверен, впрочем, и в том, что не увижу его собственными глазами. К тому времени деятельность нашего Общества будет исчерпана, хотя и не будет забыта. Но забудут его или нет, по-моему, не очень-то важно, ибо как бы ни обстояло дело с памятью о нем, его дела, во всяком случае, будут жить, и они останутся бесплодными для нас, ныне живущих, когда надежды этого Общества все еще настолько далеки от осуществления, что некоторым покажется глупостью вообще питать их. Дела его не бесплодны не только для общего блага, но также и для нас самих, хотя мы способны внести лишь небольшой вклад в их осуществление. Это верно, что зло, которого мы не видим, нас не печалит, но зато как горестно то зло, которое мы видим собственными глазами и с которым боимся сразиться! Мы не можем выбросить из головы мысль о нем, и даже нашу повседневную речь оно просто превращает в брань. Но стоит нам только приступить к работе, и все меняется: раздражительность и недовольство уступают место бодрости, решимости бороться, убеждать — и не без успеха — своих противников. Скука уступает место почти подлинному наслаждению, слепота заменяется проницательностью, и, по мере того как день за днем зло уменьшается, нам удается что-то разглядеть сквозь его некогда черную и непроницаемую пелену. И тогда перед нашим взором начинает заниматься прекрасная заря надежды, в которой продолжает жить и приносить плоды все, что в наших делах исполнено истины и силы.
Письма
КОРМЕЛУ ПРАЙСУ{1}
Авранш, Нормандия
10 августа 1855
Я еще не совсем про тебя забыл, хотя и не писал очень давно. Я в сильном смущении, — пишу тебе это письмо и не знаю, о чем и писать. Полагаю, тебя вряд ли удовлетворят простые названия мест, где мы побывали, но едва ли я смогу что-нибудь добавить к ним. Почему ты не приехал, Кром? О, мы видели славу церквей! Мы только что повидали самую знаменитую из них. Вчера мы расстались с Монт Сен-Мишель, а теперь находимся здесь (это очень живописное место) до вечера субботы или до утра воскресенья, когда мы тронемся снова на Гранвиль и сядем на пароход, идущий на Джерси и Саутгемптон. Кром, мы повидали семь кафедральных соборов, а сколько обыкновенных церквей! Я должен сосчитать их на пальцах. Часть церквей я пропустил, мне кажется, но я насчитал двадцать четыре великолепные церкви, и некоторые из них затмевают первоклассные соборы Англии.
Я рад, что Фулфорд облегчил до известной степени мою задачу, рассказав тебе, что мы делали в Шартре. Так что я начну с увиденного нами уже после того, как мы покинули этот город. Мы думали, что будем вынуждены возвратиться в Париж и проследовать в Руан и что мы должны будем ехать все время по железной дороге, и это показалось нам по прошествии некоторого времени настолько неприятным, что мы приложили кое-какие усилия и узнали о возможности проделать весь этот путь, лишь изредка пользуясь железной дорогой. Итак, мы отправились. Путешествие доставляло мне очень большое удовольствие, как и другим, хотя у Тэда на солнце все время болели глаза. Большую часть пути мы ехали в любопытной колымаге с запряженной в нее лошадью. Вот наш маршрут. Ранним утром мы выехали из Шартра — было около шести утра. Моросил дождь, который почти закрывали шпили кафедрального собора. Они великолепны посреди города! Мы должны были покинуть и их, и прекрасные статуи, и витражи, и громадные крутые контрфорсы — и, боюсь, мы покинули этот город надолго. Мы проехали около двадцати миль по железной дороге до местечка Мэнтнон, где, водрузившись в небольшой и необычный экипаж, отправились дальше. Дождь все еще понемногу накрапывал, и мы проехали красивыми местами через Дрё около семнадцати миль. По дороге было много интересного. Пожалуй, мне понравилась эта часть нашего пути больше, чем что-либо другое, в том прекрасном крае, который мы увидели во Франции. В прекрасных рощах деревья, причем самые разные, в особенности же тополя и осины. Без всяких оград раскинулись поля пшеницы. Красивые травы, названия которых я не знаю, — корм для скота. Таких красивых полей я в жизни не видел. Казалось, они не принадлежат человеку и посеяны не для того, чтобы в конце концов их косили, собирали в амбары и кормили скот. Казалось, что сеяли их только для красоты, дабы они расцветали среди деревьев, смешавшись с цветами, с алым чертополохом, синими васильками и красными маками вместе с пшеницей — вблизи фруктовых деревьев, в их тени, густо покрывая склоны небольших холмов, доходя до самой их вершины, достигая самого неба. Иногда на этом фоне разбросаны большие виноградники или поля сочного зеленого клевера. И поля эти выглядят так, словно травы растут на них всегда, независимо от времени года, и кажется, для них существует только один месяц — август. Так ехали мы через этот край, пока не прибыли в Дрё. К тому времени дождь уже давно прекратился. Стоял прекрасный солнечный день. Поблизости от Дрё край очень сильно изменился, о чем я расскажу позже. Большая часть Пикардии и Иль-де-Франса очень напоминают этот край, а земля между Руаном и Квебеком вдоль Сены настолько походит на эти места, что мне казалось, будто я их недавно видел своими глазами. Вероятно, этот край даже еще более живописен, горы еще выше, но едва ли цветы столь же ярки, а быть может, когда мы проезжали этот край, цветы уже в значительной мере поблекли. В Дрё мы должны были остановиться на некоторое время, видели там церковь, очень красивую, в большей своей части пламенеющего стиля. Апсиды в ней принадлежат к более раннему времени, но сохранились очень плохо, фронтон трансепта тщательно украшен резьбой, пришедшей в плохое состояние и сплющенной, но все еще не реставрированной. В Дрё сохранилась до сих пор великолепная старинная башня, тоже пламенеющего стиля — крыша ее напоминает настоящий обрыв, настолько она крута. Мы оставили Дрё и двинулись в направлении к Эврё. Полчаса должны мы были, к величайшему моему негодованию, ехать по железной дороге. В Эврё у нас была очень короткая остановка, и даже это время мы были вынуждены поделить между едой (увы, на потребу нашей земной природы) и созерцанием великолепного (кафедрального) собора. Это исключительно красивый собор, хотя и не такой уж большой, как большинство уже виденных нами. Боковые нефы принадлежат к пламенеющему стилю, над ними возвышается легкое перекрытие. Все остальное в церкви относится к более раннему периоду — главный неф — норманнского стиля, а тщательно построенные хоры принадлежат к раннему готическому стилю, хотя, кстати, трансепты и фонари также принадлежат к пламенеющему стилю. В церкви этой много прекрасных витражей. Когда мы покинули Эврё, то увидели, что местность сильно изменилась, стала более гористой. Но она почти такая же великолепная, как и виденная уже нами земля, хотя все же заметно от нее отличается. Край этот — череда совершенно плоских долин, окруженных со всех сторон невысокими, расступающимися, чтобы пропустить реку, холмами. Долины покрыты густыми лесами, а поля очень похожи на те, что я только что описал, без всяких оград, и плодовые деревья растут прямо над ними. Итак, мы продолжали наш путь, сначала кругами взбираясь на высокую гору, а затем — в течение долгого времени — по плоскогорью, после чего спустились в прекрасную, напоминавшую озеро долину и, наконец, прибыли в Лувьер. Там стоит великолепная церковь, снаружи она словно бы наряжена в несравненном пламенеющем стиле (хотя и поздним), с превосходными парапетами и окнами. Снаружи церковь настолько величественна и парадна, что я оказался совершенно неподготовлен к тому, что увидел внутри. Я был почти ошеломлен. После яркого пламенеющего фасада интерьеры выглядели спокойно и торжественно. Кроме часовни, все они раннего готического стиля и очень красивы. Никогда, ни до этого и ни после меня не поражало столь большое различие между ранней и поздней готикой, как и благородство более раннего стиля. Полюбовавшись этой церковью, мы забрались в омнибус и отправились на железнодорожную станцию, где должны были сесть на поезд и поехать в Руан. От Лувьера до станции было, по-моему, около пяти миль. Какая это была превосходная дорога! В это время уже спускалось солнце, заливая вечерними лучами все ту же долину, в которой лежит Лувьер. Эта долина была лучшим, что мы видели, в тот день. На полях ее не было видно пшеницы — почти все было покрыто зеленой травой и деревьями. О, эти деревья! Все напоминало какую-то страну в прекрасной поэме, в превосходной романтической балладе и могло бы послужить фоном, достойным Паламона и Арсита Чосера{2}. Мы сумели бы увидеть и долину, окруженную горами, которая простирается далеко в сторону Ер. Но вынуждены были распрощаться со всем этим и отправиться в Руан грязным, дурно пахнущим, грохочущим и пронзительно свистящим поездом, которому безразличны горы и долины, тополя и липы, полевые маки или синие васильки, чертополох и вика, белые вьюнки и ломоносы, золотой цветок св. Иоанна. Ему безразличны и башни, и шпили, и апсиды, и купола. Он будет так же грохотать под куполами Шартра или башнями Руана, как близ Версаля или купола собора Инвалидов. Поистине железные дороги отвратительны: мне кажется, я не осознавал этого до нашего теперешнего путешествия. Вообрази только, Кром, что все дороги (или почти все) идут в Руан через долину, в которой он лежит, и спускаются с величественных гор, откуда открывается великолепный вид на Руан. Мы же приехали в Руан железной дорогой, которая проходит неприятнейшими местами, и не могли ничего увидеть, пока не пересели в городе на омнибус.
У меня были некоторые опасения из-за моих воспоминаний прошлого года, что Руан меня разочарует. Но ничего подобного не случилось. Какое это прекрасное место! Мне кажется, что Тэду собор (кафедральный) понравился больше, чем любая другая церковь из виденных нами. В одном, однако, мы были разочарованы — мы думали, что вечернюю мессу служат каждый день, но убедились, что вечерни поют в этом епископстве лишь по субботам и по воскресеньям. Но зато как они пели гимны! Ничего не скажешь! Особенно в воскресенье, когда исполнялось множество псалмов в стиле пилигримов, о, как они пели гимны!
В Руане я купил «Ньюкомов»{3} в издании Таухница. Это превосходная книга. Ну, что же, Кром, я больше не могу писать. Из меня дух вон, я ужасно устал. И я должен начать собирать вещи, что всегда нагоняет на меня тоску. Когда увижу тебя (а надеюсь, что произойдет это скоро), расскажу тебе обо всем остальном. О боже! Если бы ты только был с нами! Как мне тебя недоставало! Очень, очень сильно! Посылаю это скверное письмо такому прекрасному парню, как ты, Кром, — пожалуйста, прости меня. Будь весел, и до нашего свидания! Увижу ли я тебя в Бирмингеме?
Страстно любящий тебя Топси{4}
Г-ЖЕ ЭММЕ МОРРИС
Эксетер Колледж, Оксфорд
11 ноября 1855
Дорогая моя мама!
Боюсь, ты едва ли приняла всерьез, когда я месяц или два назад сказал, что не намерен принять рукоположение. Если это так, то опасаюсь, что мое теперешнее письмо тебя раздосадует. Но если все-таки ты поняла, что я говорю всерьез, то, надеюсь, моя решимость будет тебе приятна. Ты помнишь, верно, свои слова — они очень справедливы, — что нехорошо быть праздным человеком, без цели в жизни. Я принял твердое решение не навлекать на себя этого упрека. Я не говорил тебе в то время всего, что думал, частично потому, что хотел дать тебе время примириться с мыслью, что останусь мирянином. Мне теперь хочется стать архитектором — заняться делом, к которому я давно испытывал призвание, даже когда собирался принять сан священника. Признаки этого моего призвания ты, несомненно, видела во мне. Кажется, я могу представить себе некоторые из твоих возражений — и довольно разумных. Надеюсь, что смогу ответить на эти возражения. Во-первых, полагаю, ты считаешь, что выбросила деньги на ветер, оплачивая мою подготовку к деятельности священника. Пусть душа твоя будет спокойна на этот счет. Образование в университете столь же годится для капитана судна, как и для пастыря душ. Кроме того, деньги твои не были брошены на ветер, если любовь верных и преданных друзей, которых я впервые повстречал здесь, если эта любовь действительно нечто бесценное и не может быть куплена где попало и за какую угодно цену. Тем более если, живя здесь и видя собственными глазами грех и зло в их самой низменной и грубой форме, как можно было наблюдать их изо дня в день, я научился ненавидеть зло в любом его проявлении и преисполнился желания бороться с ним, — разве это не благо? Молю тебя, мама, думай, что все это к лучшему. Другое дело, если бы на твои плечи легло новое бремя, но так как я способен обеспечить себя на новом пути моей жизни, то деньги, которые я должен заплатить за овладение ремеслом, ничего не значат. Если не смогу заняться этим делом, то, по правде говоря, не знаю, чем должен заниматься, не оставляя в то же время надежды на успех или на счастье, которое можно обрести в работе. Я совершенно уверен, что в избираемом мною занятии достигну успеха, и, надеюсь, рано или поздно стану неплохим архитектором. А ты знаешь, что в любой работе, которой человек увлечен, доставляет наслаждение даже самая обыкновенная и нужная мелочь. Я стану мастером очень полезного дела, с помощью которого надеюсь хорошо зарабатывать, даже если и не преуспею в чем-либо другом — и это вовсе не такой уж риск. Мне нелегко было принять это решение. Для моей гордости и воли будет очень тяжело делать то же самое, что я делал в течение этих трех лет, но это же и хорошо, на мой взгляд. При моей любви к праздности и пустому времяпрепровождению будет довольно грустно проходить сквозь ту же самую канитель освоения нового ремесла, но это же вместе с тем и благо. Возможно, ты подумаешь, что надо мною будут смеяться, называть непоседой, непутевым малым, — я не сомневаюсь, что так и будут говорить, но и я, в свою очередь, постараюсь устыдить их (и да поможет мне в этом бог), упорно и настойчиво трудясь. Пожалуйста, скажи Генриете, что я сочувствую ее разочарованию и, надеюсь, ее понимаю, но мне кажется, что по прошествии не столь уж долгого времени эти ее чувства изменятся, если она увидит, что я занят вполне полезным делом. И ради этого я ни в коем случае не буду отказываться от того, что, по-моему, принесет добро людям и что глубоко лежит в моей душе.
Вы видите, я вовсе не надеюсь стать великим в чем-либо, но, возможно, я вправе надеяться найти счастье в своей работе, и иногда в минуты досуга меня посещают приятные видения того, что может произойти. Вероятно, ты решишь, что это — длинное и глупое письмо по поводу очень простого дела, но мне казалось, я должен тебе рассказать, о чем я так детально размышлял, и попытаться, пусть даже и без надежды на успех, поведать тебе мои чувства, хотя бы вот так бегло. Кроме того, я помню, о чем говорил тебе столь отвлеченно, когда у нас происходил последний разговор на эту тему. Сказанное мною тогда не выражало по-настоящему моих чувств, ибо я был смущен, а теперь подумал, что смогу хотя бы немного поправить наш разговор. Удалось ли это мне хоть отчасти?
Теперь кое-какие подробности. Я собираюсь попросить г-на Стрита из Оксфорда{5} взять меня в ученики. Он хороший архитектор, и у него большая практика. Он неизменно пользуется уважением. Я выучусь у него тому, чему я хочу выучиться, но, если мне не удастся договориться с ним (а это может статься, ибо я вообще не знаю, захочет ли он взять ученика), то в таком случае я обращусь к какому-нибудь лондонскому архитектору, и тогда буду счастлив быть вместе с тобою, если ты по-прежнему будешь жить близ Лондона, и чем раньше это случится, тем лучше, ибо мне уже довольно много лет. Разумеется, за обучение я буду платить из своих денег; впрочем, как и за все другое.
Шлю свою горячую любовь тебе, Генриете, тетушке и всем домашним.
Твой самый преданный сын Уильям.
Пожалуйста, не показывай этого письма никому, кроме Генриеты.
16, Чейн Уок, Челси
3 декабря 1868
Дорогой сэр!
Я перечитал ваши стихи несколько раз, и вот что я думаю о них. Начну с неприятных вещей и скажу, что, по-моему, в них отсутствует сильная индивидуальность и увлеченность темой, неотъемлемо присущие произведениям, которым суждена долгая жизнь. Хотя я не могу обвинить вас в плагиате, я вижу в ваших стихах отголоски произведений современных поэтов. На этом, однако, не останавливаюсь, потому что едва ли может обстоять иначе с таким молодым человеком, как вы. Но стихи не оставляют глубокого впечатления ни по своему стилю, ни по идеям. Из мелких погрешностей (на мой взгляд, связанных с этими) мне хотелось бы отметить слишком много приемов классической поэзии и слишком растянутые метафоры. Но оставим это до того случая, когда я смогу поговорить с вами лично. Вместе с тем стихи хороши, и всюду проступает подлинное чувство и удовольствие, которое доставляет тема, сама по себе привлекательная. Стихи внимательно отработаны и продуманы. Читать их и легко и приятно. Моя оценка может показаться вам скудной похвалой и снисходительным порицанием, но примите во внимание, что я критикую ваши стихи целиком соответственно их достоинству. У вас неоценимое преимущество ранней молодости, к тому же вы обладаете (насколько я могу понять из ваших писем) весьма серьезными познаниями в классической литературе, которая оказывает слишком большое влияние по крайней мере на ваш стиль. Повторяю, мне хотелось бы, чтобы вы придали больше значения стилю и теме. Но вы должны также принять во внимание, что я обязан был высказать все, что думаю об этом произведении, и уверяю вас, что, учитывая все обстоятельства, мне было бы приятнее только похвалить вас, и я очень бы сожалел, если бы наше знакомство обескуражило вас и вас огорчило бы мнение человека, который, как вам, возможно, известно, весьма никудышный критик. Я не сомневаюсь, что вам удастся написать лучше (хотя, повторяю, и это ваше произведение совсем неплохо), если вы отнесетесь к своей работе серьезно и внимательно. Делайте только то, что сами вы сильно любите, — в конце концов вы сами вынесете наиболее строгий суд тому, что выйдет из ваших рук. Ваши письма ко мне были полны такого здравого смысла и скромности, что я не сомневаюсь — вы безусловно сможете выразить в творчестве то, что есть в вашей душе.
Мне очень хочется познакомиться и с другими вашими произведениями, лучше всего рифмованными, ибо белый стих — это ловушка для молодых поэтов.
Когда вы соберетесь навестить меня на Куин Скуэр, пожалуйста, известите меня за день или за два заранее о возможном времени вашего прихода, чтобы нам не разминуться. Еще раз я должен извиниться за назидательный тон, но я ничего не могу поделать, поскольку вы избрали меня своим наставником, хотя и опасаюсь, что это вовсе мне не подходит.
Примите мою особую благодарность за выраженные вами чувства симпатии ко мне; желаю вам полного успеха и остаюсь
Искренне ваш Уильям Моррис
Г-НУ СУИНБЕРНУ
26, Куин Скуэр
Блумсбери, Лондон,
21 декабря 1869
Мой дорогой Суинберн!{6}
Большое спасибо за ваше милое письмо и за содержащиеся в нем критические замечания. Я в восторге, что Гудрун{7} вам понравилась. В остальном же я сам с некоторой досадой сознаю, что книга эта принесла бы мне больше чести, отсутствуй в ней все, кроме Гудрун, хотя я и не думаю, что другие — худшее из того, что вышло из-под моего пера. И все же, дьявол их побери, они слишком растянуты и немощны. Мне приятно, что в Родопе вам кое-что нравится. Лично я полагал, что в интересах рассказа, который, в общем-то, очень слаб, нужно сильней выделить ее характер. Я знаю, что Аконтий — обыкновенный простофиля, и самое ужасное, что даже если бы я затратил на него во много раз больше времени, то все равно он получился бы у меня таким же. Я усердно занят теперь работой, но неудача следует за неудачей, и на какое-то время я бы забросил свое искусство, если бы мне удалось напасть на что-нибудь поистине увлекательное помимо сочинения стихов, ибо ничего хорошего у меня не получается. Торгерд принадлежит славная роль в красивом эпизоде из саги об Эгиле{8}, где он теряет своего любимого сына и из-за этого собирается уморить себя голодом. Я рассказал бы об этом подробнее, если бы мог повидаться с вами. Вся повесть — удивительная, написана прекрасно и полна действия. Это несомненно наиболее северная из всех саг, и сам Эгил — удивительная личность первобытного человека, а сама поэзия кажется мне по-настоящему прекрасной, хотя и совершенно непереводимой. Теперь я намерен переводить с исландского саги, перед которыми бледнеют все другие повести, даже сага о Гудрун в оригинале рассказывается очень разрозненно и обычно довольно бесцветно, явно отличаясь от Ньялы{9}.
Речь идет о Волсунге{10}, фактически об истории Нибелунгов. Смею сказать, что пересказ этой саги вы могли где-нибудь прочитать, но это могло дать лишь самое смутное представление о произведении в целом. Мне очень хотелось бы показать вам этот перевод, теперь уже почти готовый, и я уверен, на вас это непременно произвело бы впечатление.
Не без гордости я сознаю свое положение христианского поэта нашего времени, хотя и рискую этим своим положением, во-первых, отваживаясь на переписку с вами, а во-вторых, своим личным примером оспаривая изречение Священного писания: «блаженны ищущие, ибо обрящут».
Сердечно ваш У. Моррис
Г-ЖЕ КОРОНИО
Куин Скуэр,
24 октября 1872
Моя дорогая Аглая!{11}
Меня очень опечалила весть о ваших горестях, хотя, я надеюсь, к тому времени, когда вы получите это письмо, все станет лучше. Меня не удивляет, что вы стремитесь к более приятной жизни, ибо (после вашего сравнения Исландии с Афинами) существует несомненная разница между тем, чтобы сидеть у постели больного ребенка, ничего особенно не делая, и тем, чтобы ежедневно подниматься рано утром и отправляться верхом, дыша свежим воздухом, не думая, где вы будете вечером, короче говоря, отбросив всякие обязанности и заботы. Меня очень тревожит, что вы предаетесь такой грусти. По тону вашего первого письма я надеялся, что вы сможете неплохо провести время и предаться приятным воспоминаниям. Когда вы возвращаетесь? Вам хорошо известно, как мне недостает вас, и излишне говорить об этом. Я бы ответил на ваше последнее письмо и раньше, но на меня напало плохое настроение — без какой-либо определенной причины, на которую я бы мог указать. Надеюсь, теперь с ним уже покончено. Все это время я с головой ушел главным образом в мои переводы с исландского, но книга моя появится через месяц-другой. Полагаю, вам известно, что Теннисон печатает продолжение легенды об Артуре{12}. Мы довольно хорошо знаем, что она может собой представлять, и, признаюсь, я не горю нетерпением прочитать ее. В прошлую субботу я отправился в Кельмскотт и пробыл там вплоть до вторника. Большую часть времени я провел на реке. В Афинах на вас должно повеять прохладой от моего рассказа о воскресенье, проведенном на Темзе. Дул пронизывающий северо-восточный ветер, и почти весь день шел проливной дождь. Я все же наслаждался этим днем. Понедельник выдался теплый и солнечный, так сами дни проходили довольно приятно, но, боже, как скучны были вечера, несмотря на то, что Уильям Россетти{13} проводил время с нами. Джейн выглядела посвежевшей и чувствовала себя лучше. Стояло прекрасное утро, когда я уезжал оттуда: небо было светло-синее, и по нему всюду плыли редкие белые облака. По всему саду резвились и щебетали малиновки. Дрозды, прилетающие сюда на зиму из Норвегии, непрестанно ведут свой разговор в гуще плодовых деревьев, и скворцы, как и все два последние месяца, слетаются на закате в большие стаи и поднимают, прежде чем улететь на свой насест, невообразимый гвалт. Место это, как и всегда, красиво, хотя в осеннем саду с увядшими цветами на всем лежит оттенок печали. Полагаю, что долго я тут не пробуду. Мы все еще подыскиваем для себя дом к западу от Лондона, но, кажется, сносный домик не так уж легко найти. На следующей неделе я хочу провести день-другой у Неда{14}. Все это время мы были здесь наедине с Бесси, и отношения наши были очень натянуты — с ней я обменивался лишь самыми необходимыми словами. Как изнуряет постоянная жизнь с человеком, с которым у тебя нет ничего общего! Боюсь, мои письма весьма глупы. Чтобы обмениваться мыслями, необходим кремневый каркас вопросов и ответов, чтобы по любому вопросу обмениваться мыслями, и так много нужно сказать, что только по какой-то счастливой случайности мысли перестают блуждать и останавливаются наконец на каком-то одном реальном предмете.
До свидания, и надеюсь вскоре услышать от вас более приятные вести.
Остаюсь сердечно Ваш Уильям Моррис
ФИЛИПУ УЭББУ{15}
«Под знаком Белого Льва»
На улице Новой Лозы
Флоренция, 10 апреля 1873
Любезный дружище!
Во Флоренции апрельские ливни. Только такая погода и стоит с тех пор, как мы прибыли сюда, и было, кроме того, довольно холодно вплоть до вчерашнего вечера, когда начало немного теплеть. Сейчас прекрасное утро, но уже успел пройти обильный дождь. Я занимался здесь покупками для фирмы, боюсь, к некоторому неудовольствию Неда, но ничего нельзя было поделать: я купил здесь массу оригинальных горшков (скальдини), покрытых свинцовой глазурью. Я также заказал большое число бутылей, вплетенных в самые разнообразные корзинки. Полагаю, что они прибудут в Англию в течение шести недель. Кое-что купил для фирмы и в Париже. Итак, надеюсь, мое путешествие принесет какие-то плоды, даже если я ничего не найду в Туне. Я отправляюсь отсюда в воскресенье утром и надеюсь, проехав по Италии и далее, возвратиться в Лондон в следующий четверг.
Мне следовало бы рассказать тьму всякой всячины о здешних произведениях искусства, но лучше уж отложить это до нашей встречи, когда мы сможем поговорить обо всем. Я отнюдь не разочарован Италией, но весьма недоволен собою. Я вполне счастлив, но как-то по-свински, и никак не могу настроить свою душу на восприятие этих чудес. Я могу лишь надеяться, что впоследствии я все это воспроизведу в своей памяти. Я не отваживаюсь признаться в этом Неду, который с ужасной ревностью воспринимает во мне малейшие знаки подавленности. Полагаю, что Флоренция должна исцелить больного человека и просветить глупого. Смею думать, все-таки имеется другая сторона, которая, во всяком случае, наводит грусть на человека: порча, руины, беспечность, глупость и забывчивость к «прославленным мужам и предкам, нас породившим»{16}, только в этих местах можно увидеть все это вполне. Ты, должно быть, помнишь мое путешествие в Труа, не правда ли? Оно едва ли лучше путешествия по Флоренции. Нед уже винит меня в том, что я обращаю больше внимания на оливковое дерево или керамику, чем на картину. Конечно, вам-то понятно, что оливковое дерево достойно более пристального внимания, а в керамике я знаю больший толк, чем в живописи. Он же профессиональный художник, и потому это не совсем справедливо. Это письмо из Флоренции — скучное, хотя, кстати, Флоренция кажется мне не скучной, а печальной, но все же, думается, ты не должен сомневаться, что и Нед и я бодры и здоровы. Расположились мы в небольшой прелестной гостинице, и нас весьма радует, что мы не превратились в меблировку огромной хибары для янки.
На этом заканчиваю нынешнее...
Сердечно твой У. М.
Г-ЖЕ КОРОНИО
Сейнт-Эдвард Стрит, Лик
28 марта 1876
Моя дорогая Аглая!
Наконец-то я могу ответить и поблагодарить вас за письмо: за очень короткий срок мне предстоит выполнить массу дел, ибо я пытаюсь обучиться тонкостям красильного дела, — вплоть до выполнения работы собственными руками. Само по себе оно довольно просто, но, подобно другим простым делам, содержит в себе секрет, о котором невозможно догадаться, если только тебе не подскажут. Я не только наблюдаю за тем, как набивают ситец, но и напролет целыми днями весьма усердно, облачившись в блузу и надев деревянные башмаки, тружусь в красильне г-на Уордля. Я крашу в желтые и красные цвета. Получить желтый цвет весьма нетрудно, как и множество таких оттенков, как оранжево-розовый, телесный, темно-желтый и оранжевый. Труднее всего мне достается алая краска, но я надеюсь преуспеть в этом деле прежде, чем уеду отсюда. Я не могу получить нужного цвета индиго для шерсти, но умею окрашивать в голубые цвета ситец и добиваюсь для ситца приятного зеленого и яркого желтого цвета, который получается от соединения красок.
Сегодня утром я помогал окрашивать двадцать фунтов шелка (для нашей камки) в чане с голубой краской. В этом был большой смак, так как дело это совершенно непривычное, и мы рисковали попросту испортить шелк. Этим были заняты четыре красильщика и г-н Уордль, я же выступал в роли помощника красильщика. Работников подбодрили пивом, началась работа, и было занятно наблюдать, как зеленый шелк, вынимаемый из чана, постепенно превращался в голубой. Пока можно сказать, что дело нам удалось на славу. Самый старший из работников, старик под семьдесят, говорит, что шелк такого цвета получали давным-давно. Сам чан, кстати, производит весьма внушительное впечатление: девять футов в длину и около шести в поперечнике. В землю он врыт почти до самого своего верха. Итак, вы видите, что я слишком занят, чтобы скучать: разве что по вечерам, когда мне приходится встречаться с большим числом людей, чем я готов вынести. В этот вечер, например, я иду на званый обед, — а в конце концов меня ждет желанный сон. Завтра я отправлюсь в Ноттингем, чтобы посмотреть, как окрашивают в чану шерсть голубого цвета. В пятницу г-н Уордль намерен покрасить для нас еще восемьдесят фунтов шелка, и я собираюсь красить около десяти локтей шерсти, используя марену для получения нужного мне яркого цвета.
Вместе со всем этим, как вы можете себе представить, мне бы очень хотелось быть снова у себя дома.
Я рад, что вам понравились мои работы на выставке, хотя я и не считаю, что из-за них нужно было поднимать такой шум. Я полагал, что шелк — это лучшее.
Миссис Льюис, кстати говоря, родом из этих сельских мест. В воскресный день я заглянул в ту деревню, где она жила. По-моему, она называется Элластон. Скучная деревня. Кажется, я вижу довольно много людей, подобных «тетушке» с «Флосской мельницы»{17}.
Надеюсь, у вас все хорошо.
Остаюсь сердечно ваш Уильям Моррис
Хоррингтон Хауз
Вторник, утро. [Март 1876]
Обожаемая Мей!{18}
Благодарю тебя за письмо. О, как бы мне хотелось быть свидетелем этой бури. В это утро стоит трескучий мороз. Насколько я могу упомнить, пришла самая холодная, как говорят, «колючая зима». Итак, завтра я отправлюсь в Лик к своим красильным чанам. Г-н Том Уордль обещал приготовить для меня пару деревянных башмаков, в которых я мог бы работать. Но даже когда я вернусь из Куин Скуэр, у меня будут свои красильные чаны, ибо нашу прежнюю кладовую мы превратили в подобие красильни. Когда ты приедешь домой, то сможешь увидеть это чудо, как и наши персидские ковры, которых мы немало понакупили в недавнее время. Тебе представится, словно бы тебя перенесли в атмосферу сказок Шахразады. Даже миссис Джадд, вероятно, будет способствовать этой иллюзии, если ты вообразишь, что она служит тебе постоянной помощницей в этой растреклятой работе, похожая на зеленую жабу с желтыми крапинками или, я бы сказал, на треснутую скорлупу грецкого ореха.
Итак, ты можешь представить себе, насколько я рад буду видеть тебя и маму, когда снова вернусь домой, что и произойдет примерно через две недели.
Надеюсь, что ты пышешь здоровьем.
Остаюсь, моя обожаемая крошка Мей,
твоим любящим отцом. Уильям Моррис
УИЛЬЯМУ ДЕ МОРГАНУ{19}
Хоррингтон Хауз
3 апреля 1877
Мой дорогой де Морган!
Я в самом деле очень бы сожалел подвергать насилию склонности г-на Карлейля{20} в данном вопросе, но, если вы увидите его, вы могли бы ему напомнить, что мы обращаемся не только к художникам и любителям искусств, но также и вообще к широким кругам мыслящих людей. Что же касается остального, то, мне кажется, речь идет не столько о том, суждено ли нам иметь старинные здания или нет, сколько, суждено ли им быть старинными или же поддельно старинными. По меньшей мере мне бы хотелось внушить людям, что несомненно лучше подождать до времени, когда архитектура и вообще искусство выйдут из своей теперешней экспериментальной стадии, а пока не делать ничего, что уже нельзя переделать или по крайней мере что может оказаться гибельным для сооружения, которое пытаются сохранить путем реставрации.
Ваш совершенно искренне Уильям Моррис
Несправедливая война.
К рабочим Англии
Друзья и соотечественники!
Нависла угроза войны. Взгляните прямо в глаза этой опасности. Если вы ложитесь спать, полагая, будто мы превратно понимаем теперешнее положение и будто опасность достаточно далека от всех нас, то, возможно, проснувшись, вы убедитесь, что зло уже обрушилось на вашу голову, ибо война сегодня стучится в ваши двери. Присмотритесь к этому внимательно и своевременно, хорошо взвесьте положение, ибо военные налоги, взвинченные войной цены, потери материальных ценностей, утрата работы, друзей и близких тяжелым бременем лягут на большинство из нас. Мы неминуемо должны будем дорого заплатить, но больше всех должны будете заплатить вы, друзья, — рабочие.
И что приобретем мы такой дорогой ценой? Будет ли это славой, богатством и миром для наших потомков? Увы, это не так! Ибо эти блага — завоевания справедливой войны, но если мы намереваемся вести войну несправедливую, которую нам сегодня навязывают глупцы и трусы, тогда утрата материальных богатств принесет нам лишь новые материальные утраты, отнятая у нас работа лишит нас надежды, вместо утраченных нами друзей и близких мы обретем врагов, начиная с отца и кончая сыном.
Да, это несправедливая война, и не нужно самих себя обманывать! Если мы начнем теперь войну с Россией, то будем воевать не во имя того, чтобы наказать ее за совершенные ею дурные деяния или предостеречь ее от дурных деяний в будущем. Мы будем воевать, чтобы подавить справедливое восстание против турецких грабителей и убийц, чтобы подогреть остывшую радость в сердцах глупых бездельников, бессмысленно взывающих к «энергичной внешней политике», чтобы оградить обожаемое нами владычество в Индии от малодушного страха перед вторжением, которое может произойти столетие спустя — или же вообще никогда. Мы отправимся на войну с целью вновь продемонстрировать перед удивленным взором Европы мощь нашей армии и флота и укрепить слабые надежды наших держателей турецких облигаций. Трудящиеся Англии! Во имя каких же из названных целей сочтете вы нужным голодать или умирать? Может быть, все эти цели и образуют совокупность британских интересов, о которых мы недавно слышали?
А что собой представляют люди, размахивающие перед нашим лицом знаменем, на одной стороне которого написано — британские интересы, а на другой — русские злодеяния? Кто эти люди, втягивающие нас в войну? Давайте присмотримся к этим спасителям британской чести, к этим поборникам свободы Польши, к этим воинствующим судьям преступлений России!!.. Они знакомы вам? Это — алчные и азартные игроки биржи, это — праздные офицеры армии и флота (сущие бедняки!), изможденные клоуны из клубов, безрассудные поставщики сногсшибательных военных новостей к роскошному утреннему столу господ, которым нечего терять на войне, и, наконец, на самом последнем месте — это охвостье тори, которому мы, безумные, устав от мира, разума и справедливости, на последних выборах отдали свои голоса, дабы они «представляли» нас, а прежде всего их главарь, старый охотник за титулами, который, забравшись наконец в графское кресло, дерзко смеется{21} в лицо озабоченной Англии, когда его пустое сердце и изворотливые мозги замышляют тот удар, который, вероятно, навлечет на нашу голову разруху и уж наверняка посеет в стране неразбериху. О, позор, двойной позор, если мы, предводительствуемые такими людьми, отправимся на войну против народа, не являющегося нашим врагом, — против Европы, против свободы, вопреки нашему характеру и надеждам мира.
Трудящиеся Англии! Выслушайте все-таки одно предупреждение! Я сомневаюсь, знаете ли вы, до какой степени ожесточены сердца определенного слоя этой страны ненавистью к свободе и прогрессу. Их газеты пытаются замаскировать это ожесточение языком благопристойности, но если бы вы только услышали их разговоры между собой, как нередко случалось слышать мне, то я не знаю, какие именно чувства — презрения или гнева — наполнили бы ваши сердца при виде их глупости и высокомерия. Эти люди могут говорить о вашем классе, о. его целях и его руководителях только насмешливо и только оскорбительно. Будь их власть, то, даже если бы это привело к гибели Англию, они растоптали бы ваши справедливые стремления, заставили бы вас смолкнуть, связали бы вас по рукам и ногам и отдали во власть необузданного капитала.
Именно эти люди — и я утверждаю это с полным основанием — душа и тело партии, которая гонит вас на несправедливую войну. Неужели русский народ может быть вашим или моим врагом в такой же мере, как эти люди, которые выступают врагами справедливости в любой ее форме? Теперь они могут причинить нам лишь небольшой вред, но если разразится война, несправедливая война, со всей ее анархией и злобой, кто может сказать, какова будет их власть, какой шаг назад мы сделаем? Соотечественники, не закрывайте на это глаза, и если вы намерены поправить какие-то беды, если вы в сердце своем надеетесь мирно и уверенно повышать благосостояние своего класса, если вы жаждете досуга и знаний, если вы стремитесь уменьшить проявления неравенства, которое было для нас камнем преткновения с первых шагов истории, тогда отбросьте косность и возвысьте свой громкий голос против несправедливой войны, обратитесь к нам, средним классам, с призывом сделать то же самое, чтобы все мы настойчиво и торжественно протестовали против вовлечения нас (кто знает, во имя чего?) в НЕСПРАВЕДЛИВУЮ ВОЙНУ. В ту несправедливую войну, победа в которой принесет нам позор, утраты и обвинения, ну, а если мы потерпим поражение — что тогда?
Трудящиеся Англии! Я не могу поверить, чтобы под напором решительного сопротивления, сопротивления всех, кого самым близким образом затрагивает война, какое-либо английское правительство оказалось бы настолько безумным, чтобы втянуть Англию и Европу в несправедливую войну.
Поборник справедливости 11 мая 1877 г.
РЕДАКТОРУ «ТАЙМС»
Разрушение городских церквей
Сэр,
Запрос, сделанный лордом Хотоном в палате лордов в четверг, вынудил лондонского епископа признать, что план массового сноса городских церквей, предложенный несколько лет тому назад, неуклонно реализуется. Четыре других церкви должны быть принесены в жертву этому громадному городу его безвкусицей и поклонением мамоне. Прошлый год оказался свидетелем разрушения прекрасной церкви св. Михаила на Куинхайсе и церкви Всех Святых на Бредстрите, на стенах которой красовалась надпись, что там был крещен Мильтон. Церковь св. Дионисия, превосходное сооружение Рена, теперь разрушается. В течение тех же последних десяти лет уничтожены красивая церковь св. Антолина, с ее прекрасным шпилем, изящная небольшая церквушка Майлдреда в Полтри, Всех святых в Стейнинге, за исключением башни. Исчезли собор св. Джеймса в Дьюк-Плейсе, церковь св. Бенета, церковь Благодати с ее великолепным шпилем, башни и капелла Всех великих святых на Темза-стрит. Вынесено решение снести следующие сооружения: Башмаки св. Маргариты на Рудлейн, церковь св. Георгия на Ботольф-лейн, св. Матфея на Фрайди-стрит, св. Майлдреда на Бред-стрит. Должны быть уничтожены, таким образом, все эти возведенные Реном{22} сооружения. Две же церкви — св. Майлдреда на Бред-стрит и Башмаки св. Маргариты — обладают шпилями особенно своеобразными, великолепного рисунка. Не следует думать, что в опасности только эти церкви, ибо предполагаемое их разрушение говорит о той судьбе, которая рано или поздно должна постичь все церкви, построенные Реном в этом городе, если только англичане не проснутся от спячки и, выразив сильный и серьезный протест, не дадут церковным властям понять, что они не будут покорно мириться с этим диким и чудовищным варварством. С точки зрения искусства утрата этих сооружений окажется невозместимой, поскольку сооружения Рена, несомненно, связующее звено в истории церковного искусства нашей страны.
Многие полагают, будто сохранения собора св. Павла, великолепного шедевра этого архитектора, вполне достаточно, чтобы показать его взгляды на церковную архитектуру. Но это далеко не так. Ибо, хотя собор св. Павла и величествен, он представляет собой одно из весьма распространенных на континенте сооружений, имитирующих собор св. Петра в Риме{23}. Действительно, собор св. Павла едва ли можно воспринимать как английское сооружение, но, скорее, как английскую дань великому итальянскому подлиннику, в то время как церкви города служат примером чисто английского архитектурного ренессанса в той части, в какой он был связан с церковными стилями. Эти сооружения иллюстрируют архитектурный стиль, характерный не только для нашей страны, но также и для нашего города, и если они будут уничтожены, исчезнет представляемая ими особая стадия архитектуры. На континенте нет ничего такого, что хотя бы напоминало церкви нашего города, и тот факт, что они находятся в такой близости друг к другу, лишь повышает их ценность для изучения. Большое их достоинство состоит в том, что, хотя они и невелики в своих размерах, — едва ли длина какой-нибудь из них превышает 80 футов, — они отличаются великолепными пропорциями, великолепным решением своих масштабов, которые делают их гораздо более внушительными, чем многие здания, превосходящие их по размерам вдвое и втрое. Существующая между ними связь, равно как и связь их с большим кафедральным собором, который они окружают, величие купола, подчеркнутое тонкими конусообразными шпилями, преодоление скуки и монотонности общей линии неба в городе — все это неоспоримые доводы в пользу их сохранения. Несомненно, богатейший город, столица торгового мира может позволить себе небольшую жертву и предоставить под эти красивые сооружения небольшие участки земли. Так ли уж необходимо, чтобы каждый клочок земли в Сити был подчинен производству денег, и должны ли исчезнуть из богатого Сити церковные сооружения, эти священные воспоминания о великих и уже умерших предках, памятники прошлого, сооружения величайшего архитектора Англии? Если так, тогда, увы, прощай наша любовь к искусству! Тогда, увы, прощай то английское чувство самоуважения, о котором мы столь часто слышим. Увы, как жаль наших потомков, которых мы грабим и лишаем этих произведений искусства, хотя наш долг — передать им эти сооружения нетронутыми и неиспорченными. И жаль нам самих себя, ибо чужеземные народы и наши собственные потомки увидят, что мы оказались единственными из всех людей, когда-либо населявших землю, у которых не было собственной архитектуры и которые прославились как разрушители сооружений своих предков.
Остаюсь, сэр, ваш покорный слуга Уильям Моррис. («Таймс», 17 апреля 1878)
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ТАИМС»
По поводу собора св. Альбанса
26 августа 1878
Сэр,
Хотя Комитет по восстановлению собора св. Альбанса и решил перестроить эту церковь, возводя над нефом островерхую крышу вместо плоской, Комитет нашего Общества по защите старинных зданий выражает последнюю надежду на то, что широкая публика все же проявит интерес к этому вопросу и откажется поддерживать план, воспринимаемый столь многими знатоками старины как опрометчивый и губительный. В надежде на это мы просим оказать нам любезность, предоставить нам место на страницах вашей газеты и дать нам возможность еще раз выразить протест против перестройки знаменитого старинного здания, которую мы должны в лучшем случае назвать рискованной. Мы не намерены абстрактно, с точки зрения художественной рассматривать относительную ценность высокой или низкой крыши и соответствующие достоинства более раннего или более позднего стиля, которые представлены в соборе св. Альбанса, поскольку здесь не рассматриваются эти точки зрения; равным образом отказываемся и от археологического подхода, при котором пытаются установить, была ли прежде в соборе островерхая крыша. Точка зрения, которую мы намерены представить на рассмотрение публики, состоит в том, что данное сооружение уже покрыто крышей, которую можно починить, чтобы она была достаточно прочной и не ослабляла бы устойчивости стен, не изменяя архитектурного облика здания в сравнении с тем, каким оно было на протяжении длительного периода его интересной истории, той самой истории, неотъемлемую часть которой составляет нынешняя крыша. Все художественное великолепие крыши заключено в ней самой. Длинная, непрерывная и столь соответствующая этой крыше линия сложенного из различных материалов парапета должна быть оставлена и должна сохранить свое место наряду с замечательными архитектурными достоинствами, утрата которых уменьшит разнообразие искусства и интерес к нему. Замена этой крыши островерхой повлечет за собой такие расходы, что Комитет по реставрации старается уклониться от предоставления денег на необходимые для выполнения этой работы материалы и предлагает использовать сосну и шифер вместо теперешнего дуба и свинца. Если будет сделано так, то это возложит на будущих попечителей церкви св. Альбанса тяжелое бремя расходов по переделке деталей из быстро изнашивающихся материалов. Но независимо от того, какие материалы будут использованы, крыша окажется особо опасной для материалов нынешних стен и приведет к определенным изменениям в некоторых архитектурных украшениях, в частности в парапете. От нас не может укрыться и то, что под видом этих необходимых (и во многих случаях достойных сожаления) переделок ложный пыл реставраторов, вероятно, приведет к совершенно ненужным переделкам, в высшей степени гибельным для художественной и исторической ценности этого сооружения. Короче говоря, мы боимся, что произойдет полная модернизация этого великого памятника, что вызовет искреннее сожаление в кругах широкой публики, даже в той ее части, которая не питает особого интереса к памятникам старины.
Испытывая такие опасения, мы хотели бы обратиться к широким кругам публики и указать на то, что мнения археологов и художников по этому поводу, во всяком случае, разделились. Мы хотим указать, что при неправильной реставрации риск потери для нации в пропорциональном отношении к преимуществам намного более велик, чем возможный риск ошибочного бездействия. Если фундамент аббатства св. Альбанса будет постоянно, тщательно и со знанием дела ремонтироваться, то будет не слишком поздно поставить поверх нефа островерхую крышу, если в один прекрасный день обнаружится безусловная ложность мнения членов нашего Общества, или же в этом случае можно будет просто снести всю церковь и поставить на ее месте другую. Но если предполагаемое изменение осуществится, а несколько лет спустя окажется, что наши представления разумны (и мы уверены в том, что это так и произойдет), то в этом случае будет слишком поздно производить реставрацию и никакие сожаления не помогут нам возвратить неподражаемые сооружения наших предков, навсегда уничтоженные нашей опрометчивостью и эгоизмом.
Остаюсь, сэр, покорно ваш Уильям Моррис, по поручению Комитета общества защиты старинных зданий.
Г-ЖЕ БЕРН-ДЖОНС
...Что касается поэмы{24}, то, полагаю, дело в известном моем настроении: ничто не может захватить меня целиком. Это, несомненно, моя вина, поскольку поэма кажется мне весьма милой. Но, признаться, черт меня побери, и вам это хорошо известно, мне никогда не нравились по-настоящему произведения Суинберна. Мне всегда казалось, что в основе своей они порождены литературой, а не самой природой. Утверждая это, я никак не могу обвинить себя в каких-либо чувствах зависти, и, надеюсь, вы тоже далеки от этого. Я верю, что любовь Суинберна к литературе искренняя и совершенная, и приятно слушать, как он говорит об этом, а говорит он об этом превосходно. Он преисполнен любви к литературе. Было время, когда поэзия, порождаемая глубокой образованностью и любовью к литературе, если не блистала, то, во всяком случае, занимала достойное и прочное место. Но в наши дни все искусства, и особенно поэзия, оказались под преобладающим влиянием громадной массы материальных богатств, розданных цивилизацией. И с каждым днем она торопливо создает их все больше и больше — богатства, которые этот мир не может употребить ни для каких разумных целей. В итоге различия между искусством, то есть божественной природой человека, и простой его животной природой настолько важны, а обстановка жизни столь сурова и примитивна, что очаровать людей может только что-то глубоко укоренившееся в реальной жизни и не утратившее своей непосредственности. Живо воспринимается лишь то, что исходит из души глубоко чувствующего человека благодаря его внутренней силе и видению.
Во всем этом я могу решительно ошибаться, и вина невосприятия может лежать на мне самом. Я только выражаю свое мнение, но не защищаю его, и тем менее защищаю я свою собственную поэзию...
Г-НУ С.-Э. МОРИСУ{25}
Кельмскотт Хауз
1 июля 1883
Дорогой Морис!
Я сел за стол, чтобы написать вам обещанное письмо, но с самого начала вижу, что это довольно трудное дело и мне нужно определить мою позицию несколько более четко, чем я сделал это в своем последнем письме. Мне кажется, что с самого начала мы расходимся в следующем: вы полагаете, что нынешнее устройство общества страдает от определенных недостатков, что определенные пороки возникают в результате ошибок, в которых продолжают упорствовать, и с ними в конечном счете становится очень трудно совладеть. Однако вы думаете, что эти недостатки и ошибки можно устранить, и, когда они будут устранены, останется общество, которое будет поддерживать свое существование, уделяя тщательное внимание своим обязанностям по созданию нормальной жизни для всех граждан. Признаюсь, я иду намного дальше этого. Правда, я не могу оставаться в стороне и махнуть рукой на необходимость устранить очевидные аномалии или смягчить в меру моих возможностей дурное влияние каких-либо глубоко укоренившихся пороков, которые бросаются в глаза нам обоим, но делаю я это без особой надежды, ибо убежден, что сама основа общества с его резким контрастом между богатыми и бедными неизлечимо порочна. В известной мере меня может утешать мысль, что изменения, которые, по моему мнению, должны наступить прежде, чем общество будет исправлено в своей основе, должны быть постепенными — или, я бы сказал, меня должно это утешать, но я не вижу, чтобы люди, которые направляют политическое развитие, хоть как-то намеревались осуществить реальные перемены в социальном базисе. Вечное существование нынешней политической системы с ее принципом предложения и спроса представляется одним из условий необходимого и вечного порядка вещей. А ведь система, состоявшая из свободных граждан и рабов, в условиях которой существовали древние цивилизации, несомненно некогда казавшиеся также необходимыми и вечными, должна была после длительного периода насилия и разброда уступить место феодальной системе господина и крепостного, которая в свою очередь, хотя некогда тоже считалась необходимой и вечной, была заменена нынешней системой договора между богачами и неимущими. Разумеется, я не намерен обижать вас предположением, будто вы настаиваете на изолированности каждой из этих систем, но мне совершенно ясно, что так думает каждый обычный сегодняшний радикал, и это я собираюсь оспаривать.
Разумеется, я не верю, что мир может быть спасен какой-либо системой, — я всего лишь настаиваю на праве бороться с общественными системами, которые переживают внутреннее разложение и никуда не ведут. Именно так, по моим понятиям, обстоит дело с нынешней системой капитала и труда. Как я говорил в моих лекциях, я лично пришел к выводу, что искусство оказалось сковано обществом, и если эта система будет по-прежнему существовать, то цивилизация вообще утратит искусство. Это, в моих глазах, выносит приговор всей системе в целом, и, полагаю, именно это обстоятельство привлекло мое внимание ко всей этой теме. Кроме того, внимательно приглядываясь к общественным и политическим проблемам, я придерживаюсь лишь одного правила: когда думаю об условиях жизни любого человека, я спрашиваю самого себя: «А сам ты вынес бы это? Что бы ты чувствовал, если бы оказался беден в условиях страны, в которой живешь?» Мне всегда становилось не по себе, когда приходилось задавать этот вопрос, а в последние годы я должен был спрашивать себя об этом так часто, что этот вопрос вообще редко выходил из моей головы. И ответ на этот вопрос все больше и больше заставлял меня стыдиться моего собственного положения, все больше и больше заставлял меня осознавать, что, не родись я богатым или состоятельным человеком, я бы оказался в невыносимом положении и выступал бы просто как бунтарь против той системы, которая казалась бы мне воплощением несправедливости и грабежа. Ничто не может поколебать меня в этом убеждении, которое, говоря откровенно, и есть мой символ веры. Контраст в жизни богатых и бедных невыносим настолько, что он невыносим более ни для богатых, ни для бедных. Я прихожу, далее, к мысли, что, ощущая это, я обязан стремиться к разрушению системы, которая представляется мне простым нагромождением препятствий. Такая система, по моим понятиям, может быть уничтожена только в результате общего возмущения объединенного большинства людей. Отдельные действия немногих людей среднего и высшего классов кажутся мне, как я сказал уже выше, совершенно бесполезными в борьбе с этой системой. Иными словами, борьба классов, порожденных этой системой, служит естественным и необходимым орудием ее разрушения. Поэтому цель моя — распространение возмущения среди всех классов, и я считаю себя обязанным присоединиться к любой организации, которая, по моему разумению, действительно стремится на самом деле воплотить в жизнь эту цель. Поступая так, я не слишком беспокоюсь о том, какие люди будут стоять во главе такой организации, и всегда придерживаюсь той мысли, что они искренни в своей приверженности определенным принципам. Мне всегда казалось, что культ руководителей служил в последнее время признаком безжизненности обычного радикализма, и это мнение было заново подтверждено событиями последнего года в Ирландии и Египте (особенно в последнем, где «либеральные лидеры» «завели» партию на путь прямого джингоизма){26}.
Но, помимо этого, мне искренне хочется, чтобы средние классы к которым я до сих пор лично обращался, проявили бы внимание к этим проблемам и также почувствовали бы возмущение, как им и должно его ощутить, поскольку они сами страдают от той же системы, которая угнетает бедных. Из-за этой системы их жизнь пуста и бесплодна, подавлены их надежды на жизнь более достойную. Кроме того, я убежден, что рано или поздно наступят те перемены, которые ниспровергнут наше теперешнее общество, но именно от средних классов в значительной степени зависит, придут ли эти перемены мирно или будут осуществлены насильственным путем. Если бы они только поняли, насколько бесполезны излишки денег и вредна роскошь для всей цивилизации, они не вопили бы и не упрекали с громким воплем в «конфискации, воровстве и несправедливости» ту общественную систему, которая предполагает дать каждому человеку то, что ему на самом деле нужно, и не призывает отнимать у каждого человека то, чем он действительно пользуется. Короче говоря, что мы, представители средних классов, должны делать, если способны, — так это показать на примере нашей собственной жизни, каков настоящий тип полезного для общества гражданина, тип, в котором должны раствориться в конечном счете все классы. Я вспоминаю, как некоторое время назад повстречал в поезде одного умного человека, который, не умолкая и не давая мне ввернуть ни словечка, говорил о горестях средних классов — о том, как сильно они страдают по сравнению с избалованным трудящимся классом. Досадно, что я не был достаточно готов сказать ему то, о чем я подумал впоследствии: «Друг мой, если бы вы позволили себе стать членом этого избалованного класса трудящихся, тогда, как вы и сами это признаете, все ваши горести окончились бы». Система его доводов довольно обычна и основана на допущении, что один класс должен быть хозяином другого. Но, с моей точки зрения, ни один человек не настолько хорош, чтобы быть хозяином другого, не нанося тем самым ущерб себе, что бы он при этом ни делал для своего слуги. Итак, я не уверен, объяснил ли вам свою позицию, — даже готов признать, что не сумел сделать это, но я высказал вам кое-что из своих убеждений, и по крайней мере вы теперь понимаете, что в вопросе о положении нашего собственного класса я ваш союзник.
Я полностью согласен с вашим мнением о слое лавочников и разделяю ваше убеждение, что совершенно несправедливо обвиняли их за то положение, которое для них обязательно и которое, как я знаю, весьма часто для них довольно тяжело. Пусть они и чужды каких-либо политических обид, но, мне кажется, у них есть довольно серьезная обида из-за взаимоотношений с людьми — например, более образованные классы, имеющие с ними дело, обычно считают, что лавочники обязательно обманывают покупателя, хотя в то же время и покупатель жаждет «поторговаться», то есть надуть торговца. Разве это не убеждает нас всех, до какой степени расточительна и постыдна по своей сущности наша нынешняя система торговой междоусобицы?
Ну что же, я наговорил вам с три короба, но не попытался прямо ответить на ваши вопросы, ибо я понял из вашего письма, что едва ли можно думать, будто в настоящее время вы можете примкнуть к нашему Обществу{27}, хотя и не могу не надеяться, что в один прекрасный день вы пойдете на такой шаг.
Между тем я начал небольшое эссе на тему, которая была так любезно подсказана вами. Когда закончу, я пошлю его вам и, если вы отнесетесь к нему с одобрением, где-нибудь выступлю с ним и буду готовиться к ответу на другие вопросы по этой теме, — и я не могу не думать о том, что в конечном счете это снова приведет нас другим путем к социализму.
Кстати говоря, один мой друг послал мне газетные вырезки из Гемпстеда, которые содержат, во-первых, раздраженное письмо одного джентльмена, распаленного моей лекцией, и, во-вторых, ваш очень основательный ответ ему, за который я сердечно вас благодарю, особенно потому, что мне стало совершенно ясно ваше отчетливое понимание всего сказанного мною по этому вопросу. Кстати, хочу вам сказать, что с лекцией меня направила туда Демократическая федерация, и, таким образом, я думаю, что действовал в рамках предоставленных мне прав, распространяя ее призыв и говоря от ее имени.
Остаюсь, дорогой г-н Морис,
преданный вам Уильям Моррис.
Г-ЖЕ БЕРН-ДЖОНС
Кельмскотт Хауз
21 августа 1883
Меня тронуло твое милое беспокойство по поводу моей поэзии, но видишь ли, дорогая, самая основная из всех моих тревог, должен признаться, сделала меня угрюмым трусом{28}, и затем, хотя я и признаю себя тщеславным человеком, тем не менее думаю, что все мною созданное (если я буду судить об этом как о работе другого человека) лишено какой-либо особой ценности, кроме как для меня самого, и разве что указывает на мою любовь к истории и тому подобное. Поэзия, по моему мнению, разделяет теперь судьбу ремесленных искусств, и, как и они, она утратила реальность: то немногое, что осталось от ремесленных искусств, теперь угасает — до тех пор, пока они не возродятся вновь. Ты знаешь мои взгляды, на этот предмет, и я отношу их к себе так же, как и к другим. И это ничуть не больше мешает мне заниматься поэзией, чем созданием рисунков на ткани, ибо к этой работе меня тянет простое внутреннее наслаждение ею. Однако даже это мешает мне взирать на нее как на священный долг, и та тревога, о которой упомянул я выше, слишком сильна и слишком удручает, чтобы ее могла преодолеть простая склонность делать то, что, я знаю, лишено особого значения. Между тем пропаганда идей заставляет меня заниматься делом, которое, каким бы незначительным оно ни казалось, есть часть великого целого, которое не может исчезнуть бесследно... И этого должно быть для меня достаточно...
АНДРЕАСУ ШОЮ
Кельмскотт Хауз, Аппер Мол
Хаммерсмит, 5 сентября 1883
...Если вам хочется узнать более подробно о процессе крашения или о каком-нибудь другом деле, то я буду очень рад рассказать или показать вам, что мы делаем в аббатстве Мертон, где я одновременно тружусь и как красильщик и как набивщик ситца. Только вам следует знать, что мы применяем старые методы, существовавшие до того, как одержал полную победу шодди, пока не попали в сферу широкого обращения товары, которые Гладстон так превозносил позавчера в Керкуалле.
Посылаю вам весьма скучный очерк моей лишенной особых событий жизни, но, поскольку он попадает к вам, я отваживаюсь предложить вам и остальные мои книги, если вы не найдете их слишком громоздкими, ибо они составляют целую библиотеку и весят полтонны — да простят меня Тор и Один{29} (ибо мне не хочется, прибегать к резким выражениям).
Вы можете использовать этот очерк по своему усмотрению. Я постараюсь приехать на митинг в понедельник. Мне очень хочется повидать жителей Ист-Энда{30}. Как бы мне хотелось, чтобы они писали и поносили нас (членов Исполнительного Комитета) за то, что мы не столь рьяно учим их социализму! Если бы только они делали это и давали бы нам по шиллингу в месяц! Но мы, англичане, довольно тяжелы на подъем. Вы видите, кстати, что деятели тред-юнионов отвергли поправку о Национализации земли. Я знал, что они так поступят, и не могу сказать, чтоб это меня огорчило: буржуазная пресса будет льстить им.
Я родился в Уолтемстоу в Эссексе в марте 1834 года в пригородной деревушке на краю Эппинг Фореста. Когда-то это было прелестное место, но теперь оно чудовищно обезображено неряшливым строительством на скорую руку. Отец мой успешно занимался делами в городе, и мы жили в условиях обычного буржуазного комфорта. Поскольку мы принадлежали к евангелистской ветви англиканской церкви, я воспитывался, так сказать, в духе пуританизма богатого сословия — той религии, которой я был привержен в детстве.
Учиться я начал в школе при Марлборо Колледже, и в то время это была новая, но довольно примитивная школа. Что касается моего школьного обучения, я могу с полным правом сказать, что не выучился там почти ничему, ибо там почти ничего и не преподавалось. Но сама школа находилась в на редкость живописной местности, в которой было множество древнейших памятников, и я жадно набросился на их изучение, как и на все то, что имело хотя бы небольшое отношение к истории.
Таким образом, вероятно, я узнал немало хорошего, особенно потому, что там была неплохая библиотека, в которую я иногда проникал. Должен заметить, что с тех пор, как я себя помню, я в больших количествах пожирал книги. Не припомню, чтобы меня специально обучали чтению, но к тому времени, как мне исполнилось семь лет, я уже прочитал громадное множество книг, хороших, плохих и посредственных.
Отец мой умер в 1847 году, за несколько месяцев до моего поступления в Марлборо. Но так как он перед своей смертью провел несколько удачных сделок с рудниками, наша семья осталась весьма обеспеченной, или попросту богатой.
В 1853 году я приехал в Оксфорд, в Колледж Эксетер. В учении я был ужасно нерадив, но начал быстро изучать историю, и особенно средневековую историю, тем более что в это время я оказался под сильным влиянием консервативного направления англиканской церкви или школы Пьюзеитов. Этот последний период продолжался, однако, недолго, поскольку мои пути переменились благодаря книгам Джона Рёскина, которые явились для меня в ту пору совершенным откровением. Значительное влияние оказали на меня также произведения Чарлза Кингсли{31}, и я увлекся определенными социально-политическими идеями, которые получили бы во мне большее развитие, если бы не увлечение искусством и поэзией. Еще до окончания школы я открыл, к немалому для себя изумлению, что могу писать стихи, и приблизительно в то же время сблизился с несколькими юношами, горевшими таким же энтузиазмом. Вместе с ними мы начали выпускать ежемесячный журнал, который издавался (на мои средства) в течение года. Журнал назывался «Оксфорд энд Кембридж мэгэзин» и поистине отличался молодостью. Закончив свое обучение в Оксфорде, я, сначала собиравшийся стать священником (!!!), решил посвятить себя искусству в той или иной его форме и стал учеником Дж. Э. Стрита{32}, который впоследствии спроектировал и построил здание Суда. В то время он практиковал в Оксфорде. У него я пробыл, однако, всего лишь девять месяцев. Когда я был в Лондоне и художник Бёрн-Джонс, мой близкий друг по колледжу, представил меня Данте Габриэлю Россетти, главе школы прерафаэлитов, я решил стать художником. Некоторое время я изучал искусство, хотя и не систематически.
В то время в Англии наблюдалось быстрое возрождение готической архитектуры, и, разумеется, оно коснулось также и движения прерафаэлитов. Всей душою я отдался этим движениям. Один мой приятель построил для меня средневековый по духу дом, в котором я прожил около пяти лет. Я сам принялся за его орнаментирование. Вскоре вместе с моим другом архитектором мы поняли, что все малые искусства находились в состоянии полного упадка, особенно в Англии, и в 1861 году, с самонадеянной дерзостью юноши, я взялся все это переделать и основал какое-то подобие фирмы, занимающейся производством декоративных изделий. Д.-Г. Россетти. Форд Мэдокс Браун{33}, Бёрн-Джонс и Ф. Уэбб{34}, архитектор моего дома, стали главными работниками этой фирмы по части составления художественных эскизов. В то время начинала расти репутация Бёрн-Джонса. Он стал автором многих художественных эскизов для витражей и всей душой отдавался нашему предприятию. Прошло не так уж много времени, когда мы достигли первых успехов, хотя над нами, естественно, немало и посмеивались. Я относился к фирме как к деловому предприятию и, вопреки всем трудностям, которые нелегко себе представить, начал зарабатывать на этом небольшие деньги. Около десяти лет назад фирма развалилась, и я остался ее единственным участником, хотя еще получаю и помощь и эскизы от Ф. Уэбба и Бёрн-Джонса.
Между тем в 1858 году я опубликовал сборник поэм «Защита Геневры» — по духу исключительно наивных и очень средневековых. Спустя несколько лет я задумал создать свой «Земной рай» и с головой ушел в работу. К этому времени круг моего чтения по истории расширился, и я занялся переводом старонорвежской литературы. Я обнаружил, что это — превосходное дополнение к ленивой поступи средневековья. Кажется, в 1866 году я напечатал «Жизнь и смерть Язона»{35} — первоначально она предназначалась как одно из повествований для «Земного рая», но оказалась для этой цели слишком велика. К моему удивлению, книга была очень хорошо принята как критиками, так и публикой, и они с еще большей доброжелательностью приняли следующее мое произведение — «Земной рай», первую часть которого я напечатал в 1868 году. В 1872 году я опубликовал небольшую фантазию, преимущественно лирического характера, которая называлась «Любви достаточно». Около 1870 года я познакомился с исландским джентльменом г-ном Э. Магнюссоном{36}, благодаря которому выучился читать на северных языках. С ним я изучал большую часть этой литературы. Сердце мое было неожиданно тронуто прелестной свежестью и независимостью образа мыслей, чувством свободы, которое просвечивает во всех произведениях этой литературы, преклонением перед мужеством (огромной добродетелью человеческого рода) и их удивительной безыскусственностью. С помощью г-на Магнюссона я выпустил в свет «Сагу о Греттире Могучем», серию из шести саг под названием «Северные повести о любви» и, наконец, исландское переложение «Повести о Нибелунгах», которое называется «Сага о Волсунге».
В 1871 году я вместе с г-ном Магнюссоном отправился в Исландию. Я не только имел удовольствие видеть там овеянные романтикой пустынные места, но получил там урок, который запомнился на всю жизнь, а именно, что самая кошмарная нищета — пустяковое зло в сравнении с неравенством классов. В 1873 году я отправился в Исландию снова. В 1876 году опубликовал перевод «Энеиды» Вергилия, который был достаточно хорошо встречен. В 1877 году я начал свою последнюю поэму «Эпос о Нибелунгах», преимущественно основанную на исландской версии. Я выпустил эту поэму в свет в 1878 году под названием «Сигурд Волсунг и Падение Нибелунгов».
Все это время я упорно трудился и в своей фирме, где я имел успех даже с коммерческой точки зрения. Я уверен, что не будь я столь настойчив в некоторых принципиальных отношениях, то мог бы наверняка стать весьма богатым человеком, но даже и теперь мне не на что жаловаться, хотя последние несколько лет в деловом отношении не были успешными.
Все художественные эскизы, используемые для декоративности, — обои, ткани и прочее — я делаю сам. Я должен был ознакомиться не только с теорией, но и в какой-то степени с практикой ткачества, крашения и ситценабивного дела. Все это, я должен признаться, доставляло и доставляет мне огромное удовольствие.
Но при всем успехе я не мог не осознавать, что искусство, созданию которого я способствовал, должно отойти со смертью немногих из нас, по-настоящему о нем заботящихся, что перемены в искусстве, основанные на усилиях индивидуумов, должны прекратиться вместе с индивидуумами, вызвавшими эти перемены. И мои занятия историей и мои жизненные конфликты с мещанством современного общества вынудили меня прийти к убеждению, что искусство не может, по-настоящему жить и развиваться при нынешней системе торгашества и выколачивания прибылей. Я старался развивать эту точку зрения, которая, по сути дела, представляет собою не что иное, как социализм глазами художника, в различных лекциях, первую из которых я прочитал в 1878 году.
Приблизительно в то же время, когда я начал столь усиленно размышлять на эти темы и почувствовал необходимость изложить свои взгляды перед широкой публикой, разразился кризис в связи с восточным вопросом и тем волнением, которое завершилось свержением правительства Дизраэли{37}. Со всем энтузиазмом я присоединился к движению протеста, выступая на стороне либералов, поскольку мне казалось, что Англия рисковала оказаться втянутой в войну, и она была бы обязана этим партии реакции. Вместе с этим я ужасно боялся взрыва шовинистических настроений, которые прокатывались по стране, и опасался, что, если война в Европе будет забавлять нас, никому в нашей стране не захочется вникать в социальные проблемы. К тому же я понимал, что в Англии не существует партии более прогрессивной, чем радикалы, которые, запомните это, заявили, что они в оппозиции и к партии, открыто провозгласившей себя реакционной. У меня не было иллюзий на тот счет, что дело закончится победой либералов, хотя я и надеялся, что это сдержит поток шовинизма, национальной ненависти и предрассудков, к которым я всегда буду испытывать глубочайшее презрение. Поэтому я принял активное участие в антитурецком движении, стал членом Общества по решению восточного вопроса и упорно работал в этой области.
Я познакомился с некоторыми деятелями тред-юнионов того времени, но пришел к выводу, что они находятся под влиянием буржуазных политиканов и как только добьются победы на общих выборах, то не сделают ни одного шага вперед. Деятельность и бездеятельность нового, либерального парламента, в особенности закон о приостановке конституционных гарантий и война биржевых маклеров в Египте, положили конец последним моим надеждам, которые я мог еще возлагать на союз с радикалами, какими бы прогрессивными они себя ни провозглашали.
Я вошел в состав Комитета (секретарем которого был г-н Герберт Бэрроуз){38} — этот Комитет пытался выступить в определенной оппозиции к общему курсу, который либеральное правительство и либеральная партия стремились осуществить в первые дни этого парламента. Но деятельность Комитета потерпела полное фиаско, поскольку в ней отсутствовали какие-либо практические принципы, которые могли бы объединять его участников. Я упоминаю об этом с намерением показать, что я серьезно стремился присоединиться к любой организации, которая, казалось, готова была содействовать делу прогресса.
Следует понять, что я всегда стремился примкнуть к любой организации, открыто провозглашавшей себя социалистической. Так, когда в прошлом году г-н Гайндман предложил мне вступить в Демократическую федерацию{39}, я принял это приглашение, надеясь, что она будет выступать в пользу социализма, хотя у меня и были определенные сомнения по поводу ее деятельности. В целом же я должен признать, что в ее деятельности имеется меньше недостатков, чем можно было ожидать.
Мне следовало также написать выше, что в 1859 году я женился, и от этого брака у меня родились две дочери, с большим сочувствием относящиеся к целям моей жизни.
РЕДАКТОРУ «ДЕЙЛИ НЬЮС»
Опошление Оксфорда
Только что я прочитал вашу исключительно правдивую статью об опошлении Оксфорда, и мне захотелось спросить, не слишком ли поздно воззвать к милости Совета преподавателей в Оксфорде с просьбой пощадить некоторые старинные памятники городской архитектуры, которые они еще не успели уничтожить, в частности небольшие оштукатуренные дома напротив Тринити Колледжа или те красивые дома, которые сохранились на северной стороне Холиуэл-стрит. Эти здания в своем роде столь же значительны, как и более величественные сооружения, к которым люди всего мира совершают паломничество. Когда тридцать лет назад я впервые увидел Оксфорд, он был полон подобных сокровищ, но «культурный» Оксфорд, цинично и презрительно настроенный по отношению к тем знаниям, которыми он не обладает, оказавшись в плену торгашеского подхода, начисто смел большинство этих сооружений. Однако и сохранившиеся здания обладают неизмеримой ценностью, а те здания, которые расположены вверх от улицы Виктории или Бейзуотер, придают особую прелесть современному Оксфорду. Разве невозможно, сэр, заставить как городские, так и университетские власти Оксфорда обратить на это внимание и положить конец процессу разрушения? Нынешняя теория относительно предназначения Оксфорда сводится к тому, что он призван служить огромной открытой школой для подготовки юношей из высшего и среднего классов к трудностям будущего жития за счет труда других людей. Что касается меня, то я вовсе не считаю, что такое понимание функций университета столь уж возвышенно, но если такое понимание в наше время является единственно приемлемым, то по крайней мере очевидно, что оно не предполагает никакой нужды в истории и искусстве наших предков, которые Оксфорд все еще силится продолжать. Лондон, Манчестер, Бирмингем или даже какой-нибудь только что появившийся город Австралии окажется более достойным местом для подобного эксперимента, который представляется мне слишком грубым для Оксфорда. Говоря истинную правду, какое другое предназначение имеет Оксфорд, как не genius loci, который наши современные профессора-коммерсанты всеми силами стараются уничтожить? Одно слово по поводу д-ра Хорнби{40} и Итона. Неужели невозможен протест против того варварства, о котором я уже более не в силах писать? Неужели мнение выдающихся деятелей разных областей не может на него воздействовать? Несомненно, должна быть составлена петиция, которая выразит эти взгляды.
«Дейли ньюс», 20 ноября 1885.
Г-ЖЕ БЁРН-ДЖОНС
Март 1888
В целом я считаю, что положение будет оставаться довольно спокойным до следующего октября или ноября, когда все закипит снова. Я читаю «Войну и мир» Толстого, книгу, которой могу воздать много похвал, хотя читаю ее с трудом и все же, говоря без обиняков, читаю не без большого удовлетворения. В этих русских романах высказывается единодушное мнение о нерешительности интеллектуальных людей: Гамлет (я имею в виду шекспировского Гамлета, а не первоначального Амлота) должен был быть русским, а не датчанином. Это проливает некоторый свет на решимость и прямолинейность тамошних революционно настроенных героев и героинь, словно бы они говорят: «Русские всегда нерешительны, и разве дождешься, когда они начнут действовать? Смотрите же, вот мы отбрасываем все прочь и идем прямо на смерть!»
Не думаю, что я примусь за «Анну Каренину». Мне хочется почитать что-нибудь более поднимающее дух. У меня не очень хорошее настроение — не могу отделаться от мысли, что в последнее время я должен был бы сделать больше, чем сделал. Хотя я и не знаю, что бы мог сделать, и все же чувствую себя убитым и подавленным. Тем не менее нельзя приходить в плохое настроение из-за дел, ибо я никогда не думал, что они могут развиваться столь быстро, как это было в последние три года, только вот мнения могут распространяться вширь, а организация растет не так уж быстро...
РЕДАКТОРУ «ДЕЙЛИ КРОНИКЛ»{41}
10 ноября 1893
Глубинный смысл нашей деятельности
Сэр,
Разрешите мне высказать несколько соображений в дополнение к вашему замечанию относительно будущего изобразительных искусств. Вы вправе предположить, что я пессимист в этом вопросе. Дело обстоит не так, но мне очень хочется развеять всякие иллюзии по поводу будущей судьбы искусства. Я не верю, что жизнь искусства можно поддерживать пусть даже и энергичными действиями небольшой группы особенно одаренных людей и небольшим кругом их почитателей из широкой публики, в целом неспособной их понять и насладиться их работой. Я твердо придерживаюсь мнения, что все достойные направления в искусстве должны быть в будущем, как это было и в прошлом, результатом стремления народа к прекрасному и к подлинному наслаждению жизнью. А теперь, когда демократия закладывает новые основы общества, которое медленно вырастает из недр анархии коммерческого периода, это стремление народа к красоте должно вырасти из реального экономического равноправия всего населения. Наконец, я до такой степени уверен в возможности достижения такого равенства, что готов принять в качестве последствия совершающегося ныне процесса кажущееся исчезновение того искусства, которое еще осталось нам. Я уверен, что это будет лишь временной утратой и что за ней последует возрождение искусств...
Я предвижу искусство будущего не как смутную мечту, но как практическую неизбежность, покоящуюся на общем благосостоянии народа. Правда, мне не придется увидеть этого расцвета искусства, поэтому меня можно извинить, если я вместе с другими художниками пытаюсь выразить себя в сегодняшнем искусстве, представляющемся нам единственным остатком органического творчества прошлого, к которому был приобщен народ, какие бы другие недостатки ни были присущи условиям его жизни. Ибо нам, художникам, присуще неподдельное тонкое чувство искусства, хоть мы и вынуждены трудиться среди невежества тех, кто всю жизнь тратит на изготовление художественных произведений (то есть производителей товаров), а также среди дурацкой претенциозности тех, кто, не производя ничего, лишь притворяется, что занят делом.
И все же, если мы (те из нас, которым столько же лет, сколько и мне) не увидим своими глазами нового искусства, выражающего всеобщее наслаждение жизнью, мы даже теперь видим его семена, которые начинают прорастать. Ибо если истинное искусство не может существовать без поддержки производящих классов, то как они могут обратить свое внимание на него, если живут среди ужасных забот, угнетающих их изо дня в день? Поэтому первым шагом к возрождению искусства должен быть решительный подъем благосостояния рабочих. Их жизненный уровень должен быть (если говорить о самом малом) не таким скудным и ненадежным, а рабочий день должен быть короче. Это улучшение должно стать всеобщим и должно быть защищено законом от возможных превратностей рынка. Но эта перемена к лучшему может быть осуществлена усилиями самих трудящихся. «Пусть и не для нас, но нашими руками» — вот каков их девиз. Тот факт, что они сами стремятся к этому и действуют согласно этому принципу, делает этот год по-настоящему памятным, как бы ни были незначительны его достижения. Таким образом, сэр, я не только признаю, но с радостью утверждаю, что «горняки закладывают основу для чего-то лучшего». Борьба против ужасной власти толстосумов, выколачивающих прибыли, теперь провозглашается трудящимися как основной их принцип. Отныне это уже не словопрения от случая к случаю; но хотя важность этой борьбы теперь и признается повсеместно, мне кажется, что она все еще недооценивается. Что касается лично меня, то я воспринимаю быстрый прогресс в сторону равноправия как нечто надежное; то, что эти стойкие горняки совершают перед лицом таких громадных трудностей, могут и будут делать другие рабочие. Когда же жизнь станет легче и намного радостней, у людей будет больше досуга, чтобы оглянуться вокруг и поискать то, чего они желают в мире искусства, и у них появится сила осуществить свои желания. Никто не в состоянии сказать теперь, какую форму примет это искусство, но очевидно, что оно будет зависеть не от каприза немногих людей, а от воли всех. Можно надеяться, что это искусство не остановится на уровне прошлых веков, но превзойдет его, ибо жизнь станет прекраснее после исчезновения насилия и тирании, вопреки, а не благодаря которым наши предки создали дивные произведения народного искусства, в немногих образцах донесенные временем до нас.
Остаюсь, сэр, покорно ваш Уильям Моррис
РЕДАКТОРУ «ДЕИЛИ КРОНИКЛ»
23 апреля 1895
Сэр,
я отваживаюсь обратиться к вам с просьбой разрешить мне сказать несколько слов по вопросу о теперешнем обращении с Эппинг Форест{42}. Я родился и вырос в его окрестностях (Уолтемстоу и Вудворд). В детстве и юности я знал это место вдоль и поперек, от Уэнстеда до Фейдонза, от Хейл Энда до Ферлоп Оука. В те дни у него не было худших врагов, чем расхитители гравия и строители заборов, он был всегда живописен и прекрасен. Из того, что доходит до меня, я вижу, что большая часть его уничтожена, и я опасаюсь, сэр, что, несмотря на оптимистические нотки в ваших статьях по этому поводу, то немногое, что остается от него, находится под угрозой дальнейшего разрушения.
Этот лес особенно ценен тем, что в огромной своей части он состоит из грабов, то есть деревьев, которые растут только в таких немногих местах, как, например, в Эссексе и Герце. Несомненно, это был самый большой грабовый лес на наших островах, и, кажется, во всем мире. Все указанные грабы были подстрижены, каждые четыре года или шесть лет их окуривали, а во многих местах среди них росли рощицы остролистника. В результате всего этого лес был совершенно особый, в высшей степени привлекательный, и другого такого леса нельзя было найти нигде. И я утверждаю, что здесь лишь такое обращение допустимо, которое оставляет неприкосновенным этот грабовый лес.
Но хотя граб и интересное дерево в глазах художника и разумного человека, он вовсе не является предметом любви со стороны любителей-садоводов, и я очень сильно опасаюсь, что власти намерены очистить лес от его природных деревьев и вместо них насадить деревья типа гималайских кедров и заморские хвойные саженцы.
Я слышал, что был образован «комитет экспертов», который должен заседать и вынести свое решение по вопросу Эппинг Фореста. Однако, сэр, слово «эксперт» не может заткнуть мне рта, и я призываю широкую публику присоединиться к моей позиции. «Эксперт» может оказаться очень опасным человеком, потому что он способен сужать свои взгляды до какого-то определенного дела (обычно коммерческого характера), которым он занимается.
В частности, в этом вопросе мы не хотим зависеть от перста лесного стража, который занимается выращиванием леса на рынок, или же от ботаника, занятие которого — собирать разновидности флоры для ботанического сада, или от садовника, который по своей обязанности занимается тем, что опошляет сад или ландшафт настолько, насколько позволит ему кошелек его патрона. Тут нужен разумный человек с подлинным художественным вкусом, который принял бы во внимание насущные потребности дела и дал бы соответствующий совет.
В настоящее время мне кажется, что власти, которым попал в руки Эппинг Форест, имеют в отношении леса два намерения. Прежде всего они, вероятно, намерены превратить его в сад или разровнять его в площадки для гольфа (и я очень сильно опасаюсь, что именно последняя глупость засела в их головах). Во-вторых, вероятно, считают необходимым (как вы и полагаете) сделать более редкими грабы с тем, чтобы дать им возможность для лучшего роста. Что касается первой альтернативы, то мы, лондонцы, должны протестовать против этого всеми силами. Если этот план будет осуществлен, то, во всяком случае, Эппинг Форест будет превращен в обычный вульгарный клочок земли и фактически будет уничтожен.
Что же касается второго плана, то для того, чтобы нас успокоить, мы должны получить заверения, что очищенная земля будет вновь засажена, и почти целиком, грабами.
Помимо того, сугубое внимание должно быть уделено тому, чтобы не пропало ни единого дерева, если только это не является необходимым для нормального роста других деревьев. Ибо известно, что при сравнительно небольших деревьях наиболее красивый эффект достигается только тем, что они расположены настолько близко друг к другу, насколько позволяют возможности их роста. Мы хотим, чтобы Эппинг Форест был лесом, а не парком.
Короче говоря, будет допущена громадная и практически непоправимая ошибка, если под прикрытием мнения экспертов из простой беспечности и легкомыслия мы позволим, чтобы решение этого вопроса перестало быть делом думающей публики, ибо тогда полностью исчезнет одно из величайших украшений Лондона и не останется никаких свидетельств того, что некогда на северо-востоке от него был громадный лес.
Г-ЖЕ БЕРН-ДЖОНС
Кельмскотт
Август 1895
Только что я размышлял, сколько ушло у меня понапрасну времени, когда, будучи уязвленным, но (особенно в последние годы), не обнаруживая признаков раздражения, я замыкался со своими горестями и злостью и ничего не делал! В то же время, даже если бы я лег в постель и оставался бы в ней месяц или другой, отказываясь принимать какое-либо участие в жизни, а мне и в самом деле хотелось этого в подобных случаях, то я готов думать, что это могло бы сыграть свою роль. Вероятно, ты не забыла, что такой игрой занимались некоторые мои исландские герои...
Стоял один из самых прекрасных дней, когда я приехал сюда, и я был готов насладиться путешествием от Оксфорда до Лечлейда. И так я и сделал. Но горе мне! Когда мы проезжали мимо некогда живописного парка близ Блэк Бартона, я убедился, что сбылись мои самые худшие опасения. Там стоял небольшой амбар, который ремонтировали на наших глазах. Стену разрушили и заделали ее цинковым железом. Мне стало плохо, когда я увидел это. Все развивается именно в этом направлении. Через двадцать лет в этих сельских местах, которые двадцать лет назад славились своими живописными постройками, все будет кончено, и мы не можем сделать ничего, чтобы чем-нибудь исправить это положение. Миру лучше было бы сказать: «Давайте покончим с этим и посмотрим, что тогда получится!» Я ничего не в состоянии делать, кроме как выступать за сохранение красоты, — глазу приятно, пока видно. Теперь, когда я состарился и понял, что ничего нельзя сделать, я почти жалею, что появился на свет с чувством романтики и красоты в этот проклятый век...
РЕДАКТОРУ «АТЕНЕУМ»{43}
Кельмскотт Хауз,
13 августа 1895
Гипсовые слепки и гобелены
В вашем разделе «Разговор об изящных искусствах» в прошлую субботу была помещена заметка о переменах в Саут-Кенсингтонском музее, и я с сожалением отмечаю, что она получила ваше одобрение. Я напоминаю об этом, чтобы меня лучше поняли те, кто, возможно, не обратил внимания, что речь идет о несогласии с переносом гобеленов в большой зал, а гипсовых слепков классической скульптуры в смежную галерею.
Переходя к подробностям этого вопроса, чтобы пункт за пунктом разбирать замысловатые намеки этой заметки, я начну с того, что я не знал, что этот зал предназначен для демонстрации гипсовых скульптурных слепков. Если б это было так, то я должен признать, что он мало приспособлен для такой цели. Когда слепки заполнили зал, то стало ясно, что их трудно осматривать так, как должно; в то же время у музея несомненно нет другого места, где гобелены были бы так же хорошо видны. Я отрицаю также, что гипсовые слепки плохо размещены в галерее, в которой они находятся теперь. Далее, хотя собрание гобеленов может быть «относительно» небольшим, все же оно целиком заполняет зал, а до этого руководство музея было не в состоянии найти другое место, где они были бы хорошо видны.
Далее, что касается соответствующих требований к помещению музея между этими двумя выставками. Я могу легко понять, если бы речь шла о подлинных произведениях классической скульптуры, то возникло бы сильное желание — у многих, но, возможно, не у всех, — чтобы все другое уступило место этой скульптуре. Но следует иметь в виду, что, с одной стороны, «скульптура», упомянутая в вашей заметке, не является оригинальной, а воспроизведена лишь механически. Я не хочу сказать, что она бесполезна для науки (хотя наверняка она иногда может ввести в заблуждение), но ее можно воспроизводить почти в любых количествах... С другой стороны, гобелены, каковы бы ни были их художественные достоинства, — подлинные произведения искусства и не могут быть воспроизведены. Действительно, очень редко какое-нибудь прекрасное произведение искусства поступает на рынок. Следовательно, жертвовать ими ради обыкновенных репродукций художественных произведений было бы преступной ошибкой, если такое расположение станет постоянным. А я очень хорошо знаю, что многие «образованные поклонники искусства» сердечно благодарят теперешнего директора за устранение позора, который ложится на Саут-Кенсингтонский музей даже из-за временного пренебрежения к гобеленам.
Мне не хочется превращать эту тему в арену битвы стилей, но я должен сказать несколько слов о том, что на самом деле представляет «сравнительно небольшая» коллекция гобеленов Саут-Кенсингтонского музея. В моем ответе вашему автору это необходимо, поскольку, очевидно, он этой коллекции не видел, иначе он едва ли отважился бы приписать гобелены «веку Людовика XIV и предшествующему веку», имея в виду, по моим понятиям, время с 1580 по 1680 год. Эта коллекция — чрезвычайно достойная и удачная подборка лучшего периода создания гобеленов (ибо это, в противоположность утверждению автора, не игольное шитье) — периода, скажем, с 1490 по 1530 год. Бахрома некоторых из них, хотя и более позднего происхождения, отличается великолепием своего художественного замысла и исполнения, столь соответствующего материалу, из которого они сделаны. Короче говоря, эта коллекция почти целиком составлена из средневековых или «готических» фрагментов, которые содержат намеки на приближение французского Возрождения (и то лишь некоторые), но ни один не принадлежит к стилю Людовика XIV, к которому у меня лично такая же сильная неприязнь, как и у автора этой заметки.
Эта коллекция, следовательно, представляет собой великолепный образец самого важного настенного украшения позднего средневековья и содержит несколько великолепнейших художественных эскизов, созданных для различных целей художниками того периода и наделенных красотой и очарованием, доступными только средневековым художникам. Пренебрежение к этой школе декоративного искусства было бы непростительной ошибкой со стороны властей Саут-Кенсингтона, и я думаю, что возражать против приобретения этой коллекции и организации выставки могут только те, кто, будь их воля, ничего бы не показывали широкой публике, кроме произведений классического искусства или их репродукций. Против такого узкого и высокомерного педантизма я протестую всем своим сердцем.
Даты жизни и деятельности Уильяма Морриса
1834 — 24 марта в Уолтемстоу близ Лондона в семье преуспевающего дельца родился Уильям Моррис.
1847 — Смерть отца.
1848—1851 — Обучение в школе (Марлборо).
1853—1855 — Обучение в Оксфордском университете. Приезд в Оксфорд (январь, 1853). Начало дружбы с Берн-Джонсом, будущим художником-прерафаэлитом. Поступление в Эксетер Колледж. Впечатление от книги Дж. Рёскина «Камни Венеции». Путешествие вместе с Бёрн-Джонсом и Фулфордом в Бельгию и северную Францию, где они знакомятся с живописью Мемлинга и ван Эйка, с соборами Амьена, Бове и Руана (лето 1854).
1856 — Участие в издании журнала «Оксфорд энд Кембридж мэгэзин», где публикуются первые стихи Морриса. Отказ от намерения стать священником. Учеба у архитектора Стрита, представителя «готического возрождения». Начало дружбы с будущим выдающимся архитектором Филипом Уэббом. Получение степени бакалавра. Переезд вместе с Бёрн-Джонсом в Лондон. Знакомство с главой прерафаэлитов художником Данте Габриэлем Россетти, решение под его влиянием стать живописцем.
1857 — Начало занятий декоративным искусством. Работа в содружестве с другими художниками-прерафаэлитами над фресками Нового зала Оксфордского союза. Знакомство с Джейн Барден, которая позирует Моррису для его «Изольды».
1858 — Выход в свет «Защиты Геневры», первой книги стихов Морриса.
1859 — Женитьба на Джейн Барден (апрель). Путешествие во Францию, Бельгию и Рейнскую область. Строительство Ред Хауза по проекту Уэбба. Работа над украшением Ред Хауза.
1860 — Переезд в Ред Хауз.
1861 — Основание фирмы «Моррис, Маршалл, Фокнер и К°» (апрель). Работа над поэмой «Троя». Рождение дочери Джейн Моррис.
1862 — Фирма показывает свои произведения на Большой выставке и удостаивается двух золотых медалей. Рождение дочери Мей Моррис.
1864 — Тяжелая болезнь Морриса (ревматическая лихорадка).
1865 — Отказ от идеи «Дворца искусств» в Ред Хаузе, продажа его и переезд в Лондон, где обосновывается и фирма. Продолжение работы над «Троей».
1866 — Замысел «Земного рая»; работа над «Язоном». Новое посещение Франции с остановкой в Париже.
1867 — Выход в свет поэмы «Жизнь и смерть Язона». Фирма создает интерьер столовой Саут-Кенсингтонского музея.
1868 — Выход в свет «Земного рая» (том I). Изучение исландского языка.
1869 — Выход в свет перевода «Саги о Греттире Могучем», сделанного в соавторстве с Магнюссоном.
1870 — Выход в свет перевода «История Волсунгов и Нибелунгов», «Земного рая» (тома II и III). Изучение средневековых рукописных книг.
1871 — Приобретение совместно с Россетти поместья Кельмскотт. Первая поездка в Исландию. Дневник этого путешествия.
1872 — Выход в свет книги стихов «Любви достаточно».
1873 — Поездка в Флоренцию и Сиену (весной). Вторая поездка в Исландию (поздней осенью).
1874 — Россетти покидает Кельмскотт. Поездка со всей семьей в Бельгию.
1875 — Ликвидация фирмы «Моррис, Маршалл, Фокнер и К°», основание фирмы «Моррис и К°» под руководством одного Морриса. Получение в Оксфорде степени магистра. Поездка в Уэлс. Эксперименты в красильном деле. Выход в свет перевода «Энеиды» Вергилия.
1876 — Начало политической деятельности на посту казначея Ассоциации по восточному вопросу. Должность экзаменатора вступительного конкурса по рисованию в Саут-Кенсингтонской художественной школе. Выход в свет перевода саги «Сигурд Волсунг и падение Нибелунгов».
1877 — Основание Общества защиты старинных зданий. Первая лекция «Декоративные искусства», вышедшая отдельным изданием под заголовком «Малые искусства». Фирма открывает собственные выставочные залы. Манифест «Несправедливая война».
1878 — Деятельность в Ассоциации по восточному вопросу в тесном контакте с либеральной партией. Путешествие вместе с семьей в Венецию, Верону и Падую (весна). По возвращении в Кельмскотт начало занятий ковроткачеством. Инициатива движения протеста против реставрации собора св. Марка в Венеции.
1880 — Разрыв с либералами. Фирма создает интерьер тронного зала в Сент-Джеймском дворце.
1881 — Перевод мастерских фирмы в Мертонское аббатство. Деятельность в Комитете помощи голодающим Исландии. Выход в свет лекций «Надежды и страхи искусства». Смерть Россетти (апрель).
1883 — Избрание почетным членом совета Эксетер Колледжа. Вступление в Социал-демократическую федерацию. Фирма начинает изготовлять в Мертоне ковровые изделия. Лекция об искусстве и демократии в Оксфордском университете под председательством Дж. Рёскина.
1884 — Участие в журнале Социал-демократической федерации «Джастис». Работа над «Песнями для социалистов». Лекции о социализме в Лондоне и других городах страны. Выход из Социал-демократической федерации (декабрь).
1885 — Основание Социалистической лиги. Начало издания социалистического журнала «Коммонуил». Многочисленные выступления на митингах и лекции.
1886 — Участие в демонстрации безработных на Трафальгар Скуер 8 февраля («Черный понедельник»). Выход в свет отдельной книгой «Пилигримов Надежды» (перепечатка из «Коммонуил»), В «Коммонуил» печатается «Сон про Джона Болла» (1886—1887).
1887 — Выход в свет перевода «Одиссеи» Гомера. Участие в кампании в связи с забастовкой шахтеров на севере Англии. «Кровавое воскресенье» на Трафальгар Скуэр (13 ноября). Речь на похоронах Линнелла (18 декабря).
1888 — Выход в свет «Сна про Джона Болла» отдельным изданием. Выход в свет сборника лекций под заголовком «Знаки перемен». Участие в качестве делегата в работе Социалистического конгресса в Париже. Лекции о ткачестве на первой выставке Общества искусств и ремесел. Лекции об искусстве и его творцах для Национальной ассоциации содействия искусству в Ливерпуле. Множество других лекций о социализме.
1889 — Забастовка лондонских докеров (14 августа—14 сентября). Серия лекций на второй выставке Общества искусств и ремесел. Художественный конгресс в Эдинбурге.
1890 — Гобелен «Поклонение волхвов» для капеллы Эксетер Колледжа. Начало занятий полиграфией, подготовка к открытию Кельмскоттской типографии. Публикация в «Коммонуил» романа «Вести ниоткуда». Выход из Социалистической лиги и организация Хаммерсмитского социалистического общества.
1891 — Открытие Кельмскоттской типографии (январь). Выход в свет «Вестей ниоткуда» отдельным изданием. Выход в свет первой книги «Библиотеки исландских саг». Доклад о прерафаэлитах в Муниципиальной художественной галерее Бирмингема (октябрь). Тяжелая болезнь (весной).
1892 — Выход в свет второй книги «Библиотеки исландских саг». Кельмскоттская типография издает «Защиту Геневры», «Золотую легенду» и др. книги. Избрание старшиной Гильдии художественных мастеров.
1893 — Объединенный манифест английских социалистов, подписанный Моррисом, Шоу, Гайндманом и Сиднеем Уэббом. Книга «Социализм, его развитие и итог» (в соавторстве с Бельфортом Бэксом). Кельмскоттская типография издает «Утопию» Томаса Мора, «Вести ниоткуда» Морриса, «Баллады и поэмы» Россетти и другие книги. Выход в свет третьей книги «Библиотеки исландских саг».
1894 — Смерть матери Морриса. Кельмскоттская типография издает «Поэмы» Китса, «Сонеты и лирические стихи» Россетти и другие книги.
1895 — Кельмскоттская типография издает поэму «Беовульф» в переводе Морриса и «Жизнь и смерть Язона». Речь на похоронах С. М. Степняка-Кравчинского (28 декабря).
1896 — Кельмскоттская типография издает Чосера, первый том «Земного рая» и другие книги. Морская поездка в Норвегию. Смерть Уильяма Морриса 3 октября. Похороны в Кельмскотте 6 октября.
Комментарии
Лекции, статьи Уильяма Морриса об искусстве и социализме публиковались главным образом в социалистической периодической печати в последние двадцать лет его жизни, то есть в период его активного участия в социалистическом движении Великобритании.
При жизни У. Морриса были опубликованы два сборника его статей об искусстве: «Надежды и страхи за искусство» (Hope and Fears for Art, 1882) и «Приметы перемен» (Signs of Change, 1888). После его смерти появилось еще два сборника статей в начале XX века.
В 1910 году дочь У. Морриса, Мей Моррис, стала издавать собрание избранных сочинений своего отца (The Collected Works of William Morris, vol. 1—24, London, N-Yetc, 1910—1915). Подавляющее большинство статей У. Морриса вошло в 22-й и 23-й тома этого издания, вышедшего в свет в 1914—1915 годах.
В 1947 году в Англии был издан еще один сборник статей У. Морриса под названием «Об искусстве и социализме» (On Art and Socialism, Paulton (Somerset) and Lehmann, L. 1947). Составитель Холбрук Джексон включил в этот сборник все основные статьи У. Морриса и представил их в трех разделах: I — Искусство; II — Искусство и промышленность; III — Социализм.
На русском языке из статей У. Морриса, о которых идет речь, была опубликована лишь одна — «Как я стал социалистом» — в 1906 году издательством «Друг народа».
В основу данного издания (для переводов статей) взят сборник «Об искусстве и социализме», составленный X. Джексоном.
В связи с публикацией статей У. Морриса в настоящем сборнике необходимо отметить, что за последние пятнадцать лет советские ученые уделяли большое внимание последовательному изучению творчества У. Морриса.
В 1955 году вышел сборник «Из истории демократической литературы в Англии XVIII—XX вв.», где в статье, рассматривающей литературу социалистического движения, выдвигается в качестве актуальной проблема изучения творчества Уильяма Морриса[24].
А. Аникст в своей «Истории английской литературы» (1956) посвятил творчеству У. Морриса специальную главу[25].
В 1958 году вышел в свет третий том «Истории английской литературы», в который была включена специальная глава «Моррис и литература социалистического движения конца XIX — начала XX в.»[26]. Авторы ее — А. А. Елистратова, Л. М. Аринштейн. А. Н. Николюкин. Большая часть этой главы посвящена биографии и общей характеристике творчества Уильяма Морриса. Хорошо раскрывается в главе связь политической публицистики У. Морриса с его художественными произведениями.
В 1959 году Издательство иностранной литературы опубликовало избранные произведения Морриса на английском языке (William Morris, Selections. Foreign Languages Publishing House. Moscow, 1959). В сборник вошли «Песни для социалистов» (Chants for Socialists), «Пилигримы Надежды» (The Pilgrims of Hope), «Урок короля» (A King's Lesson), «Сон про Джона Болла» (A Dream of John Ball), «Вести ниоткуда» (News from Nowhere) и избранные статьи.
В предисловии Ю. Шведова дается характеристика мировоззрения и творчества У. Морриса.
В самые последние годы появился еще ряд статей, посвященных творчеству У. Морриса. Из них особо следует выделить теоретически аргументированную статью А. А. Елистратовой «Вильям Моррис и Роберт Трессел. К вопросу о роли революционного романтизма и критического реализма в подготовке искусства социалистического реализма в английской литературе»[27].
Вслед за литературоведами к изучению творчества У. Морриса обратились советские искусствоведы и эстетики. В 1967 году в «Памятниках мировой эстетической мысли» была опубликована в извлечениях работа Морриса «Искусство и социализм»[28].
В советской науке признается исключительно важное место творчества Морриса в прогрессивной культуре Запада конца XIX века.
Касаясь работ о Моррисе в Англии, следует сказать, что за последнее время их появилось значительное количество. В пропаганде творчества У. Морриса ведущую роль играет Компартия Великобритании. Отношение передовых кругов Англии к наследию Морриса как нельзя более ясно выражено в характеристике, данной ему в одной из статей о нем, публиковавшихся время от времени в газете «Дейли Уоркер» (орган Компартии Великобритании): «Моррис был великим англичанином, великим художником и дизайнером, великим революционером, — называвшим себя коммунистом»[29].
С начала 30-х годов по инициативе Компартии стали издаваться малоизвестные произведения Морриса, осуществлялась публикация его писем, относящихся к участию Морриса в рабочем движении, и одновременно шла подготовка работ о Моррисе. Так, в 1934 году по поручению ЦК Компартии Англии написана брошюра Арнота «Уильям Моррис. Реабилитация»[30]. Арнот, выступая против буржуазной критики, говорит о значении революционного творчества Морриса в классовой борьбе английского пролетариата.
В 1955 году появился объемный труд Э. П. Томпсона «Уильям Моррис. От романтика до революционера»[31] Автор привлек обширный материал о рабочем движении Англии, об участии в нем Морриса. В виде приложений опубликован ряд интересных документов, в частности Манифест Социалистической лиги, написанный У. Моррисом. Но, несмотря на объем книги (около 1000 страниц), автору не удалось в ней дать полный и объективный анализ всей многосторонней деятельности Морриса.
Вторая большая монография о Уильяме Моррисе вышла в Англии в 1967 году. Автор книги «Творчество Вильяма Морриса»[32] Поль Томпсон (однофамилец Э. П. Томпсона) поставил перед собой цель — пусть кратко, но дать характеристику всех областей творчества У. Морриса, сохраняя при этом хронологическую последовательность.
Как я стал социалистом (How I Became Socialist)
Статья впервые опубликована в 1894 году в органе Социал-демократической федерации «Джастис», на русском языке опубликована в 1906 году в издательстве «Друг народа».
1. Смит Адам (1723—1790) — английский буржуазный экономист, представитель классической буржуазной политической экономии. Основной труд «Исследование о природе и причинах богатства „народов“» (1776) определяет классовое строение буржуазного общества, разделяемого на три класса: наемные рабочие, капиталисты, земледельцы.
2. Рикардо Давид (1772—1823) — английский буржуазный экономист, который своими трудами завершает классическую буржуазную политическую экономию в Англии. Основной труд: «Начала политической экономии и налогового обложения» (1819). Маркс считал, что для развития политической экономии имела значение теория трудовой стоимости Рикардо.
3. Милль Джон Стюарт (Mill John Stuart, 1806—1873) — английский буржуазный экономист и философ. В своем главном экономическом труде «Основания политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии» (1848) Милль объясняет прибыль капиталистов лженаучной теорией воздержания капиталистов в потреблении.
4. ...даже принимался за Маркса... — Моррис читал «Капитал» Маркса дважды: в 1883 году (по-французски) и в 1887 году. Вместе с Бэксом Моррис написал для «Коммонуил» серию статей под названием «Основы социализма» (Socialism from Root-UP), семь из них посвящены изложению экономической теории содержащейся в I томе «Капитала». В статьях давалось развернутое толкование специальной терминологии, употребляемой Марксом.
По поводу этой совместной с Бэксом работы Моррис писал в своем дневнике: «...не думаю, чтобы я когда-нибудь мог бы стать экономистом, хотя бы в элементарном смысле этого слова, но я рад, что благодаря этому сотрудничеству я понемногу начинаю вникать в Маркса» (см. Paul Thompson, The Work ot William Morris. London, 1967, p. 230).
5. Бэкс Эрнст Бельфорт — английский социалист; в 1881 году вместе с Гайндманом основал Социал-демократическую федерацию, из которой вместе с Моррисом вышел в 1884 году. Участвовал в организации Социалистической лиги; впоследствии — один из лидеров Британской социалистической партии.
6. Гайндман Генри Майерс (1842—1921) — один из основателен Социал-демократической федерации. Представитель оппортунизма в английском рабочем движении.
7. Шой Андреас (Sheu, Andreas) — австриец по происхождению, один из основателей Шотландской социал-демократической партии. В этом же 1883 году в письме к дочери Дженни У. Моррис дал такую характеристику А. Шою: «Андреас Шой — немец, социалист из Вены, производит впечатление прекрасного парня, хорошо говорит по-английски».
8. Карлейль Томас (Carlyle Thomas, 1795—1881) — английский писатель и философ-романтик. Произведение Карлейля, оказавшее большое воздействие на Морриса, — «Прошедшее и настоящее» (Past and Present, 1843). Энгельс высоко оценил памфлет, в котором Карлейль «превосходно рисует английскую буржуазию и ее отвратительную сущность». Но впоследствии Карлейль начинает занимать враждебную позицию по отношению к рабочему движению, выдвигает теорию культа героев («Герои и героическое в истории», 1846), которая приводит его к восхвалению капиталистов — капитанов промышленности. К произведениям Карлейля, которые носят явно реакционный характер, Моррис относится осуждающе, так в поздних статьях он иронически отзывается о «капитанах промышленности» и о «культе героев».
9. Рёскин Джон (Ruskin John, 1819—1900) — английский теоретик искусства, рассматривавший вопросы места и роли искусства в жизни буржуазного общества в свете социально-политических утопий. Основные работы: «Современные живописцы» в 5-ти томах (Modern Painters, 1843—1860), «Семь светочей архитектуры» — (The Seven Lamps of Architecture, 1849), «Камни Венеции» в 3-х томах (Stones of Venice, 1851—1853) «Политическая экономия искусства» (The Political Economy of Art, 1857) и др.
О влиянии Дж. Рёскина на мировоззрение У. Морриса см. Предисловие в настоящему сборнику.
10. ...гостиной. Подснэпа... — Подснэп — персонаж из романа Диккенса «Наш общий друг», воплощение самодовольства буржуа («он был горд тем, что подавал блестящий пример, будучи всегда доволен всем, а особенно самим собой»).
11. ...исчезает все радующее глаз, а место Гомера занимает Хаксли... — Моррис имеет здесь в виду естествоиспытателя Томаса Генри Хаксли (1825—1895), труды которого имели широкий резонанс в среде английской общественности, в частности, Морриса могла привлечь его книга «Место человека в природе» (Man's Place in Nature, 1863), в которой Хаксли доказывает, что анатомические различия между человеком и высшими обезьянами менее значительны, чем между высшими и низшими обезьянами; возможно, Моррис читал статью Хаксли «Учение Декарта об автоматизме животных».
Цели искусства (The Aims of Art) —
брошюра впервые опубликована в 1887 году в периодическом издании Социалистической лиги «Коммонуил».
1. ...впервые увидел город Руан... — У. Моррис посетил Руан летом 1854 года.
Искусство народа (The Art of the People) —
лекция в Бирмингемском обществе искусства и в школе дизайнеров 19 февраля 1879 года. Впервые опубликована в сборнике «Надежда и страхи за искусство» в 1882 году в изд-ве Ellis white. Эпиграф взят из романа Д. Дефо «Робинзон Крузо», гл. I, часть II. Моррису были близки просветительские взгляды Д. Дефо (1660—1731), прославившего труд человека как источник жизненных радостей. Как известно, в начале II части «Робинзона Крузо» рассказывается, как герой, вернувшись на родину, становится обладателем большого состояния и может теперь жить, не думая о хлебе насущном, но именно праздность начинает угнетать его.
1. Платон (427—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист, ученик Сократа. Не разделяя философии Платона в целом, Моррис подхватывает его мысль, что муза должна доставлять «удовольствие не первым встречным, но людям наилучшим и получившим достаточное воспитание»; он раскрывает ее не в аристократическом, как у Платона, а в демократическом духе, ратуя за то, чтобы искусство принадлежало народу, которому нужно создать условия для получения эстетического воспитания.
2. Саут-Кенсингтонский музей — музей истории Лондона, расположенный в здании Кенсингтонского дворца в Лондоне.
3. Плантагенеты — английская королевская династия (1154—1399).
4. Валуа — французская королевская династия (1328—1589).
Красота жизни (The Beauty of Life) —
лекция прочитана для Бирмингемского общества искусств и учащихся школы дизайнеров 19 февраля 1880 года.
1. Ювенал Децим Юний (60—140 г. н.э.) — древнеримский сатирик. Эпиграф «И ради жизни сгубить самое основание жизни» (propter vitam vivendi perdere causa) взят из сатиры 8-й, в которой Ювенал осуждает нравы власть имущих в Древнем Риме.
2. Возродилась прекрасная серьезная поэзия... — Моррис приветствует антиклассицистские тенденции в английской литературе VIII века.
3. Блейк Уильям (Blake William, 1757—1827) — английский поэт, художник, гравер эпохи романтизма. Поэзия Блейка, хотя и несвободная от мистических мотивов, в целом характеризуется глубокими симпатиями к простому народу. Основные произведения: «Песни невинности» (Songs of Innocence, 1789), «Пески опыта» (Songs of Experience, 1794), «Пророческие книги», в число которых входит и оставшаяся незавершенной «Французская революция» (1791). Блейк прославляет революцию как будущее освобождение человечества, верит, что в результате социального переустройства люди, свободные от гнета, сделают свою жизнь прекрасной, достигнув гармонии с природой.
4. Колридж Сэмюэль Тейлор (Coleridge Samuel Taulor, 1772—1834) — английский поэт-романтик, один из тех, кто возглавил так называемую «озерную школу» — направление в английском романтизме, в котором наряду с отрицанием буржуазной цивилизации идеализировалось средневековье.
5. Георг II — английский король (1727—1760).
6. Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771—1832) — английский романист и поэт, создатель жанра исторического романа. В одном из своих писем Моррис пишет: «Я никого так не люблю и никем так не восхищаюсь, включая даже Рёскина, как Скоттом, а из романистов нашего поколения таким же несравненным является для меня Диккенс» (Letters, р. 247).
7. ...нелегко рассказывать о своих личных друзьях — нет, своих учителях — Моррис здесь имеет в виду художников-прерафаэлитов — Данте Габриэля Россетти, Хольмана Ханта, Д.-Э. Милле, Мэдокса Брауна, Артура Хьюза и Эдуарда Бёрн-Джонса.
8. «Черная страна» — промышленный и угольный районы Стаффордшира и Уоркшира, между которыми расположен Бирмингем.
9. Саламин — остров в Сароническом заливе Миртойского моря. В 480 г до н. э. у острова Саламин произошел бой между древнегреческим и персидским флотами. Греки нанесли значительные потери персам и заставили их отступить. Победа греков в саламинском бое решила исход войны в их пользу.
10. Фермопилы — узкое ущелье, в котором триста спартанцев оборонялись от многочисленной армии персидского царя. Они погибли, но задержали продвижение персов в Грецию, а их мужественный подвиг вызвал патриотический подъем, приведший к объединению и победе греков над персами.
11. В этом, по моему мнению, и состоит смысл народного образования. — Моррис говорит здесь о реформе начальной школы, проведенной в 1870 году стоявшими у власти либералами, на стороне которых был тогда Моррис. Реформа была вызвана тем, что английская начальная школа была в руках различных религиозных общин, и школьников обучали религиозным дисциплинам, а не точным наукам. Буржуазии же нужны были рабочие, которые хотя бы элементарно были подготовлены в техническом отношении, чтобы работать у новых станков. Моррис, как видим, смысла этой реформы тогда не понял.
12. Собор св. Марка в Венеции — выдающийся памятник архитектуры. Построен в 970—1071 годы, впоследствии, до XVII века, не раз перестраивался. Собор отличает своеобразный стиль, в котором особенности византийской архитектуры сочетаются с формой романских базилик. К красотам венецианской архитектуры привлек внимание Джон Рёскин своей книгой «Камни Венеции» (1851).
13. Иниго Джонс (Inigo Jones, 1572—1652) — выдающийся английский архитектор эпохи Возрождения. Наиболее известны здания, построенные им в Лондоне: Банкетный зал дворца Уайтхолл, Ковент-Гарден, Эшбернхэмский дворец и др.
14. ...«славных мужей и предков, нас породивших»... — Библия, Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 44, ст. 1.
15. Хэмптон-Корт — дворец и парк на берегу Темзы в Лондоне.
16. Хаммерсмит — район в западной части Лондона, где находился дом Морриса — Кельмскоттхауз.
17. ...обнажить мечь вместе с Кромвелем... — Оливер Кромвель (1599—1658) — видный политический деятель, полководец парламентских войск в период английской буржуазной революции, получивший впоследствии титул лорда-протектора, правителя Англии (1653—1658). В годы правления Кромвеля началась англо-франко-испанская война.
Искусство и красота земли (Art and the Beauty of the Earth) —
лекция прочитана в городском зале Берслама 13 октября 1881 года.
1. Гиббон Эдуард (Gibbon Edward, 1737—1794) — английский историк-просветитель, автор многотомного труда «История упадка и разрушения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776—1789).
2. Дандоло — одна из древних патрицианских фамилий. Здесь речь идет об Энрико Дандоло (1108—1205), доже Венеции с 1192 года, при котором Венеция начала торговлю с Арменией, Персией и Месопотамией. В 1204 году Энрико Дандоло завоевал Константинополь.
3. Константин Палеолог — последний византийский император (1449—1453), пал в 1453 году при взятии Константинополя турецкими войсками.
4. О России см. примеч. к стр. 218.
Искусство, благосостояние и богатство (Art, Wealth, Riches) —
лекция, прочитанная на совместном вечере манчестерских обществ в Королевском институте в Манчестере 6 марта 1883 года.
1. Александр Богатый — царь Македонии и великий полководец (356—323 г. до н. э.).
2. Канут Богатый — король Норвегии, Дании и Англии (955—1035).
3. Альфред Богатый — король Англии (848—900) Прилагательные «великий» (great) и «богатый» (rich) при именах королей приобретали характер синонимов: так, имя Александра Великого писалось по-английски Alexander the Rich, позднее Alexander the Great.
4. ...Повседневная жизнь отвергает и обходит их молчанием, — Моррис здесь говорит о художниках-прерафаэлитах, бравших сюжеты из прошлого, преимущественно из эпохи позднего средневековья, до расцвета Возрождения. Нередко обращались они и к античности.
5. Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — вождь афинской рабовладельческой демократии в период ее расцвета. При Перикле Афины превратились в крупнейший центр экономической, политической и культурной жизни в Греции. При нем были построены Парфенон, Пропилеи, Одеон и другие классические памятники античного искусства.
6. Данте Алигьери (1265—1321) — величайший итальянский поэт, «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени» (Энгельс). Увлечение не только «Божественной комедией» и всей его поэзией, но также самим образом Данте характерно для художников-прерафаэлитов, и более всего для одного из основателей Братства прерафаэлитов Россетти, живописца и поэта.
7. Гоуэр стрит (Cower Street) — одна из самых старинных улиц Лондона.
8. Генрих VIII Тюдор — король Англии (1509—1547). Во времена Генриха VIII шел массовый сгон с земли крестьян, которые превращались в бродяг. Против них были изданы акты 1530 и 1536 годов — примеры кровавого законодательства Генриха VIII. «Акт о супремации» (1534) поставил Генриха VIII во главе церкви, что позволило ему раздать или продать монастырские земли дворянству и буржуазии и тем самым усилить их власть над неимущим населением. Жестокость, глумление над человеком, над его разумом (казнь Томаса Мора в 1535 году) отличали правление Генриха VIII.
9. ...моей Утопии... В 1891 году Моррис опубликовал утопический роман «Вести ниоткуда»
Искусство под игом плутократии (Art under Plutocracy) —
лекция, прочитанная в Оксфордском университете 14 ноября 1883 года. Председательствовал Джон Рёскин.
1. Плиний Секунд (Старший) Кай (23—79) — древнеримский писатель и ученый, автор «Естественной истории» (37 книг).
2. Томас Мор — см. примеч. к стр. 213.
3. Милль Джон Стюарт — см. примеч. к стр. 54.
4. Коббетт Уильям (Cobbett William, 1762—1835) — английский радикальный публицист, критик британских правящих партий. Маркс дал ему такую характеристику: «Уильям Коббетт быт самым талантливым представителем или вернее основателем старого английского радикализма. Он первый разоблачил тайну традиционной партийной борьбы между тори и вигами, сорвал маску показного либерализма с паразитической олигархии вигов, повел борьбу против лендлордизма во всех его формах, высмеял лицемерную алчность государственной церкви и напал на плутократию...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, стр. 195). При всей остроте своих политических выступлений Коббетт, по словам Маркса, «редко выходил за пределы буржуазной реформы».
В своих «Сельских поездках» (Rural Rides, 1821) Коббетт называет Лондон «громадным жировиком» (The great wen). Коббетт, так же как Карлейль и Рёскин, оказал заметное влияние на мировоззрение Морриса.
5. Билль о реформе (The Reform Bill) — парламентская реформа 1832 года, в результате которой буржуазия получила дополнительные места в парламенте. Пролетариат, сыгравший решающую роль в борьбе за парламентскую реформу, не получил избирательных прав. Продолжение борьбы рабочего класса за демократические преобразования отразились в чартизме.
6. Хлебные законы (The Corn Laws) в Англии — законы, устанавливающие высокие пошлины на импорт пшеницы и других продуктов земледелия. Хлебные законы, существовавшие на протяжении XV—XIX веков, были выгодны земельной аристократии, которая благодаря этим законам могла поддерживать высокие цены на хлеб внутри страны. В 1846 голу хлебные законы были отменены правительством Р. Пилля. Парламентская реформа и отмена хлебных законов явились победой английской буржуазии, так как эти акты способствовали еще более интенсивному развитию капитализма и буржуазной демократии.
7. Китс Джон (Keats John, 1795—1821) — английский поэт-романтик. Моррису и его учителю Рёскину был близок эстетический идеал Китса, выраженный отчасти во вступлении к поэме «Эндемион»: «Прекрасное — это радость навеки» (A Thing of beauty is a joy for ever). Рёскин свою «Политическую экономию искусства» переиздал в расширенном виде под новым заголовком «Радость навеки» (A Joy for Ever, 1880), то есть взяв для этого слова Китса.
Говоря о полуневежественной деспотии, изображенной Китсом, Моррис имеет в виду его поэму «Изабелла» (строфы XIV—XVI).
Искусство и социализм (Art and Socialism) —
лекция в Лейстерском обществе секуляристов 23 января 1884 года.
1. ...потешаться над римским сатириком... — Моррис имеет в виду Ювенала.
2. Отрывок из этой статьи, начинающийся со слов «Я счел необходимым взглянуть на это требование через призму истории» и завершающийся фразой «А ценой, которую миру придется уплатить за свое счастье, будет революция...» — Моррис сделал своеобразным предисловием к своим «Гимнам для социалистов» (Chants for Socialists, 1884—1885). И в первом же гимне «Наступает день» (The Day is Coming) мысли Морриса, высказанные в статье, облечены в поэтическую форму.
3. Laissez faire, laissez alter (франц.) — буквально «позволяйте делать, позволяйте идти», иными словами — «предоставьте свободу действий». Laissez faire — политика невмешательства государства в экономическую жизнь, в которой была заинтересована английская промышленная буржуазия XIX века. Утилитаризм, «философию пользы», выражающуюся в политике laissez faire, пропагандировали в Англии буржуазные мыслители — Бентам, Милль (см. примеч. к стр. 54), Адам Смит (см. примеч. к стр. 54).
4. Мидас (греч. миф.) — фригийский царь, получивший от богов дар превращать в золото все, к чему он прикасался. В своем памфлете «Прошлое и настоящее» Т. Карлейль (см. примеч. к стр. 55) первую главу Вступления назвал «Мидас». В этой главе Карлейль изобразил нищету трудящихся Англии, создающих богатство страны.
5. Чосер Джефри (Chaucer Geoffrey, 1340—1400) — основоположник английской национальной литературы, «отец английской поэзии», автор «Кентерберийских рассказов».
6. ...был изумлен, обнаружив в рабочей аудитории сердечное отношение к Джону Рёскину. — Популярность Джона Рёскина среди широких слоев трудящихся особенно возрастает в 80-е годы в связи с тем, что Рёскин начал обращаться к народу с критикой буржуазного общества. В своих «Письмах к рабочим и труженикам Великобритании» (Fors Clavigera. Letters to the Workmen and Labourers of Great Britain, 1871—1884) Рёскин осуждает существующий социальный строй Англии, говорит о правах трудящихся на национальные богатства, которые они создают своими руками. Однако положительная программа Джона Рёскина оставалась социально-утопической, слабости которой Моррису в эти годы стали очевидными.
7. Милль Джон Стюарт — см. примеч. к стр. 54.
8. Чартизм — рабочее движение, возникшее в Англии в конце 30-х годов и длившееся до начала 50-х годов XIX столетия. Название происходит от слова «хартия» — главного документа чартистов, состоящего из шести пунктов; из них основным было требование всеобщего избирательного права. В. И. Ленин определил чартизм как «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное, пролетарски-революционное движение» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 282).
9. Тред-юнионизм. — Тред-юнионы — профсоюзы в Англии и ее доминионах. Возникли еще в XVIII веке. С 1825 года существуют легально; в 1868 году был основан Британский конгресс тред-юнионов. Тред-юнионы объединяли главным образом квалифицированных рабочих, рабочую аристократию. В конце 70-х — начале 80-х гг. в обстановке острой классовой борьбы в Англии начинается массовое рабочее движение, которое стало называться «новым тред-юнионизмом», в котором принимали участие широкие массы неквалифицированных рабочих. Моррис имеет в виду «новый тред-юнионизм».
10. ...возвышенным Мором и доблестным Латимером. — Мор Томас (More Thomas, 1478—1535) — великий гуманист английского Возрождения, родоначальник утопического социализма, автор знаменитой «Утопии» (1516).
Латимер Хью (Latimer Hugh, около 1490—1555) — английский епископ, один из деятелей Реформации в Англии. Так же, как и Мор, Латимер осуждал огораживание земель. За свои выступления против властей и церкви Латимер был предан сожжению.
11. ...De te fabula... — полностью: «Mutato nomine de te fabula narratur» (лат.) — если изменить имя, то сказка сказывается о тебе. Из книги сатир римского поэта Горация.
12. ...или в России, где за одно-два слова вас отправят в Сибирь...
С жизнью в царской России Морриса знакомил, главным образом, один из его близких друзей русский революционер С. М. Степняк-Кравчинский. который жил в эмиграции в Англии. Под редакцией Степняка-Кравчинского издавался ежемесячный журнал на английском языке «Свободная Россия» (Free Russia), благодаря которому английская общественность знакомилась с публицистическими произведениями русских писателей, с выступлениями передовых людей России.
13. Демократическая федерация была основана в 1881 году. В 1884 году переименована в Социал-демократическую федерацию. Эта организация хоть и называлась социалистической, но была совершенно оторвана от рабочих. Ее руководитель Гайндман, которого В. И. Ленин назвал «демократом неопределенного цвета», был тесно связан с консервативной партией. В 1884 году Моррис выходит из Социал-демократической федерации в знак протеста против беспринципной сделки Гайндмана с консерваторами во время избирательной кампании.
14. ...зловеще продемонстрировано. — В связи с волнениями в Ирландии английское правительство издало драконовский закон о предупреждении преступления, дававший полиции неограниченные права обыскивать и арестовывать по одному только подозрению (июль 1882 г.). В то же время рабочие волнения, происходившие в самой Англии, также подавлялись посредством беспощадных полицейских мер.
Полезная работа и бесполезный труд (Useful Work Versus Useless Toil) —
лекция, изданная в 1885 году Социалистической лигой в виде брошюры.
1. ...Социалистам часто задают вопрос... — Здесь в рассуждениях о труде в будущем обществе Моррис воздерживается от конкретной характеристики этого труда, но в своем романе «Вести ниоткуда» (1891), в главе XV, он подробно характеризует систему отношений в будущем коммунистическом обществе.
Малые искусства (The Lesser Arts) —
лекция прочитана 4 декабря 1877 года в Гильдии по изучению ремесел. Впервые опубликована в сборнике «Надежда и страхи за искусство» в 1882 году.
1. Вестминстерское аббатство — замечательный памятник средневековой архитектуры Лондона — воздвигалось начиная с 1245 года при короле Генрихе III (1216—1272), в основном завершено в XV веке; пристройки производились до середины XVIII века.
Моррис не совсем точен, когда заявляет, что остались неизвестными имена людей, воздвигавших Вестминстерское аббатство, — это Генри Рейнский, королевский каменщик при Генрихе III, мастера Джон Глостерский, Роберт Беверли, Генри Йевель. Западные башни Вестминстерского аббатства соорудил в 1722—1740 годах Николас Хоксмур.
2. Собор св. Софии в Константинополе — выдающийся памятник византийской архитектуры — построен в 532—537 годах зодчими Анфимием из Трала и Исидором из Милета.
3. Юстиниан I (527—565) — византийский император.
4. Один старый архитектор... — Морисс говорит об архитекторе Уильяме Уайкхемском (William of Wykeham, 1324—1404), которому приписывается эта поговорка: «О человеке судят по его поведению в обществе».
5. Эдуард III — король Англии (1327—1377).
6. Нью-Колледж в Оксфорде основан в 1379 году.
Возрождение художественного ремесла (The Revival of Handicraft) —
статья впервые опубликована в «Фортнайтли Ревью» в ноябре 1888 года.
1. Уэллс Дэвид (Wells David Amis, 1818—1898) — американский экономист.
Искусство и его творцы (Art and Its Producers) —
лекция прочитана в Национальной ассоциации развития искусства в Ливерпуле в 1888 году.
1. ...из котла Медеи — Медея (греч. миф.) дочь царя Колхиды, супруга аргонавта Ясона. С помощью волшебных чар осуществила месть за измену Ясона.
2. «Черная смерть» — эпидемия чумы, свирепствовавшая в Европе в середине XIV века.
3. Филипп ван Артевельде (1340—1382) — сын Якоба Артевельде — вождя гентских купцов и ремесленников, восставших против графа Фландрии и изгнавших его в 1330 году. Артевельде стал фактически правителем Фландрии. Но ремесленники и беднота не желали смириться с властью купечества, и Артевельде, который был выходцем из богатой среды, был убит ткачами в 1345 году, после чего граф вернул себе власть. Филипп ван Артевельде-сын по примеру отца возглавил в 1381 году новое восстание Гента против графа Фландрии и его союзников. В 1382 году он разбил войска графа, но 27 ноября этого же года в битве при Росбеке с войсками союзника графа — Карла VI французского — потерпел поражение и был убит.
4. ...как сделали их отцы при Куртре.
В 1302 году в битве при городе Куртре фламандская пехота разгромила рыцарей Филиппа IV, стремившегося захватить Фландрию.
5. ...если бы рослые иомены Кента и Эссекса... — Моррис говорит о вошедшем в историю восстании крестьян в 1381 году под предводительством Уота Тайлора. Майл-Энд — пригород Лондона, который был расположен тогда у городских ворот. Восставшие крестьяне вызвали сюда из Тауэра короля Ричарда II для переговоров и вручили ему свои требования, известные под названием Майл-эндской программы. Король обещал выполнить их требования и приказал им разойтись. В Майл-эндской программе не было вопроса о земле. Восставшие через некоторое время подготовили более радикальную программу, где главным пунктом было требование земли. На этот раз переговоры были в другом пригороде Лондона — Смитфилде, и программа эта вошла в историю под названием Смитфилдской. Король потребовал, чтобы Уот Тайлор подъехал к нему один. В сопровождении лишь одного знаменосца Уот Тайлор приблизился к королевской свите и предъявил Ричарду II смитфилдскую программу. В это время мэр Лондона внезапно ударил шпагой (якобы за непочтительность к королю) Уота Тайлора и убил его. С этого момента началась расправа с восставшими. Через месяц после убийства Уота Тайлора был казнен священник Джон Болл — сподвижник Уота Тайлора.
6. Я выступаю во имя жизни людей или, если хотите, вместе с римским поэтом — во имя целей жизни. Моррис, по-видимому, снова имеет в виду Ювенала.
7. Крейн (Crane Walter, 1845—1915) — английский художник, график, мастер декоративного искусства, живописец. Выполнял рисунки для социалистических журналов «Джастис» и «Коммонуил». Ближайший соратник У. Морриса, Крейн основал в 1884 году Гильдию работников искусства, а также Выставочное общество содействия искусствам и ремеслам.
Искусства и ремесла наших дней (The Arts and Crafts To-day) —
лекция в Национальной ассоциации развития искусства в октябре 1889 года в Эдинбурге.
1. Моррис называет прикладное искусство архитектурным.
2. Бленхеймский замок с парком находится неподалеку от города Вудсток. Замок был подарен королевой Анной герцогу Мальбро за победу, одержанную им при Бленхейме в 1704 году. В замке есть картины Рубенса, Ван Дейка, Тициана.
3. ...глупцы из племени Подснэпа — см. примеч. к стр. 56.
4. ...с широким кругом друзей и соседей... — В слово «сосед» Моррис вкладывает особый смысл. В будущем обществе, которое он изображает в романе «Вести ниоткуда», «сосед» общепринятое обращение, наподобие нашего «товарищ».
5. И такая теория (что вовсе не удивительно)... — Вероятней всего, что здесь Моррис говорит о художниках-импрессионистах, видимо, не случайно употребляет слово «the impression», чтобы намек был более ясным.
6. ...как сказал мой друг Бэкс... — см. примеч. к стр. 54. Бэкс в этом случае цитировал Гегеля, который раскрывает эту мысль в своей «Науке логики».
Готическая архитектура (Gothic Architecture) —
лекция в Выставочном обществе искусств и ремесел в 1889 году.
Это выступление Морриса относится уже к тому времени, когда взгляды его на развитие архитектуры в Англии окончательно установились. Свое представление о совершенной архитектуре, какую он хотел бы видеть в будущем, он описал в книге «Вести ниоткуда».
1. ...варварский, классический и средневековый. — Моррис здесь дает весьма упрощенную историю развития архитектуры до эпохи Возрождения, в особенности это относится к истории искусства Древней Греции. Как известно, история древнегреческого искусства охватывает X—I века до н. э. и распадается на четыре этапа: гомеровский период (XI—VIII вв. до н. э.), архаика (VII—VI вв. до н. э.), классика (V в. — первые три четверти IV в. до н. э.) и эллинизм (4-я четверть IV—I вв. до н. э.).
2. Диоклетиан — римский император (284—305), который для укрепления хозяйственной, политической мощи Римской империи осуществил всевозможные реформы — административные, финансовые, налоговые, военные и др. Подвергал гонениям христиан.
3. ...Персии периода Сасанидов. — Сасаниды — персидская династия (226—651), период правления Сасанидов в Персии ознаменован возникновением феодальных отношений. Сасанидское государство было завоевано в VII веке арабами.
4. ...ошибочно называем арабским (ибо у арабов никогда не было собственного искусства). — В прошлом веке довольно распространенным было утверждение, что во всех странах, входивших в арабский халифат в VII—IX веках, существовала для всех них единая «арабская» культура. Называя такой взгляд ошибочным, Моррис совершенно прав, но он заблуждается в свою очередь, утверждая, будто «у арабов никогда не было их собственного искусства». У арабов, как и у других народов, входивших в арабский халифат, было самобытное искусство. При этом нельзя отрицать, что для его развития сыграло большую роль взаимодействие с высокой средневековой культурой Ирана, Средней Азии и Закавказья.
5. ...вездесущие монахи герцога Уильяма... — После христианизации англосаксов их церкви (VI в.) строили мастера с континента. Эти сооружения сохранили в своей архитектуре итало-галльские и восточнохристианские мотивы. Со времени завоевания Англии норманнами (1066) на ее территории стали строиться крупные соборы и монастыри по образцу ранней французской готики — нормандской школы.
6. Солсберийский собор (в г. Солсбери) построен в 1220—1225 годах — замечательный памятник английской готики. Воздушность интерьера создают вытянутая в высоту аркада и верхние окна, это усиливает также и освещение нефа. В Солсберийском соборе геометрический орнамент вытеснен скульптурой.
7. Тиринф и Микены — города в Древней Греции, центры микенской культуры. Моррис говорит о стенах Тиринфского дворца и стенах акрополя в Микенах, отличающихся колоссальной («циклопической») кладкой, и о купольной гробнице в Микенах, о так называемой «сокровищнице Атрея».
8. ...английские лесные баллады, которые по праву называют бунтарским эпосом... — Народная английская баллада развивается в период роста крестьянского движения XIV—XV веков. Популярным героем английских баллад является Робин Гуд, который, по преданиям, ушел в Шервудский лес, где собрал свое лесное братство. Лесное братство под предводительством Робина Гуда нападало на феодалов и защищало бедняков.
9. Фруассар (1337—1410) — французский летописец.
10. Джотто (1266 или 1276—1337) — великий итальянский художник эпохи Проторенессанса, чье творчество, новаторское по духу, предвещало искусство Ренессанса.
11. Ян ван Эйк (1385/90—1441) — родоначальник искусства Возрождения в Нидерландах, его крупнейшее произведение — Гентский алтарь.
12. «прославленные мужи и предки, породившие нас» — Стих из Библии (см. примеч. к стр. 117). Здесь и далее приводятся неточно.
13. Собор св. Павла в Лондоне — построен в 1675—1710 годах архитектором Кристофером Реном.
Монополия, или ограбление труда (Monopoly: or How Labour is Robbed) —
статья опубликована в 1890 году Социалистической лигой в виде брошюры
1. ...другая близкая проблема — нынешнее состояние английского языка. — В связи с высказанной здесь мыслью Морриса хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности его лексики.
Моррис был поэтом и публицистом, который, следуя традициям большой английской литературы, обогащал английский язык, вкладывая в известные слова еще и новый смысл. Вот, к примеру, слово «the cause» — одно из наиболее часто встречающихся в публицистике и поэзии Морриса. Перевод этого слова на русский язык в соответствии со словарями: «причина», «повод», «дело», «движение», «процесс». У Морриса же это слово приобретает гораздо больший смысл, и, чтобы подчеркнуть значение этого слова, он пишет его нередко с прописной буквы: «the Cause» В одной из хрестоматий по английской литературе, изданной в Лондоне, вероятно, в конце XIX века, составители сочли нужным объяснить употребление Моррисом слова «The Cause», «„The Cause“ mentioned in the last stanza is of course Socialism in which Morris was much interested in his later life»[33]. (Слово «the Cause», упоминаемое в последней строфе, конечно же, означает «социализм», которым в последние годы своей жизни Моррис очень интересовался.) Разумеется, так категорически заявлять, что для Морриса «the Cause» означал «социализм», нет никаких оснований, поскольку он использует слово «социализм» согласно его семантике, но, что «the Cause» в текстах Морриса означает «дело во имя будущего, во имя социализма» — это совершенно очевидно. Такой же расширенный смысл придан Моррисом слову «the hope», иногда «the Норе». Обычный перевод этого слова — надежда, но «the Норе» у Морриса часто «вера в будущее».
Будущее архитектуры в условиях цивилизации (The Prospectats of Architecture in Civilization) —
лекция прочитана в Лондонском институте 10 марта 1881 года. Здесь под словом «архитектура» Моррис понимает «прикладное искусство». Надо сказать, что Моррис искал точную терминологию для определения искусств, имеющих прикладной характер, на протяжении всего активного периода своей пропаганды искусства: The Lesser Arts (малые искусства). The Decorative Arts (декоративные искусства). Architecture и, наконец, в 1889-м дает определение «прикладное искусство» (Applied Art), которое разъясняет в своей лекции «Искусства и ремесла наших дней» (см. стр. 294 настоящего сборника).
1. Оксфордшир — графство на юго-востоке Англии.
2. Вустер — город в Великобритании, с XVIII века один из центров производства фарфора.
3. ...чтобы народ был жертвой ради блага одного человека... — Моррис имеет в виду «культ героев» Карлейля.
4. ...А господин Гладстон? — Гладстон Уильям Юарт (Gladstone William Ewarth, 1809—1898) английский политический деятель. Лидер партии либералов. В 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 годы — премьер-министр. Проводил колониальную политику.
Английская школа прерафаэлистов —
выступление на выставке картин английских прерафаэлитов в Бирмингемском музее искусств 24 октября 1891 года. Город Бирмингем был центром движения прерафаэлитов.
1. О прерафаэлизме — см. вступительную статью.
2. Россетти Данте Габриэль (Rossetti Gabriel Charles Dante, 1828—1882) живописец, поэт, основатель «Братства прерафаэлитов». Оказал большое воздействие на формирование личности молодого Морриса, который был его учеником.
3. Милле Эверит (Millais John Everitt, 1829—1896) — живописец, рисовальщик; один из основателей «Братства прерафаэлитов». Поддерживал программу прерафаэлитов примерно до 1859 года. Впоследствии в творчестве Милле стали проявляться натуралистические тенденции.
4. Хент Хольман (Hunt William, Holman, 1827—1910) — живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов. Теоретик и историк прерафаэлизма, автор двухтомного труда «Прерафаэлизм и Братство прерафаэлитов» (1905—1906).
5. Браун Форд Мэдокс (Brown Ford Madox, 1821—1893) — живописец, обучавшийся в Бельгии, затем в Париже. Оказал влияние на художников-прерафаэлитов. Участвовал в работе художественно-промышленной фирмы «Моррис и К°».
6. Хьюз Артур (Hughes Artur) — живописец, участник движения прерафаэлитов.
7. Бёрн-Джонс Эдуард Коли (Burn-Jones Edward Collie, 1833—1898) — живописец, рисовальщик. Участник движения прерафаэлитов. Вместе с Моррисом учился живописи у Д. Г. Россетти. Друг и единомышленник Морриса во всех его начинаниях.
8. Джон Рёскин в одной из глав своего пятитомного труда «Современные живописцы» (1842—1860) дает краткую характеристику творчеству художников-прерафаэлитов, только что объединившихся в Братство.
9. Вам известен, наверно, рассказ о Паррасии и Зевкисе... — Зевксид (Зевкис) — живописец второй половины V в. до н. э.; Паррасий — тоже живописец этого времени, соперник Зевксида. Упоминание об этом рассказе есть в «Поэтике» Аристотеля. Зевксид и Паррасий добивались иллюзорной передачи действительности.
10. Харди Томас (Hardy Thomas, 1840—1928) — писатель, создавший романы о сельской Англии. Моррис говорит о ранних произведениях Харди, так как вершина его творчества — роман «Тэсс из рода д'Эрбервилей» выходит в 1891 году.
11. Уокер Фредерик (Walker Frederick, 1840—1875) — английский живописец, картины которого посвящены повседневной жизни бедняков; «Бродяги», «Плуг», «Прибежище». Уокеру в трактовке этих тем присуща сентиментальность.
12. В 1867 году были основаны Музей и Художественная галерея. В настоящее время в Художественной галерее Бирмингема сосредоточена большая коллекция картин художников-прерафаэлитов, в особенности Бёрн-Джонса — уроженца Бирмингема.
Манифест Общества защиты старинных зданий (The Manifeste of the Society for Protecting Ancient Buildings)
выпущен в 1877 году, в год его основания. Общество это, основанное Моррисом, продолжает существовать и теперь (55 Great Ormond Street, London, W. С. 1). Автор книги «Творчество Уильяма Морриса» Пол Томпсон сообщает о деятельности Морриса в Обществе защиты старинных зданий (The Society for Protecting Ancient Buildings — сокращ.— S. P. А. В.): «Во многих случаях участие Морриса в S. Р. А. В. приводило к желаемому эффекту. Так, например, после протеста были отвергнуты проекты пристройки Вестминстер-холла к Вестминстерскому аббатству, не допущено разрушение старых школьных зданий в Итоне и большого числа городских церквей в Йорке, а также двух прекрасных классических церквей в Лондоне (St. Mary at Hill, St. Mary le Strand). Кампания протеста, организованная старым учителем Морриса Стритом, в которой приняли участие Гладстон и Дизраэли, подписавшие обращение, помогла предотвратить перестройку западной стороны собора св. Марка в Венеции.
Благодаря заботам S. Р. А. В. были приведены в хорошее состояние церкви позднего средневековья в Блейтбуре, Эдингтоне и Фейфорде, части прекрасного аббатства в Кройлэнде — шипы, укрепления и кафедра.
Много небольших церквей стали охраняться, а значительную часть расходов по сохранению церквей в Лонгворте, Малом Фарингдоне, примыкавших к Кельмскотту и Инглешаму Моррис взял на себя.
Разумеется, S. Р. А. В. могло играть лишь ограниченную роль в обстановке разрушения, которая все более расширялась. Свыше 2500 церквей было восстановлено за период с 1879 по 1885 год. Только в 1878 году общество составило смету на восстановление 750 церквей в Англии и Уэлсе» (Paul Thompson, The Work of William Morris, London, 1967, p. 6).
Архитектура и история
Доклад на седьмом ежегодном собрании Общества защиты старинных зданий сделан Моррисом 1 июля 1884 года.
1. Было время, и не такое уж далекое, когда историю писал некий умный эссеист... — вероятнее всего, речь идет о Гиббоне, наиболее талантливом историке XVIII века.
2. Эдуард I — король Англии (1272—1307).
3. Теодорих Остготский — король остготов (493—526). При Теодорихе остготы завоевали Италию и в 493 году основали на ее территории свое королевство.
4. Альфред Великий — см. примеч. к стр. 148.
5. См. книги 33—37 «Естественной истории» Плиния Старшего.
6. Брюгге — город в Западной Фландрии, стоящий на канале Гент — Остенде. Был известен кустарным производством кружев.
7. Роджерс Торольд (Rodgers, 1823—1890) — английский буржуазный экономист и историк.
8. Капелла Мертон-колледжа в Оксфорде построена в XIII веке.
9. Парфенон — храм Афины-девы (Парфенон) в Афинах, построенный архитекторами Иктином и Калликратом в V веке до н. э., является вершиной древнегреческой архитектуры классической эпохи.
10. Эрехтейон — храм в Афинах (Акрополь), построен в 421—406 гг. до н. э.
11. Тюдоры — английская королевская династия (1485—1603). При Тюдорах утверждается абсолютная монархия.
12. Мор и Латимер — см. примеч. к стр. 213.
13. ...удивительная и в высшей степени важная революция была порождена машинами. — Моррис имеет в виду промышленный переворот, который произошел в Англии в конце XVIII и начале XIX века в результате перехода от ручного труда к машинному производству.
14. в произведениях великого человека... — Здесь Моррис говорит о Карле Марксе.
15. Викторианская эпоха — так был назван период правления английской королевы Виктории (1837—1901).
16. ...времен последних Георгов... — Последние Георги до королевы Виктории: Георг III, король Англии (1760—1820), Георг IV, король Англии (1820—1830).
Речь на собрании Общества борьбы за красоту в Кенсингтоне
1. ...с отвращением названный Коббетом сущим жировиком... — См. примеч. к стр. 186.
Выступление в Нотингемском обществе борьбы за красоту состоялось в 1881 году.
1. Букингемский дворец — королевская резиденция в Лондоне.
Письма
Письма У. Морриса, включенные в настоящий сборник, взяты из книги «Письма Уильяма Морриса своей семье и друзьям», изданной Ф. Гендерсоном (The Letters of William Morris to His Family, and His Friends edited by Philip Henderson, London, 1950).
1. Кормел Прайс (Cormell Price) — друг У. Морриса по Оксфордскому университету.
2. ...фоном, достойным Паламона и Арситы Чосера. — Паламон и Арсита — герои рассказа Рыцаря из «Кентерберийских рассказов» Чосера.
3. ...купил «Ньюкомов». — «Ныокомы» (The Newcomes, 1853—1855) — роман выдающегося английского писателя В. Теккерея.
4. Топси (Topsy) — дружеское прозвище Морриса. По свидетельству Кенона Диксона, приводимому Ф. Гендерсоном, это прозвище дал ему Э. Бёрн-Джонс.
5. Я собираюсь попросить господина Стрита из Оксфорда взять меня в ученики. — Стрит Джордж Эдмунд (Street George Edmund, 1824—1881), архитектор, сторонник возрождения готической архитектуры, знаток итальянской и испанской готики. По проекту Дж. Стрита построено здание суда в Лондоне. У. Моррис стал его учеником в начале 1856 года.
6. Суинберн Олджернон Чарлз (Swinburne Algernon Charles, 1837—1909) — известный английский поэт, близкий по своим эстетическим позициям к прерафаэлитам.
7. Гудрун — одна из героинь скандинавских саг. Моррис имеет в виду свою книгу «Земной рай» (The Earthly Paradise), первая часть которой вышла в 1868 году, остальные две части были опубликованы в 1870 году. «Земной рай» представляет собой двадцать четыре поэмы на сюжеты из античной мифологии, из кельтских и скандинавских саг.
8. ...Торгерд принадлежит славная роль в красивом эпизоде саги об Эгиле. — Сага об Эгиле — исландская сага, возникшая примерно около 1220 года. Моррис говорит об эпизоде, в котором рассказывается о смерти любимого сына Эгила — Бадвара. Торгерд — дочь Эгила.
9. ...явно отличаясь от Ньялы. — Сага о Ньяле — исландская сага, возникшая в конце XIII века.
10. Речь идет о Волсунге... — «Сага о Волсунгах» возникла в середине XIII века и представляет собой скандинавский вариант древних тевтонских мифов, лежащих также в основе сюжета немецкого героического эпоса «Песнь о Нибелунгах» возникшего около 1200 года.
11. Аглая Коронио (Aglaia Coronio) — одна из дочерей Александра Константина Ионидиса, состоятельного греческого купца, патрона Общества прерафаэлитов, друг У. Морриса.
12. ...Теннисон печатает продолжение легенды об Артуре. — Теннисон Альфред (Tennyson Alfred, 1809—1892) — английский поэт, выразивший в своем творчестве идеалы викторианской буржуазии. В течение 1859—1885 годов Теннисон создавал поэму «Королевские идиллии» (Idylls the King), состоящую из двенадцати поэтических рассказов на сюжеты легенд о короле Артуре.
13. Уильям Россетти — Россетти Уильям Майкл (1829—1919) — критик, брат Данте Габриэля Россетти.
14. Нед — Эдвард Бёрн-Джонс.
15. Уэбб Филип (Webb Philip, 1915) — друг Морриса со студенческих лет, художник, дизайнер по мебели, изготовляемой фирмой «Моррис, Маршалл, Фокнер и К°». Был одним из компаньонов этой фирмы.
16. ...прославленным мужам и предкам нас породившим — см. примеч. к стр. 117.
17. ...кажется, я вижу довольно много людей, подобных «тетушке» с «Флосской мельницы» — «Флосская мельница» (The Mill on the Floss, 1860) — роман английской писательницы Джордж Элиот (George Eliot, псевдоним Mary Ann Evans, 1819—1880).
18. Мей — Мэри («Мей») Моррис (Mary («May») Morris, 1862—1938) — дочь У. Морриса.
19. Де Морган (De Morgan, 1839—1917) — писатель, керамист.
20. Карлейль — см. примеч. к стр. 55.
21. ...который, забравшись наконец в графское кресло, дерзко смеется... — Моррис имеет в виду Дизраэли Бенджамена, графа Биконсфильда (Disraeli Benjamin, 1804—1881), который возглавлял правительство консерваторов в период 1874—1880 годов.
22. Рен Кристофер (Wren Cristopher, 1632—1723) — выдающийся английский архитектор.
23. ...собор св. Петра в Риме... — величественное сооружение эпохи Возрождения. Собор занимает площадь около 21 тыс. кв. м. — почти вдвое больше, чем собор св. Павла в Лондоне.
24. ...что касается этой поэмы... — Речь идет о поэме «Тристрам Лайонесский» (Tristram of Lyonesse) Суинберна.
25. С.-Э. Морис (С. Е. Maurice) — сын «христианского социалиста» Фредерика Денисона Мориса.
26. ...на путь прямого джингоизма. — Джингоизм — синоним слова «шовинизм», происходит от названия шовинистической песни «By jingo» («Черт возьми!»), распространившейся после начала русско-турецкой войны 1877—1878 годов, в ней содержится призыв к войне с Россией.
27. ...едва ли можно думать, будто в настоящее время вы можете примкнуть к нашему Обществу. — У. Моррис имеет в виду Демократическую федерацию.
28. ...сделала меня угрюмым трусом... — Речь здесь идет о болезни дочери Морриса — Дженни, Джейн (Дженни) Элис Моррис (Jane («Jenny») Alice Morris, 1861—1935).
29. ...да простят меня Тор и Один... — Тор и Один — боги грома и войны в древнегерманской языческой религии, воспринятой англосаксами.
30. Ист-Энд — восточная окраина Лондона, где живет основная часть трудового населения английской столицы.
31. Кингсли Чарлз (Kingsley Charles, 1819—1875) — английский писатель, «христианский социалист».
32. Дж. Э. Стрит — см. примеч. к стр. 447.
33. Форд Мэдокс Браун — см. примеч. к стр. 388.
34. Ф. Уэбб — см. примеч. к стр. 452.
35. ...Кажется, в 1866 году я напечатал «Жизнь и смерть Язона». — Это произведение У. Морриса опубликовано в 1867 году.
36. ...познакомился с исландским джентельменом г-ном Магнюссоном. Магнюссон Эйрикр (Magnusson Eiricr). У. Моррис познакомился с ним осенью 1868 года.
37. ...завершилось свержением правительства Дизраэли. — Неудачные колониальные авантюры Дизраэли в Афганистане породили недовольство в кругах английской буржуазии, и в 1880 году правительство Дизраэли потерпело поражение на выборах.
38. Бэрроуз Герберт (Burrows Gerbert, 1895—1923) — один из ведущих деятелей Социал-демократической федерации.
39. Г-н Гайндман предложил мне вступить в Демократическую федерацию — см. примеч. к стр. 63.
40. Д-р Хорнби — ректор Итона — отдал распоряжение снести школьную библиотеку и старинные дома на западном берегу Уэстон Ярда.
41. Письмо написано в тот период, когда в результате развернувшегося стачечного движения стали создаваться местные партии труда. В 1893 году на съезде представителей этих местных организаций была создана Независимая рабочая партия. Однако эта партия пошла по пути оппортунизма, и слова В. И. Ленина, что «эта партия независима только от социализма, а от либерализма очень зависима» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 331), характеризуют ее сущность, проявившуюся довольно скоро.
42. Эппинг Форест (Epping Forest) — лесной массив, расположенный к северо-востоку от центра Лондона.
43. Этому письму было предпослано возражение ведущего отдел «Разговор об искусстве», в ответ на которое У. Моррис написал еще одно письмо, опубликованное в газете «Атенеум» 26 августа 1895 года.
Иллюстрации
Уильям Моррис. Рисунок Космо Роу
Джейн Барден — жена У. Морриса.
Рисунок Данте Габриэля Россетти
У. Моррис. 1857 г.
Ред Хауз. Дом У. Морриса. Вид из сада. Рисунок Г.-П. Клиффорда
Дом У. Морриса в Кельмскотте
Интерьер частного дома работы фирмы «У. Моррис и К°», ок. 1880 г.
«Воришка клубники». Рисунок для ситца У. Морриса
Эскиз рисунка для ситца работы У. Морриса
Обои «Жасмин». По рисунку У. Морриса
Обои «Терновник». По рисунку У. Морриса
Обои «Тюльпан». По рисунку У. Морриса
Обои «Нарцисс». По рисунку У. Морриса
«Достаточно любви, или Дружба Фарамонда». Поэма У. Морриса
«История сверкающей долины». У. Морриса. Издание У. Морриса «Кельмскотт Пресс». 1891. Оформление У. Морриса
«О дружбе Амиса и Амиля». Средневековый роман, переведенный У. Моррисом со старофранцузского. Изд. 1894 г. Фронтиспис и первая страница
«О дружбе Амиса и Амиля». Разворот книги
«Кентерберийские рассказы» Джефри Чосера. «Кельмскотт Пресс». Изд. 1896 г. Первая страница по эскизу У. Морриса. Иллюстрация Э. Бёрн-Джонса, гравированные на дереве У.-Г. Хупером
«Сиринкс и Психея». Гравюра У. Морриса по рисунку Э. Бёрн-Джонса
«Женщина, играющая на арфе». Витраж по рисунку У. Морриса
Гобелен «Дятел» по рисунку У. Морриса
Примечания
1
Nikolaus Pevsner. Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius, N. Y., 1960, p. 54.
(обратно)2
«The letters of William Morris, to his Family and his Friends», ed. by Philip Henderson, L., 1950, p. XX.
(обратно)3
Aymee Vallance, William Morris, his Art, his Writings, and his Public Life, L., 1897, p. 49.
(обратно)4
H. M. Hyndman, The Record of an Adventurous Life, L., 1911, p. 535.
(обратно)5
См.: Nicolaus Pevsner, op. cit., p. 40.
(обратно)6
Nicolaus Pevsner, op. cit., p. 40.
(обратно)7
Цит. по: J. W. Mackail, The Live of William Morris, v. I L., 1901 p. 51—52.
(обратно)8
Цит. по кн.: Перси Бэт, Живопись прерафаэлитов. Спб., 1900, стр. 8.
(обратно)9
E. P. Thompson. William Morris. Romantic and Revolutionary. p. 5.
(обратно)10
William E. Fredeman, Pre-raphaelitism, L., 1915, р. 163.
(обратно)11
Y. W. Mackail, The life of William Morris, p. 150-151.
(обратно)12
William E. Fredeman, Pre-raphaelititism. p. 165.
(обратно)13
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 27, стр. 577.
(обратно)14
Там же, стр. 555.
(обратно)15
Теперь включенную в «Руководство по индийскому искусству» д-ра Бердвуда (ныне сэра Джорджа Бердвуда), напечатанное в Департаменте науки и искусства.
(обратно)16
Рисунки были первоначально помещены в «Фан».
(обратно)17
В то время как я правил эти листы для печати, на меня обрушилось сообщение о двух случаях подобного разрушения: во-первых, остатков трапезной Вестминстерского аббатства вместе, с Эшберихемским дворцом, красивым зданием, выстроенным, вероятно, Иниго Джонсом{13}, а во-вторых, — моста Магдалины в Оксфорде. Разумеется, это наносит удар по моим надеждам в отношении влияния образования на красоту жизни, поскольку на первом плане разрушения настаивали руководители Вестминстерской школы, а планам второго разрушения лишь слегка противодействовал профессорский состав Оксфордского университета.
(обратно)18
Поскольку, возможно, эти строки могут прочитать люди, не живущие в Бирмингеме, то должен заметить, что, как мне авторитетно разъяснили на собрании, где я произнес эти слова, что в Бирмингеме этот закон строго соблюдается.
(обратно)19
Отнюдь не всегда в небольшом поселке в Чизунке в Бедфорд-парке стремились сохранить насколько возможно больше деревьев, и это бесконечно украсило его прекрасную неповторимую архитектуру.
(обратно)20
Проявление ловкости (франц.).
(обратно)21
Особенно (латин.).
(обратно)22
Ныне там все по-другому, и трущобы Коули должны уничтожить мост Магдалины! (Ноябрь 1881).
(обратно)23
Или, говоря еще более откровенно, цель такого производства — неограниченное размножение механических работников как механических работников, а не как людей.
(обратно)24
Сб. «Из истории английской демократической литературы XVIII—XX вв.» Ленинградский университет, 1955, стр. 212.
(обратно)25
А. Аникст. История английской литературы. М., Учпедгиз, 1956, стр. 374—377.
(обратно)26
«История английской литературы», М., Изд-во Академии наук СССР, 1958, стр. 295—350.
(обратно)27
Сб. «Реализм и его соотношения с другими творческими методами», М., Изд-во Академии наук СССР, 1962.
(обратно)28
«История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли», т. III, М., «Искусство», 1967, стр. 869—879.
(обратно)29
«Daily Worker», 1963, 24/1.
(обратно)30
R. Range Arnot, William Morris. Avindication, London, 1934.
(обратно)31
E. P. Thompson, William Morris. Romantic to Revolutionary, London, 1955.
(обратно)32
Paul Thompson, The Work of William Morris, London, 1967.
(обратно)33
«Tvelve Centuries of English Poetry and Prose», Newcomer-Andrews, p. 710.
(обратно)


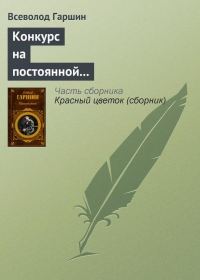


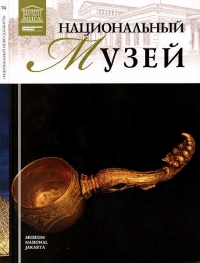


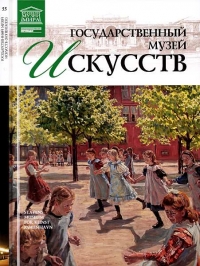
Комментарии к книге «Искусство и жизнь», Уильям Моррис
Всего 0 комментариев