Борис Носик Порыв ветра, или Звезда над Антибой Документальная повесть о жизни и смерти художника Никола де Сталя, рожденного в Петербурге в тот роковой год, когда город потерял свое имя
Глава 1. Печальная улица Ревели
В последние лет десять, проводя позднюю осень, зиму, да и первые весенние месяцы (короче, весь былой «великокняжеский сезон») на Французской Ривьере, я частенько гуляю по милому городку Антибу, где живало некогда множество художников, писателей и прочих знаменитостей. В те времена русские называли городок не Антибом и даже не Антибами, а нежным женским именем Антиба – как в стихе у князя Вяземского:
Вот свой маяк зажгла красивая Антиба —
В пустыне столб огня кочующим пловцам.
Ну да, прав был умница-князь, друг «невыездного» и не многим здесь известного Пушкина, мы и есть те самые пловцы и странники, дотянувшие до неблизкого берега: спасибо тебе, маяк, спасибо, красивая Антиба. Дотянули, хотя иные из сверстников уже там, на таинственном, пугающем нас бреге, с которого возврата нет…
Нередко попадая в излюбленную эту Антибу, один или в компании своего французского друга, психоаналитика Пьера, гуляючи прохожу я через шелестящую листвой главную площадь, миную дом на Пастера, где много лет жил не поладивший с местным жульем англичанин Грэм Грин, прохожу мимо кабака, где проводил вечера грек Казанцакис, мимо цитадели, где неистовствовал перед своими полотнами испанец Пикассо, и вдруг – почти непредвиденно, хотя всякий раз здесь – словно толчок в грудь и укол грусти: ну да, опять она, эта улица Ревели. Вот здесь… Здесь он бросился вниз на камни, в темную пропасть улицы, этот уроженец Петербурга, двухметровый русский красавец-художник, обретший заокеанскую, а стало быть, уже и мировую славу в свои сорок лет, многодетный отец, владелец небольшого, но старинного замка… Отчего бросился? Просто чтоб больше не жить? Чтоб прекратить какую-то муку?..
Мой спутник Пьер привычно замедляет шаги. Он знает, что я снова заговорю об этом русском бедолаге-художнике и задам ему, верному спутнику и собеседнику Пьеру, все тот же бессмысленный, но неизбежный вопрос, который мучит нас, временно живых, – почему такое бывает?
Как честный человек Пьер сообщает снова лишь то немногое, что помнит или знает наверняка.
– Это случилось 16 марта 1955 года – говорит он, – с тех пор, друг мой, прошло больше полвека. За эти полвека в Штатах, к примеру, процент самоубийств среди молодых людей вырос втрое.
– Ты где был тогда, Пьер, в марте 55-го?
– Я был тогда лицеист. Жил в Париже. А ты?
– Я? Я был солдат советской армии. Рядовой. И поверишь? Я хорошо помню ту ночь.
Пьер снисходительно улыбается. Он считает все, или почти все мои истории придуманными, фантастическими… Он неправ. Все мои истории документальные. Просто жизнь фантастичнее любой беллетристики. Взять жизнь того же Никола де Сталя. Бедный Коля-Николай, сиди дома не гуляй. А он с трех лет был нелегал в родном городе, генеральский сын из Петропавловской крепости, потом беглец, потом сирота…
– Да нет же, правда, Пьер, я отлично помню ту ночь… Мы с другом Саней Свечинским возвращались в часть из самоволки. Ходили отмечать мой день рождения. Двадцать четвертый…
– Где это было?
– В Араратской долине, в Армении. На окраине городка Эчмиадзина. На Четвертой улице.
– Что ты там делал на Четвертой улице?
– Я ж говорю, отбывал срочную службу. В в/ч 48874. Сперва в саперном взводе, потом в комендантском. А до того жил в родной Москве. Закончил МГУ, доучивался на английском в инязе. Тут-то они меня и заметили, неподкупные военкоматские военачальники. Сказали, много будешь знать, скоро состаришься. Забрили в солдаты. Двадцать пять месяцев коту под хвост.
– Зато школа жизни…
– Да уж… Между прочим, научился чуток по-армянски. Чтоб сторожей на винограднике уламывать. Бахак. Хавох. Инч аржи гине?
– Куда же вы с другом ходили праздновать? В кабак?
– Скажешь… К сторожу винзавода домой ходили. Он завод по ночам караулил, а сторожиха нам вино продавала краденое. Нормально. Там, на Четвертой улице, бедные такие дома были, с земляным полом, простые люди жили. Хорошие люди, добрые люди: армяне, курды. Разбудит ночью солдат, в окно постучит, купит вина, лишний рупь семье пригодится. А бывало, мимо идешь днем, горячий лаваш сунут в руки. Ешь, банак. У них, у многих, свои дети в армии служили. Моему дружку из Вязников письмо пришло от родителей. А на конверте адрес написан: Эчмиадзин, Армейская ССР… Вместо Армянская. А вообще-то, они все эсесеры были тогда армейские…
– Ну и что же случилось в ту ночь?
– Да, так вот, возвращаемся мы из самоволки, веселые, поддатые, идем балагурим. Небо черное, звезд полно… И вдруг – чирк, по черному небу, вниз к горизонту – звезда упала. Мой друг Саня Свечинский, писарь из стройчасти, говорит: «Гляди, кто-то помер. А мы с тобой бухие. Как бы и нас какой-нибудь дурной салага с КП не подстрелил». Я говорю: «Ты что, Сань, чего мы там у КП не видели? Места надо знать в родной части». Нашли знакомую дыру в ограде, пролезли и разошлись спать по своим баракам… Теперь, когда вспоминаю ту ночь, всегда думаю про Антиб. 16 марта… Звезда в черном небе…
– Тогда, небось, про Антиб не думал?
– Тогда я про Москву думал. Дембеля ждал. Домой не чаял вернуться. А про Антиб я и слыхом не слыхал. Хотя про Париж уже пели тогда по московскому радио. Ив Монтан пел. Как член братской компартии. А что я когда-нибудь доберусь в Париж, об этом и мечтать было нельзя… У нас же были коммунисты. Ты что, забыл?
– Нет, нет, помню, – говорит Пьер скромно, – У нас, впрочем, тоже.
Еще бы ему не помнить. В шестидесятые Пьер возглавлял коммунистический союз студентов в Париже. Потом он чуток отклонился от линии, и его вычистили из партии. У них с этим строго: шаг вправо, шаг влево считается за побег. Это нынче фюрер Зюганов профессором прикидывается… Мой друг Пьер стал психоаналитиком, принимал психов у себя на кушетке, зарабатывал деньги, завел кучу детей со своей красавицей Доминик. Я его про «отклонения от линии» не спрашивал, меня и линия их не интересовала. Все то же. Еврокоммунисты за евро, американские за доллары… А вот что тогда случилось с нашим Колей-художником, это меня тревожило.
– Отчего он все же прыгнул сюда, во тьму, этот славный гигант? – спросил я у Пьера, – Ты-то должен про это знать.
– Знать – нет… Кое-какие простейшие догадки, конечно, существуют. Случай, похоже, классический. Расстройство, психоз… Для меня тут более или менее ясно. Конечно, историки искусств, художники объясняют все более художественно. Хотя противоречий с предполагаемым диагнозом в биографиях и семейных мемуарах не вижу…
– Художники… – сказал я с завистью, – Они хорошо толкуют. К тому же им видней, художникам. Тут, кстати, одна русская художница живет в Антибе, моя знакомая. Тут, в старом городе. На рю Сент-Эспри. Слушай, а давай зайдем к ней на полчасика, поболтать. Может, она дома.
– Ну, если это удобно…
– Нет, я сперва позвоню. Почти как европеец. Не вперед, конечно, за месяц, но все же позвоню. Уверен, рада будет отложить работу. Я лично всегда бываю рад отвлечься… Может, еще и чайку у нее попьем. Посидим в русском доме. Потрендим…
Так все и вышло. Я позвонил Ирине, и мы с Пьером отправились на улицу Святого Духа.
Глава 2. В гостях на Святодуховской
С художницей Ириной мы познакомились лет тридцать тому назад в писательском Коктебеле. Разговорились однажды за ужином в доме творчества, и она пригласила меня пойти вечером на какую-то дачу – слушать стихи. Объяснила, что хозяйка этой дачи знаменита своими интеллигентскими сборищами. Теперь бы я даже сказал – тусовками. Впрочем, я и тогда уже редко выбирался на люди.
В коктебельском Доме творчества писателей и в примыкавших к его царственной ограде частных хибарках проживало в летнюю пору множество граждан, желавших почитать кому-нибудь свои стихи. В ожидании своей очереди людям этим приходилось терпеливо слушать чужие стихи и вежливо аплодировать. На том сборище, куда я попал, выступали в основном молодые малоизвестные поэты, но хозяйке удалось заманить и какую ни то знаменитость. В тот вечер угощали прославленным Евтушенко. Он рассказывал о своих заграничных поездках, о том, что молодежь всей планеты неудержимо стремится к коммунизму. Конечно, никто ему в тогдашней коктебельской аудитории не поверил. Иные бурчали (даже и не слишком тихо), что знаменитый поэт просто отрабатывает Кому Положено очередную загранпоездку. Верь не верь, четверть века спустя, когда открылась граница и исчезла цензура, прояснилось, что и сам поэт и его завистники были недалеки от правды. Ну да, они там вовсю русским баракам завидовали, западные интеллигенты, он нам не соврал, поэт. А что он честно поездку отрабатывал, как еще было съездить? Всем писателям хотелось – хоть в Хельсинки, хоть в Лос-Анджелес. А уж робким-то лохам, вроде меня, оставались Таджикистан, Ворух, Камчатка, Ольхон… Вспомнишь – и сам себе позавидуешь. Вот бы сейчас в Ворух. В абрикосовый сад. Или на Памир. И на хрена мне ихний тоскливый Лос-Анджелес без гор…
В тот вечер, непривычный к массовым разговорам, я просто разглядывал богемное сборище, а художница Ирина, не теряя времени, делала эскизы, рисовала разных типов из стихолюбивой публики. Мой эскиз она мне тут же и подарила, может, именно поэтому я не оказался позднее на ее знаменитой картине «Коктебель. Слушают стихи». А может, я просто не был похож на человека, который кого-нибудь слушает, и зоркий глаз художницы это сразу отметил. Так или иначе, этот набросок у меня сохранился, и я охотно давал его переснимать разным издателям, печатавшим мои книжки, или журналистам, бравшим у меня интервью (такое еще и в 90-ые годы иногда случалось, но уже и тогда старые мои портреты мне льстили безмерно, а новые – приводили в ужас).
Позднее, благополучно дожив во Франции до начала третьего тысячелетия, я что-то стал зябнуть по осени в деревенском домике в Меловой Шампани, и тогда добрые французские друзья предложили мне ключ от десятилетиями пустовавшей квартиры в Северной Ницце, где я и водворился на зиму со всеми своими бумагами и норовистым компьютером. Вот тогда-то мне вдруг и позвонила Ирина, о которой я ничего не слышал в последние тридцать лет, с того памятного коктебельского лета. Оказалось, что она больше не живет в Киеве, а живет на Лазурном Берегу, тут же неподалеку от Ниццы. Что она сколько-то времени рисовала что-то в одиночестве на морском берегу, а потом вышла замуж за здешнего моряка и поселилась в Антибе. Моряк тоже больше не скитался по морям по волнам, поскольку человеку, понимающему толк в водоплавающих посудинах, всегда найдется работа в антибском порту Вобан с его яхтами миллиардеров. Так что моряк осуществил заветную мечту – построить себе дом на берегу и в этом доме иметь жену. Может, у него была вдобавок честолюбивая мечта иметь русскую жену-художницу из столицы легендарной Украины, которая не только подарила Франции одну королеву и одного премьер-министра, но и до сих пор пугает здешних хлеборобов своими потаенными урожайными возможностями. Об этом я, впрочем, мало что знаю, кроме того, что браки даже в безбожной Франции совершаются на небесах, а вот насчет Ириной антибской жилплощади я все же полюбопытствовал. Ирина с мужем-моряком купили и обустроили узенький старинный дом на самой, наверно, старой улице Антиба – на улице Святого Духа. Помню, как в молодости, разглядывая такие вот средневековые узкие дома на главной площади Львова или на Староместской улице в Праге, мечтал я посидеть, попить чайку за старинным столом со скатертью в таком вот доме. Причем не из наугад вытащенных из груды немытой посуды китайских кружек пить, как у меня на хуторе в Шампани, а из нормальных фарфоровых чашечек. Нормально заваренный чай. В гостях у интеллигентной дамы – художницы. Под портретом ее мужа, антибского моряка…
Я заметил, что и другу моему психоаналитику Пьеру чаепитие наше пришлось по душе. Он даже вякнул что-то любезно-одобрительное, что я немедленно перевел для себя на русский (как перевожу все, что говорят не по-нашему, чтоб сбить завесу неполной ясности) – перевел как «Хорошо сидим».
Говорили мы за столом обо всем понемногу, но конечно, и о падшей звезде Антиба, о художнике Никола де Стале побеседовали. Ирина вполне убедительно высказывалась о его колорите, и пространстве, и свете, о том, что он дошел в живописи до пределов возможного, что он рвался за этот предел, хотел раскрыть в красках тайну Творения…
Беседа за чайным столом текла мирно, чай и печенье были безупречными, но для меня все кончилось не слишком безмятежно. Впрочем, может, и не так все плохо кончилось, потому что, сказать точнее, еще не кончилось и, как вы можете отметить, не кончается: сижу, пишу…
Помню, что разговор с неизбежностью вернулся к тому, что случилось в ту мартовскую ночь в Антибе полвека тому назад, о причинах беды. Пьер сказал, что, строго говоря, судить о причинах того, что случилось в ту ночь, ему все же трудно, потому что он мало знает о жизни художника, о тогдашних обстоятельствах его жизни, а главное – о его прошлом, в частности, о его детстве. Как можно вообще говорить о человеке, не зная толком о его детстве?..
Ирина сказала, что и после счастливого детства (у нее самой отец был милейший человек, киевский поэт) столько жизнь преподносит нам нежданных трудностей и поворотов – пойди сохрани жизнелюбие. На это я возразил, что внешние обстоятельства бывают ужасны и все же… Я напомнил, сколько хитростей придумывал Лев Толстой, чтоб не покончить с собой, и притом обстоятельства его были в ту пору самые благополучные.
– Что-то я не припомню, где это описано, – заинтересовался мой любознательный французский друг Пьер, – Я все эти его длиннющие романы прочел…
– Это не в романах. Это в «Исповеди». У тебя случайно нет «Исповеди»? – спросил я у Ирины.
– Должна быть, – сказала она и пошла рыться в книгах.
– Чему ты улыбаешься? – спросил меня Пьер.
– Похоже на эмигрантское застолье где-нибудь в Грасе у Бунина… Уж у него непременно толковали о Толстом. То с Алдановым, то с Фондаминским…
– Кстати, на что он жил в Грасе, ваш Бунин? – полюбопытствовал Пьер.
– На что может жить писатель? – сказал я обиженно. – Особенно эмигрантский. На пожертвования, конечно.
– Любопытно, – сказал Пьер. – И кто жертвовал?
– Вот эти поклонники Толстого и жертвовали. Фондаминский, Розенталь, Алданов…
– Понятно. Одни русские.
– Одни русские евреи. Осоргин писал о своем русском одиночестве в среде меценатов. Он был неправ. Они были тоже русские, но русские евреи…
– Любопытно, – сказал Пьер. – А почему?
Я знал, что любопытство моего друга неиссякааемо, и уже собрался объяснять про самоотверженное пристрастие евреев к русскому слову, но тут появилась Ирина, стерла салфеткой пыль с тринадцатого тома сочинений графа Л.Н. Толстого, и мы вернулись к теме самоубийства. Издание у нее было великолепное, московское, 1911 года (как раз в тот год, кстати, и поженились родители Никола де Сталя), «Товарищества И.Н. Кушнерева и Ко». Я долго гладил обложку тома и думал о том, как славно издавали тогда книги у нас (точнее, до нас) в России. Про «Исповедь» я вспомнил не случайно. Она была когда-то любимым моим чтением, я даже былую валдайскую усадьбу Берсов «Утешенье» разыскал в те годы близ Боровенки, Вошугова и озера Льнено, узнав, что они связаны с «Исповедью». Теперь все это вспомнилось мне на средиземноморском берегу, и я раскрыл книгу на том месте, где Толстой рассказывает, как жизнь стала для него невозможной и как он «прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате». А дальше как раз и пишет он про отсутствие каких бы то ни было тяжких жизненных обстоятельств, понуждавших его к самоубийству. Я протянул открытую книгу Ирине и сказал:
– Вот, читай вслух про обстоятельства, а я другу своему буду чуток помогать с переводом.
Ирина стала читать своим красивым и вполне убедительным голосом. Думаю, Лев Николаевич был бы ее чтением вполне доволен:
«И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем; это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети и большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что имя мое славно, без особенного самообольщения. При этом я не только не был помешан или духовно нездоров, – напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в моих сверстниках… И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни…»
– Да, интересно, – сказал мой друг Пьер, – Граф считает, что он душевно здоров, но жить не хочет. Суицидальные попытки не в счет. Что ж, непременно поищу этот текст в переводе… Но ты-то, мой друг, уже кучу книг прочел о бедном де Стале. И какие там откровения?
Я сказал, что о жизни и смерти Никола де Сталя я прочитал уже много книг, но это все, конечно, французские книги. Стало быть, книги деликатные и стыдливые. Здесь вам не развязная Америка. И даже не нынешняя Россия. Ничего недозволенного. К тому же есть семья, есть наследники, трудный случай… Набравшись наглости, я сказал, что мне вообще не слишком нравятся экзотические описания России у современных французских авторов, где присутствует неизбежная черная икра, неизбежные «бабушки» вместо женщин, а главное – тошнотворная патетика при описании таких «экзотических» персонажей, как Ленин и Троцкий, а также неумеренные восторги по поводу таких мерзостей, как перевороты и путчи, в общем, различим привкус былого «Краткого курса ВКПб» в его луиарагоновском варианте, кстати, изготовленном в том же учреждении, где и тот, который мы в юности зубрили наизусть…
– Все понятно, – сказал Пьер не без обиды, – Значит, ты напишешь свою, русскую книжку и мы вернемся к нашему разговору…
Вид у меня стал, вероятно, не то чтоб испуганный, но, как нетрудно понять, вполне растерянный. Так далеко в своих застольных планах я не заходил…
– Итак, за работу, друзья, – бодро сказала хозяйка дома, и я заметил в ее взгляде и голосе некое беспокойство… Чаепитие затянулось, а работа…
Работа не волк, в лес не уйдет, но она всегда с тобой, как фиеста, Париж или выпивка в предсмертном романе знаменитого Гемингвея (тоже ведь добром не кончил).
Мы стали прощаться с хозяйкой и благодарить за чай, за прием, за разговор… Конечно, Пьер благодарил куда элегантней, чем я. Французский язык к этому лучше приспособлен. Тут он особенно резво опережает подлинность чувства.
Но конце концов я и правда сел за книжку о Никола де Стале.
Глава 3. Отсель грозить мы будем шведу
Нет, я не забыл, что начинать надо с детства. Впрочем, все оказалось не так просто, хотя до былых купели и колыбели знаменитого русско-бельгийско-французского художника мне было в ту пору рукой подать: я часто летал в ту пору в Петербург, а там останавливался у друзей, в двух шагах от знаменитой Петропавловской крепости, в питерской коммуналке, в одной из ее двенадцати комнат… Что такое питерская коммуналка XX века, поймет только тот, кто ее когда-нибудь видел. Однако без проживания в ней, хотя бы временного, ни один самый крупный заграничный или отечественный специалист по истории России не может рассчитывать на доверие к своей кандидатской степени. Во всяком случае, на мое доверие.
Вы спросите, на черта я мотался в Петербург из гостеприимной Ниццы и привычного (похожего на Валдай) уголка Шампани? Объясню. У меня в ту пору был в Петербурге издатель. Точнее, даже два издателя. История их появления и возвышения с наглядностью показывает, в какой степени даже самая скромная перестройка может оказаться плодотворнее для человеческого развития, чем самая впечатляющая империя зла. Я имею в виду лишь скромную сферу русского книгоиздательства, в одночасье потерявшего в конце минувшего века навязчивое внимание Старой Площади и Малой Лубянки и наводнившего мою родину неподцензурными изданиями книг. Всяких книг, и хороших и разных. Нормально, что разных: в России всегда находились читатели, умевшие сделать выбор. А вот откуда пришли издатели? Взять тех же двух моих питерских.
Один из двоих добрался в Ленинград с Украины, еще молодым. Он изучал что-то такое инженерное в петербургском учебном заведении, но свободное время и сердечную привязанность отдавал полуразрешенной книготорговле, которая вдобавок его чуток подкармливала. Хорошая книга была тогда дефицитом, а стало быть, и предметом перепродажи на «черном рынке». Рынки эти возникали то в одной то в другой подворотне близ книжных магазинов на Невском. Торговля в подворотне была и азартной, и опасной, и выгодной. Можно было сорвать сотню навару, рискуя при этом угодить в лапы менту. Менты не были врагами культуры, но у них был невысокий оклад жалованья. Поэтому они бегали по подворотням: волка ноги кормят (это сейчас они стали такие ленивые и барственно беспредельные). Профессия «книжного жука» требовала минимальных знаний, которые при общении могли сойти за образованность и даже интеллигентность: «жуку» надо было знать, какие книги востребованы, какие существуют авторы, а может, даже знать, о чем они, эти книги. Моя первая жена приводила в нашу московскую квартиру своего «книжного жука», и он поразил меня не столько ценами (моего собственного «Швейцера», стоившего рубль, он предложил мне за четвертной), сколько настойчивым употреблением таких редкостных в ту простецкую пору слов, как «харизма» и «эзотерика» (заметьте, как эти буквы – з, х, р – словно бы отчуждают слова родного языка)…
Так вот, главный из моих издателей был в недавнем прошлом «книжный жук». Он помнил тыщу названий и любил книги лишь чуть меньше, чем деньги. У него были чувство юмора, приятное фрикативное «г» (чрезмерно раздражавшее в те годы лишь тех, кто часто слушал по радио выступления советских генсеков) и вообще немалое обаяние. Конечно, люди старого воспитания не могли понять, отчего он носит на горле толстую позолоченную цепь, но люди эти еще не поняли, что на смену тайно преступной цивилизации грядет откровенно блатная. Лично меня в большей степени, чем социальный, интриговал культурно-экономический аспект новоиздательской деятельности. Во-первых, то, что при всей скудости и убожестве созданного ими в перестроечную пору крошечного издательства они вчетвером ухитрялись выпускать больше книг, чем былые госиздательства с их штатом в полтысячи душ. Во-вторых, я пытался угадать, когда от небрежного недоплачивания он перейдет к полному грабежу. Конечно, я не сумел предугадать, за какие книги он мне не заплатит вовсе. За последние две или последние три. Впрочем, к чему было ломать голову. Книги выходили. У меня на родине больше не было цензуры. Жизнь была скудной, но удивительной…
Компаньон моего питерского издателя, второй издатель, был фигурой еще более колоритной, чем первый. В те исторически недалекие годы, когда французские аспиранты-троцкисты еще ездили в Москву для изучения самой эффективной в мире экономической системы «самильедка-питильедка» («семилетку в четыре года»), в Москве уже стало очевидным, что вся эта тайная цифровая липа зашла в тупик и строить теперь будут вовсе даже не социализм, а непонятно что – так вот, в те годы симпатичный партнер моего первого издателя не только сроду еще не держал в руках «сигнальных экземпляров», но и с готовой книгой вряд ли когда имел дело. В те годы, опохмелившись через пять минут после открытии нищего сельмага, он мирно садился за штурвал могучего трактора и вывозил на поля навоз… Однако к девяностым годам в России все шумно зашевелилось, тракторист переехал в снова получивший свое первоначальное название город Петра и стал водителем троллейбуса: «Следующая остановка Дом Кшесинской. С балкона этого дома Владимир Ильич…» Господи, да отчего он не бросился тогда же с балкона, этот злой бормотун? Отчего погибают только приличные люди? Но это все мои, пассажирские, праздные мечтания. У водителя были, вероятно, свои, вполне уместные высокопрофессиональные мысли. Он должен был опасаться бледных питерских старушек, которые обреченно тащились через улицу, не обращая никакого внимания на мчащийся троллейбус. Он не мог не думать о необходимости приумножить свой месячный заработок, чтобы купить прописку в городе, купить комнатку в Питере, а может, и завести свой собственный, необщественный транспорт. В те годы россиянам разрешалось выбрать из былых, лихо противоречивших друг другу лозунгов брехливого Ильича один, вполне некровожадный, который пришелся им вдруг по душе: «Учитесь торговать». Те, что были еще начитанней, вспомнили и энергичную формулу Маркса: товар-деньги-товар. Все теперь торговали всем. И вот будущий мой второй издатель, оставив неповоротливый и малодоходный троллейбус, ушел в торговлю. Корни его новой профессии нетрудно сыскать в послевоенном детстве, в мечтах о леденчике. Мне не раз доводилось видеть, как душевный какой-нибудь алкаш в пивнухе, отдав последние деньги за последний стакан водки, берет вместо сдачи леденец. «Деткам», – говорит он растроганно и старается не упасть, не обронить, донести… Короче говоря, мой будущий издатель стал торговать конфетками. Знающий человек подсказал ему место, чтобы избежать скопления конкурентов: торговля леденцами дело несложное, желающих торговать много. Мой будущий издатель ходил со своей корзиной торговать в клубе Крупской. Именем Крупской и еще почему-то Клары Цеткин очень любили называть при старом режиме роддома (хотя обе дамы были бесплодными), а также фабрики и клубы. В питерском клубе Крупской обычно проходили книжные ярмарки. На них мой будущий издатель и торговал. Позднее, когда он уже торговал книгами, многие (по привычке или из зависти) все еще окликали его: «Эй, конфетчик!» Лично я в последний раз видел его не у Крупской, а в парижском ресторане на Бульварах. Он первый раз в жизни приехал в Париж, испробовал устриц и позвонил мне ближе к ночи с просьбой, чтоб я объяснил официанту по его мобильнику, что он хочет не их скудную порцию устриц (что там, дюжина – на один зуб), и даже не поднос устриц, а много-много подносов…
Да, великая была эпоха. Мои тогдашние питерские издатели часто прилетали тогда в Париж, а я прилетал из Парижа в Питер и, как уже было упомянуто выше, останавливался в коммунальной квартире на Петроградской, близ Петропавловской крепости. В этой прославленной Петропавловской крепости и прошло раннее детство Никола де Сталя, здесь он жил с родителями и сестрами, а в здешнем соборе Петра и Павла (в том самом, где почиют императоры) его крестили. Так что рассказ о рождении и детстве уроженца Петербурга художника Никола де Сталя начинать надо именно с Петропавловки, с которой, собственно, и сам Петербург начинался. Ну а то, что я несколько задержался в своем рассказе на делах книгоиздательства и книжной торговли, надеюсь, вы найдете тем более извинительным, что матушка нашего героя Никола де Сталя происходила из семьи знаменитейших петербургских книготорговцев Глазуновых. И уж если искать, откуда у мальчика шло это увлечение искусством, книгами, музыкой, то уж наверняка нужно искать не в роду суровых воинов Шталей фон Гольштейнов, а в роду Глазуновых. К тому же дом петербургских Глазуновых на Невском сыграл кое-какую роль в том, что история наша не оборвалась досрочно и печально в еще одной луже детской крови. А крови в те годы было пролито море, и русскому автору забывать об этом не след…
Итак, начнем по порядку. Начнем с отчего дома нашего русско-бельгийско-французского художника Никола де Сталя, по рождению Николая Владимировича Шталя фон Гольштейна (Niсоlаs dе Sтаеl vоn Hоlsтеin). Дом этот (дом N 7) стоял близ Петропавловского собора на территории Петропавловской крепости, с которой можно при желании начинать всю историю императорского Петербурга. Решив «в Европу прорубить окно», Великий Петр, в соответствии с нравами того времени (есть ли надежда, что нравы когда-нибудь изменятся?), начал 16 мая 1703 года с сооружения куртин и бастионов новой крепости на самом маленьком из четырех островов Петербургской стороны. Таким образом, первыми прорублены были в сторону Европы никакие не окна, а бойницы и всякие там машикули. «Отсель грозить мы будем шведу», – так передает намеренья великого Петра великий Пушкин.
Могучий шестиугольник крепости занял весь островок, который местные жители-финны называли Заячьим (по-ихнему, по-фински Енисари), но понятное дело, подневольные строители крепости всех зайцев разогнали или съели. Сам Петр следил за ходом важного строительства. Вскоре за работу взялся архитектор Доменико Трезини и неутомимый инженер и полководец Миних (в похвалу ему напомню, что в свободное от работы время этот замечательный государственный деятель успел зачать восемнадцать детей). Наблюдали за трудами и ближайшие помощники Петра, чьи имена присвоены были бастионам (Меншиков, Головнин, Нарышкин, Трубецкой…) Потом крепость возглавил прославленный «птенец гнезда Петрова» Роман Брюс. Обер-комендант крепости был в те годы едва ли не главным военачальником в новой петровской столице. Впрочем, несмотря на все труды и жертвы, на двенадцатиметровую высоту бастионов и куртин, на их двадцатиметровую ширину и гранитную облицовку, знаменитой крепости не удалось покрыть себя неувядающей военной славой: просто никто не атаковал ее до самого 1917 года. Зато очень скоро обнаружилось, что великолепно охраняемая крепость может служить тюрьмой для всех врагов личной власти и порядка. Уже сам Петр держал там злодея – собственного сына. Позднее держали других, самых опасных врагов порядка и государства. Сидели здесь также принципиальные враги всех и всяческих государств – идеологи анархии, вроде Михаила Бакунина и князя Кропоткина. Сидел убийца и провокатор Сергей Нечаев: не просидел и полсрока, умер в Алексеевском равелине. Бакунин и Кропоткин были «революционеры», так что большевики, придя к власти, назвали их именами улицы, но все же отчасти от них отмежевывались: как же им самим было удержаться у власти без государства и диктатуры. Что же до злобного фанатика Нечаева, то его историю долго прятали под ковер: его ярый поклонник по кличке Ленин был похож на этого злодея до неприличия.
Сидели в крепости и другие террористы или опасные смутьяны. Это была надежная тюрьма: сбежать отсюда не удалось никому. Так вот она и маячила, крепость-тюрьма над темной невскою водой, напротив роскошных прибрежных дворцов. Понятно, что у всякого чувствительного петербуржца самый вид тюремной Петропавловки, ночные оклики ее часовых и даже звон курантов на колокольне вызывали зябкое чувство.
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые…
Это Пушкин написал. Он же назвал Петропавловскую крепость «твердыней власти роковой». Нынче, два века спустя можно отметить, что даже провидец Пушкин, справедливо опасавшийся бессмысленного безобразия русского бунта, вряд ли мог вообразить, какому избиению подвергнет воспетый им город поистине роковая власть бесправия и насилия, называвшая себя «властью советов».
Впрочем, за два-то века сколько воды утекло в море. А ведь еще и в начале XX века русскому интеллигенту и прошлое России и тогдашняя «роковая власть» и ее «твердыня» казались величественно жуткими. Вот как вспоминал о своей ночной переправе через Неву художник Александр Бенуа:
«И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвещают в двух молитвенных напевах, что наступила полночь… играли куранты «Коль славен наш Господь» и сейчас же за тем «Боже, царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно… Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое, и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.
Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прямо-таки потусторонний характер».
Я не случайно привел такой длинный отрывок из замечательных мемуаров художника. Герой нашей книги, маленький Коля де Сталь, до трех лет жил под знаменитой этой колокольней, засыпал здесь, просыпался, завтракал, ужинал и гулял по крепостному садику, близ тюремных равелинов, под звон старинных петровских курантов… Вспоминался ли, снился ли ему этот звон – в Брюсселе, в Марракеше, в Гренаде, в Жерардмере, в Ницце, в Париже, в Менербе, в Антибе?
Петр Великий гордился здешней колокольней, которая высотой своей должна была превзойти кремлевскую колокольню Ивана Великого в Москве. К 1720 году легкий золоченый шпиль колокольни уже возносился над новой столицей Петра, и неистовый строитель-император взбирался на самую ее верхушку, чтобы любоваться рекой и городом. А год спустя русский царь потащил за собой на колокольню, чтоб ею похвастать, именитого гостя, герцога Голштинского, и на радость любителям старинных текстов в свите герцога был писучий камер-юнкер, который про все написал – и про вид сверху, и про доставленные из Голландии большие часы, которые «играли сами собой каждые четверть и полчаса»:
«7 августа 1721 в 12 часов утра, все мы, целым обществом всходили на колокольню в крепости, чтобы послушать игру курантов, положенную в это время, и посмотреть на панораму Петербурга».
Если бы мы с вами оказались в этой высокой компании, мы могли бы польстить голштинскому гостю, предсказав, что последним монархическим комендантом этой свежеиспеченной крепости будет его соплеменник барон Шталь Голштинский. Однако, польстив столь успешно гостю, мы могли бы разгневать хозяина неосторожным предсказанием конца русской монархии, а с Петром Великим и Грозным, как до него с Иваном Грозным и Великим, шутки были плохи. Кстати оба вышеупомянутых государя именно оттого и прослыли великими, что не ставили человеческую жизнь ни в грош и сильно приуменьшили население нашей родины. Так что не будем предаваться столь небезопасным мечтаниям, а вернемся к нашему главному герою, будущей знаменитости, а пока еще просто мальчику Коле, любимцу папы-генерала, до трех лет не только с мамой или с няней, но и с папой не раз гулявшему по садику в крепости и наверняка, крепко держась за папину руку, хоть раз поднимавшемуся на знаменитую колокольню… Поднимался или нет, видел с высоты птичьего полета реку, дворцы и церковные купола, заснеженный берег весенней реки и сверканье снегов – или ничего этого не видел, да и видеть не мог? Ведь совсем еще был кроха, о чем речь…
Автор обязан сообщить, что мнения знатоков здесь разошлись. Многие серьезные люди не берутся принимать в учет эти почти младенческие воспоминания. Но есть люди (и среди них не только какие-нибудь детские врачи, психологи или психоаналитики, вроде моего друга Пьера, но и некоторые солидные и даже знаменитые искусствоведы), которые говорят, что от впечатлений этого столь важного возраста никак нельзя отмахнуться: воспоминанья эти живут у человека в памяти, сколько б ни удалялся он от них во времени и в пространстве. И говорят про это ученые люди не вообще (хотя и понаписано об этом немало), а именно в связи с детскими впечатлениями мальчика Коли, генеральского сына из Петропавловской крепости. Вот как пишет в своем очерке о Никола де Стале известный парижский искусствовед, знаток русского искусства и литературы Вероника Шильц:
«Тот факт, что он не упоминал (или упоминал очень редко) о своем детстве, еще не означает, что оно не запечатлелось у него глубоко в сознании, хотя бы безотчетно. Разве он не вздрагивал от выстрела пушки, палившей в крепости в полдень ежедневно? Разве не поднимался хоть раз на колокольню собора Петра и Павла? Разве не видел со стен Трубецкого бастиона, как заходящее солнце зажигает огнем окна Зимнего дворца?»
Особо подчеркивает русскость этого французского художника искусствовед Жан-Клод Маркаде в своей новой солидной монографии о Стале. Но тут уж о чем спорить: хоть и на глухом хуторе в Шампани будешь жить, наподобие автора этой книги, или в эмигрантской Северной Ницце – от родного города и от русских своих корней далеко не уйти…
И наверняка знает Вероника Шильц, что с воспоминаньями у Никола де Сталя были сложные отношения. Об этом мы еще будем говорить не раз, а вот о Петрограде, о Неве, о северном небе и северных морях (еще и восьмилетним жил маленький беженец Никола близ этих берегов) поговорить можно и сейчас.
Призрачный город, город-фантом Санкт-Петербург был построен неукротимым Петром Великим на костях многих сотен его рабов.
Но за три столетия город этот стал колыбелью русской культуры и вошел в сердца русских людей. Он воспет был поэтами, по его набережным, проспектам, мостам изнывали русские изгнанники, представители уникальной русской эмиграции XX века.
Они бредили воспоминаньями о нем в нищете изгнания, в бараках Освенцима…
О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
С особой остротой чувствовали неотразимую красоту этого злосчастного города русские поэты XX века (и Блок, и Мандельштам, и Бродский, и еще многие). Недаром же каталог эрмитажной выставки полотен героя нашей книги Никола де Сталя (в 2003 году) открывали стихи:
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
… Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег
… И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!
Эти стихи были написаны за год до рождения Никола. А вот и еще:
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась. Воск бессмертья тает…
О если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.
А это было написано в тот год, когда маленького Никола, его сестер и родителей прятала у себя на Невском в Петрограде бабушка. Но он еще мог видеть или чувствовать, как умирает родной город, «нахлобучив на самые брови низкое снежное небо». Мог видеть и черную воду Невы в снежных берегах, и низкое снежное небо… Позднее он гнал от себя страшные воспоминания, но они должны были раньше или позже прорваться в его живописи.
Видения этого призрачного и прекрасного города преследовали и тех, кто успел уйти в эмигрантскую скудость и тех, кто доходил на Колыме…
Так отчего до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглеет,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Отчего же маленький Никола должен был стать изгнанником? Расскажу обо всем по порядку. Начну, как водится, с семьи, даже с семейного древа…
Глава 4. К корням могучего древа
До самой русской революции 1917 года обязанности коменданта Петропавловской крепости исполнял генерал-майор Владимир Иванович Сталь фон Хольштейн (или Шталь фон Гольштейн). По сравнению с древностью баронского рода Сталей фон Гольштейнов древность этой петербургской крепости может показаться столь же умеренно скромной, каким показался бы режим царской тюрьмы в сравнении с режимом прогрессивного пенитенциарного учреждения, носившего название ГУЛАГ. Род де Сталей возник лет за шестьсот до того, как Доменико Трезини начал свои труды по постройке Петропавловки.
Затеяв путешествие к корням генеалогического древа де Сталей, мы могли бы для наглядности (и развлечения) прокатиться из Петербурга в недалекую Эстонию и доехать на поезде или на машине до старинного эстонского городка Раквере, что как раз на полпути от российской границы до эстонской столицы Таллина (былого Ревеля). Близ этого небольшого, но гордого райцентра (педучилище, крахмало-паточный завод и еще кое-что по мелочи) на протяжении многих веков маячили на холме Валлимяги романтические развалины замка Везенберг. Так называли здешнее городище датские летописцы, а русское его название звучало ближе к эстонскому – то Раковор, то Руковор. Милый для всякого чувствительного сердца, многократно запечатленный на полотне пейзаж этот с руинами замка, зелеными кущами и ветряными мельницами был еще и в начале XVI века свидетелем впечатляющего взлета баронского рода Сталь фон Гольштейнов к вершинам земной власти. Славный Везенберг был тогда столицей вполне обширной области, контролируемой Тевтонским (по временам его называли здесь Ливонским, а часто просто Немецким) военно-религиозным (рыцарским) орденом. Возглавлял орден великий магистр (хопт, командор или еще выше) Иоган Генрих Сталь фон Гольштейн: длинный белый плащ с большим крестом, латы, шлем, меч, копье – ну да, те самые рыцари, с которыми то сражались, то договаривались жители российского юга, против которых бились в союзе с татарами жители Новгорода. Те самые «псы-рыцари», которые предстали в столь устрашающем виде в знаменитом пропагандистском фильме Сергея Эйзенштейна. Впрочем, изучать родную историю по фильмам Эйзенштейна столь же безнадежно, как изучать немецкую философию по фильмам Ленни Рифеншталь.
Время это сокрыто от нас столь солидной стеной, что не одни только летописи или карамзинские их пересказы, но и самые жития приводят порой в оторопь. Вот собрался, к примеру, святой благовереный князь Александр «с оправданием и с дарами» в Орду, а «уже готовый к отъезду… велел Димитрию идти на ливонских рыцарей. Сей юный князь взял приступом Дерпт, укрепленный тремя стенами, истребил жителей и возвратился обремененный добычею» (Карамзин т. IV). Вместе с ним в резне и грабеже участвовал и князь литовский Ровтивил, который «принял веру Христианскую… имел славу доброго князя…», но «с помощью ливонских рыцарей… утвердил оружием свою независимость от дяди…»
Идя вослед блистающим рыцарским доспехам де Сталей, мы можем углубиться и в более глубокую старину.
Монашеский орден госпитальеров (их называли также иоаннитами в честь Святого Иоанна Иерусалимского), у которого рано появились и военные ответвления, возник, подобно Ордену тамплиеров-храмовников, еще в XII веке на путях ко Гробу Господню. Создан он был с целью охраны паломников, размещения их, прокормления и лечения. С обретением богатства, силы и власти появились у этих могучих орденов менее возвышенные задачи и цели…
На его многовековом пути к Ракверу, Ревелю, Стокгольму и Петербургу были у ордена и падения и новые взлеты. Прославились в Ливонии и Швеции Руперт Сталь фон Гольштейн, а потом и Якоб Сталь фон Гольштейн, бывший маршалом Ливонии и губернатором Ревеля (XVII век). Упомянутый маршал служил шведской короне, но в XVIII веке военные услуги Сталей фон Гольштейн сгодились и России: не только для того, чтоб «грозить шведу», но и для того, чтоб биться с турками и чтоб побеждать «разных прочих шведов», как выразился знаменитый поэт-интернационалист.
Баронское звание Сталей фон Гольштейнов было подтверждено в Швеции, а также внесено в дворянские матрикулы Лифляндской, Эстляндской и Воронежской губерний. В общем гербовнике Российской империи нетрудно отыскать баронский герб Сталей фон Гольштейнов. На нем разъяренные львы с высунутыми языками подпирают с двух сторон щит с восемью шашками. А над щитом, понятное дело, корона и еще что-то колючее, агрессивно-пупырчатое, малоприятное. Во всяком случае воинственное, и это понятно: за редкими исключениями Стали фон Гольштейны отличились лишь по военной части. Один из молодых шведских Сталей притерся, впрочем, благодаря удачному браку, к анналам французской литературы. Звали его Эрик Магнус, знатная родня пристроила его шведским посланником в Париже, где неустойчивость его материального положения вынудила его искать невесту побогаче. Поиски его увенчались успехом. Он женился на дочери богатейшего банкира и королевского министра финансов Неккера – на Жермене Неккер, которая стала писательницей, и еще в 1796 году написала знаменитую книгу о том, какую роль играют страсти в жизни отдельных лиц и целых народов. Позднее Наполеон выслал ее за пределы Франции, и она до самого падения узурпатора жила за границей (в том числе и в России, где романы мадам де Сталь пользовались неизменным успехом). Ближе, чем шведский Эрик Магнус Сталь, ни один из служилых Сталей к области искусств и литературы не подходил. Если, конечно, не считать полковника Александра Карловича Сталя, который (тоже не лично, а через супругу, точнее даже, через ее поклонника) проник в строку великого русского поэта Михаила Лермонтова. В начале 1838 года Лермонтов прибыл в Гродненский полк и встретил там товарища по юнкерскому училищу М.И. Цейдлера, которого вскоре им всей компанией пришлось провожать на Кавказ («под пули горцев»). Лермонтов написал по этому поводу стихи, посвященные Цейдлеру, где было отмечено, что его старый приятель, хоть еще и не воевал, но успел прославиться «иной, не бранной сталью». Каламбур этот был понятен всякому в полковом застолье. Известно было, что юный Цейдлер влюблен в жену дивизионного командира А.Сталя Софью Николаевну Сталь (рожденную Шатилову). Лермонтов обыграл в стихе то самое жестко-металлическое звучание немецкой фамилии, которое позднее, в железном XX веке привлекло тифлисского террориста при выборе новой подпольной клички. С этой кличкой и были позднее связаны самые кровавые преступления гостерроризма в истории нашей родины. Но Стали фон Гольштейны к ним, на счастье, были уже непричастны. Маркиз де Кюстин, описывая свое морское путешествие в Петербург, упоминает о героическом капитане судна, фамилия которого была де Сталь. Этот был уже из русских Сталей.
До самых высоких ступеней русской службы поднялись в семействе де Сталей дедушка нашего героя, его дядя и его отец. Дедушка, продолжая армейскую линию предков, отличился на русско-турецкой войне, а также при взятии Варшавы, был награжден высочайшими русскими орденами, дослужился до генерала, женился на дочери барона Унгерн-Штерна Маргарите Ульрике, перешел в православие и мирно умер в своей постели.
У военного героя Ивана Карловича было три дочери и два сына. Дочь Елизавета вышла замуж за господина Бобрикова, дочь Софья за господина Тройницкого, а дочь Александра осталась без мужа. Было у барона Сталя фон Гольштейна также два сына – Владимир и Алексей. Обо всем этом человеку любопытному (среди них и в наш равнодушный век попадаются в Петербурге настоящие короли и бароны патриотического краеведенья, например, врач скорой помощи мой друг Лев Барон) может поведать старинный справочник «Весь Петербург». К сожалению, перечисляя членов семьи, справочник умалчивает о том, кем они приходились друг другу.
Оба сына Ивана Карловича Сталь фон Гольштейна не нарушили старинной (можно даже сказать, многовековой) семейной традиции и пошли служить по военной линии. Младший, Алексей дослужился до звания генерал-майора и служил при дворе Великого князя Петра Николаевича, одного из сыновей великого князя Николая Николаевича Старшего. Великий князь Петр Николаевич был не таким заметным и шумным дылдой, как его знаменитый брат Николай Николаевич Младший, но все же имел свой двор. Управлял у него двором генерал Алексей де Сталь.
Впрочем, если сам болезненный и тихий Петр Николаевич никогда не занимался политикой, то этого нельзя было сказать о его супруге, дочери черногорского короля Милице, которая вместе со своей сестрой Анастасьей, вторым браком вышедшей замуж за сестрина свояка, великого князя Николая Николаевича, причастна была ко многим дворцовым интригам, и они, бабские эти интриги, как теперь уже очевидно, не кончились для России добром. Понятно, что как и весь руководимый им малый, но все же великокняжеский двор, генерал Алексей де Сталь был некоторым образом приобщен и к тайнам большого, императорского двора, то есть был в довоенном кругу Сталей персоной влиятельной. Женился Алексей Иванович на дочери писателя Алексея Николаевича Плещеева Елене, упоминания о которой я случайно нашел в излюбленном своем прикроватном томе – в письмах Чехова. В конце 80-х годов у Чехова завязалась активная переписка с писателем и редактором А. Плещеевым по поводу еще не напечатанной повести «Степь», о которой Плещеев отозвался с восторгом. В первом письме Чехов упоминает и дочку Плещеева, ласково-снисходительно называя ее Леночкой. Впрочем, после визита Леночки к Чеховым в Москве шутник Чехов посерьезнел и стал упоминать в своих письмах эту молоденькую петербургскую даму как почтенную Елену Алексеевну: «Елена Алексеевна была у нас два раза; днем и вечером. Днем посидела 6 минут, а вечером 22 минуты. Обещала побывать и в третий раз, но обещания своего не исполнила. Я ей вполне сочувствую: у нас мертвецки скучно».
А вот еще в письме Чехова из Ялты год спустя в связи с важными ялтинскими новостями:«Мне один местный поэт говорил, что в Ялту приедет Елена Алексеевна. Посоветуйте ей не приезжать до винограда, т.е. раньше 15-20 августа».
Старший сын барона Ивана Карловича (а стало быть преемник баронского титула и вдобавок отец героя этой книги) Владимир рос вдалеке от родительского крова. Он окончил лицей в Ставрополе, учился в кавалерийской казачьей школе, прошел все ступени военной службы, участвовал в сражениях, служил в конногвардейском уланском полку, рано получил лейтенантское, а потом и капитанское звание, был ранен в бою. Двадцати девяти лет от роду он женился на дочери генерала Саханского Ольге, которая родила ему двух сыновей Ивана и Владимира. В 1908 году генерал Владимир де Сталь получил вполне престижный пост помощника коменданта Петропавловской крепости. Ни сама Петропавловская крепость ни ее коменданты больше не играли былой роли в жизни российской армии. Новый пост был заслуженной синекурой, наградой за долгую и безупречную службу. Уже подрос к тому времени старший сын генерала, да и младшему было двенадцать. Стройный молодцеватый генерал начал помаленьку вписываться в неторопливый ритм крепостной жизни, непреклонно отбиваемый мирным звоном старинных курантов, и вдруг подкралась беда. Заболела почтенная Ольга Георгиевна и в начале августа 1909 года пятидесятишестилетний вдовец уже склонялся над гробом супруги в Петропавловском соборе…
Он остался один, был растерян и одинок в своем особняке за крепостною стеной близ прославленного собора, в котором с петровского времени хоронили русских самодержцев. Ему было страшно оставаться одному, ужинать одному, коротать вечер в одиночестве, обидно, что все прошло так быстро и незаметно, теперь бы только жить да жить после всех армейских скитаний, невзгод, неудобств и опасностей. Обидно, что у него никогда больше не будет детей, вовсе не будет дочки… Впрочем, мы можем только гадать, приписывая ему свои собственные мысли (именно так думал автор этих строк, заводя новую семью после пятидесяти). Суровый воин генерал де Сталь ни с кем не откровенничал. Да и вообще – кто возьмется объяснить, отчего вдруг приходит мужчине в голову эта вряд ли уж столь удачная мысль – искать себе жену, тем более, вторую жену, тем более, когда тебе уже за пятьдесят, и если даже усталость твоя незаметна постороннему, то умученное трудами тело нет-нет да напомнит о старых ранах и возрасте. И все же, заметьте, она приходит к мужчине, пренебрегая его возрастом, эта безумная мысль – искать невесту, заводить новую жену, новых детей…
Москву называли издавна городом невест. Однако ни в царственно-столичном Петербурге, ни даже в захолустно-областном Ленинграде тоже никогда не было недостатка в невестах. В любых невестах, на любой вкус.
Генерал де Сталь вовсе не искал для себя (хоть мог бы найти без труда) юную красотку на выданье. Он предпочел бы умную интеллигентную, расставшуюся с девичьими фантазиями, созревшую для материнства здоровую женщину… Но и такие невесты водились в тогдашнем Петербурге. Для него такая нашлась прямо на Невском, можно уточнить, что на солнечной стороне Невского, близ Елисеевского гастронома, в доме Глазуновых. Звали ее Любовь Владимировна Бередникова. Бередниковой она была по отцу, в старинном роду Бередниковых было немало бравых воинов. А вот матушка Любови была из вполне знаменитой в Петербурге семьи книготорговцев и книгоиздателей Глазуновых. Еще в 1783 году купец из подмосковного Серпухова Матвей Петрович Глазунов с братьями своими Василием и Иваном открыл книжную лавку в Санкт-Петербурге, а младший брат Иван в скором времени завел и свое собственное торговое дело, открыл вдобавок издательство и типографию, поставлял книги самой княгине Дашковой, которая еще и без поддержки нынешних горластых феминисток стала в Петербурге президентом Академии Наук.
Дело Ивана Глазунова продолжили сын его Илья и внук Константин (о правнуке будем говорить особо), а с 1890 года до самого что ни на есть 1917 года и большевицкой национализации стоял во главе фирмы Илья Иванович Глазунов.
Лавки глазуновские были на Невском и на Садовой, а в жилом доме на Невском подрастали внуки – правнуки, а также прекрасные женщины – дочери, внучки… Одной из них и была Любушка, Любовь, барышня начитанная, образованная, немножко рисовала, на фортепьяно играла весьма недурно. Да что там: все барышни играли. Пока только вскользь заметим, что из этого клана вышел русский композитор Александр Глазунов, Константинов сын. К нему еще вернемся, а пока для нас из дома Глазуновых всех важней бабушка и матушка нашего героя, обе Бередниковы.
Жизнь у барышни Любови Бередниковой сложилось не слишком удачно. Сперва она против материнской воли (а ведь умница была матушка, урожденная Глазунова, как в воду глядела) вышла по большой любви замуж за господина Вельяшева Илью Васильича, а у него вскоре после женитьбы обнаружилось серьезное психическое расстройство. После всех невзгод повязали его санитары и свезли в больницу. Никакая нормальная, тем более совместная жизнь была более невозможна, ну а процедура законного, церковного развода оказалась долгой и утомительной, длилась годами: убегали золотые годы. А все же и процедуре подошел конец… Молодая, красивая, решительная и независимая женщина (одной ведь из первых среди петербургских барышень села за руль автомобиля) снова была на выданье. Тут-то к ней и посватался высокий, стройный. мужественный генерал, из прибалтийских баронов, вдовец, герой многих сражений, украшенный орденами, улан – конногвардеец в молодости, а теперь человек достойный, серьезный, занимающий отдельный дом в стенах знаменитой петербургской крепости, где он был помощником коменданта. Был он ее лет на двадцать старше, но за такого и молоденькая девушка из хорошего дома пошла бы с радостью. Не нами замечено, что решительные молодые дамы и девушки родительский дом, за стенами которого мнятся им свобода и главенство, покидают с большой готовностью. Да так и Господь велел – отлепиться и прилепиться…
Любовь Владимировна хозяйкой вошла в отдельный дом близ прославленного собора, и была с любезностью принята сослуживцами мужа, в том числе и начальником крепости, почтенным комендантом Даниловым. Петербургские ведомости известили жителей столицы о счастливом событии:
«Сталь фон Гольштейн Владимир Иванович, генерал-майор, вице-комендант Петропавловской крепости, сочетается браком с Любовью Владимировной, урожденной госпожей Бередниковой. Петропавловская крепость, дом 7. Тел. 444-78».
Звоните! Поздравляйте! «Но все давно… – как сказал любимый поэт, – все давно переменились адреса…»
Года не прошло, как Любовь Владимировна подарила мужу первую дочь. Ее назвали Мариной. К штату генеральской прислуги в доме 7 прибавилась нянюшка Домна. Кто мог предугадать в том мирном 1912 году, какая роль уготована ей в этой семье (и в зарубежной искусствоведческой литературе, где ее на зарубежный манер называют «Домна Трифоноф»).
А на Рождество 1913 года (по новому стилю – 5 января 1914 года) Любовь де Сталь родила мужу сына, которого назвали Николаем в честь святого Николая Мирликийского. Крестили его в славном Петропавловском соборе, усыпальнице русских царей. По этому случаю собрались все Глазуновы, все Стали фон Гольштейны, все Бередниковы, вино лилось рекой.
Последнее, впрочем, наша догадка, а главное событие, крещение отражено в документе, который дошел до нас в целости и сохранности через столетье крушений и бед, войн и пожаров, мрак гонений и насилия. Не в России, конечно, уцелел, где все жгли или корыстно засекречивали, а где-то там, у мирных французов или бельгийцев, которых уже скоро сто лет, как жареный петух ни в какие места не клевал. Вот он, этот старенький, никем не оспоренный, потому как не имел политического значения, нисколько не исторический, а все же имеющий к герою нашей книги отношение, вполне подлинный документ:
...
«ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
О РОДИВШИХСЯ ЗА 1914 ГОД
Счет родившихся. Мужеска пола. Женска пола.
Месяц и день. Рождения. 1913 года. Декабря двадцать третьяго.
Крещения. Января двадцать шестого.
Имена родившихся. Николай в честъ Святого Николая Мирликийского,
Празднуемого Св. Церковью 9 Мая».
Ниже – круглая печать с силуэтом петропавловской колокольни и надписью «Петропавловский придворный собор».
«Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Помощник коменданта С.-Петербургской Крепостн Генерал-Лейтенант барон Владимир Иванович Сталь фон Голъштейн и законная жена его Любовь Владимировна Сталь фон Гольштейн. Оба второбрачные и православные.
...
Звание, имя отчество и фамилия восприемников.
Камер паж Высочайшего Двора барон Владимир Владимирович Сталь фон Гольштейн и надворный советник Константин Владимирович Бередников, дочь генерал-адъютанта баронесса Александра Ивановна Сталь фон Гольштейн и жена Гофмейстера Высочайшего Двора Людмила Ивановна Любимова.
Кто совершал таинство крещения. Ключарь, протоиерей Константин Велтистов с диаконом Петром Орловым и псаломщиком Владимиром Зверевым».
«Выпись» эта была выдана на руки Любови Бередниковой пять лет спустя после Колиного крещения, накануне бегства их семьи из города, уже потерявшего среди прочего и былое свое название, так что причт, выдавший документ, назывался «причтом Петроградского Петропавловского собора», а не собора «придворного», и не было больше к тому времени в живых ни Колиного старшего брата, юного камер пажа Высочайшего Двора Владимира, ни Государя Императора, ни Государыни, ни их детей, ни какого бы то ни было Высочайшего двора…
Впрочем, помедлим, не заглядывая до срока в эту страшную даль. Пока все еще здесь, вокруг купели, в прохладе придворного собора, за пышным столом – весь блистательный Петербург. Даже сановный брат счастливого отца генерал Алексей фон Сталь, управляющий двором великого князя Петра Николаевича, удостоил своим посещеньем торжество, вместе со своей начитанной женой, писательской дочерью. Барон Алексей Иванович был человек близкий к императорским дядьям «Николаевичам», одному из которых предстояло в самое ближайшее время сделаться главнокомандующим русской армии. Супруги же дядьев «Николаевичей» были вовлечены во все интриги двора, так что, за праздничным столом у Сталей фон Гольштейнов, Бередниковых и Глазуновых можно было немало узнать в разговоре и полушепоте волнующих подробностей об истериках императрицы Аликс и выходках «старца» Распутина, который успел стать мифом на необъятных просторах России, о странных дипломатических казусах в Европе…
Как вы уже поняли, герою нашей книги довелось родиться в самом центре блистательного Петербурга, полумистического города, выросшего на финском болоте волею царя-гения, царя-убийцы и маньяка… Город этот сумел поднять до недостижимой (и до сих пор мало постижимой потомками) высоты русские культуру и искусство, создал индустрию, которая в начале века упрямо тянулась вслед за европейской и американской, зачастую обгоняя их по темпам роста. Мальчик Коля по рождению должен был попасть в окружение людей не только именитых и богатых, но и людей, блиставших талантами (в том числе и деловыми, и государственными). Несмотря на полувековое а то и большее опоздание в сравнении с европейскими столицами, в городе этом развивалась в ту пору парламентская демократия, складывалось гражданское общество, рождалась свободолюбивая и народолюбивая интеллигенция (самое-то русское это слово пустил в европейский оборот собеседник Чехова и Ковалевского писатель Боборыкин). В общем, «небо в алмазах» казалось не одной только героине Чехова близким и достижимым.
Однако судьба судила иначе…
Мальчик Коля из Петропавловской крепости, сын коменданта-барона и просвещенной молодой дамы из культурного дома Глазуновых, что на Невском, родился в тот роковой год, который гордая красавица-поэтесса из круга столичной богемы проницательно назвала «не календарным, а истинным» началом страшного XX века, века социальных катастроф, воздушных налетов, колючей проволоки лагерей, тоталитарного насилия и нескончаемых кровопролитий…
Впрочем, в те счастливые январские дни 1914 года, в той череде зимних праздников и нескончаемых столичных застолий только самые странные из гостей решались портить праздничное настроение собутыльникам, пророча грядущие, столь уже недалекие беды. Да и кто б решился? Разве что какой-нибудь из трагических гениев вроде Блока, искавшего прекрасную даму на панелях петербургских пригородов…
В том январе и в мирной Европе никто не ожидал и не боялся войны или революции. Когда в том самом январе бывший председатель совета министров граф Владимир Коковцев, вернувшись из поездки в Германию, предупредил императора о том, что война с Германией может обернуться катастрофой и для страны и для династии, смиренный (но и упрямый) русский венценосец отозвался вполне нетревожно и справедливо: «Все в воле Божьей». Что до тревожно-отчаянного меморандума министра внутренних дел Петра Дурново, то Государь и вовсе оставил его без внимания, а между тем, в документе этом содержались весьма здравое пророчество:
«В случае поражения, возможности которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключить, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна…»
Ах, как мирно прошли зимние, весенние и даже отчасти летние месяцы. Всего полгода… В разгар лета того же самого 1914 года молодой сербский террорист-патриот Гаврила Принцип, завидев на улице Загреба австрийского эрцгерцога Фердинанда, выстрелил в него и смертельно ранил… Ну и что с того? Хрен с ним с эрцгерцогом и бешеным эрзац – гаврилой с его дурацкими принципами. В самой России терроризм лютовал уже почти полвека, Бог даст обойдется…
Но не обошлось. По вине нескольких тупых, алчных, ни на что не способных властителей Европа была ввергнута – еще на полвека – в адскую пропасть смертоубийства. Правительство России, захваченной началом войны в период ломки, строительства и подъема, повело себя далеко не лучшим образом. Узнав о выстреле в Сараеве, министр иностранных дел Сергей Сазонов (мирно упокоившийся позднее в свой срок в мирной Ницце) поспешно отдал приказ о всеобщей мобилизации, и Германии представился повод объявить войну России. Манифест русского императора невразумительно объяснил подданным причины самоубийственного этого решения:
«Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования… Мы повелели привести Армию и Флот на военное положение… Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав».
На нынешнем расстоянии любому лоху видна прохарево-портяночная глупость документа: «смочим сапоги в Индийском океане…»
Пожалуй, ни один шедевр казенной публицистики не был в ту вегетарьянскую эпоху оплачен такой высокой ценой. Каждое его слово обошлось в многие сотни тысяч украденных и искалеченных жизней…
Но кто думал, кто догадывался об этом в то лето 1914? Пока что большие люди озабочены были тем, что надо досрочно возвращаться из загородных резиденций. Боже, как хорошо было на даче…
Но предстояло срочно заняться подъемом патриотического духа, разжиганием ненависти к врагам и повальной ксенофобии. Ненависти к кровно близкому немецкому народу. Ненависти ко всем «ненашим» народам и любви к «нашим». Потребовались особые меры. Люди неленивые подсчитали, что в жилах последнего русского императора текло 98 % немецкой крови. Государыня-то и вовсе была чистейшая немка (как, впрочем, и все предшествующие российские императрицы, аж с петровских времен). Что уж говорить о петербургских придворных, правительственных и культурных кругах… Нынешний турист из России, никогда не слышавший о былой петербургской терпимости, будет немало удивлен, читая намогильные надписи на знаменитом православном кладбище под Парижем…
И вот в 1914 нужно было (для резкого подъема национального духа) срочно доказать, что любой немец – это чудовище. Задача была нелегкая. Даже если бы всех финнов, чухонцев, греков, татар, поляков, французов объявили бы исконно русскими, все равно оставались бы опасные инородческие пятна на карте столицы. Решение тонкой проблемы было, конечно, доверено тайной полиции, но и правительство приняло свои меры: Петербург был срочно переименован в Петроград и, по мнению многих патриотов города, потерял лицо. Толпа (под высоким, но негласным руководством людей в штатском) била витрины немецких булочных и колбасных лавок. Конечно, до высот эренбурговского интернационализма тогдашняя пропаганда никогда не падала: плакаты с призывом «Убей немца!» на стенах петроградских домов никто не развешивал, и все же…
Если прочитаешь военных лет дневники художника Александра Бенуа, убедишься, что для этого исконного петербуржца, мирно дожившего потом в эмиграции до девяноста лет, петербургский расистский погром 1914 года остался самым горестным впечатлением жизни, продолжавшим его терзать и тогда, когда «кличку, приклеенную к городу», большевики сменили на новую, не менее оскорбительную (а бедняга Бенуа так надеялся, что большевики вернут его родному городу хотя бы обещанный «интернационализм»). По Бенуа, это была «измена Петербургу», и все последующие беды были ею вызваны.
Нетрудно догадаться, что и верноподданным Сталям фон Гольштейн не сладко было ловить кривые усмешки своих подданных. Как раз в ту пору ушел в отставку комендант Петропавловской крепости Данилов. Вышестоящее начальство приказало генералу де Сталю взять на себя комендантские обязанности, но без присвоения ему звания коменданта. Не хватало, чтоб в публичных документах появилось еще одно не исконно русское имя. Мало что ли неудач Первой армии под командованием генерала Рененкампфа и прочих «чужаков»?
Впрочем, всей русской армией командовал до августа 1915 года один из дядьев императора, великий князь Николай Николаевич, брат Петра Николаевича, а позднее уж командовал и сам император.
Ушли на войну сводные братья маленького Коли, старшие сыновья Владимира Ивановича Сталя фон Гольштейна – Володя и Ваня. Ушли и не вернулись… Да что там несчитанные (и до сего дня не подсчитанные) российские трупы. Даже осторожные французы потеряли в ту войну полтора мильона здоровых мужиков.
Конечно, в столичный Петроград война пришла не сразу… Люди с деньгами или со связями не отправляли своих детей на фронт. Верзилу Маяковского пристроили куда-то чертежником. Марка Шагала родственники жены усадили в Петрограде за работу, дававшую отсрочку от военной службы (он, впрочем, был на них в обиде, потому что работа была неинтересная)…
Петроград жил полной жизнью. Получили в годы войны бурное развитие разнообразные формы современного искусства. Впервые открылись кабаре артистов – сперва «Бродячая собака» (где блистали Анна Ахматовая и Ольга Судейкина), позднее кабаре «Привал комедианта»… Вышли на сцену русские футуристы: собирались то в кабаре, то на квартире у Ивана Пуни. Новые течения в поэзии и живописи, новые поиски в философии и религии будоражили умы, русская поэзия достигла тогда новых высот в творчестве Ахматовой, Мандельштама, Гумилева…
Впрочем, будущий открыватель новых путей в искусстве, крошечный Коля Сталь фон Гольштейн пока еще мирно сосал мамину грудь и гулял с няней по садику в Петропавловской крепости. Летом Любовь Владимировна с детьми и прислугой отправлялась на дачу, на берег Финского залива. Там были главные дачные места петербуржцев. Просторные деревянные дачи-дворцы с садами и парками украшали берег залива. Грамотный французский биограф непременно щегольнул бы в этом месте рассказа знанием экзотического истинно-русского слова «изба», но русский читатель-горожанин, помнящий пригородную дачу своего детства или цветные стекла веранды из набоковских мемуаров, не купится на эту экзотику. Опустевшие крестьянские избы советские интеллигенты стали скупать под дачи много позднее, а тогда, «в старое доброе время»…
Тогда на тропинках какой-нибудь прибрежной финской Куоккалы можно было встретить немало петербургских дачников – скажем, молодого художника Жоржа Анненкова или семидесятилетнего Илью Репина, долговязого журналиста Корнея Чуковского или юную балерину из Мариинки. В дачном поселке был даже свой любительский театр…
Конечно, ни Коля, ни старшая его сестренка Марина не созрели еще до выхода за ограду: им хватало прогулок с няньками по дачному парку – от дачи до пляжа. Что до их матери, Любови Владимировны, то она ждала третьего ребенка.
В конце апреля 1916 года она родила дочь, которую назвали Ольгой. Николенька в тот же год был заблаговременно записан в пажеский корпус…
Второй год войны подходил к концу. Государь с августа 1915 года принял на себя командование Армией. К тому времени под российское знамя было призвано уже девять миллионов подданных, но несмотря на новую практику ускоренного производства в офицеры отличившихся рядовых солдат, в армии катастрофически не хватало офицеров и унтер-офицеров. Вообще в стране назрело то, что называют «кризисом власти». Удаление государя из Петербурга в армейскую Ставку только усугубляло этот кризис. Росло недовольство правительством в народе, а в кругах аристократии заметно было недовольство вмешательством императрицы в дела государства, а также подлинным или мифическим влиянием при дворе целителя «старца» Григория Распутина. Проявлением этого раскола в верхах было зверское убийство «старца» группой столичной золотой молодежи, включавшей великого князя Димитрия Павловича и князя Феликса Юсупова. Но конечно, еще одним терактом (на сей раз дворцовым) ни Россию ни монархию было уже не спасти. Страна шла вразнос. Продовольствия пока было много, но доставка его была организована плохо, и в январе в Петрограде начались уличные демонстрации. Столица созрела для революции, о чем предупредил императора председатель Думы Родзянко. Государь ответил своим обычным спокойным «Ну, Бог даст».
Русская революция назрела, но революционеры, как отмечают историки, тогда еще не созрели. Сам нетерпеливый Ленин в том же январе 1917 года заявил в Цюрихе: «Мы, старое поколение, не увидим будущей революции».
А к концу февраля в столице стали собираться толпы, требуя хлеба, солдаты стреляли по конной полиции, вечером 27 февраля несколько десятков тысяч рабочих пришли к Думе, и Временный комитет Думы заявил, что берет на себя установление порядка. Выяснилось, что продовольственное положение Петрограда вовсе не было столь катастрофическим, но царь, который так и не смог добраться в Петербург из Ставки, отрекся от престола. В России произошла революция. По нынешней терминологии почти «оранжевая» или почти «бархатная». Что значат 169 убитых в сравнении с десятками, с миллионами россиян, погибших позднее в результате Гражданской войны, борьбы Ленина за собственную власть и борьбы Сталина за удержание своей единоличной власти…
В феврале 1917 года к власти, временно, до выборов в Учредительное собрание, пришло первое в истории страны (и последнее, если не считать Крымского правительства 1919 года) либеральное правительство. В том кипящем котле, в который превратилась тогда Россия, удержать власть этим умеренным либералам было трудно…
Ленин прибыл в Петроград 3 апреля. Доставку его и его соратников в Петроград из Цюриха, а также оплату некоторых из их партийно-пропагандистских расходов взял на себя немецкий генштаб, верно рассчитавший, что только русская революция сможет спасти Германию от немедленного поражения. Расчет Людендорфа оказался верным, хотя никакой генерал не может предвидеть более или менее далеких последствий своих боевых действий. А последствия (1918, 1933, 1937, 1939, 1941, 1945, 1991 годы…) превзошли все ожидания военных и партийных комбинаторов.
Однако вернемся в стены Петропавловской крепости, где живет наш маленький герой Коля Сталь. Аж до 13 марта 1918 года оборонял крепость честный слуга престола русский генерал Владимир Иванович Сталь фон Гольштейн. 13 марта, приоткрыв ворота крепости, он впустил на охраняемую им территорию делегатов Думы, которые потребовали освобождения политических заключенных. Заключенные вышли на волю. В крепости приступили к выборам комитета солдатских депутатов. Согласно семейной легенде, вечером в крепость позвонила теща генерала и сказала, что надо бежать пока не поздно. Не станем живописать эпизоды бегства, роковой мартовский закат над замерзшей рекой, воспроизводить пьяную солдатскую перебранку (винные погреба уже начинали грабить), угрозы в адрес начальства…
Итак, теща дозвонилась в крепость, и бесстрашный генерал-майор послушался совета мудрой своей тещи госпожи Бередниковой (урожденной Глазуновой). Переодевшись в штатский костюм, он добрался в дом 60 на Невском проспекте. В доме этом жене его Любови Владимировне по праву принадлежала квартира. Согласно семейной легенде, назавтра в дверь дома номер 7 в Петропавловской крепости постучали представители солдатского комитета: они пришли арестовать коменданта. Собирались они его судить или без суда сбросить со стены на штык – это ни одному из исследователей неизвестно. Организованный государственный террор с дотошным собиранием протокольных фальшивок пришел позднее. Пока террор был стихийным и при всей своей бесчеловечности не был свободен от человеческих ошибок или, как любят нынче говорить, «сбоев». Это имело прямое отношение к судьбе последнего коменданта крепости генерала В.И. Сталя фон Гольштейна.
Думаю, что пришедшие за ним поутру без опохмелки члены солдатского комитета и сами были пока в неведенье, что им делать. Комендант Шталь был человек вроде бы не злой, хотя к службе усердный… Может, даже был он «добрым тюремщиком» из Петропавловки, каким был за полвека до него в той же крепости прадед писателя В.В.Набокова генерал Набоков. Мятежный анархист Бакунин, еще сидевший в крепости, попросил, чтоб за него поцеловали мертвую руку «доброму тюремщику» Набокову в минуту прощания с лежащим во гробе генералом. Но одно дело мирные похороны и эмоции анархиста-аристократа Бакунина, другое – пьяные (винные погреба уже были разграблены) призывы к кровопролитию охрипших на митингах солдатских депутатов. Уже и в популярных тогдашних песнях содержались толковые рецепты: «Кровью народов залитые троны кровью наших врагов обагрим…Смерть паразитам трудящихся масс!» (Справедливость требует признать, что кое-какие из этих перлов поэзии поступили к нам из Парижа и исполнялись в переводе с французского). В общем, похоже на то, что свалили б пожилого коменданта (и молодого отца) де Сталя в яму под стеной крепости после недолгого толковища, если бы не подоспел вовремя совет мудрой тещи…
Будь я французский романист или биограф, я, конечно, разогнал бы тут страницы на две «простонародные» и непременно «революционные» солдатские споры с непременным употреблением надежного набора русских слов, которых ждет французский читатель от парижского знатока России. Но должен признать, что и многознающему русскому читателю история спасения комендантской семьи от смерти может представиться таинственной.
Согласно семейной легенде, услышав простодушное обещание посланцев солдатского комитета арестовать ее мужа, Любовь Владимировна посадила детишек в машину и переехала в материнский дом, где уже полсуток прятался ее муж. Солдатский комитет беглецов искать не стал, а может, и члены его уже разъехались по деревням, так что последний комендант Петропавловской крепости Владимир Иванович Сталь фон Гольштейн в течение пятнадцати месяцев прятался в доме Глазуновых на самом что ни на есть Невском проспекте – чтобы спастись от смерти и уберечь семью. Генерал подал Временному правительству прошение об отставке «по болезни», 8 мая 1917 года получил отставку. Ему была назначена пенсия и выражена благодарность за безупречную службу. Но одно дело – отношения со вполне цивилизованной либеральной властью, а другое – разгул толпы и анархия, с которыми новая власть неспособна была справиться, а главное – государственный террор, который воцарился в стране после октября. Осталось немало мемуарных воспоминаний о случаях зверского самосуда и убийства офицеров на петроградских улицах и до октябрьского большевистского переворота 1917 года и после него. У самого дома был убит каким-то разгульным патрулем спешивший на любовное свидание младший брат Любови Владимировны Иван Бередников. Справедливо полагают, что убит лишь за то, что был прилично одет, не вонял водкой и потом. Времена были кроваво-свинские. Так и Бунин считал. Впрочем, политически корректнее будет назвать их романтическими… Не исключаю того, что дети наблюдали кровавые тогдашние сцены из окон глазуновского дома. Да и в доме, где прятались беглецы, должна была царить атмосфера страха и безысходного горя. Удавалось спасти тело, но вряд ли можно было спасти здоровье души…
В результате октябрьского переворота 1917 года власть была захвачена сторонниками Ленина в союзе с левыми эсерами (кстати, под эсеровскими лозунгами о земле и воле), с «сознательными анархистами», а также с выходцами с российских окраин, чехословацкими пленными и разнообразными наемниками без особого труда (либеральная власть падала и надо было решиться ее подобрать), террор из хаотического стал организованным, государственным (и набирал обороты до самого 1953 года, чуть не полстолетия).
Трудно представить себе, чтобы жизнь генеральской семьи стала менее опасной после октябрьского переворота. Дом на Невском не был изолирован от жизни столицы. Маринина няня Домна, единственная из слуг, остававшаяся с семьей до конца своих дней, выводила из дома детей в эти долгие месяцы подполья – то на прогулку, то на службу в Казанский собор, что почти напротив дома. Можно представить себе, что родители следили за ними украдкой из-за портьеры. Нетрудно догадаться, как воспринимали дети это унижение всемогущего некогда отца, эту атмосферу нелегальности и страха. Что до старого воина генерала Сталя, то сломленный утратой сыновей и унижением подпольной жизни, он стал дряхлеть на глазах.
А было ли чего бояться герою воину?
На этот вопрос нетрудно найти ответ в старых газетах, в мемуарах, в дневниковых записях и в публицистике самых знаменитых русских писателей того времени, как раз из числа тех, что долго грезили о русской революции, призывали ее, наконец накликали, а через восемь месяцев оказались под властью решительных репатриантов-экстремистов и разнузданной толпы, откликавшейся на самые возбуждающие лозунги: «Убивай! Грабь! Жги!»
Началось с развала армии, с ликвидации правовой системы, с удушения всех надежд на демократические институты. Для отмены выборов в Учредительное собрание, где должны были быть представлены все партии России и где большевикам ничего не светило, попросту послали отряд матросов во главе с братьями Железниковыми. Я хорошо помню, как в нашем московском детсадике и на семейных праздниках распевали романтическую песню про то, что «в степи под курганом, поросшим бурьяном», где-то там, под Херсоном зарыт в многострадальную южную землю этот самый «матрос-партизан Железняк». И только полвека спустя довелось мне из статьи немало озадаченного результатами своей пробольшевистской деятельности Максима Горького и из благодушных воспоминаний близкого к Ленину Бонч-Бруевича узнать, что и правда бесчинствовали в ту пору в Питере два брата-матроса Железняковы, истинные каннибалы, serial killers из голливудского триллера. Один из них, тот самый, что привел в такой восторг Маяковского разгоном русского парламента, по свидетельству Максима Горького, «переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион человек». Второй брат в присутствии большевистской верхушки хвастал тем, как он лично расстрелял четыре десятка русских офицеров и как у него при виде их трупов «на душе приятно, тепло делалось… радостно, тихо, словно ангелы поют».
Похоже, что даже «социально близких» большевиков слегка перепугал (несмотря на бравые описания тов. Бонч-Бруевича) грабительский петроградский размах братьев, которые и были ими в конце концов сосланы куда-то туда, в степь под Херсоном, где, как подметил поэт-песенник, «высокие травы», а главное – «бурьян», в дебрях которого и была спрятана от потомства бандитская история тех дней. Так что дети моего поколения, сидя на своих детсадовских железных горшочках, а также партийцы на своих домашних и служебных застольях могли дружно и нестройно петь про курган и бурьян под Херсоном.
К сожалению, ни бедная Любовь Сталь фон Гольштейн, ни ее супруг-генерал, ни теща генерала, ни нянюшка Домна не оставили потомству никаких дневниковых записей и мемуаров о тех страшных днях, которые одни авторы называют «историческими», другие просто «памятными». Таких записей и вообще осталось не так уж много. Может, люди чувствительные старались (даже в эмиграции) по возможности освободиться от гнетущих воспоминаний и не желали ничего писать. Ну а те, кто остался выживать на родине, знали, что никто не дает им гарантий от обыска…
И все же кое-какие записи остались, даже и дневниковые. К примеру, дневниковые записи модной поэтессы Зинаиды Гиппиус. Как и большинство представителей передовой (а она во многих смыслах была очень передовой) русской интеллигенции, Гиппиус с нетерпением ждала революцию и ее приветствовала. За октябрьским переворотом и разгулом большевистского насилия Гиппиус, подобно супругам Сталь, наблюдала из окна своей петербургской квартиры. Вот первые ее «октябрьские» записи:
«27.Х.1917 Когда же хлынули «революционные»… войска… – они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести – то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба… Нет, слишком стыдно писать… Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали…»
Есть у З.Гиппиус записи с упоминанием Петропавловской крепости и новых ее комендантов: тюремные бастионы переполнены, как никогда, в крепости заключены министры временного правительства. Когда двое из них (Шингарев и Кокошкин) заболели и переведены были в Мариинскую больницу, пьяные матросы ворвались туда и зверски их прикончили:
«Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застали сидящими в постелях. Электричество в ту ночь в больнице не горело. Все произошло при ручной лампочке».
Июльская запись 1918 года:
«Расстреливают офицеров с женами. Эта же участь постигла профессора Бориса Никольского. Жена его сошла с ума. Остались сын и дочь. Первого вызвали и, издеваясь, спрашивали: не знает ли он, где тело его отца. Мальчик 4-ые сутки в бреду».
«1.1Х.1918 Нет ни одной буквально семьи, где бы не было схваченных, увезенных, совсем пропавших… Красный Крест наш давно разогнан, к арестованным никто не допускается, но и пищи им не дается».
«1.Х.1918 …Аресты, террор… кого еще? Кто остался? В крепости – в Трубецком бастионе, набиты оба этажа. А нижний, подвальный (запомните!) – камеры его заперты наглухо, замурованы, туда давно нет ходу, там – неизвестно кто – обречены на голодную смерть? Случайно из коридора крикнули: сколько вас там? И лишь стоном ответило: много, много…»
Зинаида Гиппиус поминает в своем дневнике недобрым словом нового коменданта Петропавловской крепости. Его же выводит под именем «комендант Куделька» в своей «Повести о пустяках» художник Юрий Анненков. Комендант устраивает в крепости «званую вечеринку» и жалуется гостям на трудности своей работы:
«Революция, скажу вам, – грозный факт… По утрам, за бастионом паляют в классовых врагов почем зря – аж башка трещит. Товарищ в красных портках потерял цвет лица через это».
Всего навиделись испуганные жители «блистательного Петербурга»…
С осторожностью смотрели из-за оконных штор на Невский супруги Сталь. Смотрела писательница Зинаида Гиппиус:
«Смотрю из окна… Едет воз белых гробов… В гробах покойники… Едут священники… Плачут бабы… Тягучее неподвижное время… Продали все до нитки…»
Страшные известия приносили в дом Глазуновых… Десятки тысяч офицеров русской армии расстреляны без суда. Убиты ни в чем не повинные дети последнего русского императора, зверски убиты многие из друзей…
Оставалось прятаться, обмирать при каждом стуке в дверь «черного хода» (все парадные двери домов на Невском давно заколочены досками).
Глава 5. «Этот крик – детский…»
К сведениям о разбое, грабежах и убийствах на петроградских улицах, доходившим в убежище глазуновского дома на Невском, вскоре прибавились сообщения об организованном, государственном терроре. Большевистская власть, пришедшая на смену русским либералам, с особой серьезностью занялась делами устрашения и террора с целью удержания своего не слишком популярного режима. Уже в декабре 1917 года большевики создают главный орган своей власти – тайную полицию, которая на протяжении почти столетия меняла свое название, не меняя своей сути. В 1917 году орган этот назывался Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем – ВЧК («чека»), позднее политуправлением (ГПУ), министерством, комитетом и даже бюро, но в народе его называли просто «органы». Еще первый глава «органов» Дзержинский разъяснил населению, что организация эта не собирается ничего расследовать или блюсти какое бы то ни было право, а намерена лишь расправляться с теми гражданами, которые в чем-либо не согласны с вождем. «Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, – публично заявил этот хилого сложения подпольщик, которого устрашающе окрестили «железным Феликсом» – юстиция сейчас нам не нужна… я требую организации революционной расправы…»
Под интересы расправы новая власть подгоняла и новый язык («новояз»). Любая попытка уклониться от участия в насилии стала именоваться «саботажем» или «контрреволюцией». Любая попытка жить по-своему отныне каралась смертью. Контрреволюционерами были объявлены все, кто что-либо значил при старом режиме и представлял какую-либо ценность для общества («бывшие»). Они могли быть арестованы, стать «заложниками», быть посажены в тюрьмы и сосланы в лагеря. Особо жестокой была расправа над офицерами русской армии…
Конечно, не все эти нововведения придумал сам оказавшийся далеко не железным Феликс, которого убрали довольно скоро. Однако и он, и кровожадный Троцкий с большим рвением проводили в жизнь навязчивую идею Ленина о всесилии «массовидного террора», оглашали в своих указах запрещение свободной печати, деятельность заградотрядов в армии, истребление «эксплуататорских» классов в массовых расстрелах по всем поводам и без повода – просто для устрашения…
Так или иначе, семейство генерала Владимира Ивановича Сталя фон Гольштейна, его жена, детки и даже нянька по всем статьям подходили для революционной расправы. То, что до них и год спустя, несмотря на все обыски, чистки, облавы, не добрались красные мстители, можно списать на несовершенство новой системы подавления. Истинное бесстрашие, неистощимую энергию и практицизм проявили в эти годы Любовь Сталь и ее матушка. Когда я гляжу на копии выправленных бедной Любовью новых документов и читаю о «хлопотах» бедной женщины, спасавшей семью, в голову приходит только горькая, но утешительная мысль о том, что коррупция способня смягчить любое, самое безумное насилие.
Может, вдобавок дом Глазуновых хранила каким-то образом и причастность этой знаменитой семьи к культуре и искусству, причем скорее даже не к книжному делу (принесшему славу Глазуновым), а к русской музыке… Музыке вообще суждено было сыграть судьбоносную роль в короткой жизни Николая де Сталя. По-видимому, известно было, что сын книготорговца Константина Глазунова Александр был знаменитым русским композитором, признанным мастером симфонической музыки, автором многих квартетов, симфоний и балетов, самым знаменитым из которых был балет «Раймонда». С 1905 года он был директором петербургской консерватории, в 1917 году, как большинство русских интеллигентов, приветствовал февральскую революцию (и если верить записи в дневнике Александра Бенуа, даже собрался сочинять музыку нового российского гимна на стихи З.Гиппиус), да и после октябрьского переворота, согласившись сотрудничать с большевиками, остался директором консерватории. Новая власть и назначенный ею народный комиссар просвещения Луначарский, конечно, высоко ценили поддержку таких знаменитостей, как Глазунов, Бенуа или Горький, и готовы были в связи с этим на некоторые уступки и привилегии. Об одной такой курьезной привилегии упоминает в своих дневниках З.Гиппиус: Глазунова освободили от уплаты особого налога за его домашний рояль… В общем, Глазунов, как и Бенуа, и сам Горький, был в фаворе. Бывший студент консерватории Сергей Прокофьев, после почти десятилетнего отсутствия приезжавший из Франции в Ленинград в 1927 году и решивший нанести визит одному из своих консерваторских наставников (не слишком, впрочем, любимому), отметил в своем дневнике, что «Глазунову сохранили квартиру». Прокофьев не застал Глазунова дома и беседовал с его женой и дочерью, которые жаловались гостю на атмосферу подозрительности и слежки. Через год после этого прокофьевского визита Глазунов с семьей поехал на зарубежный фестиваль и больше в Россию не вернулся.
Известно, что не вся интеллигенция с такой готовностью, как Глазунов, Бенуа или Горький, пошла на сотрудничество с насильниками-большевиками. В Петрограде бастовали государственные служащие, учителя, врачи, фармацевты, профессора высших учебных заведений. Им не понравились запрещение свободной прессы, грабежи и поборы, насилие… Новые карательные органы большевистской диктатуры боролись и с забастовками (которые теперь назывались саботажем) и со всеми свободами (которые считались теперь «буржуазными» и «контрреволюционными»). Было опробовано новое оружие принуждения – искусственный голод. Власть не только ввела «хлебную монополию», но и вообще забрала в свои руки все продукты питания. Помощник Ленина В.Бонч-Бруевич вспоминал, что у рынков, у крестьян и торговцев было отобрано все «до последней морковки в магазине. Всюду стояли заставы, чтобы никто не мог ни пройти, ни проехать с какими-либо продуктами – все были посажены на паек…» Пайки выдавались в соответствии с новой иерархией неравенства – от сытных комиссарских до нулевых – для нищих «лишенцев». На счастье, черный рынок (сохранивший, несмотря на все угрозы, заставы и даже расстрелы, до 60% сферы снабжения) и неистребимая коррупция помогли части обнищавшего и вконец оголодавшего городского населения выжить.
И русские романисты и художники (а среди них и художники, пишущие романы, вроде Юрия Анненкова) оставили нам леденящие душу лихие пейзажи большевистской столицы:
«На улицах лошадиные трупы лежали вверх ногами, как перевернутые столы. Обледенелые и оборванные трамвайные провода свисали до самых сугробов. Голодные люди, очереди за пайками, голодная смерть…»
Террор, городские заставы и война мешали жителям столицы обратиться в поголовное бегство, но зимой смельчаки все же уходили пешком по льду Финского залива в сторону былых петербургских дач, ныне ставших финскими. Так ушли организатор последней выставки футуристов художник Иван Пуни и художник Василий Шухаев с женами. На лодке через залив вывез семью художник Борис Григорьев. Супруги Сталь не могли решиться на такой побег с тремя маленькими детьми. И все же надо было убегать, спасать себя и детей…
«Бежать! – восклицал писатель Алексей Ремизов в своей «Взвихренной Руси», – И только грозная воля: беги! И ноги – единственное, что еще что-то значит, ноги… стали первыми, а все остальное от головы – так…»
Согласно семейному преданию, летом 1919 года супругам Сталь с детьми и нянюшкой Домной удалось бежать из Петрограда в товарном вагоне поезда. Французский биограф сообщает, что семья хлопотала о получении эстонского гражданства. Были даже получены новые паспорта. Однако многие обстоятельства (в том числе и наступление Юденича) помешали отъезду в Прибалтику. Да и куда было бежать? В 1 томе своей «Истории русской революции» Троцкий сообщает о разграблении крестьянами усадьбы Сталь фон Гольштейнов…
Супруги с детьми и няней двинулись в каком-то ненадежном эшелоне в сторону польской границы. Удалось выбраться из Петрограда, почти без багажа. Удалось провезти зашитыми в нянину кацавейку хозяйкины драгоценности. Ехали с пересадками, с приключениями и вечными страхами. Беглецы были арестованы и допрошены в старинном Полоцке (Витебская область Белоруссии). Ослабевший и совсем больной Владимир Иванович был освобожден до утреннего допроса, а ночью семейству удалось сбежать в санях с возницей из зимнего Полоцка в сторону Вильны. Неблизкий путь беженцев пролегал через покрытые льдом реки, через заснеженные поля и леса, кишевшие голодными волками и двуногими бандитами всех видов и мастей. Вспоминалась ли им потом в страшных снах эта зимняя одиссея: возница-контрабандист, две испуганных женщины, больной старик-генерал, до глаз укутанные в платки и овчины малые дети… Три пары то блестящих, то испуганных, то плачущих детских глаз… И бескрайний белый простор, и скрипучий снег, и страшный ночной лес, и вселяющие страх незнакомые люди – в лесу, в умученных, разграбленных деревнях при дороге…
В конце этого долгого и страшного путешествия им все же удалось добраться (в начале 1920 года) до древней Вильны (нынешнего Вильнюса). Этот оживленный польско-литовско-еврейский (недаром его называли Восточным Иерусалимом) город пережил за 1920 год немало бурных событий. Весной через город прошла на рысях конница Пилсудского, в июле здесь оказалась армия Тухачевского. Отказавшись от предложенного поляками перемирия, Каменев вручил в Минске маршалу Тухачевскому план Варшавской операции. Московское начальство отдало права на Вильну Литве. Теперь оставалось только разбить поляков. В августе Тухачевский подошел к Варшаве. Ленин полагал, что захват Польши поможет ускорить приход коммунистов к власти в Германии, а без мировой революции он не надеялся удержать власть в России. Однако под Варшавой произошло то, что польские историки называют «чудом на Висле». Поляки в пух и прах раздолбали легендарного Тухачевского и погнали его далеко от столицы. А древнюю Вильну на целых 19 лет присоединила к себе непокорная Польша. Вот тогда-то, после трех лет петроградского подполья и скитаний по снежному захолустью добралось в Вильну семейство Сталей. Бедная Любовь Сталь возлагала на этот город смутные надежды. Дело в том, что до войны в Вильне жила с мужем своим, князем Дмитрием Любимовым старинная подруга Любови Сталь, Колина крестная мать Любовь Ивановна Любимова (урожденная Туган-Мирза-Барановская). До войны князь Дмитрий Николаевич Любимов, сенатор, гофмейстер Высочайшего двора, добрых шесть лет занимал высокий пост генерал-губернатора Вильны и губернии. Конечно, за последние шесть лет и Вильна пережила немало перемен. Теперь здесь, как и во всей Российской империи, царили разор, разбой, неуверенность в завтрашнем дне. Вильна была забита русскими беженцами. Светская красавица-княгиня Любовь Любимова, как и другие русские дамы, активно занималась в те годы бедствий благотворительной деятельностью. Возглавляемое ею в течение двух лет «Общество помощи русским беженцам» работало в Польше под эгидой международного Красного Креста. Забегая вперед, отметим, что общественного пыла и энергии Любови Любимовой хватило надолго. Бывший священник русского кладбища под Парижем отец Борис Старк вспоминает в своих записках, что и в старости Людмила Ивановна сохраняла «неуемную энергию и большие связи», которые она направляла на помощь ближнему. «Она устроила инвалидный дом… – пишет отец Борис Старк, – и уже будучи 80 лет блестяще им управляла».
Ну а в бурном 1920, когда изможденные петроградские беглецы добрались в Вильну, княгиня была еще молода, хороша собой и полна энергии, Это с ее помощью и по рекомендации ее «Общества помощи русским беженцам» Любовь Владимировна Сталь с мужем, детьми и няней перебрались из перенаселенной Вильны в городок Остров Великопольский (не путайте его с польским же Островом Мазовецким и российским Островом, что в пушкинских местах Псковской области, неподалеку от Изборска, Опочки, Святых Гор и нынешней латвийской границы). В великопольском Острове собралось к тому времени немало русских беженцев, и «Общество помощи», попросило баронессу де Сталь устроить в городке школу для русских детей. Так шестилетний Коля, Марина и даже малышка Оля пошли в свою первую школу, в «мамину школу». «Общество» положило учительнице жалованье, впрочем, совсем небольшое, и Любови Владимировне приходилось подрабатывать уроками музыки, а также рисунками для вышивки. Сгодилось петербургское образование…
Но дома у них становилось все печальнее. Владимир Иванович, переживший все унижения и тяготы собственного бессилия, гибель сыновей, страхи подполья, арест и безумное путешествие, превратился в убогого, больного старика. Вскоре его разбил паралич… Няня Домна умывала его теперь, как ребенка, и, как ребенка, кормила с ложечки. А дети обходили стороной это странное, мычащее существо…
В сентябре 1921 года генерал-майора Владимира Ивановича Сталя, барона Шталь фон Гольштейна, с военными почестями похоронили на местном кладбище в польском Острове. Играл военный оркестр, среди цветов дети видели чужое, окостеневшее лицо, и даже девятилетней Марине трудно было связать этот вызывавший любопытство собравшихся неживой предмет в гробу с воспоминаньем о высоком и сильном папочке, водившем ее за ручку по саду в крепости.
Чужой польский город не вызывал у вдовы генерала ни симпатий, ни добрых воспоминаний. Она сделала последнюю попытку вырваться из кольца обложившей ее беды. Она была совсем еще не старая женщина… Любовь Владимировна решила переехать на север, к берегу родного Балтийского моря, в Оливу. Этот крохотный курортный городок лежал невдалеке от Гданьска, только что объявленного «вольным городом», близ Гдыни и Сопота. Госпожа Сталь сняла домик на тихой окраинной улице, уводившей из маленькой, живописной Оливы в портовый Сопот.
Семья заняла весь нижний этаж домика, но подошла зима, и согреть им удавалось только одну комнату. Весной 1922 годя Любовь Владимировна стала чувствовать себя совсем худо. Врачи нашли у нее рак. В те годы это был смертный приговор. С отчаяньем смотрела она со своей коечки на детей, которым предстояло остаться сиротами. Она написала письмо подруге своего детства Любови Любимовой, заклиная ее взять на себя опекунство и воспитание детей. Просила ее растить их как своих собственных. Согласно завещанию, заверенному нотариусом, Любовь Владимировна оставляла подруге часть принадлежащей ей жилплощади в доме на Невском (кто ж мог думать тогда, что большевистская власть продержится в России до конца века, а может, и прихватит кусок третьего тысячелетия?). В письме, отправленном еще в июле, Любовь обещала княгине переслать ей уцелевшие при всех обысках бриллианты. В конце августа 1922 года Любовь Владимировна Сталь умерла на больничной койке в чужом городке Северной Польши. Ей было неполных сорок семь лет. Трое ее детей остались сиротами. К миллионам несчитанных русских сирот Великой войны, революции, большевистского переворота 1917 года и Гражданской войны прибавилось еще трое. Их постигла горькая, однако еще и не самая страшная детская судьба. Уцелевших беспризорных детей в России сажали в тюрьмы наряду со взрослыми, отправляли в концлагеря и детские колонии, а по закону 1935 года даже и расстреливали. Тогда великий гуманист Сталин лично объяснил трухлявому гуманисту Роллану, как опасны для большевистской власти дети, гуляющие на свободе, и французский гуманист проявил полное понимание обстановки…
Может, Господь и простит им тоже, палачам и корыстным ролланам и слезу ребенка и море слез… Слезы тех кто выжили. Но как выжили эти люди, перенесшие жестокую психологическую травму в критический период развития…
Впрочем, наш рассказ дошел лишь до 1922 года.
Исследователи до сих пор спорят о том, сколько сирот насчитывалось в России к 1922 году. Одни утверждают, что два миллиона, другие, что их было вдвое больше. Что касается числа беспризорных детей, выброшенных на русские улицы, то ученые оптимисты насчитывают четыре с половиной миллиона больных, голодных и мерзнущих деток, а ученые пессимисты – не меньше семи миллионов. При этом оптимисты (их отчего-то называют на Западе «левыми») утверждают, что это все было необходимо для того блистательного будущего, которое осчастливило Россию то ли уже в 1937, то ли в 1947, то ли еще позже… Пессимист Достоевский утверждал, что все блистательное счастье нового мира не стоит слезы ребенка. Но Достоевский был, как всем известно, «политически некорректный» реакционер.
Во «Взвихренной Руси» писателя Алексея Ремизова есть глава про «Панельную сворь» и про маленькую Нюшку, которая «на крик кричала». Писатель расслышал детский крик и так написал о нем в своей книге:
«…этот крик – детский, которого нельзя человеку слышать безнаказанно, и если нет никаких возмездий и сама вековая мудрость о карающем роке вздор, я говорю: этот крик – это бешеный собачий яд, который взбесит и самое крепкое человечье мясо – слышите! – завтра же загрызет от смертельной тоски землю».
… Гроб с телом мамы Любы стоял в маленькой гостиной на Сопотской улице в Оливе. Приходили и уходили соседи, поляки и русские. Няня хлопотала у гроба и на кухне. Позднее она удивленно рассказывала, что восьмилетний Коленька с шестилетней Олечкой шушукались в углу, прыскали от смеха. Какую-то придумали смешную игру…
Психологи по-разному объясняют этот механизм самозащиты, самоустранения, отключения от реальности у восьмилетнего Коли (он сработает в его жизни еще не раз). И конечно, все они (от почтенной Анны Фрейд до вполне почтенного Бориса Цирюльника с его «Шепотом призраков») говорят о детской травме, которая может со временем зажить (хотя призрак всегда будет что-то нашептывать ее жертве на ухо), но может дать о себе знать позднее с большой силой. Что касается французских жизнеописателей героя этой книги, то они, как правило, не углубляются в дебри психологии, а жизнерадостно сообщают что сироткам Сталям посчастливилось найти новую семью. И это правда, им несказанно повезло, все семь миллионов обездоленных русских детей могли только мечтать о такой удаче.
В пору моего московского детства мы знали, кого нам благодарить за наше счастливое детство. Большая фотография тифлисского бандита висела над моей детской кроваткой: он был добрый, усатый, а вовсе не рябой и не сухорукий, и он очень любил детей… Как было нам его не благодарить, не любить? Но кого было благодарить растерянным сироткам генерала Сталя и бедной Любови Бередниковой-Сталь? Откуда им было знать все то, что мы, счастливые советские дети, знали уже в детском саду? Там у них, небось, в Оливе, да и в целой Польше не было московского громкоговорителя, денно и нощно просвещавшего массы. Бедные дети были в изгнании. Им оставалось жаться к юбке нянюшки Домны да уповать на хлопоты Колиной крестной матери, княгини Людмилы Любимовой…
Вон они жмутся в уголке большой комнаты, где стоит материнский гроб, трое несмышленых сирот, даже и не слышавших имен своих настоящих благожелателей-детолюбов, икроеда Ильича, рябого Сталина-Джугашвили, любовника революции Троцкого-Бронштейна. Где им понять возвышенный, лесоповальный смысл их страданий: лес рубят – щепки летят…
Глава 6. Бельгийская идиллия
Пылкая общественница княгиня Любовь Любимова не вовсе пренебрегла предсмертною просьбой своей бедной подруги. Она не оставила ее малолетних сироток на произвол судьбы. Конечно, она не смогла бы выполнить пожелание Любови де Сталь слишком буквально: растить ее детей, как своих собственных, хотя бы потому, что красавица-княгиня и своих собственных детей растила не слишком уж самолично. Для этого у богатых людей существовала в доброе старое время целая свора нянек, гувернанток, гувернеров, знаменитых школ с интернатами, с пансионами…
Легко ли себе представить Анну Каренину в окружении детей, или на кухне, дающей советы повару? А чем княгиня Любовь Любимова была хуже Анны Карениной? Про нее тоже написан был жестокий любовный роман. Конечно, пожиже, чем у Толстого, но тоже про смертельную любовь: в средней школе его изучают, на особом уроке, а на сайте Интернета даже план урока можно найти; там объясняется, как урок о настоящей любви проводить, используя для этой цели повесть Куприна «Гранатовый браслет», как его следует «анализировать», чтоб экзамен сдать прилично. Там среди прочих ценных сведений сообщается, что прототипом княгини Веры Шеиной, в которую безнадежно влюблен мелкий чиновник, послужила для писателя Куприна красавица-княгиня Любовь Ивановна Любимова, супруга генерал-губернатора, которая в смерти чиновника нисколько не повинна, потому что повинна во всем только неуместная и безграничная Любовь (хотя и не Ивановна, но тоже с большой буквы). А Любовь Ивановна, так же как Анна Аркадьевна Каренина (урожденная Облонская) не была рождена для домашних хлопот, а рождена была для любви и вдохновенья, и звуков сладких и т.п. Однако вот ведь (как уже было мной указано выше) в трудную для родины минуту обнаружила недюжинные способности в трудах спасения попавших в беду соотечественников. Хвала ей и вечная память…
Можно кстати (или не совсем кстати) напомнить, что собственные Любови Ивановны сыновья, взращенные профессиональными воспитателями в знаменитых учебных заведениях, столь доброй славы, как их матушка или отец-губернатор, не стяжали. К примеру, многим известный Лев Любимов, окончивший прославленный Александровский лицей, подвизался и в годы эмиграции и в годы не вполне добровольной своей репатриации на ниве второй древнейшей профессии: был журналистом. Он долгое время сотрудничал в высокопатриотических монархических газетах эмиграции, во время нацистской оккупации, как выяснилось, непрочь был посотрудничать с нацистами, а после изгнания немцев из Парижа оказался советским патриотом, и всей душой устремился навстречу советским органам. Он сотрудничал с ними так безоглядно, что был даже французскими, ко всему, казалось бы, притерпевшимися властями из Франции выслан, несмотря на отчаянные хлопоты своей матушки Любови Ивановны в самых высоких сферах. И видно, заслуги его перед органами были существенны, потому что ему разрешено было остаться на жительство в Москве (редкая была привилегия для репатрианта), где он сумел издать одну из первых советских книг о русской эмиграции. Прочитавшие эту дефицитную книгу парижские знакомцы его обиделись на то, что автор «поливает грязью» эмиграцию. Но чего еще они ждали от подцензурной книги тех добрых времен? Зинаида Гиппиус не раз упрекала эмигрантских критиков, не понимающих, как глупо спорить об исполнительском уровне пианиста, у которого во время игры к затылку приставлен пистолет. Зато старательный Лев Любимов заслужил такое безграничное доверие у советских органов, что даже был отправлен в командировку в Париж и смог там в свободное от служебных хлопот время окончательно проститься со старенькой Людмилой Ивановной…
Я это рассказал к тому, что вряд ли княгиня Любимова на пороге новой своей эмиграции (на сей раз во Францию) готова была взвалить на свои лилейные плечи воспитание троих сирот, однако предсмертную просьбу подруги она без внимания не оставила. Во-первых, ей удалось разыскать адрес родного брата Владимира Сталя Алексея Ивановича и даже связаться с этим придворным деятелем. Алексей Иванович благополучно добрался до Франции, хотя трудно было ожидать, чтобы титул его сохранял в эмиграции былой петербургский блеск. Дядя убитого большевиками последнего русского императора Петр Николаевич Романов, чьим двором управлял некогда Алексей Иванович Сталь, обитал теперь на Лазурном Берегу Франции, на мысе Антиб, где он приютил на своей вилле Тенар бывшего главнокомандующего русской армией, своего брата Николая Николаевича Младшего. На предложение Любови Любимовой взять на себя прокормление и воспитание малолетних племянниц и племянника Алексей Иванович ответил решительным отказом.
Энергичная Любовь Любимова, имевшая немалые связи в высоких кругах, продолжала свои поиски и, представьте себе – нашла! Не какой-нибудь нашла убогий и полуголодный сиротский дом, существующий на пожертвования международных (чаще всего американских) филантропических организаций (домов было много, но сирот, увы, еще больше)… Она нашла щедрую и богатую русскую семью, которая брала к себе на воспитание сирот революции и войны, сирот нескончаемой российской катастрофы. Конечно, такая семья не могла уцелеть в «развихренной Руси» 1922 года: семья эта жила в фешенебельном пригороде Брюсселя, и отыскать такую семью помог Людмиле Любимовой бельгийский посланник в Польше барон Бернар де Ль\'Эскай. Не исключено, что барон де Ль\' Эскай уже обращался по этому поводу раньше и знал этот адрес: Брюссель, Юкль, мадам и месье Фрисеро. Возможно, он писал по этому адресу в начале 1919 года, когда умер в Париже русский дипломат Березников, действительный статский советник, одно время российский консул в Бордо и Марселе. Сиротки Березниковы с тех пор уже прижились в семье Фрисеро.
– Спишитесь с ними, прэнсес Любимоф, – посоветовал благожелательный барон де Ль\' Эскай, – Брюссель, 60 улица Станле. Прекрасная русская семья. То, что Вы ищете…
Хотелось бы воздать должное бельгийскому дипломату, находившему время для столь малосекретных дел.
На письмо княгини Любимовой инженер Эмманюэль Фрисеро отозвался без промедления. Написал, что места хватит в его доме для всех. И что обитатели дома ждут новых деток с нетерпением.
Просил непременно известить о времени приезда. Любовь Ивановна решила проводить няню и детей до Брюсселя, убедиться самой, что все в порядке…
В конце октября их встретили на брюссельском Южном вокзале те, кого дети отныне будут звать папой и мамой.
Деревянные резные ворота мирной усадьбы в богатом пригороде Юкле распахнулись перед беженцами из Оливы, Острова, Вильны, Варшавы, Полоцка, Петрограда и еще каких-то лежавших на их страшном пути взбудораженных войной, кровью залитых селений.
Вот он, ваш остров покоя, ваш новый приют… Просторный каменный дом, лужайка, беседка в саду, всюду дети, дети – сколько их? Трое? Ах, пятеро. Теперь будет восемь.
– Еще возьмем… – безмятежно говорит месье Фрисеро.
Княгиня Любимова почувствовала облегчение. Она могла возвращаться в Варшаву со спокойной душой. Привезенные ею беженцы остались в еще одной незнакомой стране, в еще одном незнакомом доме. Вряд ли у них было спокойно на душе, у всех четверых. Мы мало знаем об этом. Можем только догадываться.
Начнем со старшей – с нянюшки Домны Тимофеевой (может, она была попросту Тимофеевна). Это она вырастила Марину, она помогала растить младших еще в Петрограде, а в последние-то страшные годы подполья и бегства была опорой семьи и главной помощницей барыни, которая ей доверяла и на нее во всем полагалась. Именно в ее нехитрую одежку зашиты были перед побегом семейные драгоценности. Именно ей выпало ухаживать за беспомощным, парализованным барином, а потом и схоронить обоих супругов на чужбине – и генерала и барыню-генеральшу. Детишки цеплялись за ее юбку, она у них на всех была одна, она единственная, она главная…
А потом все в одночасье переменилось. Явилась эта княгиня из Варшавы, разодетая, пахнущая дорогими духами. Это она теперь всем командовала, она все решала (и брильянты, зашитые в Домнину теплую кацавейку и со страхом для жизни сбереженные при стольких-то обысках, к ней должны были отойти согласно завещанию барыни, это по какой такой справедливости?)
И вот уже чужой, не по-русски каркающий Брюссель, где не только десятилетней Мариночке больше няня не нужна, но и меньших детей будут без няньки растить. Здешняя барыня-хозяйка, хоть и живала в Петербурге, но сама родом из англичанок, у них свои правила, и с нашим уставом в чужой монастырь не полезешь… Оказалось, что нянька, вчера еще всем дозарезу нужная, незаметный человек в чужом доме. Не то чтоб вовсе уж не нужна, но ничему не хозяйка и мало что может. Ну вот разве что в школу русскую четверговую, что при церкви, детей сводить да в воскресный день к обедне с ними пойти, а так… Конечно, и ей можно было бы отдохнуть чуток, но чтоб так вот все повернулось, не ждала…
Стареющая Домна поселилась неподалеку от своих детей, ходила на Станлеевскую в дом Фрисеро, хотя уже и не каждый день. Конечно, с Мариночкой своей виделась, про былую жизнь ей рассказывала, про все их радости и беды, про невероятные их приключения и бегство. Потому что никто, не то что бы в Брюсселе этом или Бельгии, но и на целом свете никто кроме нее всей семейной истории и всех ее тайн знать не мог. С годами, конечно, стала многое забывать, но кто ж знал, что это когда-нибудь серьезным людям понадобится. Обрывки няниных воспоминаний были позднее записаны и хранятся вместе с разнообразными справками в семейном архиве. Увы, других свидетелей страшного пятилетия, кроме малолетних деток и их няни не было больше. Так что читая пересказ этой истории, записанный на разных языках, пытаюсь я расслышать в нем русский голос, интонации и уязвленную гордость старой нянюшки, самое имя которой звучит в здешних книгах так экзотически неправдоподобно. Все эти рассказы о том, как перед нею, перед всесильной нянюшкой стушевались в Питере головорезы-матросы или слабонервные чекисты с наганами, ворвавшиеся в барский дом. Как все уступали ей дорогу, все ее почитали и только эта вот княгиня с ее французскими духами и любовниками, ни стыда ни совести… Ей же еще и бриллианты… А все геройская их война, и осада, и бегство…
Но даже не в том дело, хотя бы и не было того, что было, ой, что было… Человеку хочется, чтоб уйти на покой с почетом, чтоб люди помнили. Вот, к примеру, няня Соня, Софья Михайловна Остроумова, нянчившая детей графа И.М. Воронцова-Дашкова. О ее судьбе так рассказывал в своем кладбищенском синодике отпевавший ее священник русского кладбища под Парижем отец Борис Старк:
«Во время революции все семейство трагически погибло, и няня сама спасла детей (их было пятеро – Б.Н.)… и сумела вывезти их за границу. За границей детей приютили родные, и няня, выполнив свой долг, поместилась в Русском Доме (знаменитый старческий дом в Сен-Женевьев-де-Буа – Б.Н.). Ее воспитанники выросли: Мария Илларионовна вышла замуж за сына вел. Кн. Ксении Александровны князя Никиту Александровича; Михаил Илларионович женился на дочери нашей директрисы Марине Мещерской, а один из младших мальчиков, красавец Ларик, женился на американской миллионерше и иногда приезжал из США на ослепительно белой машине изнутри обшитой ярко-красной кожей. Приезжая в Париж, он всегда приезжал к няне Соне и возил ее по окрестностям на своей изумительной машине. Очень старая няня Соня держала себя с большим достоинством. У нее был сильный тик – тряслась голова, и так, кивая, она ходила целый день по аллеям парка при Доме. Все ее воспитанники окружали ее большим вниманием».
Душевед-священник понимает, чего жаждет душа преданного пожилого слуги. Могли ли обиду нянину понять сверх головы занятые многодетные Фрисеро, младшие, такие неслухи Коля да Оля или эта княгиня с брульянтами?..
Княгиня же Любимова, сидя в доме Фрисеро, внимательно разглядывала хозяев и думала о том, как ей на сей раз повезло и как повезло деткам бедной ее подруги Любови Сталь-Бередниковой. Думала о том, какие все же люди на свете еще бывают, вот вам Фрисеро (когда Оленька Сталь подросла, она говорила, что это были «святые люди)…
И ведь с чего у них началось? Безмятежно растили нестарые эти люди русского подданства своих сына и дочку на богатой окраине Брюсселя. Война кончилась, чего не жить… И вдруг – эта беда в России…
В порты Северной Европы стали приплывать из Одессы снаряжаемые американским Красным Крестом корабли с обездоленными людьми. Корабли, доотказу набитые нищими и сиротами. Вот тогда мирный брюссельский инженер Эмманюэль Фрисеро и потерял покой. По сей день встречаются на нашей планете люди, которые не могут безучастно глядеть на чужую беду – хотят не мешкая протянуть гибнущему руку помощи. В старину, может, было больше таких людей, чем нынче. Говорят, их еще много в Америке… Брюссельский инженер Фрисеро был из их числа. Но откуда он взялся такой? Да еще уроженец Петербурга с российским подданством? А откуда взялись в Петербурге эти Фрисеро?
Из некогда сардинской, а в последние полтораста лет и французской Ниццы. Это не слишком древняя история, так что проследить ее будет нетрудно. А она многими нитями связана с жизнью главного героя нашей книги.
Глава 7. Несколько слов о Фрисеро
Перенесемся в тихую блаженную Ниццу сороковых годов позапрошлого века. Тепло, малолюдно. Живут там, наряду с местным людом, кое-какие небедные иностранцы, по большей части британцы. Они уже в XVIII веке (после визита хворого писателя доктора Смоллета) сюда зачастили, а к сороковым годам XIX века их жило тут сотни три. Русских пока и полсотни душ не наберется, но тоже все приличные люди. Объявился, например, в Ницце молодой князь Гагарин, сын того самого секретаря русского посольства в Париже князя Ивана Гагарина, что крестился в католичество в часовне госпожи Соймоновой-Сеченовой.
Гагарин, будучи в Ницце, заказал свой портрет молодому местному художнику Жозефу Фрисеро: сидел, позировал, глядел в синюю даль. Портрет князю так понравился (сам себе на портрете молодой князь так понравился), что он стал уговаривать молодого уроженца Ниццы бросить родной город и отправиться в славный столичный Санкт-Петербург: вот где слава, вот где деньги, вот где красивые женщины и веселье.
– Зачем Вам, мой друг (а молодые люди успели уже подружиться), пропадать с вашим талантом в захудалом городишке захудалого Королевства Сардиния?
Молодой художник, вняв зову богатства и славы, двинулся на завоевание северной русской столицы.
Путешествие оказалось судьбоносным, но видит Бог, неблизкое выпало ему путешествие! Сперва на корабле до Константинополя, потом до Одессы и Киева, дальше до Москвы. А ведь и одно путешествие из Москвы в Петербург чего стоило в ту эпоху? Напомню, что иным не в меру наблюдательным странникам (вроде Александра Радищева) стоило многих лет сибирской ссылки…
Однако наш художник из Ниццы добрался в Петербург благополучно, был тепло принят императором, который отвел ему при дворце мастерскую, да и в заказах недостатка не было. Престижный, можно сказать, придворный художник-иностранец писал портреты знатных дам и кавалеров, и деньги текли в его карман. Да и вино лилось рекой.
Кроме того Государь попросил художника давать уроки рисования нескольким придворным дамам. Тут-то и случилось главное событие в жизни художника Жозефа Фрисеро.
На сторонний взгляд, может, ничего сверхъестественного не случилось. Просто подданный короля Сардинии художник Жозеф Фрисеро представлен был своим придворным ученицам. Среди них была юная Жозефа (обиходе Юзечка) Кобервейн. И молодой пылкий сардинец – художник в эту Юзечку сходу влюбился. В этом тоже не было ничего удивительного. Нечто в этом роде произошло даже с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым. Он тоже влюбился в прелестную Юзечку, которая изящной тенью проходит по его великим повестям «Детство» и «Хаджи-Мурат» (люди знающие говорят, что именно Юзечка и была, так сказать, «прототип»). Признаем со смирением, что молодой художник из Ниццы, даже созерцая на своих уроках прекрасную Юзечку, не смог вдохновиться на создание чего-либо похожего на повесть «Хаджи-Мурат». Но в каком-то смысле он пошел даже дальше, чем Лев Толстой. Он признался Юзечке в любви и услышал из ее уст ответное признание. Жгучий и талантливый провансалец сардинского подданства произвел на юную дочь Севера сильное впечатление. Он нетерпеливо попросил у Юзечки ее руки. И услышал, что она, собственно, согласна и даже, можно сказать, рада, но надо еще услышать мнение императора и императрицы…
И вот тут мы должны сообщить вам, что наряду с прелестью ее юного облика милую Юзечку выделяла в круге ее юных подруг и некая тайна. Можно сказать, интимная, а можно даже сказать, придворная тайна. Была эта жгучая тайна в некотором смысле секретом полишинеля, поскольку все о ней догадывались, в том числе и сами Ее Величество императрица. Юзечка была незаконной (или как выражаются французы, «натуральной») дочерью императора Николая I (впрочем, не внебрачной, а скорее добрачной его дочерью). Юный наследник Николай встретил однажды на придворном балу дочь офицера шведской гвардии Марию Анну Шарлотту Руттеншельд, влюбился в нее и вот вам – плод любви прекрасной, очаровательная Юзечка: живет себе при дворе, всеми нежно любима и опекаема.
Надо сказать, что при любом европейском дворе паслось в ту пору немало таких «натуральных» отпрысков, при французском, между прочим, куда больше, чем при русском. И не только по мужеской линии. У какой-нибудь там голландской королевы, падчерицы Наполеона и «натуральной» дочери генерала Богарнэ, вышедшей замуж за брата Бонапарта, похоже, все дети были «натуральные», не исключая и будущего французского императора Наполеона III, которому даже в получении императорского звания помогал его малознакомый (поскольку по другой линии) единоутробный (и тоже конечно, «натуральный») брат, герцог де Морни. Прекрасные натуральные времена, когда все люди, даже люди из общества, были близки к природе (читай что Руссо, что Шодерло де Лакло).
Есть, между прочим, авторы, которые серьезно занимались жизненными судьбами незаконных детей и пришли к выводу, что дети эти вырастают людьми незаурядными (скажем, Делакруа). Милая прелесть Юзечки Кобервейн, будущей благодетельницы Ниццы, никак этой любительской теории не противоречит.
Итак, сватовство заграничного художника к нежно всеми опекаемой юной фрейлине императорской крови было принято при петербургском дворе вполне благосклонно, и пожиная плоды этой благосклонности, молодая пара двинулась в дальний путь, на родину жениха. Снова через Москву, Киев, Одессу и дальше по морям, по волнам, до Марселя, а то и до Виллафранки (нынешнего Вильфранша), потому что в живописную бухту несравненной Ниццы большой корабль войти не сможет по причине мелководья.
А уже в начале января 1849 года пришло в Ниццу Высочайшее разрешение на брак. Венчание совершалось по православному обряду. Государь назначил молодым пенсию «из личных средств», а главное – предоставил им для проживания принадлежащий Ему «комендантский дом» на окраине Ниццы – крыша над головой, это главное. Оставалось только выполнять старинные заповеди о размножении, чем молодые супруги и занялись не мешкая. Исправный художник и милая Юзечка подарили Ницце четырех сыновей, все как один были российского подданства, наши, русские, хотя конечно, и с сильной примесью нерусской крови.
В 1855 году отец-государь Николай Павлович (а кое-кому и вправду отец, хотя бы и «натуральный») вернул Господу бессмертную душу, а еще год спустя изрядно уже хворая вдова его, императрица Александра Федоровна, поддавшись на Юзины уговоры и ее восторженные рассказы о целебном райском климате Ниццы, приплыла на сардинском корабле в ближайший к Ницце морской порт, все в ту же Виллафранку, откуда ее, после очень торжественной встречи повезли усталую на отдых в предназначенный ей для жительства дом главы иудейской общины скромного курортного города Ниццы господина Авигдора (вполне был вместительный дом, и многие русские в нем живали, а ради государыни, полный экуменического рвения господин Авигдор велел оборудовать в доме православную часовню).
Легко понять, какое это было замечательное событие не только для скромной семьи художника Фрисеро, но и для всей Ниццы, в которой кое-какие бароны, лорды, князья и маркизы уже и раньше бывали, но таких величеств как Ее Величество русская императрица, не бывало еще никогда, так что если увидите на вывесках отелей Лазурного Берега имя Александра, не сомневайтесь, это в честь нее, той самой прусской принцессы, которую впервые в Русской поэзии и назвали так сладостно – «гений чистой красоты» (восторженный Жуковский, увидев ее впервые в Берлине, так и назвал, а уж Пушкин только попользовал чужую находку в бессмертном стихе про чужую жену). Конечно, воспетая Жуковским былая краса ко времени визита уже увяла, императрица болела, лечилась, приезжала вторично, ее навещали члены царской фамилии, корветы и крейсера входили в гостеприимную Виллафранку, захудалая Ницца высоко держала марку, дай ей Бог и дальше…
Ну, а что же семья Фрисеро? Тут начались трудности. Императрица Александра ушла вослед царственному мужу, пришли новые люди и как-то некому было теперь в Петербурге позаботиться о прелестной Юзечке, о многих детках ее и муже-художнике, кисть которого не успевала теперь заработать на пропитанье.
В общем, нелегкая выдалась жизнь романтической Юзечке. Умирая, ее муж – художник только и оставил что кучу долгов да непроданных работ…А все же выросли как-то его потомки, получили образование, вышли в люди, имели русское подданство. Один из них дослужился даже до поста русского морского атташе в Лондоне и там женился на англичанке. Один из полуанглийских сыновей русского дипломата Фрисеро сумел получить хорошее техническое образование в Париже, женился, как и отец, на милой англичанке по имени Шарлотта и увез ее в Петербург. Позднее ему предложили хорошую работу в Бельгии, и он поселился в престижном пригороде Брюсселя, в Юкле. Как вы, наверное, догадались, это и был инженер Эмманюэль Фрисеро, который принял в свою семью оставшихся круглыми сиротами детей Владимира и Любови Сталь фон Гольштейн.
Просторный дом в Юкле, беседка, лужайка, теннисный корт, большая компания сверстников, любящие папа с мамой… Прошло еще несколько лет и в доме прибавилось сверстников. Теперь комнату с Колей делил Петя Врангель, сын знаменитого генерала, стоявшего во главе Добровольческой армии, потом всего Юга России, а также всей русской армии, бившейся против другой русской армии, той, в которой были Троцкий, Тухачевский, Махно, Чапаев…
Потерпев поражение, генерал Врангель возглавил эвакуацию белой армии из Крыма и помог спастись многим тысячам мирных русских беженцев, за что награжден был международной организацией Красный Крест. Вместе с армией он зимовал на Галлиполи, а позднее, в новом изгнании, пытаясь сохранить остатки армии и поддержать боевой дух собратьев по оружию, создал Российский Общевоинский Союз (РОВС), который и стал главной мишенью победоносной лубянской операции «Трест». В 1928 году создатель и первый глава РОВС пятидесятилетний генерал Петр Врангель погиб «при загадочных обстоятельствах» в Брюсселе (поначалу он и похоронен был в Юкле), а в 1930 и в1937 году были похищены на улицах Парижа и убиты разведчиками второй и третий руководители РОВС (генералы Кутепов и Миллер), чье убийство больше не считается ни загадочным ни «невыясненным»…
Брюссельский инженер Эмманюэль Фрисеро и его жена Шарлотта, много времени отдававшие работе в Красном Кресте, приняли в свою семью, вдобавок к двум собственным детям и сыну Березникова троих детей генерала Врангеля и сирот супругов Сталь фон Гольштейн. Сообщая о подвигах семьи Фрисеро, французский биограф Сталя осведомленно намекает на «классовую солидарность» инженера-филантропа, ибо сиротки были «классово чуждые» для нынешней французской публицистики. Что ж, может, он и правда испытывал особую жалость к детям из преследуемых аристократических семей. Они ведь были ни в чем не виноваты, бедные дети. К тому же вспоминалось, наверно, брюссельскому инженеру пребывание в петербургском «хорошем обществе». Да и у него самого, если помните, прадедушка был Русский император… Однако и при добрых воспоминаниях благодарность и доброту проявляют немногие. Родной дядя Алексей де Сталь нисколечко сиротами брата не озаботился…
Так или иначе сиротки Людмилы и Владимира де Сталь жили теперь на вилле в престижном предместье Брюсселя. Там у них и лаун-теннис, и файф-оклок по английскому обычаю (хозяйка-то англичанка), и семейные сборища у камина, где потрескивают дрова, и общее чтение (по-французски или по-английски), а чтоб дети не забыли русский – и четверговая школа, и православная литургия, и русское общение, и гости (многие, конечно, «из бывших»)…
И, конечно, бельгийская школа. Коля мгновенно заговорил по-французски. И как быстро начал писать! Но и английское общение интереснейшее. В доме проводят неизменно свой европейский отпуск британские офицеры из Индии, вот уж кто может рассказать об индийских чудесах! Девятилетний Коля к ним пристает с расспросами. А индийцы, какие они индийцы? Такие, как на картинах прадедушки Фрисеро в папином кабинете? Нет, это магребинцы, это все Северная Африка, а в Индии свои дервиши, свои маги, свои джунгли, свои слоны…
Коля непоседа, он исчезает так же мгновенно, как появляется, он проказник, он всеобщий любимец, он папин любимец, а папа, о, папа, это такой человек!
Он и правда был редкий человек, Эмманюэль Фрисеро. Он был человек чести. Человек труда. Человек щедрый и бескорыстный. У него было драгоценное чувство благодарности. Возможно, благодарности ко Всевышнему – за все, что было ему дано. И просто так – ни за что. За минуты понимания своей неоставленности…
Глава 8. Товарищ, товарищ, болят мои раны…
– Что же ты не ешь свое мороженое? – спросил Пьер. – Ты же хотел мороженое…
– Что-то я зябну.
Мы сидели на застекленной терраске на углу авеню Гамбетта и Английского променада. Догорал пунцовый закат, и толпа на променаде стала редеть.
– Как твои осиротевшие русские дети из семьи фон что-то…? – вежливо осведомился мой друг, великий «псико» Пьер.
– Фон Гольштейн… Ты знаешь, пока у них все складывается удачно. Нашлись чудные приемные родители – дом в престижном пригороде Брюсселя, компания сверстников… Они в земном раю… Кстати, сейчас, похоже, усыновление популярнее, чем в ту пору… Даже в России, не говоря уж про Штаты…
– Как же, как же… – энергично кивнул Пьер. – Только вчера слышал московскую новость, что за год восемь тыщ усыновленных детей новые родители вернули обратно в детдома. Представляешь, сколько их было всего! Грандиозно!
– Отчего же их вернули? – спросил я растерянно.
– Непосильный труд. Дети попались трудные.
– А свои разве не трудные?
– Трудные. Но вернуть их некому. А усыновленные, они чаще всего уже испытали шок потери родителей. У них тревожное чувство, что их могут снова оставить. Дети с изломанной судьбой, перенесшие психологическую травму в самом чувствительном возрасте.
– И эта рана не заживает… – сказал я с безнадежностью.
– Может и зажить. А может стать незаметной. На время. А потом, годам к двадцати, тридцати… Беспокойство, тревога… Справиться с этим трудно…
– Родители этого не предвидят?
– Многие предвидят. Но все равно берут. Надеются на лучшее…
Мы помолчали. Я доел мороженое.
– Если это может тебя утешить, – виновато сказал Пьер, – могу напомнить, что пережитые страдания часто способствуют креативности, разнообразной творческой активности, – сказал Пьер.
– Ты хочешь сказать, нет худа без добра.
– Я сказал «часто». То есть, не всегда.
– Слабое утешение, – сказал я, – Мы уже знаем, чем все это кончилось…
– Да, знаю, – сказал мой друг, вставая из-за столика…
Из края в край мы к смерти держим путь,
Из края смерти нам не повернуть…
Мой друг повторял робаи нашего любимого Омара Хайяма. К сожалению, он знал их по-французски. Куда лучше они звучат по-английски в переводе Фитцджералда или по-русски в переводе камергера Ивана Тхоржевского. В молодости мне не раз доводилось их слышать в горах по-таджикски. Где вы, мои горы, мои годы…
Жизнь отцветает горестно легка.
Осыпется от первого толчка…
Глава 9. В когтях иезуитов
Иногда я разглядываю фотографию 20-х годов, на которой Эмманюэль и Шарлотта Фрисеро с огромной своей оравой приемных и «натуральных» детей (в подавляющем большинстве девочки) отплясывают (или только делают вид, что отплясывают) развеселый канкан. Все улыбаются, даже неулыбчивый Коля. Странная у него улыбка…
Но разве не рай земной этот сад в Юкле?
Любящие, великодушные папа с мамой, парк, садовник, машина с шофером, гости, праздники…
Опекунша-наставница княгиня Любимова приезжает на пасху, дыша духами и туманами (на взрослеющую Марину это производит неотразимое впечатление):
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе, милая тетушка!»
Благородный Фрисеро сохранил за княгиней все права опекунства, сохранил детям их благородную фамилию: как-никак титул…
На летние три месяца, на все блаженные месяцы школьных каникул княгиня забирает детей на отдых, снимает виллу где-нибудь в горах или на Лазурном Берегу Франции. Скажем, в Жуан-ле-Пене, близ мыса Антиб.
На бульваре Антибского мыса живет с семьей великий князь Петр Николаевич, тот самый, у которого управлял двором дядюшка-генерал Алексей Иванович Сталь фон Гольштейн.
О нем, о Петре Николаевиче, одном из дядьев последнего русского императора, часто заходит разговор за ужином у Любимовых. Князь Дмитрий Любимов рассказывает о нынешнем обитателе виллы Тенар удивительную историю. В отличие от своего горячо им любимого и почитаемого брата – великана Николая Николаевича (командовавшего всей русской армией как раз в год Колиного рожденья), Петр Николаевич был человек хилого сложения и слабого здоровья. Зато изрядно был образован, увлекался историей, искусством и архитектурой, особенно оборонительной. Свою крымскую усадьбу Дюльберон, на смех всей царской семье, оборудовал на манер маленькой, но вполне неприступной крепости – со стенами, бойницами, огневыми точками…
Но вот в скором времени после захвата Крыма большевиками обнаружилось намерение Ялтинского совета депутатов окончательно покончить с уцелевшими членами царской семьи, остававшимися в Крыму. Вот тут-то великий князь Петр Николаевич вместе с приставленным для его охраны матросом Задорожным из Севастопольского совета (по каким-то их внутренним, советско-депутатским причинам соперничавшего с Ялтинским советом) и сумел, наконец, с пользой для сохранения жизни остаткам царской семьи использовать свое дачно-оборонительное сооружение и успешно держать оборону до самого прихода немецких войск… Все великие князья и даже Ирина с непотопляемым Юсуповым нашли защиту в игрушечной крепости Дюльбера…
У веселого рассказчика князя Дмитрия Николаевича Любимова было в запасе немало всяких историй из прошлого. Особенно охотно он рассказывал в застолье историю своего успешного губернаторства в Вильне. Вот он этот его рассказ (записанный для потомства дальним родственником семьи писателем Куприным):
«Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью во всех отраслях… а оттуда, сверху, из Петербурга с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы, И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность. Как у меня все проходило благополучно, – не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушений. Воистину Божий промысел! Я здесь был не причем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я – человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора».
Мог ли это княжеское чувство юмора (даже в этой вполне литературной записи Александра Куприна) оценить во всей полноте уже с акцентом говоривший по-русски (но зато сделавший огромный рывок во французском языке) юный Коля де Сталь, сказать не берусь. Понятно, что в Юкле (и конечно, в школе) говорили чаще всего по-французски, реже по-английски, и лишь очень редко по-русски. Озабоченная этим княгиня Любимова приглашала для детей на каникулах учителя русского языка. Легко представить себе, как тошно было деткам тратить счастливое время каникул на какие-то ненужные уроки… Русские семьи, живущие с детьми заграницей, в иноязычной среде, знают, как трудна (а чаще всего неисполнима) эта задача сохранения родного языка у детей. Дети хотят говорить со сверстниками, на языке сверстников, все их интересы в среде сверстников… У первой русской эмиграции, которая жила надеждой на скорое возвращение, были в этой области кое-какие достижения, но время рассеяло их по ветру. Другие диаспоры и не имели подобных амбиций… Я живу на хуторе в Шампани в окружении молодых и престарелых поляков, но после смерти единственной бабушки-соседки, сохранявшей нетронутым язык детства, мне некому сказать «Джень добрый»…
И все же, несмотря на уроки, какое счастье эти каникулы, как быстро они проходят… Вот и снова дожди, снова школа, снова учителя, невыученные уроки – кому они не снятся до старости в страшных снах?
Колю родители Фрисеро отдали в хорошую религиозную школу – в коллеж Святого Михаила (Сен-Мишель). Заправляли школой иезуиты. Понятно, что вольнолюбивому мальчику в школе было тошно и не хватало воли. Он уже хорошо усвоил французский, любил читать французские стихи и прозу, но в школе были еще математика и прочие обременительные предметы.
Пишут даже, что мальчик однажды сбежал из школы, а потом пришел к директору, который осушил его слезы. Непохоже на правду, но все биографы сокрушенно сообщают, что Коля часто прогуливал и не часто учил уроки. Щадя его, любящие родители отдали его сперва на «полу-пансион», так сказать, на «продленку», но потом, когда дела пошли совсем плохо, перевели его в интернат.
В конце концов из коллежа Сен-Мишель его отчислили, но чего от них ждать, от иезуитов. Слово «иезуитский» во французском звучит так же обидно, как в русском («лицемерный, казуистический»). Но когда биографы Никола де Сталя призывают нас ужасаться, мне вспоминаются два лета на берегу Женевского озера. Вспоминаются братья-иезуиты…
Когда моя доченька была маленькой, мне, вечному парижскому безработному, все же хотелось вывезти ее на природу. Пусть и не с таким шиком, как удавалось княгине Любимовой, но все-таки попытаться вывезти…
Кто-то посоветовал мне съездить в приют Святого Георгия под Парижем, в Медоне. Это было известное место. Там ночевали иногда небогатые русские. Там преподавали (задешево) наш правдивый, отчасти только свободный, но безмерно любимый язык русские преподаватели, люди небогатые. Такие будущие знаменитости, как Мамлеев…
Я поехал в Медон и меня представили отцу Андрею. Он понял мои проблемы и предупредил, что платить за преподавание он мне скорей всего не сможет, но комнату нам с доченькой даст. И кормить нас будут.
Так мы попали на берег Женевского озера, где была дача. Мне дали даже не комнату, а целый сарайчик близ церкви, где мы и поселились с моей двухлетней доченькой. Святые отцы тоже преподавали, работали в огороде и по дому. Они были монахи, и только со временем я узнал, что они еще и иезуиты. Весь день мы занимались с детьми русским, а вечером была служба. Обычная, православная.
Ходили на службу только учителя (как правило, новообращенные евреи), а ученики тем временем играли в футбол и в теннис. Никто никого ни за что не агитировал и никто никогда не спрашивал: «А ты кто?» И они были прекрасные учителя, эти русские монахи-иезуиты. Помнится, они любили красное вино, выпивали вечером стакан-другой…
Про те каникулы я вспомнил как-то лет десять тому назад в Петербурге. У меня там вышла книга о Франции, и меня пригласили во Французский клуб на Фонтанке пообщаться с читателями. В назначенный час я явился в клуб и уже открыл рот для начала общения, как вдруг открылась дверь и все от меня отвернулись. Оказалось, что пришел главный человек – господин французский консул в Санкт-Петербурге. Большое событие…
– Этот что ли писатель? – спросил он у красивой девушки (где же нынче работают некрасивые девушки?) и она многозначительно кивнула. Я понял, что консул разочарован. Он думал, что русский писатель будет похож на Есенина. Или на Пушкина. А я скорее походил на Байрона. А может, и на Переца Маркиша, который, как вспоминают, был тоже неплох, хотя и писал не по-русски…
В общем, он что-то не так обо мне подумал, и я это сразу заметил. И поскольку это было за версту видно, я подумал, что он простоват для дипломата. Мог бы и скрыть свое разочарование. Я спросил, где он учил русский. Оказалось, у него русские корни. А учил он русский в Медоне.
– У отца Андрея?
– У отца Игоря… Но отец Андрей, о, отец Андрей! Это такой человек!
– Да, это был человек, – сказал я.
Я сел на стул, а он стал мне рассказывать, как он любит отца Андрея и как он сначала подумал, что это еще за писатель, но теперь он убедился… А я сидел и думал, какие в сущности простые парни нынешние иезуиты, как хорошо было с теми, на Женевском озере. Но может, те, старинные иезуиты были хуже наших, медонских, хотя ведь и старинные неплохо подготовили Пьера Корнеля для поприща драматургии…
Ну а те, что преподавали в бельгийском Сен-Мишеле, они в конце концов все же выгнали неслуха Колю де Сталя из школы, и маме Шарлотте пришлось думать о новом колледже для сына.
Кое-чему он все же успел тогда научиться, скорее дома, чем на уроках. Во-первых не только хорошо говорить, но и читать, и писать по-французски. Как ни странно, в отличие от других петербургских домов, у Сталей в крепости учили деток не французскому с русским, а немецкому с русским. Может, чтобы помнили о своих тевтонских корнях.
В семье Фрисеро и в школе маленький Николай охотно писал по-французски, много и охотно читал. И конечно, рисовал – как все дети. Пожалуй, не намного хуже, но и не намного лучше, чем средний ребенок.
Мальчик был трудный, вечно ссорился со старшей сестренкой (Мариной), вступая в заговор с младшей (Олей). Был неуживчив…
Вообще, образцовыми в этой семье были не дети, а родители, которые бережно хранили и первые рисунки и первые письма своих потенциально гениальных детей. Сохранили, к примеру, рисунок, который одиннадцатилетний Коля подарил сестре Марине на ее тринадцатый день рождения. На рисунке этом – лодки (искусствоведы могут поразмыслить, отчего потом всю жизнь он рисовал лодки, лодки, лодки…), дарственная надпись на русском (по старой, конечно, орфографии) и дата. Документ подлинный, но не слишком впечатляющий. Рисунок тоже.
Ученическая надпись на рисунке (как и редкие русские слова в многочисленных французских письмах взрослого Никола де Сталя) вовсе не подтверждает предположения биографов о том, что будущий художник свободно (и охотно) говорил по-русски, хотя хозяева поддерживали в своей усадьбе культ былой России и «блистательного Петербурга», лелея воспоминания о своей петербургской, предания о царской крови в жилках прабабушки, о красавице Юзечке Кобервейн, о пышном петербургском дворе, о фрейлинах, императоре и доброй императрице Александре Федоровне.
Разговоры о «той России», без сомнения, возникали в застольях у гостеприимных Фрисеро: их отголоски мы найдем в письмах молодого художника. Несомненными были его интерес к России и его ощущение «русскости». В том же что касается глубины «русского образования» в жизни детей из богатого брюссельского дома, то серьезность его преувеличивать не следует. Достаточно того, что дети получили неплохое бельгийское образование. Редкие уроки при русской церкви и летние занятия с учителями, нанятыми княгиней Любимовой, вряд ли могли что-нибудь изменить, хотя и был в Юкле учитель русского, был надзиравший за порядком камердинер Терентий, ходили с няней в церковь на воскресную службу и, как вспоминала десятилетия спустя в письме к племяннице любимая колина сестричка Оля, «переносили мучительное двухчасовое стояние». По воспоминаниям той же Оли, дети писали по-русски лишь поздравительные фразы на праздники и посвящения. Письма писали по-французски, да и чтение, естественно, было главным образом французское…
Мне невольно вспоминаются рассказы живущего в Ницце филолога, художника и певца Алексея Оболенского о его русском детстве, протекавшем на Лазурном Берегу Франции. Перед сном отец читал детям вслух Гоголя, Тургенева. Дедушка Алексея, князь Владимир Андреевич Оболенский не любил, когда упоминали его княжеский титул. Дедушка был член «Партии Народной свободы» (кадетской партии) и не придавал значения титулам.
Добрый инженер Эмманюэль Фрисеро, напротив, считал, что приемный его сын должен донести до потомства древнее рыцарское имя фон Гольштейнов. Биографы считают, что именно из этих соображений он не дал сироткам Сталь фон Гольштейнам свое скромное нисуазское имя Фрисеро. Кто из двух русских джентльменов (Оболенский или Фрисеро) был прав, не берусь судить. Не берусь даже судить, в какой степени помогло или повредило герою нашей книги «баронство» на его нелегком пути ученья и бедности, а потом и богатства. Может, оно и рождало в нем всю эту странную смесь надменности и робости…
Может, все это вообще не сыграло существенной роли в его эмигрантской жизни, ничего не могло изменить, не могло ничего добавить к тому, что уже случилось в российском детстве…
Что до бельгийского детства, то напомню, что маленький Коля был любимым сыном Эмманюэля Фрисеро. В отличие от сестер он поначалу даже не жил в школьном пансионе: жил дома и был избавлен от многих тягот.
Любящие родители, бережно хранившие сувениры его детства, сохранили первое Колино письмо к папе. Двенадцатилетний Коля описывал похороны примаса бельгийской церкви кардинала Мерсье. Мальчику удалось отыскать в толпе перед колоннами Конгресса удобное место, так он смог увидеть и описать (памятное дело, по-французски) похоронный кортеж:
«…я видел, как прошла кавалерия, потом артиллерия, потом множество священников, потом гроб кардинала, покрытый красным, на четверть черным. Потом шли король, принц Леопольд, семья кардинала, генерал Фош, представитель Президента французской республики, Русского комитета в лице генерала Хартмана и компаний, Италии…»
Французские биографы находят в этом невинном детском послании все признаки вышесредней наблюдательности подростка, его незаурядного интереса к
действительности. Он и правда всю жизнь любил пышные уличные зрелища, а незадолго до смерти, уже знаменитым художником, мечтал написать что-нибудь в этом роде. Но написать не успел…
Первое детское письмо было бережно подшито родителями в архив, а маме Шарлотте пришлось заняться поисками нового коллежа для ее прогульщика-сына, уже изгнанного иезуитами.
Среди брюссельских родителей в те годы было немало толков о коллеже Кардинал-Мерсье. Для его строительства еще сам покойный примас церкви выбрал подходящее место на зеленом лугу к югу от Брюсселя. В новом коллеже задавали тон преподаватели-подвижники (тоже, конечно, святые отцы), там царили английские порядки, большое внимание уделяли спорту, а в конце учебного года отводили особые дни для отдыха и благочестивых размышлений в кельях монастыря.
Шарлотта записала Николая (в школе его звали Никола, Ники, а позднее Ники из Петрограда) в третий класс. Это был «греко-латинский» класс, ибо уже ясно было, что он мальчик «гуманитарный», что он не любит математику, тяготеет к поэзии и даже имеет своих любимых латинских авторов. Во всяком случае он знал великий эпос Вергилия, то есть получил какое ни то классическое образование. Впрочем, если помните, даже прохиндей Онегин «помнил, хоть не без греха, из «Энеиды» два стиха», да и русские гимназисты XX века приобщались к той же классике:
Бессоница. Гомер. Тугие паруса,
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный.
Что над Элладою когда-то пролетал.
Кстати сказать, подобные стихи (это Мандельштам) уже не доходили (особенно в переводах) ни до брюссельских школьников, ни до парижских художников, так что биографы Сталя ссылаются на один-единственный, довольно бедный сборник переводов: «Поэты русской революции» Бенжамена Горелого.
Вспоминают, что на юного Никола Троянская война и приключения Энея произвели немалое впечатление. Никола написал учебное сочинение-пересказ для школьного журнала:
«И вот в троянской ночи вспыхнул свет. Все небо стало пламенем, а земля кровью. Воздух содрогался, и зной испепелил ночь…»
Похоже, что страхи настоящей войны на время забыты и война древности предстает в мальчишеском воображении как «декорация Грезы».
Минувшая война тоже становилась мифом. В доме бытовали рассказы о двух сводных братьях-героях, павших на войне, о гибели маминого брата дяди Вани близ дома на Невском, а также о рейде героической польской конницы, прогнавшей Тухачевского. О былых сражениях Никола слышал в застольях на вилле, а иногда и перед сном от своего приятеля Пети Врангеля, с которым он делил комнату в Юкле. Петин папа командовал доблестной Добровольческой армией России, а за границей создал русский Общевоинский союз, чтобы когда придет время, освободить Россию от захватчиков-большевиков.
Конечно, оба мальчика мечтали о военных подвигах, но эти мечты должны были храниться в тайне. Папа с мамой мечтали, что их Коля получит надежную мирную профессию. Ведь он такой способный, их Коля: может, выучится на инженера. В крайнем случае станет писателем. Он подолгу пишет что-то в уголке гостиной! И он так любит стихи! Внимательные родители отметили, что Коля не просто упивается музыкой стиха и восхищается образами. Он думает о форме. Они отметили это в его школьном сочинении о Вергилии:
«… для Вергилия, как и для писателей всех времен, важна форма… Гармония! Гармония! Единственное правило, все объединяющее, как говорит нам Верлен.
О, у Вергилия вечное – это архипелаг дремлющих неизведанных островов. Необъятность сапфира под яркими звездами…»
Можно быть уверенным, что школьные сочинения подростков не меньше волнуют гордых родителей, чем восторженных биографов.
В школьные годы Коля часто ходил в картинные галереи, в брюссельские музеи, где было немало шедевров мировой живописи. Вместе с младшей сестричкой он подолгу стоял перед знаменитыми старыми картинами. Впрочем, и выставки современных художников не оставляли его равнодушным. Волновали их дерзания, подвиги, вызов старине и традициям. Уже были у него любимые художники среди современных бельгийцев. Когда Николаю было шестнадцать, в брюссельском дворце искусств открылась большая выставка произведений Константэна Пермеке. Художнику было в ту пору 54 года. Он родился в Брюгге и еще до Первой мировой войны был известен среди экспрессионистов, потом воевал, был ранен, пережил сильное влияние кубистов (кто ж тогда не был ими затронут?), до конца своих дней писал рыбаков и пахарей, как некогда знаменитый барбизонец Милле. Его даже называли иногда «бельгийским Милле». Полотна Пермеке и позднее интересовали Никола, но та, первая большая выставка, она была незабываема!
Из бельгийских экспрессионистов Никола запомнился на всю жизнь Гюстав де Смет. Ну и, конечно, ужасы Джеймса Энсора.
Ах, Энсор! Рассказывали, что он и сам был похож на ходячую смерть, этот Энсор, который за свои блистательные «ужастики» произведен был в баронское звание (но конечно, новое баронство – это не то, что древнее, как у Сталей фон Гольштейнов!)
Юный Никола обожал всякую старину и мимо антикварных лавок не мог пройти, не застыв перед витриной. А музыка, как он слушал музыку! Любящие родители переглядывались, отмечая, что он все всасывает как губка, их Никола. Они знали, что раньше или позже все это должно принести плоды. Конечно, они не подозревали, как долго придется этого ждать…
А как он рос, их Николай! Как на дрожжах. И аппетит у него был зверский. Отец с притворным ужасом напоминал, что пора «кормить зверя». На их счастье, «трудностей с продуктами» и «продовольственной проблемы» в Бельгии не было.
А как он бегал, Николай, как плавал, как играл в футбол, как он фехтовал, юный Никола! Сколько призов, премий, кубков…
И красив был – как молодой бог.
Но вот коллеж окончен. Что Никола будет делать дальше, пока еще никто не знает. Он, пожалуй, не знает еще и сам. Может, он станет поэтом, может, писателем, может, журналистом…
Отец и мать ждут его решения. Ему решать… Но легко ли решить?
В том возрасте, когда молодые люди кончают школу, они редко знают, что они будут делать дальше…
Вспоминаю тот послевоенный год, когда мы с друзьями кончали 273-ю московскую школу. Вечерами ходили по Первой Мещанской и спорили о том, куда нам поступать, на кого дальше учиться. Нам, впрочем, выбирать было легче: нас не всюду брали, были негласные ограничения… А герою этой книги, мальчику из Юкле, ему все было доступно в межвоенном Брюсселе. Тем трудней сделать выбор.
В один прекрасный день Никола объявил, что он решил стать художником. Уже в тот день можно было пожалеть папу Фрисеро, помнившего вечные семейные рассказы о бедной его бабушке, «натуральной» принцессе из Петербурга, которая стала женой художника из Ниццы…
Эмманюэль Фрисеро делал отчаянные попытки смягчить удар судьбы. Договорились с Никола, что он запишется не только в Королевскую академию искусств, но и в Художественную академию Сен-Жиль-ле-Брюссель, где учат вдобавок на архитектора. Никола согласился: ему жалко было отца.
Похоже, что в первый год он работал довольно добросовестно. Занимался рисунком в ателье профессора ван Хэлена в академии, а потом декоративным искусством у профессора Жоржа (Жео) де Вламинка. В конце учебного года Королевская академия отметила композицию студента Никола де Сталя первой премией. Композиция была названа «Призрачный корабль в бушующем море». Упомянуты были и две другие учебные работы – «Волхвы находят вифлеемскую звезду» и «Затонувший собор». Ни одна из этих работ не уцелела. Остались лишь поздние упоминания о них и благожелательный отзыв, оставленный потомству профессором Вламинком:
«Это была большая композиция, которой благородство, величавость формы и исполнения принесли мне радость и вознаграждение за труды. Я был тронут, обнаружив позднее в его произведениях архитектурную композицию, ритм и смелую гармонию».
Это понятно. Трогательно обнаружить в чужих нашумевших полотнах следы своих давних уроков. Стало быть, уроки не пропали даром…Конечно, эти хвалебные слова о Стале были написаны профессором Вламинком много лет спустя, но и тогда, в 1934 году наставник оказал большое доверие юному студенту, предложив ему работать вместе с ним над созданием декоративных панно для двух павильонов Всемирной брюссельской выставки 1935 года. Один из павильонов назывался «Искусство стекла», и он имел успех на всемирной выставке. Что до самого тридцатишестилетнего художника Жоржа Вламинка, лауреата престижной римской премии за монументальное оформление, то ему было не привыкать к успехам. Он слыл бунтарем, модернистом. Неизменным успехом пользовались у студентов его раскованные, блестящие лекции в Художественной академии Сен-Жиль-ле-Брюссель. В этих его обзорах с изяществом были проложены мосты в древность, в искусство других континентов и эпох, где сверкали имена, уже знакомые Никола де Сталю по европейским музеям…
А в мир музеев (ими, кстати, не советовал увлекаться дерзкий иконокласт профессор Вламинк) – в этот волшебный мир Никола начал погружаться давно. И не только в Бельгии, но и во всей Европе. Он уже познал радость путешествия…
Глава 10. Соблазн дороги и дороги соблазнов
Летом 1933 Никола побывал в соседней Голландии, постоял перед картинами в тамошних музеях и вернулся совершенно ошалевшим не только от сказочного Рембрандта, от всего рембрандтовского круга, но и от фантастических пейзажей гравера XVII века Эркюля Зехерса (самому Рембрандту, кстати, неплохо знакомого). Это преклонение перед Зехерсом Никола пронес через всю жизнь и уже незадолго перед гибелью затеял вместе с поэтом Лекюиром книжку о Зехерсе.
Кстати сказать, поездка в Голландию была его первым самостоятельным путешествием. В путешествии всегда нехватает денег. Девятнадцатилетний Никола очень гордился тем, что ему удалось написать в поездке акварель и продать ее кому-то на рыбацком причале. Он многие годы рассказывал об этом подвиге, потому что в последующие годы путешествий такое случалось с ним редко. А путешествия предстояли немалые – он ощутил уже неодолимый зов дальних дорог, свободу и радость дороги, проложенной поколениями предков… «О, дороги! С древней пылью дороги! – восклицал поэт. – Где исходившие вас? Кто они были, дороги?»
… Что касается жизни Никола в родительском доме, то с этим появилось у Фрисеро немало новых трудностей. Жить в этом мирном порядочном доме созревшему, темпераментному юноше становилось все трудней. Никола пропадал теперь допоздна неизвестно где, смущал и папу с мамой и даже старую няню беспорядочностью и неразборчивостью своих знакомств. Молодо, зелено, погулять велено. У него были вполне богемные (как и положено молодому красавцу-художнику, да вдобавок аристократу) замашки и привычки.
Эмманюэль и Шарлотта сделали единственное, что было в этой ситуации возможно: они стали выдавать Никола пособие для оплаты его собственного, отдельного жилья. Нетрудно догадаться, что ему требовалось не одно, а много пособий, так что брюссельские адреса его менялись очень часто. Вероятно, к моменту уплаты за квартиру родительское пособие ему удавалось уже благополучно истратить. Так что он находил ночлег у друзей и знакомых, по возможности бесплатно, то в одном, то в другом доме…
Биографы пишут, что он презирал деньги и что заработки его были редкими. Зато регулярными были траты. И вряд ли регулярной учеба. Трудно сказать, сколь усердно посещал все эти экзотические курсы в академии и в школе Сен-Жиль (скажем, курс «композиционно-декоративный с фигурой» или курс рисунка «с фигурой карточной и натуральной» или «с фигурой античной»). Но западные учебные заведения не слишком требовательны и придирчивы, так что Никола даже выигрывал какие-то конкурсы.
Подробнее прочих французских биографов (но тоже, конечно, с пристойной комильфотной осторожностью) изучал и описывал студенческие годы юного Никола добросовестный Лоран Грельсамер из «Монда». Он пишет, что в Академии у Никола была подружка: они вместе ходили на рисунок к ван Хэлену. Ее звали Мадлен Опер (Hаuреrт). Она была на пять лет старше его (так же, как позднее Жанин). До Брюсселя она два года училась в Париже, брала уроки в тамошних «академиях». У нее была комната неподалеку от «брюссельского Монпарнаса», и Никола с регулярностью заявлялся к ней ночью… рисовать. Во всяком случае так она (и с ее слов Л.Грельsамер) об этом рассказывала. Между ними «ничего такого» не было (а что «такое» может случаться с двадцатилетними?), хотя ее домохозяин и она сама (а однажды даже и местная полиция) были смущены неурочностью этих визитов и странным его поведением. Мадлен даже предположила однажды, что он «гей»: придет себе и рисует с ней по ночам, расспрашивает о парижской художественной жизни.
«А что потом? А что потом?» – допытывался русский поэт – шестидесятник. Если верить биографу и молодой даме – потом тоже ничего. Мадлен заметила, что у него было много странностей, которые не слишком заметны были на людях, в веселой компании друзей и знакомых. Думается, что странности его замечали родные, но писать о таком не принято. Самая его тяга к женщинам, которые были старше его, вполне объяснима. В недавно вышедшей в свет монографии о Никола де Стале (солидный труд Жан-Клода Маркаде) высказано предположение, что у художника был «комплекс сиротства». Ему нужна была возлюбленная-мать.
У него было, конечно, немало комплексов, и подробная история его жизни, даже написанная пугливыми французскими биографами, этому предположению никак не противоречит. В книге Грельсамера помещена, между прочим, довольно страшная, как бы "шутливая" (а на самом деле пророчески-суицидальная) фотография из времен веселой брюссельской юности Никола. Биограф рассказывает, что Никола с друзьями (среди которых были бельгийцы, русские, поляки) часто выезжали на прогулки в окрестности Брюсселя, скажем, в лес Суань. На фотографии, помещенной в книге Грельзамера, как раз и запечатлена воскресная проказа в лесу Суань, на железнодорожных путях близ станции Ватермель-Буафор: друзья окружают де Сталя, лежащего на железнодорожных путях. Один из друзей, облаченный в судебную мантию, указует перстом в небо. А Никола де Сталь лежит на шпалах с закрытыми глазами, прижимая к рельсам шею. Думается, что тем из участников «веселого» розыгрыша, кто мог бы предвидеть, что одна из этих репетиций самоубийства закончится успешно, уже тогда стало бы не по себе…
Но тогда, в начале 30-х, все сошло благополучно. Друзья вернулись в Брюссель, посидели за кружкой пива, поговорили о том о сем, а в июне 1934 года Никола вместе со своим другом Алэном Остратом отправился в странствие по Югу Франции. Как же будущему художнику не знакомиться с южными пейзажами и старинной архитектурой Франции? Папа и мама Фрисеро без нареканий взяли на себя «культурные расходы».
Друзья начали с отдыха в не слишком интересных курортных городах Французской Ривьеры, а потом двинулись к северу, к горам и древнеримским руинам – к древнему Арлю, к «французскому Риму» городу Ниму, к былой папской столице Авиньону. И дальше, и дальше, и дальше…
Автор этих строк вспоминает собственные свои автостоповские скитанья по Франции и сам себе (тому, что стоял у обочины дороги каких-нибудь лет тридцать тому назад) завидует безмерно. Боже, какой соблазн свободы, беспечности, непрестанной смены пейзажей, познания новизны, наслаждения красотой… Прекрасная Франция, страна тучных полей, безлюдных лесов, подоблачных гор и незабываемых горных селений с их церквами, монастырями и замками. Просыпаешься в своем спальном мешке и – новый день впереди, с еще не познанными чудесами природы, искусства… И какое чувство благодарности – Создателю и создателям всей этой красы, Творцу и творцам (шесть дней творенья, а потом еще десятки веков совершенствования)… Благодарности к добрым людям, встреченным на дороге. К тем, кто остановили машину, подвезли тебя и столько рассказали всякого. На автостопе и языку учишься… Незабываемые тысячи километров моего европейского автостопа…
А что же наши вольные брюссельцы, молодые художники?
В спешке и вечных переездах они не успевали ни рисовать, ни ходить по музеям – только смотреть по сторонам, насыщать глаз и душу зрелищами.
Никола пишет письма, длинные письма маме Шарлотте и папе Эмманюэлю. Ни он сам ни родители не забывают о его писательских амбициях, и папа с мамой бережно складывают письма Никола в свой родительский архив. Искусствоведы и биографы де Сталя считают эти письма важной частью его художественного наследия. Считают, что в этих письмах уже «весь Сталь», Сталь «в чистом виде»… Вот самое первое письмо из Франции:
«Моя дорогая мама! Мы выехали из Гренобля в понедельник после обеда и к вечеру прибыли к месту, о котором можно только мечтать. Представьте себе ферму на середине склона горы, огромные серо-красные крыши, маленькие окна, виноградник, карабкающийся вокруг в полном беспорядке, Альпы с их ветрами. На западе горный пик накрывает то черной то зеленой тенью передний план картины. Там и сям серые, слабо освещенные массы. А дальше, прямо перед нами, мощный каменный массив, ярко освещенный – лучезарный. Он кажется тысячесветным алмазом, впаянным в старинное золото обрамляющей долину пшеницы…» Какое нагромождение общих мест, чтобы описать нечто попросту прекрасное! Неправда ли?
Но вам просто не удастся представить себе это великолепие, так же как мне не удалось его описать с точностью. Спускается ночь. Овцы возвращаются на ферму и блеют точно плачущие дети. Их гонит пастух. Краски пейзажа меняются, блекнут, затихают. Рыжие телята качают в такт головами под сводами коровника. Мухи обезумели.
Простите всей этой литературе то, что она не умеет быть так безыскусно прекрасной, как сам пейзаж. Позор вашему архиву. И всей прочей литературе тоже. Вы, наверное, усмехнетесь в эту минуту».
Можно отметить, что в первых письмах много места уделено архитектуре. Конечно, архитектура занимает Никола, но главным образом эти «архитектурные мечтания» уступка отцу, который все еще надеется, что Никола займется каким-нибудь конкретным «делом». Начав первое письмо из Франции обращением к матери, Никола напрямую обращается в том же письме к отцу с горячими филиппиками против здешних архитекторов, которые не умеют и не желают вписывать свои безвкусные коммерческие сооружения в сказочную южную природу. Никола ставит им в пример крестьянские строения горных селений. А все эти курортные Ниццы, Экс-ле-Бэны – они просто отвратительны. Куда симпатичнее какой-нибудь Динь, Гренобль, Мартиг, Арль, Авиньон или Антиб, близ которого Никола проводил когда-то летние каникулы у своей крестной матери княгини Любимовой:
«Антиб стал еще красивее, чем раньше, порт симпатичный – и все же это не то – как подумаешь, какую волшебную феерию можно было бы устроить в этих садах Юга, подумаешь о цветах, о фонтанах, обо всех ярких красках этой страны – нет, и еще раз нет – Мы ходили повидать моего дядю. Папа, тебе было бы неловко за меня – Звоним – Столько трудностей, чтобы войти, удостоверение личности и т.д… Месье или даже Его Сиятельство Барон де Сталь Гольштейн соизволили наконец нас принять.
Завязывается разговор о предметах, которые так же мало его интересуют, как и нас самих. И так до самого ухода. Когда выходили, Алэн сказал: надеюсь ты сможешь теперь видеться со своим дядюшкой. Да любой крестьянин принял бы нас любезнее, чем этот человек. Дутый чинуша..
Соблюдая все правила, я как уважительный племянник поблагодарил его за любезный прием – в благодарности можно было расслышать иронию – благодарить было право не за что…»
И папа Фрисеро и двадцатилетней Никола понимают, что дяде было не по себе. Десять лет тому назад придворный генерал отказался помогать осиротевшим детям родного брата. Сейчас он опасался, чтоб у него не попросили денег. Бог его знает, зачем вдруг явились…
Дядя был жлоб. Ни одно, самое развесистое генеалогическое древо не спасает от жлобства. К середине тридцатых годов даже большевики смело пользовали родовитых жлобов («красных графов», вроде А.Толстого или А.Игнатьева) на самой нечистоплотной работе.
На Лазурном Берегу произошло еще одно свидание Никола с прошлым. Свидание, которое могло и заинтриговать и встревожить приемного отца. Всплыла тень обнищавшего деда-художника. Никола сообщает вполне беспечно:
«В Ницце в лавочке у букиниста я видел альбом – «Ницца и ее окрестности. Ж. Фрисеро», я его куплю, когда заработаю денег на обратном пути из Прованса – дом художника вполне живописный. Мы сходим туда на обратном пути. Мы будем проезжать через Грас и я схожу посмотреть на могилу, о которой ты мне говорил – здесь много фруктов, но они очень дорогие. Весь день едим помидоры, они здесь 30 сантимов кило и в них, похоже, много витаминов.
Вот и все, до свиданья, папа, мама. Пишите мне в Ним.
Крепко вас целую. Ваш Никола».
Итак, «куплю… когда заработаю денег», – пишет Никола. Тень деда-художника словно предупреждает внука Эмманюэля, что такое может не случиться. Или случиться очень не скоро. Если бы самому Никола сказали тогда, что это случится не «на обратном пути», а лет этак через пятнадцать (хотя и на той же дороге), он бы не поверил. Хотя, может, и поверив, не слишком бы огорчился… А пока…
Пока что родители будут поддерживать молодого художника…
Хотя ему мало что удается пока дорисовать, дописать, он уже считает себя художником. Да и мир должен признать его художником. Авансом…
Мне вспоминается, как я совсем еще молодым прилетел с другом-художником Толей Елисеевым в командировку в Ташкент, всего каких-нибудь лет пятьдесят тому назад. Нас встречал корреспондент «Известий», потому что друг Толя прилетел от «Известий», где редактором был знаменитый некогда Аджубей. (Сам-то я выклянчил командировку от журнала «Вокруг света»).
Симпатичный ташкентский собкор повел нас к редакционной машине и сказал шоферу:
– Знакомься, Петрович. Это художник Толя. От Аджубея. А это… – он критически осмотрел мои сандалеты и сказал добродушно, – Это молодой русский писатель.
Я подумал: какой догадливый! Только позднее я понял, что это был просто аванс, выданный мне по доброте душевной. За прошедшие пятьдесят лет я его еще не отработал… Может, уже не отработаю…
Французское путешествие брюссельских друзей-художников завершилось в Париже, в Лувре. Все дороги ведут в Лувр. От этого первого визита остались в памяти Никола не покидавшие его до смерти участники молчаливого диалога – Поль Сезанн, Гюстав Курбе, Жан Батист Камил Коро, Хаим Сутин… Позднее де Сталь жил в Париже, и его путешествия в Лувр были не такими далекими, но всегда желанными, всегда волнующими, всегда напряженными, потому что диалог, начавшийся в юности, он продолжал до конца своих дней. Лувр тянул его, по наблюдению первой его подруги, как магнит…
По возвращении в Брюссель счастливого бродягу ждали продолжение учебы и вдобавок работа по оформлению Павильона стекла на Всемирной брюссельской выставке. Работу ему подкинул загруженный сверх головы профессор Жорж Вламинк. Никола должен был переносить рисунки для фресок с эскизов профессора на трехметровой высоты полосы.
В начале апреля состоялось торжественное открытие выставки: речи, аплодисменты, деловые люди, министр, чиновная знать, иноземные гости, широкая публика… Была и его подпись внизу, в уголке фрески, ее разыскали счастливые посетители, папа с мамой, посетившие павильон стекла. И еще очень важное – ему даже заплатили деньги. Не Бог весть какие деньги, но все же приятно. Он купил себе новый костюм.
Деньги нужны были и на поездку в Испанию. Поездка замышлялась грандиозная. Как же стать художником без Испании? Папе и маме Фрисеро пришлось снова раскошелиться. Они снабдили Никола не только деньгами, но и очень полезными адресами своих друзей за границей…
Вспоминается, как выручали меня во время великого моего первого странствия по Италии адреса, подаренные мне моими, ту пору еще «невыездными» московскими друзьями-переводчиками – Солоновичем, Томашевским, Домбровской… Я шел тогда автостопом (на попутках), спал в палатке и спальном мешке («валюты» русским меняли гроши, курам на смех), и какое это было счастье – попасть вдруг в гостеприимный итальянский дом, принять душ. А в какие дома я тогда попадал! Когда я поселился во Франции, меня к таким и близко не подпускали. А тогда… Тогда я ночевал в доме скучающей тосканской графини, профессора-слависта» из Апуллии, сицилийского поэта Иньяцио Буттиты… Человек странствующий, или, скажем, неуверенный в своем завтрашнем дне знает цену адресам. Я и сам, кстати, охотно сеял на дороге свои адреса, телефоны…
Не жалейте своих адресов! С ними происходят удивительные истории. Помню, как я удивился в начале 90-х, когда на открытии памятника Марине Цветаевой в Вандее А.И.Солженицын, сам великий А.И.Солженицын, услышав мою фамилию, сказал мне:
– А мы ведь с вами знакомы, товарищ Носик…
Ну да, конечно, я-то помнил, что мы однажды разговаривали с моим тогдашним кумиром в новогоднюю ночь, на встрече Нового1963 года в московском театре «Современник». Но ведь это было тридцать лет тому назад, ночью, на Маяковке, а он, столько жизней проживший за эти 30 лет и теперь живший в собственном поместье в штате Вермонт, – как он-то запомнил? Ну, я помню, это неудивительно: он был наш кумир, любимец, герой, он был на вершине московской славы, сам К. Симонов его привел на театральную тусовку. Но как он мог запомнить фамилию случайного собеседника? Во память! Потом опыт бродяги подсказал мне разгадку его гениальной памяти. Адресок… Я звал его пожить с нами на даче, он вынул солидную толстую тетрадь с адресами и я старательно вписал туда свое имя и адрес, со всеми подробностями… Нет, не московский, конечно, адрес, не коммуналки с Проспекта Мира, где под дверьми подслушивали, адрес академической дачи в Мозжинке, куда нас пустили на зиму с другом. Может, в поисках пристанища он листал этот бесценный блокнот с адресами…А может, и в Вермонте листал, искал имена для персонажей своего многотомья. Натыкался на мои каракули с фамилией… Господи, какая судьба! Нет, не моя, а его, великого Александра Исаича. Человек века. Творец своей судьбы.
Нашему юному герою-студенту из Брюсселя тоже сгодились в дороге полезные адреса, аккуратно переписанные мамой Шарлоттой. Никола и его друзья мчались по Испании на велосипедах. Друзья сменяли друг друга – Бенуа Гибсуль, Бенуа Усгрув и, конечно, Алэн Острат. Накатавшись, друзья возвращались в Бельгию, к семье и занятиям, а Никола все мчал и мчал по дорогам Испании – месяц за месяцем, два, три, четыре… Им уже «овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство…» О, великий автор этих строк не из чужих рук получил знание всех этих «мучительных свойств». Он уже и циклы изучил, уже признавался в открытую: «Весной я болен…»
Можно предположить, что к двадцати годам мучительное беспокойство уже овладело нашим героем, и только тяготы и радости путешествия, только восторги перемен, эйфория неутомимости, ненасытности могли ему принести успокоение. Боюсь, что и эти мои восторги странничества вы получаете не из вторых рук. Оглядываясь назад в 60-е, 70-е, 80-е, автор не без смущенья признает, что и не было в его жизни ничего заманчивей, чем дорога. Ну так что? Мы и есть Странники на этой подаренной нам ненадолго Творцом планете!
Первый неблизкий велосипедный пробег привел тогда Никола с другом через Францию в Испанию. Добравшись до первой испанской провинции, сказочной Каталонии, уже порядком умученный Никола извлек на свет Божий первый из заграничных адресов, списанных для него в дорогу мамой Шарлоттой. Итак, чей-то кузен Алэн Голди и его жена Аликс, город Манреса в шестидесяти от Барселоны.
Сам городок особою красотой не блистал: рынок, магазины, две фабрики, рабочие предместья, многолюдье. Но все же, как и везде в Каталониб, – старина, искусство: готическая базилика Святой Девы с великолепным складнем XIV века, музей готики, за рекой монастырь Санта Кова, куда сам Игнатий Лойола приходил (в 1522 году) исповедоваться и писать в тиши богословский труд.
Молодые, гостеприимные супруги Голди предоставили будущим гениям по большой комнате, пригрели их, обласкали, накормили. Обустроив в Манресе свою штаб-квартиру, нетерпеливые гении устремились в окрестности – в живописный Сампедор с его романской церковью Вседержителя, к замку Мальсарены.
На привале они делали эскизы в блокнотах, Никола привез из поездки множество этих скупых набросков, которыми и приходится ныне довольствоваться добросовестным искусствоведам, которые ищут истоки шедевров. Никола, похоже, охотнее писал письма, чем рисовал. Во всяком случае писем до нас дошло больше, чем рисунков и акварелей той поры. Свое первое, вполне восторженное письмо из Испании Никола отправил своему учителю и покровителю профессору Вламинку:
«Дорогой месье де Вламинк,
Чудесная страна – эта Каталония, фрески Х-, XI-, XII-го, грандиозное религиозное искусство.
Всего Микель-Анжело отдам за распятие в музее в Вике. Видит Бог, есть о чем рассказать вам, но рассказать все просто невозможно. Отщипываю кусочки керамики в часовне XII века – роскошнейшей, чудо их чудес.
Нет, шутки в сторону, грандиозные художники эти каталонцы. Шалеешь от восторга в их музеях. Мой восторг не поддается описанию.
В Каталонию мы въехали уже затемно, когда цыгане разжигали костры близ дороги, и ветер разносил по полям сильный запах акации, и какой-то цыганенок пел у дороги. Все было сказочным…
Их богородицы – резные деревянные, полихромные и т.д. и т.д.
Фантастика.
Вдобавок я работаю до невозможности, а когда не хочется, делаю документальные зарисовки.
Жаль, что вас нет с нами, перо мое не поспевает за рассказом…
Меня сильно тянет на Балеары и я туда, наверно, отправлюсь.
Жизнь, месье, великолепна и совсем не дорога».
Где все эти рисунки и акварели, которые он пишет «до изнурения»? Были уничтожены позднее? Никогда не были написаны?
Лучше всех на свете знавшая Никола подруга его Жанин писала о сочетании в его характере амбиций и лени. Сколько еще пройдет годов, пока первые одержат верх? Вероятно, около десяти. Сколько еще неудач ждет его на пути ученья?
Отметьте, что ученик пишет профессору вполне на равных, как модернист модернисту: так что с великим Микельанжело они оба не слишком церемонятся.
Как и последующие письма Никола, это первое письмо свидетельствует о непрестанном, непроходящем возбуждении.
Комментируя отцовские письма полвека спустя, дочь художника Анна де Сталь, называла их все «юношескими» и предупреждала:
«Восторженность, порывистость, нежность и эта тяга к абсолютному навсегда останутся отличительными чертами его характера».
В конце июня художники покинули гостеприимных супругов Голди, пообещав еще вернуться. Уже через несколько дней, из Уэски, Никола прислал симпатичным молодым хозяевам подробное описание того, как они взбирались с велосипедами к знаменитому горному монастырю Монсера, как бродили по цыганскому кварталу Лериды, как потом плутали среди скал…
После проезда через Уэску, Памплону, Наварру, Арагон и Сантандер, после посещения множества кафедральных соборов, монастырей и дворцов Никола пишет восторженное письмо матери и в конце его обращается к отцу, настойчиво и трогательно заклиная его непременно побывать в этих краях: «Поистине чудесная страна».
Из Толедо Никола присылает профессору Жоржу Вламинку рассказ о посещении гротов Альтамиры, что в 35 километрах от Сантандера. Доисторические наскальные рисунки были обнаружены местным охотником в гротах Альтамиры лишь в середине XIX века. С тех пор находку эту успели прозвать «сикстинской капеллой наскального искусства». Из Толедо Никола отправляет новое письмо профессору Вламинку:
«Альтамира. Еще совсем темно. Звон ключей, скрип отворяемой двери, пытаются зажечь лампу и вдруг входим в огромный полутемный зал.
Это грот.
Пока глаза не привыкнут, трудно что-нибудь разглядеть. Но наконец сторожу удалось зажечь освещение. Чтобы разглядеть получше, я ложусь на землю.
Каменный потолок, нависающий над гротом, весь испещрен рисунками.
Исключительно красивы и цвет и линии. Кое-где выпуклость камня соответствует очертаниям нарисованного быка.
И чем дольше глядишь, тем отчетливей ощущаешь, что животные находятся в движенье.
Сохранность краски поражает, ибо заметно, что влага просачивается через камень и вот уже капля за каплей смачивают тебе лоб, а рисунок остается свежим и невредимым, так словно был создан вчера. Я снова и снова принимался разглядывать рисунки. Вот искусство, которое в тебя проникает, постепенно, капля за каплей. Эти свиньи не разрешили зарисовать в гроте быка таким, каким он видится мне, а не Брею, которому это не удалось вовсе. Это все намного живее. В этом есть напряженность жизни, естественность движенья. И едва представишь себе жизнь этих людей, как весь грот оживает, приобретает удивительную силу, реальность. Я провел платком по рисункам, которые мне особенно понравились, и думаю, не должно удивлять, что на нем остались следы черного, красного, цвета охры.
Я и вне грота делаю много зарисовок быков, они в этой стране великолепные».
Письмо профессору подписано растроганно-почтительно: «От всего сердца. Ваш ученик Никола».
О прославленном Толедо, о Вальядолиде, Авиле, Сеговии и Эскуриале Никола написал, добравшись до монастыря Девы Гвадалупы, святой Покровительницы Эстремадуры:
«Дорогие Аликс и Ален… Из всего, что я видел здесь, именно Толедо захватил мое сердце. Толедо одинокий, опаленный солнцем, окутанный покрывалом высокомерной гордости и пыли. Толедо великолепен. Мы остановились на берегу Тага и вот уже восемь дней, как проникаемся здешней атмосферой. По вечерам читаем что-нибудь в тенечке на здешних улицах, как бывалые толеданцы, и Греко, которым любуемся каждый день, раскрывает нам секреты своего искусства. Да все тут прекрасно, ночной Бургос, Вальядолид, Авила, Сеговия, Эскуриал, все. Мадридский Прадо, чудо из чудес. И здесь, не монастырь только хорош, а весь город. Крепостные валы, башни, гербы, храмы, все это несказанно, все проникает вглубь души, до самого дна и все, как бы точнее сказать, не покидает тебя.
Я все время пребываю в неком состоянии блаженства, особенно когда грегорианские песнопения сливаются со звуками органа и возносятся выше, выше, Бог знает куда. И когда Божья Матерь Гваделупская сияет всеми своими жемчугами сквозь дымку благовонных курений. Божественные мгновенья. Волна чувствований. Хотел бы быть Барресом, чтоб суметь описать все это…»
То, что писал Баррес об Испании и Толедо, все это было читано еще дома, в Брюсселе…
Добрых три недели друзья-художники Никола и Бенуа странствовали по Балеарским островам. В конце июля, когда они добрались до Астурии, Бенуа Гибсуль уехал домой, в Брюссель, но Никола не спешил завершать путешествие. Более того, он пожелал перебраться в Марокко, и только трудности с получением виз помешали ему сделать это. В Мадриде к Никола присоединился Эмманюэль д\'Угворст. Вместе они осматривали город и подолгу простаивали перед картинами в музее Прадо. Уже тогда главным художником для Никола был царственный Веласкес.
Проезжая снова через Манресу, Никола забрал у супругов Голди письма, пришедшие из Брюсселя, а из Кадиса послал отцу длинное ответное письмо, где рассказывал о разношерстной публике, собиравшейся ежедневно в модном кафе «Корона», в частности, о молодом немце, который был ярым поклонником Гитлера, а также об антиевропейском движении в Северной Африке, о своей любви к Испании, о симпатии к бедным испанским рабочим… Впрочем, на фоне тех бурных событий, которые переживали в ту пору Испания и вся Западная Европа, поверхностные политические наблюдения молодого бельгийского путешественника и его дорожных знакомцев могли показаться не слишком интересными и не слишком взрослыми.
Любящей маме Шарлотте Никола прислал длинное письмо из Севильи, где он рассказывал о трудностях путешествия в горах, о Малаге, о Гренаде, Альгамбре…
Во Францию друзья вернулись в середине октября и, проехав Тулузу, остановились в городке Вильфранш-де-Руэрг, где в монастыре Святого Семейства была в ту пору послушницей младшая сестренка Никола Ольга. Ей было19, она готовилась к монашескому постригу, увлекалась математикой и мечтала, закончив учебу, преподавать математику где-нибудь во Франции или в Англии. В октябре даже на юг Франции пришли холода, и французский крестьянин, подвозивший Никола до монастыря, угостил его для согрева собственного производства самогоном, так что в обитель художник прибыл, по его признанию, повеселевшим, и час свидания с Ольгой прошел «как пять минут». Никола поразил младшую сестренку тем, что умеет нарисовать «лошадь, похожую на лошадь, а не свинью».
Простившись с сестричкой, спешившей на молебен, Никола пошел искать Эмманюэля, который ждал его возвращения:
«Я отыскал Эмманюэля, который отогревался в каком-то кафе, там один крестьянин предложил нам заночевать у него в нескольких километрах от Вильфранша. Поскольку он питал всякие иллюзии в отношении советского рая, мы с Эмманюэлем, подкрепив свои силы молочным супом, постарались сокрушить в течение вечера постройки, возведенные в душе этого бедолаги большевистской пропагандой».
Как ни спешили молодые художники, а все же успели заметить, как шуруют в Испании и Франции «народные фронты», подготавливая зеленую улицу для Франко, для Петэна, для «тысячелетних» армий победоносного фюрера, а потом и для главного организатора заварухи, который готовил величайшую в мире армию для «спасения Европы»…
После Вильфранша брюссельским велосипедистам стало холодно на дороге. В Тулле дул леденящий ветер, в Клермоне шел снег, заснеженные горы были окутаны туманом. Тут-то на помощь путешественникам и пришел адресок, которым снабдили Никола его заботливые и щедрые родители. В конце изнурительной октябрьской недели друзья добрались до замка Ла Монтань, что лежал близ Оноре-ле-Бэна. Здесь жила почтенная маркиза д\'Эспей, приятельница семьи Фрисеро. Никола благоразумно поддерживал с ней переписку еще на пути во Францию, так что теперь намерзшиеся бельгийские странники были гостеприимно, и даже тепло (насколько может позволить скудость отопления в этих огромных старинных строениях) встречены престарелой хозяйкой замка Ла Монтань.
«Она интересовалась нашими путешествиями, – рассказывал Никола в письме родителям, – а также моими рисунками и всем-всем. Ее муж добрался верхом до Константинополя, проехал на лошади всю Грецию. Она расспрашивала обо всех ваших новостях. Тетушка Полина и ее дочь Сози, которых вы тоже знаете, целый дснь дрожат от холода, но бабушка д\'Эспей, несмотря на свои 88, не позволяет кутать себя в одежки, как луковицу (именно так) и выходит на балкон, несмотря на запреты врача и на крики протеста со стороны тети Полины и ее дочери. Она называет их тиранами…»
Дальше идет описание печальной жизни этих богатых и малосчастливых иностранных людей. Дело еще в том, что потомок Сталь фон Гольштейнов, приемыш русского инженера-сардинца и добросердечной русской англичанки, Никола де Сталь во всех странствиях сохраняет некую тайну своей неизбывной русскости. Он неизменно примечает и выделяет русские лица в кабаках Кадиса или Малаги, в испанской или бельгийской городской толпе. Мне невольно вспоминается юный герой набоковского «Подвига» (тот самый, что и сгинуть захотел где-то на дорогах оставленной России, нелегально перейдя границу):
«То, что он родом из далекой северной страны», приобретало в среде иноземцев «оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам» и «где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах… Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского…»
Конечно, у Набокова речь идет в первую очередь о великом языке и приверженности к русской речи, а Никола еще предстояло искать свой, близкий для него язык в искусстве, однако ощущение связанности с русским и с Россией жило в нем с юных лет, и оно обострялось вдруг при разных обстоятельствах и в самых неожиданный местах. Как вот в старинном этом французским замке Ла Монтань. Он рассказывал об этом в письме к родителям в Брюссель:
«Замок очень большой, в нем очень красивая мебель и очень красивые книги. Я нашел в библиотеке кучу иллюстрированных книг о России и особенно о короновании Александра II. Маркиз д\'Эспей, бывший в ту пору еще лейтенантом, присутствовал на этой церемонии. В старых книгах воспроизводится программа этих сказочных празднеств, там есть гравюры с портретами всех членов императорской фамилии, панорама Москвы – изображение Кремля и всех соборов, такие красочные дворцы, так щедро позолочены купола, изображения эти на бумаге сделаны так живо, что кажутся детскими игрушками. Дальше в книге идут географические карты и планы, паспорта. Потом залы нового императорского дворца в Москве. Это просто фантастика. Александр продумывал все сам, до мелочи – ни один архитектор, говорится в книжке, не отважился бы предложить план с таким размахом. Тут есть увлекательнейшая книга о русской кавалерии времен турецкой войны…»
Дальше Никола восторженно пишет о хозяйке замка, о старой маркизе: «Она, уж она-то понимает, что жизнь огромна… В этом своем понимании она здесь далека от окружающих, так одинока в этом огромном замке, где всего-то и живы лишь старинные воспоминанья. Уже и форма пропала, в которой отлиты были эти люди. Ладно, пора прощаться, милые папа с мамой, уже поздно, да и лист бумаги кончается, спокойной ночи,
Крепко целую. Никола».
Погасив свет, он еще долго лежит в темноте с открытыми глазами и думает о том, что он родом оттуда, где так ослепительно раззолочены луковицы соборов, где на передней лошади едет император в голубом кафтане, где вслед за императором едут генералы, генералы свиты, генерал-аншефы, генерал-майоры, все они красавцы, все они де Стали, фон Гольштейны, славою увиты, только не убиты… Убиты, убиты… Нет, нет, только не думать об этом… Не вспоминать о детстве, о Петербурге. Никогда не вспоминать. Как пел русский шансонье в Париже: «Нужно жить, не надо вспоминать… Чтобы больно не было опять…»
А что думал об этих сыновних письмах здравый труженик папа Фрисеро? Радовался он или был встревожен? Похоже, что он был встревожен. Тревогу эту по поводу фантастической нереальности и даже некоторой ненадежности, завиральности Колиных писем он, видимо, не раз выражал в ответных письмах, которые не были преданы гласности. Впрочем, какие могут просочиться «опасения» в родственные (написанные родственниками и наследниками) биографии – в умиленные агиографии? Вдобавок кому из потомков могут быть интересны письма и мнения брюссельского инженера, который только тем и славен, что растил и лелеял чужих детей, учил их, кормил…
Похоже, что чем дальше, тем меньше отец доверял письмам путешественника и его настойчивым заверениям «работаю много». Оттого и заверений этих в письмах Никола становилось все больше и больше:
«Я работаю много и узнаю много разных вещей, со всех точек зрения жизни, так что я думаю, что в конце концов получится что-нибудь хорошее и из такого мерзавца, как ваш сын».
Заверения эти должны были развеять сомнения отца в том, что деньги на странствия истрачены не напрасно, что блудный сын набирается уменья и жизненного опыта.
Никому, впрочем, не приходит в голову спорить о том, полезны или не полезны для художника путешествия, дальние дороги, яркие впечатления. Они, как писал о себе Никола, формируют «тот индивидуум, которым я являюсь, который соткан из всех впечатлений, полученных из внешнего мира до и после рождения».
Однако несправедливо было бы не признать и обоснованность тех сомнений, которые испытывал приемный отец молодого художника, распечатывая очередное письмо восторженного и наивно-лукавого странника.
Прелестные письма эти, сдается мне, не были ни совершенно правдивы ни совершенно бескорыстны.
Впрочем, первое испанское путешествие Никола де Сталя подходило к концу. На пути был Париж.
Глава 11. Омар на блюде
Автор этих строк большую часть года проводит в последние четверть века в крошечной деревушке в северо-восточном углу холмистой лесной Шампани, у самой границы Бургундии (кабы побольше воды, северных озер и рек – чистый был бы Валдай).
Еще и по былым своим путешествиям автор не раз замечал, что приграничные хутора, села и даже городки, они и есть самые глухие да привлекательные, причем не только в слабонаселенной Шампани или Бургундии, но и в гордой Прибалтике (где-нибудь в Валге-Валке), и на славной Украине (пардон, в Украине), где-нибудь на границе Прикарпатья и Буковины, в каком ни то Куте. О нем даже уроженка Каменец-Подольска, именитая французская писательница Наталья Саррот-Черняк никогда не слышала и без горечи мне в этом признавалась под старость в Париже. А меня туда завезла красивая киевская искусствоведка для сбора карпатских писанок, осколков смальты и новых ощущений – молодой я был, любопытный, жадный до нового…
Оно и понятно, что приграничная глушь удаленных от центра уголков провинции для уездных властей уже почти ничья, ни наша, ни ваша. И все же должен вас, как заядлый странник, предупредить, что в самой безнадежной глуши что ни то любопытное может открыться (не только в малохоженном лесу Сен-Жермен, где мне посчастливилось наткнуться на былой «брейн-траст» коминтерна, но и в той безынтересной казалось бы Шампани, где уже нет виноградников и шампанского). Вот остановили мы как-то раз машину в чужой шампанской деревушке – поискать булочную и вдруг вижу на фасаде придорожного дома написано «Музей Лукина» (по-ихнему, конечно, написано, но похоже – Мюзе Лукин)… А надо вам сказать, что это уже за шампанской столицей Труа было, близ городка Бар-сюр-Об, в деревушке Арсонваль, какой здесь к черту Лукин?
Я сперва подумал, что может, все-таки музей Лукича. Лукич известен и дорог французскому народу, потому что он ценил французскую революцию. А ничего за всю историю Франции не случалось с ней столь же великого, как революция. Невинной кровищи было пролито много, зато весь мир Францию зауважал. Франция, можно сказать, встала с колен. Вскоре она, конечно, преклонила коленки перед коротышкой-императором. Но и его тоже весь мир зауважал. Хотя, надо признать, не поддержал…
– Какого еще к черту Лукина? – говорю я водителю.
– А это был такой местный человек, – объясняет водитель, – Русский художник. Он тут со всеми дружил. Тут даже общество есть такое – «Друзья Лукина». Сам-то он недавно помер…
– Помер и сразу – музей! – продолжал я удивляться. – У Репина во Франции нет музея, у Коровина нет, у Серебряковой нет, у Гончаровой нет, у Сомова нет, у Билибина нет, у Анненкова нет, у Бенуа нет, у Кандинского нет, у Бакста нет…
– Ну может, у них друзей не было, у всех этих, – предположил водитель. – А этого Рости тут всякий знал. Когда дом освободился, от них учитель старенький съехал в родные места на пенсию, мэр ему здешний и говорит, Лукину: «давай, Рости, устраивай свой музей, никакой у нас не развивается тут культурной жизни в провинции…
В общем я вышел из машины, сходил в музей, поглядел на Богородицу Лукина, Божью Матерь, небесную покровительницу зарубежной Руси, нарисованного омара на блюде поглядел. Позднее я и с «друзьями Лукина» познакомился. Один из них, симпатичный молодой мужик, только-только на пенсию ушел, приезжал со своей женой ко мне на хутор пообщаться: месье Жан-Клод Шмара и мадам Шмара. Польская фамилия. Но польский язык у Жан-Клода в семье давно забыли, так что и русское легкомыслие такой фамилии никого в департаменте Об не тревожит, хотя былых поляков у нас в Шампани, небось, как в Чикаго. Между прочим, они и фамилию произносят на французский манер: Смара. Другой язык, другие проблемы. Самая красивая женщина, которую я видел в Лондоне, носила фамилию Барушка, и кому это мешало? Тем более, что она замужем, у нее муж поэт…
Так вот «друг Лукина» Жан-Клод Шмара хорошую книгу написал про нашего областного гения Лукина. Другие «друзья Лукина» тоже не сидели сложа руки. Так что, целый раздел науки искусствоведение возник у нас в шампанской глуши – лукиноведение. Мне пришлось в него углубляться, когда стал писать про славного художника де Сталя, и тут я обнаружил, что в исследовании этой темы у «друзей Лукина» какие-то есть затруднения. О чем-то покойный Лукин «не любил говорить» (не любил, но говорил). Что-то куда-то не «вписывалось». Собственно, многое из того, что касалось де Сталя, в установленные образцы «жизни замечательных людей» не вписывалось. А французская ЖЗЛ, надо признать, еще слащавее былой русской серии (о русской знаю, сам в ней с успехом когда-то подвизался). Так что я собрал все эти вышедшие скромным тиражом апокрифы, в которых предстают двадцатилетний Никола и тридцатилетний бедолага-художник Лукин, и Bам их поверяю. Но, конечно, для начала надо кратенько рассказать о жизни Лукина до его встречи с де Сталем. Тем более, что русский Лукин – это наша шампанская гордость.
Авторы замечательного биографического словаря русских художников-эмигрантов (Лейкин, Северюхин и Махров) сообщают, что мужеского пола младенец Лукин наречен был Ростиславом в честь корабля русского флота, носившего то же имя. Может, случайности своего рождения он как раз и обязан был стоянке вышеназванного судна на феодосийском рейде, но может, и по какой-нибудь другой, не менее веской причине получил он именно это красивое имя, которое французы произносят как Ростислас. Но это отличие и было, кажется, единственной удачей его детства. Во всем прочем повезло ему не больше, чем другим русским сиротам и беженцам. Лет до пятнадцати произрастал он то в Белгороде, то в Феодосии, а в год пореволюционного исхода матушка вывезла его в Константинополь, оставила на попечении друзей, а сама укатила дальше на поиски лучшей судьбы… Ростиславу довелось учиться в русской гимназии в Константинополе, потом в городке Моравска Тшебова, где он увлекся рисованием (была у них там хорошая учительница), позднее учился в богословской школе, откуда сбежал. Долго по свету мыкался – и в чужих садах ковырял лопатой и чужих коров пас, добывая себе хлеб насущный, но в конце концов добрался до города Парижа, где сподобился писать иконы для русской Знаменской церкви, что была на Одесской улице, у самого бульвара Монпарнас. Активно участвовал в работе общества «Икона», во главе которого стоял один из знаменитых братьев Рябушинских, пожалуй что, самый в деловом мире России знаменитый Рябушинский – Владимир Павлович. Он был когда-то в Москве видный банкир, знатный коллекционер. Он и стал в эмиграции одним из главных организаторов и теоретиков общества «Икона», однако (вопреки намекам иных русских искусствоведов) искусству иконописи молодых эмигрантских богомазов он сам вряд ли учил, уже и зрение у него к тому времени было слабое… Иконописцы-учителя были в обществе отменные, входили туда А. Бенуа, Д. Стеллецкий, И. Билибин, трудились в этом обществе Н. Глоба, Т. Ельчанинова, Г. Круг, кн. Е. Львова, Л. Успенский, Ю. Рейтлингер… В общем было кому учить, у кого учиться.
Помню как-то лет тридцать тому назад забрел я в Святодуховский скит, что неподалеку от Версаля. Там в тесных будочках, обогретых горячими трубами (дело было зимой), сидели молодые монахи-иконописцы, по большей части из французов, и не поднимая голов, писали иконы. А в маленькой церкви увидел я надгробную плиту с именем их учителя: отец Григорий Круг…
В 1931 году в помещении русской художественной школы (к той поре художественных русских школ было несколько, а эта была на улице Жюль Шаплен) проходила выставка работ общества «Икона», и 27-летний Ростислав Лукин в ней принимал участие.
Позднее у него даже прошла персональная выставка (большое событие!) в бельгийском городке Намюр. А что выставка? От одной выставки икон, да еще эмигрантской, ни знаменит не станешь, ни богат. Так что сидел себе Лукин в тесной комнатке флигеля при дешевой гостинице на Лионской улице Парижа и мазал краской белый холст в надежде на обещанное грошовое, но позарез нужное вознаграждение да еще никем ему не обещанную славу (она ведь чаще всего к художнику после смерти приходит, негреющее солнце мертвых, а пока…)
Где-то там осеннее парижское солнышко греет в парке зеленые скамейки и пестрые астры, где-то журчат фонтаны, а ты знай води колонковой кисточкой по холсту, оботри кисть тряпочкой, мастихинчиком подправь, эх, век свободы не видать, либерте, фратерните…
И вдруг – стук в дверь. Спасенье что ли пришло. Во всяком случае можно кисточку отложить. Открывает дверь Ростислав, а там два высоченных французских парня, даже не французских, оказалось, бельгийских, такие большие, любезные, симпатичные, тянут руки знакомиться. Один попроще – Ален, другой с выпендрежем, по-русски, не пойми-разбери, какой акцент: я Никола де Сталь фон Гольштейн, я русский, папа зовет просто Колей, вы можете звать «Ваше сиятельство», шучу, конечно, но как будет угодно…
Кто-то адресок им дал из бельгийских художников, непрезентабельный лукинский адресок (Лукин смущенно: «вот тут я и работаю…»).
Короче, познакомились, постояли, сели на койку, больше некуда было сесть, сидят – коленки торчат… Поговорили о том о сем, слово за слово, потянулись они, конечно, в угол, где картины стояли непроданные, особенно иконы. Потом вместе пошли шататься по Парижу, Ростислав их по всем водил любимым местам – и в Маре, и в Лувр, и на Бульмиш, и на Бют-о-Кай… Говорили все больше про искусство – то, се, Шарден, Коро, Матисс, эль Греко, Ведласкес, да еще «наш Пермеке, наш Энсор, наш ван Смет»… Про жизнь, конечно, поговорили, про их лихие испанские странствия, потом про его, Лукина, скудное существование… Ну что с нее взять, эмигрантская, сиротская жизнь. Как-то выжил. Теперь вот все же не пастух, а парижский художник, но от сумы и тюрьмы как зарекаться? На полгода его в Испанию, конечно, послать некому и в замках он сроду не ночевал, но вот уже выставлялся раз со всей братией из «Иконы». Много нас было…
В конце разговора все же не удержался Ростислав, похвастал:
– Даже была у меня персональная выставка. Правда только одна…
– Ух ты! Где?
– В Намюре.
– Где? Где? В Намюре…
– Ну да. Город такой бельгийский, Намюр…
Долговязые бельгийские парни хохотали до слез. Потом стали объяснять, что это дыра, этот Намюр. Хуже Брюгге. Да кто в целом свете слыхал про Намюр?
– Отчего? Пушкин, наверно, слыхал. Он точно читал Стерна. А там дядя Тоби был ранен под Намюром. Потерял мужское достоинство…
– А кто такой Пушкин? – спросил добродушно Ален.
– В общем так, – сказал Никола Ростиславу. – Ты к нам приезжай в Брюссель. Мы тебе в самой столице устроим выставку. Где-нибудь в центре. В зале Дитриша. Возле Королевской библиотеки. Все трое и выставимся. Верно, Ален?
– А что выставлять будем? – спросил Ален,
– Ну как что? Что-нибудь напишем и выставим.
– После веселого дня парижских прогулок они простились на прославленном Северном вокзале, на Гар дю Норд, под стеклянной крышей Хитторфа.
Никола и Алену пора было в Брюссель. Добрались они благополучно, без проблем. Конечно, с Николаевым апатридским, нансеновским паспортом пересечение границы всегда могло привести к затруднениям. Но здешнюю границу даже самые робкие из эмигрантов (вроде молодого Набокова, ездившего в Брюссель на выступления) научились преодолевать без труда. Нужно было просто выйти из поезда на последней французской станции и, пройдя несколько километров пешком пересечь никем не охраняемую границу. На эту могучую границу Франция очень надеялась перед войной. Даже линией обороны ее не укрепила. Впрочем, может, просто денег было жалко. Или деньги успели растащить. Дело житейское…
Обратимся однако к истории нашего героя. Возвращение к оседлой жизни Колю мало радовало. За долгие месяцы вольного странствия он вошел во вкус бродяжьей жизни. А здесь надо было ходить на занятия, рисовать в Академии «античные головы» (именно так назывался курс, на который он записался) и вдобавок искать дешевое (а еще лучше бесплатное) жилье. Деньги, которые давали ему родители на квартирные расходы, утекали мгновенно.
Конечно, жизнь молодых художников не была ни скучной ни монотонной. Было много старых и новых друзей (Ален, Бенуа, Эмманюэль, Алекс Гурин, Жан тен Кат), однако занятия в Академии казались Никола все более нудными, а Брюссель, Бельгия, да и целая Европа – тесными. За морями и горами лежали еще не изведанные Северная Африка, Персия, Индия, где были пустыни, озера, шатры, бедуины, цыгане, ночные разговоры, бродяги из всех уголков планеты, пьянящие зелья: косяк с дурью идет по кругу, бродяги всех стран, соединяйтесь у костра, поговорим о прекрасном…
А здесь, похоже, людишки живут и не догадываются, как свет велик и прекрасен, не догадываются, как важно для него, художника, объездить весь белый свет, увидеть все, понять все, даже то, что не поддается воображению. И сдается, меньше, чем всем прочим, эта несомненная истина очевидна родителям Никола, в первую очередь отцу. Он, похоже, сомневается даже в том, что многомесячное путешествие Никола по Испании принесло плоды. Где они, говорит, все эти картины, про которые Никола писал в письмах? Где все эти портреты, пейзажи? Ничего. Почти ничего…
А Никола как раз собирался завести дома разговор о неизбежности новых странствий – скажем, в Северную Африку, в Персию. Однако надо было чем-нибудь подкрепить свои аргументы, что-то такое отцу показать. И строго говоря, показать пока что было почти нечего. Может, наберется с полдюжины акварелей, да блокнотик с отрывными листками: испанские быки, спины лошадей, погонщики… В сущности, ничего законченного.
И честно сказать, даже ничего начатого…
Никола с Аленом судили-рядили, что бы им такое предпринять убедительное, и как ни странно, обоим приходил в голову этот застенчивый русский из убогой парижской комнатенки на Лионской. Этот Ростислав с его не Бог знает какими пейзажами, портретами, а главное – иконами. Вот если б иконы. Научиться писать иконы…
Надо немедленно вытащить этого Лукина в Брюссель и подготовить общую выставку. Вытащить во что бы то ни стало. И поскорей! Да захочет ли он?
Никола берет это на себя. Он напишет Лукину в Париж отчаянное письмо, суля ему златые горы. В первую очередь бесплатное жилье в Брюсселе, всяческую поддержку друзей и, конечно, выставку в столице. В лучшем зале Брюсселя. Приезжай – не пожалеешь. Буду тебя встречать на брюссельском Южном вокзале. Торопись!
Собираясь покинуть Париж, Ростислав Лукин терзался сомнениями. После долгих странствий и невзгод эмигрантской жизни он высоко ценил свои крошечные достижения. Худо – бедно он все же ухитрялся выживать в Париже. И за комнатенку крошечную все же платил, и работа какая никакая была… Тоскливо, конечно. А эти парни из Брюсселя, они были такие шикарные, такие дружелюбные, и они обещали так много… Соблазн был велик. Но и сомнение не оставляло его совсем. А вдруг трепачи… Студенты. Академия. Выставка. Канальство. Заманчиво…
В конце концов Лукин покидал небогатые пожитки и картины в мешок и двинулся в путешествие. Все ж поверил.
На брюссельском Южном вокзале Лукин пережил неприятные минуты. Толпа текла мимо, а он все стоял и стоял, обмирал от страха… А вдруг никто не придет. Придет? Не придет?
Нет, не придет. Куда деться?
Он уже совсем сник, когда над толпой показался огромный де Сталь, который впихнул Ростислава в такси и повез его не куда-нибудь, а в шикарное брюссельское предместье Юкле. Он уточнил дорогой, что жить они пока будут оба бесплатно у матушки Алена. Сам Алэн проходит срочную службу в непобедимой бельгийской армии (на которую такие надежды возлагали в ту пору и Париж, и Москва – через каких-нибудь четыре года надежды рухнули, и немцы без труда вошли во Францию через Бельгию).
Моложавая матушка Алэна объяснила, что ее сыночка забрала армия, но небо послало ей нового сынка, тоже очень статного. Новый сынок готов был к приятности замены, но стеснительному Лукину вся ситуация показалась двусмысленной. Что он мог знать про комплекс сиротства, про мать-возлюбленную (ни моего друга Пьера, ни Кей Джемисон, ни даже осторожного профессора Маркаде не было рядом), у сироты из «Иконы» были свои представленья и комплексы. Самостоятельный Лукин пошел снимать для них собственное жилье. Нашел какую-то комнату на рю дю Норд, которую они условились снимать на пару с Никола. Он еще верил, что можно условиться. Мужское слово… Но инфантильный Никола и в двадцать один не был готов держать слово. При ближайшем рассмотрении оказалось, что кроме гуашей Лукина выставлять в Брюсселе собственно, нечего. Есть, правда, один натюрморт Алена с дохлой птичкой, две-три испанских акварели Никола да пачка его листочков из дорожного блокнота.
– Вот что, – озабоченно сказал Никола Ростиславу, – Ты поучи меня писать иконы, и будет мне что выставить. Научишь?
А что делать? К тому же спешить было некуда. Выяснилось, что пока, собственно, и выставляться еще негде. В зале на Музейной улице, что напротив королевской библиотеки, де Сталю в помещении отказали: там должны были выставляться греки. В конце концов любезнейшая мадемуазель Амбер из книжного магазине Дитриша на улице Монтань де ла Кур разрешила неотразимому Никола (все знали в узком студенческо-богемном кругу, что он беглый аристократ, путешественник, гений, надежда искусства) развесить работы у нее в магазине, в январе, только на одну неделю. Теперь он должен был срочно учиться иконописи. Мог ли он предвидеть, что их беспечная идея выставки и его скоропалительная учеба у Лукина так щедро обогатят французское Сталеведение? Может, предвидел. А может, ждал большего…
К середине января 1936 года все было готово для открытия семидневной выставки в магазине – и пригласительные билеты, и дохлая птичка Алена Острата, и пять икон, написанных Никола с помощью Ростислава, и гуаши самого Лукина, составлявшие львиную долю экспозиции. Конечно, большого шума в художественной жизни Брюсселя выставка эта не наделала, но все же была отмечена благожелательной, дружественной прессой. Друзей больше было у Никола, так что городская газета и упомянула, конечно, в первую очередь местную знаменитость – русского гиганта Никола и его экзотические «иконы»:
«В Брюсселе, в зале Дитриша (улица Монтань де ла Кур 37) открылась интересная выставка двух русских художников Ростислава Лукина и Николая Владимировича де Сталя… Молодой талантливый художник Никола де Сталь представил несколько икон и гравюр. Особый интерес представляет икона «Иоанн Предтеча». «Иоанн Предтеча», как на старинных иконах, несет на блюде свою отрезанную голову. Никола де Сталь старается следовать духу старых русских иконописцев. Краски его яркие и сверкающие, а композиция неизменно сохраняет гармонию».
Мы с серьезностью привели это сообщение целиком не только чтоб просветить вас по поводу знакомого сюжета, но и оттого, что следующего упоминания творчества де Сталя в печати придется ждать долгие годы… Как, впрочем, и первых всплесков его творчества.
Лукину удалось продать на выставке свои гуаши, а какая-то юная бельгийка купила сразу две иконы де Сталя. Это была дочь богатого дельца и мецената барона Жана де Брувера. Барон, успевавший следить и за бельгийской, и за европейской живописью, приметил таким образом молодого Никола и пригласил его участвовать в росписи своего охотничьего дома недалеко от Брюсселя. Что же до Ростислава, то и для этого русского скитальца поездка в Брюссель имела вполне благоприятные последствия. Он записался на курс в Академии художеств, завел много друзей среди столичных студентов и студенток, получил бельгийское удостоверение личности и вообще на долгие годы связал свою судьбу с Бельгией. Это уж намного позднее он отыскал свой рай на земле (свой «Божий дар») в глухой деревушке Шампани, где его память и сегодня чтут «Друзья Лукина» и где всегда открыты двери его музея. Но отчего же эти «друзья Лукина» так долго не хотели рассказать мне об отношениях Ростислава с Никола? Мало-помалу из всех рассказов и чтения мемуаров понял я, что Лукин был обижен надменностью, высокомерием, а главное ненадежностью студента-барона. То, что люди терпимые называют фантазерством, мифотворчеством, странностями художественной натуры, простак Лукин с типично русским максимализмом называл бахвальством и враньем. Французы (а может, и бельгийцы) вообще гораздо терпимее относятся к вранью, чем русские. Русских оно обижает. Лукина обидела вся эта история с брюссельским бесплатным жильем (за которое и заплатил из своих грошей Лукин), с «шикарным залом», с «дружеской поддержкой»… Лукин вспоминал позднее, что полученные им от родителей деньги Никола тратил с небрежностью, что он мало занимался живописью. Вообще редко работал, где-то шлялся по ночам… Нищий труженик Лукин не оценил ни «аристократических манер», ни «богемности» золотой молодежи из Юкле. Как не смогли оценить их родители Никола. В старости он и собственные брюссельские годы вспоминал как «богемные». Конечно, в нашей шампанской глуши название Брюссель звучит не слабее, чем Лондон или Лос-Анджелес…
Закончилась история совместного проживания двух русских художников на брюссельской рю дю Норд вполне по-сталевски, по-баронски. В один прекрасный день Никола и вовсе исчез. Ростислав больше никогда его не видел, но три недели спустя он получил от разгульного студента впечатляющий знак внимания. Открыв однажды поутру дверь их квартиры, Лукин обнаружил перед дверью большого омара на блюде и записку «Приятного аппетита!» Может, омар должен был служить компенсацией за квартирную плату… А может, проходивший мимо с веселой компанией Никола не знал, куда девать омара. Остается гадать…
В старости Лукин не раз рисовал картинки с омаром и с запиской на блюде. Вероятно, в старости, в тихой Шампани воспоминания о его брюссельской молодости (ему было тогда чуть больше тридцати), о недолгих студенческих годах казались ему трогательными. И все же, рассказывая об этих годах своим ученикам, русский старик упрямо называл молодого барона не «фантазером» или «выдумщиком», или «мифотворцем», а «вралем», «брехуном» и «хвастуном». Ох, эта русская нетерпимость! Помнится, и сам я, попав впервые надолго в Париж за середину земной жизни, долго не мог привыкнуть к здешним обычаям. Я в ту пору еще приносил свои сочинения в парижские издательства. И никак не мог привыкнуть к тому, что едва завидев незнакомца, издательская секретарша (как правило, похвально длинноногая и длинноносая) без лишних расспросов приветливо говорит: «Оставьте ваш номер, вам позвонят!» Тебе не позвонят никогда.
Что до Никола, то он пронес это свое «мифотворчество» через все жизненные испытания…
Брюссельский эпизод «первой выставки» с неизменностью приходит в голову искусствоведам, которые пишут о последнем периоде творчества де Сталя. «Это у него от иконы! – восклицают историки искусств, – И это у него от иконы! И это от иконы! А это частично от иконы!»
Ну, а иконы частично от Лукина тоже. Так что в ряду знаменитостей, повлиявших на творчество нашего героя (Маньели, Домела, Брак, Ланской, Шарден, Эль Греко, Кандинский…), можно упомянуть и скромное имя нашей деревенской знаменитости Ростислава Лукина, которого в деревнях на речке Об звали по-просту Рости.
Глава 12. Прощание со второй родиной и второю семьей
С приближением весны молодому де Сталю было все труднее усидеть на месте. Жил он то там, то сям, жил, где разрешат заночевать бесплатно. Был вечно в долгах и вечно искал, у кого бы занять. А в апреле сходил во французское консульство со своим «нансеновским» паспортом эмигранта и заказал визу для путешествия по Марокко. Экзотическая эта страна была уже давно облюбована европейскими художниками. Делакруа странствовал здесь за сто лет до молодого де Сталя, а уж после Делакруа…
Автор этих строк, хоть и не был художником, рвался в Марокко чуть не через полвека после нашего героя и тоже с трудом выпросил визу (советский паспорт из широких штанин внушал чиновникам столь же мало доверия, как нансеновский). Впрочем, на этом сходство между автором этих строк и его героем, признаю, кончается, и все же могу свидетельствовать: чудная страна, это Марокко!
Летом 1936 года Никола собрался уезжать в Марокко с друзьями-художниками Аленом Остратом и Жаном ван Катом, однако путешествовать ему было пока не на что. Родители идею нового далекого странствия не поддержали. Эмманюэль Фрисеро считал, что, закончив продолжительный курс наук и завершив путешествие, человек должен работать, а не путешествовать снова. К тому же отцу не показалось, что долгие, дорогостоящие странствия по Испании и Франции многому научили его приемного сына. Брюссельский же беспутный образ жизни Никола не одобрял ни один из членов семьи, даже старушка-няня.
Неизвестно, что стало бы с планами африканского странствия и как вообще сложилась бы в дальнейшем жизнь Никола, если бы вдруг не подвернулся молодому де Сталю и его друзьям богатый благодетель-меценат. Это был все тот же преуспевающий делец, коллекционер и тонкий ценитель искусства барон Жан де Брувер. Он уже заказывал стенописи де Сталю, и молодой художник-аристократ произвел благоприятное впечатление и на самого барона и на его юную дочь. Барон де Брувер был неутомимый искатель талантов. К тому же он верил в русские таланты.
Впервые имя барона де Брувера я услышал в Париже на знаменитой улице художников Премьер Кампань, сидя в гостях у художницы Екатерины Борисовны Серебряковой, дочери Зинаиды Серебряковой. Мы пили чай под марокканской картиной Зинаиды Серебряковой, и я стал расспрашивать милую Екатерину Борисовну про марокканский вояж ее мамы в небогатом 1928 году, когда Зинаида Евгеньевна жила с двумя детьми в Париже, снимала ателье да еще отсылала деньги матушке и двум своим детям, оставшимся в вечно голодной России.
– Как же мама денег наскребла на поездку? – спросил я у Екатерины Борисовны.
– А это барон ее отправил в Марокко. Представляете, барон? Барон де Брувер. Слово «барон» девяностолетняя Екатерина Борисовна произносила с каким-то особым чувством. И я, кажется, понимаю отчего. Если хоть раз чувствовала себя свободной и счастливой в эмиграции ее мама Зинаида Евгеньевна, то это и случилось в той самой марокканской поездке. В первый раз без детей, рассеянных по свету, без заботы о хлебе, без счетов за ателье, без тревожных питерских писем… Семейные воспоминанья о кратком мамином счастье слились в этом важном имени «барон де Брувер»…
Барон де Брувер увидел на выставке портреты кисти Серебряковой, а может, даже увидел ее пленительных нагих россиянок, сытых, ухоженных и полногрудых (серебряковская «Баня» была недавно продана на аукционе Сотебис за полмильона фунтов). Увидел и подумал…
О чем он мог подумать, богатый эстет, бельгийский меценат? Может, о том, что появится на стене его загородной виллы портрет обнаженной эбеновой марокканской красавицы. А может, о том, каким предстанет его любимое Марокко (у барона и там был неплохой бизнес) в глазах этой такой талантливой и совсем еще молодой, но такой умученной русской беженки… Барон подумал и отправил художницу на свой счет в Марокко.
Я читал ее совершенно счастливые письма. Хвала меценатам… И пропади они пропадом, проповедники равенства…
Барон тогда не остался в накладе. Зинаида привезла ему замечательные картины, а четыре года спустя он снова отправил ее в Марокко. Конечно, голеньких марокканок она ему привезти не смогла: до такой степени раскованности дамы на этой территории еще не дошли (Ведь если говорить начистоту, то и полногрудые поселянки из серебряковской «Бани» были никакие не доярки и не труженицы сельхозартели, а гладкие петербургские горничные, которые бестрепетно, но не безвозмездно, обнажали свои несравненные красы в ателье художницы). В общем ни с Зинаидой Серебряковой, ни с ее сыном Шурой, блистательно писавшим старинные интерьеры, барон де Брувер не прогадал. И вот в 1936 он решил, снова рискнув, посодействовать молодому отечественному искусству и оплатить кое-какие путевые расходы сразу трем выпускникам бельгийской академии – воспитаннику Фрисеро подающему надежды русскому барону Никола де Сталю, а также Алену Острату из Юкле и Жану ван Кату. В обмен брюссельские гении обещали высылать барону из Марокко свои работы. Никола пришлось произнести свои заверения в присутствии почтенного Эмманюэля Фрисеро, что как бы давало гарантии его слову. Думается, этой процедуры честному инженеру Фрисеро следовало избежать, она ему дорого обошлась, но как одолеть отцовские любовь и надежду…
Впрочем, не будем забегать вперед. На дворе август 1936 года, ветер дует в паруса дальних странствий, три молодых художника покидают скучные долины и горы Бельгии ради Северной Африки. Пока покидают привычным способом – на велосипедах. Они снова пересекают Францию, направляясь к берегу Средиземного моря. Добравшись на велосипедах до портового города Сет (ах, какой там вид с горы, с морского кладбища, где покоится поэт!), они смогли договориться о дешевом путешествии на рыболовном судне, уходившем к марокканскому берегу. Успех! Еще один успех!
Перед отъездом из Брюсселя Никола встретился со школьным другом Эмманюэлем д\'Угсвортом и обещал ему написать большой очерк о Марокко для нового католического журнала «Блок». Может, именно сочинение очерка на время отвлекло Никола от писания писем родителям (и от живописи, до которой он еще, похоже, не дозрел). Так что, первое большое письмо домой Никола отправил только в октябре из прекрасного города Фес, может, самого красивого из пяти «императорских» городов Марокко.
В этом многостраничном письме Никола описывает визит к Долгоруковым в Рабате и парад в Фесе (парады восхищали его всю его недолгую жизнь, он мечтал писать парады и празднества), восторженно пишет о благородном достоинстве арабов и берберов, о неуклюжести европейцев, об угощении в арабском доме, о пальмовых рощах… Впечатлений много, голос рассказчика сбивается, путается, наконец замирает:
«Фес чудесен, мама, чудесно, если мне удастся более прилично описать все это по-французски, я попытаюсь в скором времени описать для вас мою здешнюю жизнь. А теперь клонит ко сну. Спокойной ночи, мама. Целую тебя, папа. Знаю, чего я хочу достичь, но не знаю, смогу ли достичь. Спокойной ночи. Никола».
Никола добрался до палящего Маракеша и здесь ему дал приют в своем просторном доме милосердный месье Шарль Сальфранк, преподававший французский язык в мусульманском лицее. Хозяин уходил в лицей на работу, а Никола прятался от жары в доме, рылся в домашней библиотеке учителя, читал, заполняя пробелы в своем образовании и писал длинные письма. В конце ноября он написал такое письмо маме Шарлотте:
«Милая мама, в Бурже есть один каноник, который круглый год разучивает со своим хором «Мессию» Генделя. Он занят этим очень всерьез, проводит репетиции два и три раза в неделю, и так год за годом, пытаясь как можно глубже постигнуть эту музыку, покупает все, что пишут об этом композиторе, по-настоящему волнуется при каждом новом исполнении, убежденный в том, что целый мир ждет явления его учеников, до такого совершенства поднявших исполнение этой музыки, и дирижирует он с таким пылом, до которого не смог бы подняться, наверное, сам композитор. А между тем, в целом Бурже едва ли найдется и десяток человек, которые поняли бы, что значит музыка вообще, и от силы пяток таких, что могли бы до конца понять «Мессию» и получить наслаждение от этой музыки, а он продолжает работать и хочет верить, что мир его поймет. И мне грустно, когда я рисую и знаю заранее, что не буду понят. Марокканский мальчик снова приходил сегодня позировать, и я деталь за деталью разобрал все части первого своего рисунка, чтобы изучить его ноги, руки, пальцы, жировые мешочки, которые возникают над коленками, когда кость ноги подпирает коленную чашечку и т.д. и т.п....
Господи, как он красив, четырехлетний ребенок. И насколько мать его пронизана отблесками ночи, настолько он весел, темнокож, оранжев и ярок, с этой своей папуасской челкой на лбу. Чтобы нарисовать его ручонки, я должен открыть его пальцы, закрыть их, чтоб снять напряжение. Голова у него большая, в четыре раза больше, чем позволяет пропорция. Не знаю, смогу ли я передать хрупкость этого тела, скрытого в его джелабе с ее широкими рукавами. Это так трудно, и я ни на что, я ни на что другое тоже, и всю вторую половину дня я все стирал и стирал рисунки, выстраивая их скелет, основу. Иногда пропасть, отделяющая мой рисунок от того, как я себе его представлял, вызывает у меня горький смех. Грустно посмейтесь и вы со мной, мама. И мужество нам может вернуть только новое изучение. Изучение и вера в правоту великих художников, ее нам подсказывает интуиция.
Что они делают, как, почему, каков результат их работы после трех лет усилий, у меня не вполне постоянных.
Надо понять, дать объяснение, хотя бы себе, почему то, что мы считаем красивым, действительно красиво, хотя бы техническое объяснение.
Совершенно необходимо понять законы цвета, до конца понять, почему яблоки Ван Гога, те, что в Гааге, те, что имеют такой определенно неопрятный цвет, отчего они кажутся такими великолепными, отчего Делакруа изрезал зелеными лучами свои декоративные ню на потолке и эти ню кажутся нам безупречно телесными, чистыми, безупречными. Почему Веронезе, Веласкес, Франц Гальс использовали 27 оттенков черного цвета и не меньшее число оттенков белого. Отчего покончил с собой Ван-Гог, возненавидел себя Делакруа, а Гальс напивался до бесчувствия, как они пришли к этому? А их рисунки? В Гаагском музее есть целые две страницы, где перечислены все сочетания красок для одной маленькой картины. Каждая краска имеет свой смысл и назначение. А я буду уродовать холст, не изучив всего этого, и все потому, что мир куда-то спешит, Бог знает куда…»
С середины письма мысль Николая уходит к бедам цивилизации, к гибели кустарного промысла, к каким-то встречам в кафе и случайным газетным заметкам о чьих-то удобствах в Каире:
«Пришел один датчанин, он ел за нашим столиком и он был грустный. А как-то раз в Севилье нам с Эмманюэлем дали такое паршивое вино, что добрая хозяйка сказала, что она скинет по сорок сантимов со стоимости обеда. А когда мы отказались, она сказала мужу минут через пять: «Ох эти студенты, все учатся» (дальше то же самое по-испански).
… В Фесе попытаюсь подробнее разузнать о Монголии и о полковнице Меален (Мигель-Штернберг).
Мне трудно вам описать все, что со мной происходит, буду читать Делакруа на ночь. Скоро напишу вам, что происходит с моим рисунком.
Напишите, мама, не грустно ли вам, и я пошлю вам немножко солнца. Сегодня солнечно, и в 5 часов я ходил с Жаном в султанский сад рисовать оливковые деревья.
Закаты в дождливые дни здесь просто невообразимо выразительны. Спокойной ночи, мама. Целую тебя, папа. Коля».
Ученый комментатор в кратеньком примечании к этому письму стыдливо сообщает какие-то малоинтересные подробности о местонахождении полотен Ван-Гога в Гааге… Может быть, просто затем, чтоб напомнить о печальной судьбе Ван-Гога.
Другие комментаторы выражают лишь безоговорочный восторг. Их нисколько не тревожит ни состояние нашего героя, ни печаль его родителей. Даже сам Никола понимает, что маме есть отчего быть грустной. Что до папы Фрисеро, то ему есть отчего придти в отчаянье. Кроме всего прочего он поручился за присылку работ заказчику-барону, а Никола, насколько можно понять из его письма все только приступает к тому же, одному единственному рисунку, которым он недоволен… Легко догадаться, что и состояние здоровья Никола и его планы внушали родителям опасения.
В начале февраля 1937 года Никола пишет длинное письмо матери, где сообщает о приезде в Марракеш воспитанницы Фрисеро и подружки Никола Елены Врангель. Увы, Никола с ней «не смог повидаться, так как уехал в горы». Почему уехал, что с ним? Судя по февральскому письму, он все еще живет в Марракеше в доме учителя Сальфранка. Он пытается успокоить родителей рассказами о работе, о рисунке (все том же, что в ноябре), о том, что состояние его здоровья лучше, чем осенью (худшие месяцы, по мнению психиатра Кей Джемнисон, это октябрь и ноябрь, а потом март, апрель, май):
«Прежде всего надо сказать, что работа моя продвигается, медленно, но продвигается. Во дворе я устроил скульптурную мастерскую, соорудив полки из ящиков, гончарная глина здесь замечательная. Здешняя жизнь моя с самого начала пошла по-новому. Я лучше работаю, меньше нервничаю и реже прихожу в отчаяние. Мама, вчера я нарисовал берберского мальчика, и это лучшее из всего что я до сих пор сделал и лучше чем я сам, Боже, если бы я мог измениться, стать проще, еще проще. Но в этом-то весь смысл борьбы и сразу этого не достичь.
Что касается картин, которые я должен отправить Бруверу, то надо набраться чуть-чуть терпения и он в конце концов их получит, просто когда я уже бываю готов отправить одну из работ, ту, что мне кажется лучшей, она мне начинает представляться вполне посредственной, и это объясняет, почему я не очень спешу ее отослать ему. Но Бог даст, через какое-то время дела мои наладятся».
Решив, что он успокоил бедную маму Шарлотту, Никола напрямую обращается к отцу:
«Папа, у меня создалось впечатление, что я не только продвинулся вперед, но что и вся основа моих знаний расширяется. У меня никогда не было под рукой такого количества книг, стольких моделей и стольких радостей и всего этого мира в самом его развитии, в его смысле, в цветении и в простоте , что остается для меня самым важным, самым ценным для работы. Как я мечтаю остаться здесь на три года, в одной только Северной Африке на два года.
Я должен взять на себя весь этот груз. Все это нужно, чтоб я рисовал, рисовал, читал, мне это нужно. Да что нам говорить о рисовании, чем дальше я продвигаюсь, тем большее я получаю право молчать об этом, ибо любое мнение о собственном рисунке или мнение других о нем не будет иметь веса.
Эмманюэль прекратил печатать в «Блоке» мои статьи, подписанные Мишель Серве. Было напечатано четыре страницы (из сорока присланных – Б.Н.) и те были изменены до неузнаваемости. Если меня когда-нибудь позднее спросят в Брюсселе, что я думаю о колонизации, я думаю, что у меня хватит смелости сказать, что ее роль была отрицательной и становится все хуже…»
Дальше на многих страницах Никола пишет о вреде цивилизации и комфорта, о предпочтительности мусульманской религии или коммунизма колониализму, о заблуждениях известного романиста – путешественника Пьера Лоти. В целом он оценивает деятельность европейцев в Африке негативно:
«Ничего не сделано, вернее, сделано много зла и мало добра. И со своей стороны предпочту лучше быть сифилитиком и не лишиться веры, смысла и энтузиазма, чем быть в добром здравии, сидеть за окошечком в почтовом отделении или на другом посту: зарабатывать 2000 или 1000 франков в месяц и тратить их в Отель де Франс или в его американском баре (величайшая мечта молодых арабов)».
В столь же решительно-романтическом духе были написаны молодым Никола сорок страниц его очерка «Голь Атласа», из которых скромному бельгийскому католическому журналу «Блок» пригодились не слишком многие. Зато соученик Эмманюэль прислал Никола гонорар, так что в марте Никола гордо-обиженно написал отцу, что он не нуждается (или почти не нуждается) в деньгах:
«Жан и Алэн здесь и оба работают. Я ничего не слышал от Брувера и доволен, что от него ничего не слышно. Я ему отослал одну работу, которая мне самому не нравится и в этом месяце непременно вышлю другие, и я никогда не обещал ему выслать немедленно. Если он недоволен, то мне помнится, что он сам учил меня проявлять в любой работе терпение. Надеюсь, что к концу этого месяца у него больше не останется причин для неудовольствия.
…За мои статьи в «Блоке» мне заплатили 400 франков. Я уже давно живу как можно экономнее и надеюсь, все будет в порядке. Когда я сделаю работы для Брувера, я буду здесь продавать рисунки, а также отвезу их в Марракеш на продажу».
Комментаторы писем так и не сообщают, что получил Брувер год спустя и получил ли он вообще что-нибудь… Бедный господин Фрисеро!
О письмах де Сталя писали видные французские искусствоведы, в частности, Андре Шастель, который говорил, что в письмах своих де Сталь предстает «в чистом виде»:
«В них Сталь в своем возбуждении, в своих странствиях, своих столкновениях, своих декларациях и принципах, своем неистовстве, в своих сомнениях, во всем, что в эпоху Ренессанса называли ужасом громадности. Невольно приходит в голову сравнение с Ван-Гогом…»
Мартовских писем Никола за тот год сохранилось много. В марте он перенес приступ лихорадки, несколько дней пролежал в постели и вообще был взбудоражен более обычного. Они перебрались, все трое, из Марракеша на запад к морю, в прелестный Могадор (нынешняя Эссауира), город (может, единственный из марокканских городов) построенный по плану – пленным французским архитектором.
Сладостная Эссауира! Увижу ли я тебя когда-нибудь снова… Океанский ветер дарит здесь веянье прохлады даже в самые жаркие дни. Он разносит запах цветов и свежей древесной стружки из лавок здешних ремесленников, которые целый день что-то режут из туи или из лимонного дерева под всхлипы музыки (где арабской, где французской, а где и американской). Городок с его нарядно синими ставнями и цитаделью напоминает то Испанию, то французский Сен-Мало. В симпатичном здешнем порту пахнет рыбой. Валяясь там без дела на груде старых рыболовных снастей, да и позже, попивая мятный чай в кафе на уютной главной площади или на холме под стеной цитадели, так славно было толковать о том о сем со здешними рыбаками, еще не забывшими французский…
Впрочем, героя нашей книги, похоже, не радовали больше ни Марракеш, ни Аит Кебир, ни Могадор. Мама Шарлотта из дождливого Брюсселя просит его написать о синеве африканского неба, о ленивой истоме жаркого полдня, об экзотическом Марракеше, а Никола раздраженно отвечает, что они с Шарлоттой, вероятно, по-разному видят этот мир, где копошатся кучей все эти марокканцы, неинтересным и тяжким трудом зарабатывающие на жизнь и вечно толкующие о деньгах, лишь изредка поднимая взгляд к минаретам… А вот он, Никола, и его друзья учатся рисовать, копируя по очереди присланные им репродукции Монэ или Хокусаи…
Письмо обеспокоенной маме Шарлотте, которая лишь хотела его развлечь (уж она-то знает, как трудно ему весной), Никола завершает вполне раздраженно:
«Ну, хватит мне писать, ибо моя сладостная жизнь складывается из того, что я работаю, я нервничаю, я читаю, а работа моя имеет мало общего со сладостной истомой страны. Спокойной ночи, мама, крепко целую. Никола».
В те же дни Никола пишет письмо Аликс Голди и поздравляет ее с пасхой, особо напоминая о русской пасхе, о духе своей родины, России.
В том же марте он пишет второе письмо отцу. Переписка с отцом – это бесконечный (теперь уже почти до полного разрыва) спор о трудах, об учебе, о возвращении домой, об искусстве, о невыполненном обещании и долге перед бароном Брувером, о прочих вполне вероятных долгах, в которых, не дай Бог, мальчик может запутаться. В письмах сына к отцу новые заверения в том, что он, Никола, трудится не покладая рук и добивается новых успехов:
«Милый папа, большое спасибо за доброе письмо…
… Сегодня спокойный вечер. Уже восемь часов. Жан еще копирует репродукцию Клода Моне, которую я копировал днем. На стене у нас эстамп Хокусаи. Он не только дарит радость красок нашей комнате, но и вносит правила жизни, учебы.
Я рад сообщить вам, что работа моя продвигается. После болезни я как бы обновил кожу (меня лихорадило, была боль в печени, но несколько дней, проведенных в постели, диета и изрядная доза хинина восстановили здоровье). Я лучше сознаю теперь, к чему я пришел и что мне делать. Что нужно в результате ожидания, а не вдруг достигать цели,
Нужно продвигаться к цели, ясно видя впереди горизонт. Нет нужды говорить об отпущенном мне в кредит «времени», да и Брувер ведь, что бы он ни говорил, не любит незрелых плодов. В Маракеше это все меня беспокоило и я непосильно напрягался и уставал. Сегодня меньше беспокоюсь и отдаю работе сколько остается жизненных сил. Одно это и важно, побольше живости в работе и все будет к лучшему в этом лучшем из миров.
Будь уверен, папа. Я работаю. Из ничего ничто и не возникнет, как говорили древние греки.
Я знаю, что жизнь моя будет странствием по неизведанному смутному морю, именно поэтому я должен сооружать свой корабль прочным, а он еще не построен, папа. Я еще не отправился в это плаванье, медленно, по частям я строю, мне понадобилось шесть месяцев провести в Африке, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь в живописи. Поглядим, что дадут мне следующие шесть месяцев, и большего я просто не могу вам обещать.
На этом я прощаюсь с вами, папа. Пишите мне несколько строк время от времени, мне это принесет радость.
Сейчас ведь, кажется, пасха».
И дальше – латинскими буквами, но по-русски, точнее даже по церковно-славянски «Khristos voskrese»: «Христос воскресе – целую вас трижды. Никола».
Переписка отца и сына была безнадежным спором. Задним числом можно отметить, что они оба не ошибались в самых светлых и самых страшных своих ожиданиях, надеждах, предчувствиях – и любящий, трезвый, такой щепетильно честный работяга, бельгийский инженер Фрисеро и его непутевый, малонадежный, страдающий (как говорит любимая моя сестра Алена, «больной на всю голову») приемный сын. Они продолжали переписываться еще до осени, и в своем июльском письме 1937 года, все еще обещая послать отцу какой-то неведомый рисунок или даже какие-то многочисленные работы, Никола делает неожиданное признание:
«в моем сознании год, два года, десять лет ничего не значат, и быть художником это не считать года, а жить как дерево, не торопя созреванья весенних соков, и ждать лета, лето придет, но нужно иметь терпение и терпение, вы не сможете разделять мою мысль и вы правы…»
Оба они были правы по-своему, оба ничем не могли помочь или помешать судьбе. Об этом мы непременно еще поговорим на страницах нашей истории. Но пока – все еще Могадор, сказочная Эссауира…
Как хотелось бы знать автору этих строк, стоит ли еще близ автостанции и старинных городских ворот крошечный отель «Агадир»? В конце 80-х годов там было так тихо, так чисто, и двенадцатый номер, в котором я столько раз останавливался, стоил пять евров в сутки. Будь у меня чуть побольше денег, я непременно снимал бы восьмой номер, из которого можно выйти на плоскую крышу, где вечно тусуются чайки… Ладно, не буду предаваться ностальгии: тоску по марокканской Эссауире и таджикскому Сары-Хосору я давно выплакал в своих марокканских рассказах…
Французские биографы и искусствоведы упорно ищут, что же нарисовал Никола де Сталь в годы своих молодых странствий. Где результаты всех этих трудов, упоминаемых в письмах к родителям? Поэтому неудивительно, что они пришли в волнение, обнаружив картинки могадорского периода с подписью де Сталя. Обратились за объяснениями к Жану ван Кату, жившему в 1937 году в Могадоре с двумя брюссельскими друзьями, и услыхали от него историю, которая могла бы, на мой взгляд, успокоить и самых упорных из искателей пропавших сокровищ.
В Могадоре, как и в прочих городах Марокко, была до самой середины пятидесятых годов XX века довольно обширная еврейская колония. Здешние евреи были по большей части торговцы и ремесленники (много было ювелиров). Они пришли сюда некогда, скорей всего, из Испании, а сбежали отсюда во Францию и в Израиль, где им поначалу пришлось несладко. Теперь это все уже давняя история: многие из них и там встали на ноги…
Я попал в Марокко впервые в 80-е годы прошлого века и среди прочих достопримечательностей посетил былые еврейские кварталы («мелла») с их навеки запертыми кладбищенскими воротами. Кварталы были пристойными, кое-где даже элегантными (как в Мекнесе) или нестерпимо грязными и нищенскими, как во множестве деревень. Во время путешествия Никола де Сталя, в 1937 году, в Могадоре еврейская «мелла» была еще хоть куда. И вот один из жителей этой «меллы», увидев рисующего что-то на шумном перекрестке близ рынка Никола де Сталя, решил заказать ему два-три рисунка. Молодые бельгийцы всполошились. Пренебрегать заказом при их безденежье было бы нелепо. К тому же этот могадорский перекресток был даже менее перспективен по части заказов, чем парижский Монмартр (где тоже не грозит художникам золотой дождь). Так что Жан и Ален заверили мецената из «меллы», что их друг с честью выполнит его персональный заказ.
Почему он выбрал из их тройки именно Никола, этот представитель довоенного марокканского нацменьшинства? Может, он умел на расстоянии чуять запах таланта, как позднее учуял его процветающий нью-йоркский арт-дилер Поль Розенберг? А может, именно таким представлялся ему настоящий художник. Или, на худой конец, настоящий барон…
Так или иначе, заказ был принят де Сталем, и Жан ван Кат сел за работу. Объяснений этому я не нашел в родственных легендах. Вероятно, друзья просто знали, что Никола не сможет довести до конца работу. Или даже не сможет ее толком начать. Знали то состояние, в котором нередко бывают люди пишущие, рисующие, сочиняющие. Знали, что человеку может «не писаться», «не рисоваться», «не сочиняться». Что друг их уже давно в этом состоянии. Может, пройдет еще сколько-то недель (месяцев, лет, десятилетий) и он что-то нарисует (напишет, сочинит) и удивит мир. Придет вдохновение и с ним это случится, то, чего он так мучительно ждет…
Никола верил, что это случится, но наверняка сказать ничего не мог. Вероятно, ни в 1937, ни через два, ни через три года он еще не умел довести до конца никакую работу. Однако признаться в этом не решался не только сам Никола, но не решались позднее и авторы его биографий, так что искусствоведы все ищут, ищут… Однако они с упорством (с упорством, деликатностью и робостью) избегают даже попытки проанализировать психологическое состояние своего героя, поискать аналогичных казусов, которыми полны не только книги ученой Кей Джемисон, но и исповедная проза самих страдальцев. А нам с вами – зачем ходить за три моря? Возьмем карьеру того же Бориса Пастернака, страдавшего от чего-то очень похожего. Нет, не блистательно состоявшуюся позднее карьеру поэтическую, а карьеру музыкальную (композиторскую).
Вспомните, как кумир его Скрябин вернулся из Швейцарии, и к нему явился молодой гений Пастернак. Пастернак вспоминает, как это было:
«В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему все свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.
Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы не поверил. При успешно продвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.
Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к оплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия».
Нетрудно услышать в этой исповеди отзвук тех сентенций, которыми Никола успокаивал в письмах папу Фрисеро…
Что до отчаяния, к которому приводит это бессилие, то в каждом случае судьба распоряжается по-своему. Вот Пастернак:
«… я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдание. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!»
Редкие наброски, уцелевшие из времен Николаевых странствий и ученичества, не кажутся даже родственными раскрывшемуся позднее (сравнительно поздно) таланту. Но нет ничего странного в том, что любому одаренному человеку в какой-то момент жизни «не пишется», а пишется лишь в какой-то редкий момент жизни. В этот момент хорошо бы успеть завершить «Ревизор» и «Мертвые души», «Горе от ума» или «Дар» с «Пниным» впридачу… Это как порыв ветра… Потом парус может сникнуть. Лови бесценный порыв…
Этот могучий порыв в жизни Никола де Сталя не совпал с его североафриканскими странствиями. Может, поэтому так охотно взялся он в Марокко за журналистику. Сочинение статей и писание писем приносили успокоение, как и новые странствия. За горизонтом чудились сказочные страны, новые неслыханные открытия и видения, даже более яркие, чем те, что давала странникам недорогая «дурь», которой в Марокко всегда было в достатке (послеобеденное это курение упомянуто в марокканских письмах де Сталя)…
Невольно вспоминается, как я впервые попал в прелестный марокканский городок Шешауэн. Фонтаны, уютные дворики, белые стены, испанская провинция… В укромном углу за столиками кафе попивали мятный чай и сладкий кофе с молоком какие-то молодые европейцы. Они позвали меня за свой столик, чтобы я мог вместе с ними посмеяться над какой-то невероятно смешной шуткой, усердно переводили ее для меня на английский, на французский, на итальянский, на польский и на немецкий. Я искренне рад был их дружелюбию, хотя и не сразу понял, отчего их так позабавила эта ни на каком из мне известных языков не смешная шутка. Потом дошло, что они были уже сильно обкуренные. За каждым углом в этом живописном городке Северного Марокко предлагали купить шмаль. «A gram is better than a damn», как пророчил английский романист Хаксли, которому так мало (в отличие от Ахматовой) нравился патриотический Анреп в офицерской форме…
Но как безжалостно трясли этих веселых европейцев на таможне при выезде из Марокко: искали (и, как правило, находили) недорогую травку…
Иные из марокканских писем Никола де Сталя, доносят, кстати, явный запах этой травки. Неудивительно, что письма эти вызывали у родителей сомнения в надежности сыновних сообщений и повергали в отчаянье благополучный и благопристойный Юкле. Письма огорчали странными фантазиями, звучавшими как весть о неблагополучии, все безнадежнее расширяя пропасть между блудным сыном и домом.
В конце мая Никола написал отцу из Могадора:
«Дорогой папа, Ваше письмо убедительней Евангелия и вы правильно поняли, что я никогда не бываю совершенно искренним.
Во мне ничего не бывает надежного и подлинного, кроме мечтаний моих и склонностей. Бог ведает, смогут ли мечтания эти стать реальностью.
В письмах своих я нахожу опору, в которой нуждаюсь, и все, что я пишу, я считаю искренним. Все личности, что во мне уживаются, приходят в согласие, и я рад бываю писать вам и писать маме.
Я не создан из одного куска и с этим трудно что-либо поделать. О деньгах я вам никогда не пишу, а писать всякий раз о том, что у меня лихорадка, или о том, что я не мог ходить из-за боли в печени, тоже скучно».
О безденежье Никола не пишет впрямую, но каждое письмо как бы напоминает о его нужде. Впрочем, иногда разговор заходит и о долгах.
Вот Никола сообщает о деньгах, полученных от Брувера, и о том, что он еще ничего не отослал любезному барону-меценату, который все еще ждет, теряя однако терпение:
«Я стараюсь изо всех сил закончить картины, которых много, и мне это не удается…
Прощайте, не судите мои письма слишком строго, иногда мне думается, что в них, как и в редких моих рисунках, нет того лучшего, что есть во мне.
А лучше всех Святой Иоанн.
Вы лучше, чем я.
С нежностью.
Никола.
Хотел написать вам письмо, чтобы объяснить, что со мной происходит, но я и сам не понимаю этого толком. Вам со стороны лучше судить. Вам легче.
Ник».
Все эти письма, собранные в толстенном французским каталоге трудов Никола де Сталя (Catalogue Raisonne de l\'oeuvre peint), снабжены просвещенными и осторожными комментариями г. Жермена Виата. Комментатор обращает наше внимание на то, как много здесь похожего на письма бедного гениального Ван Гога, который так плохо кончил. Впрочем, читатель и без подсказки комментатора сможет заметить, что автор писем в смятении, что с ним творится что-то неладное. Вернуться домой он ни за что не хочет. Напротив, собирается пробыть в странствии то ли еще год, то ли три года, то ли вообще до конца жизни. При этом он намерен бродить то ли в Персии, то ли в Индии, не слишком ясно, где он будет жить и на что…
Один из троих друзей, Алэн Острат уехал на север. Вскоре Жан и Никола тоже покидают Могадор.
Никола пишет письмо из Си Абдалла Риата, чтобы поблагодарить отца за присланные деньги, – то самое знаменитое письмо о созревании дерева, о пользе терпения…
«Не думайте, папа, что у меня в мыслях беспорядок, его нет. Я могу завтра оказаться в Тунисе, послезавтра в Риме, даже не замечая, куда я еду в поисках того же самого идеала, отчетливо придерживаясь той же самой линии мысли.
Я часто забываю ставить даты на своих письмах, но я не лгу себе самому, когда говорю, что я стараюсь. Деньги я получил, чек и все бумаги. В недоразумении с красками виноват не я, а почта, они признают. Картину отослал один торговец, он вам расскажет, на что и как я жил эти девять месяцев. Двухсот франков мне достаточно, и если я истратил больше, то это на покупку книг и необходимых инструментов, но я вчера завел журнал, куда буду каждый день делать записи…
Я хотел бы, прежде чем проститься, описать грандиозную природу Си Абдалла Риата, но как часто бывает с вечной красоты пейзажами, горы эти кажутся частью иного мира, путь в который нам заказан…»
Никола и Жан возвращаются в Маракеш, где Никола попадает в беду. Он падает, споткнувшись в каких-то развалинах старой касбы, и ранит ногу. Если верить его рассказу, падая, он обратил взор к небу и воззвал о помощи не к Господу, а к матери… К той ли, что умирая в польской Оливе, оставила их, всех троих, сиротами. Или к той, что ждала его возвращения в мирной Юкле. Этой второй он, выздоравливая, рассказал в письме:
«Я отправился один, чтоб осмотреть касбу со стенописью. Но по дороге я задержался, осматривая другие деревни, и тем временем стемнело. И потом, много времени спустя после того, как горы стали вести хоровод у меня в глазах, одна нога ударилась о камни, а в другую впились шипы засохшей ветки, пастухи подобрали в какой-то яме бедолагу, который звал маму, как зовут дети в горячечном бреду, чтоб она дала им теплого молочка, а потом он ушел один, волоча раненую лапу.
… Теперь лучше…
Жан здесь со мной, отличная сиделка. Скоро я вам напишу длинное письмо, но столик завален книгами, столик у койки больного, голова и зубы мешают мне вас порадовать, но все наладится. Верьте мне, мамочка, что Бруверу я пошлю что-нибудь, понимаю, что столь долгое ожидание приводит его в ярость».
…Жалобный зов Никола, его плач сироты был услышан. Женщина, заменившая ему в те дни мать и жену, явилась из безнадежности раскаленного маракешского полдня, из-под пыльного полога семейного шалаша. Может, лишь по чистому совпадению шалаш этот был почти родным, польским. Но высокая, худая, опаленная солнцем женщина была француженка, бретонка. Она была художница. Ее звали Жанин Гийу.
Глава 13. Я все равно паду на той…
С моим другом Пьером мы встретились вечером на Английском променаде. Была суббота, и променад кишел итальянцами, для которых здешняя набережная – это недалекая, но вполне респектабельная заграница.
Мы, как обычно, сели за столик у набережной, на углу бульвара Гамбетта, того самого, что еще и в 30-е годы прошлого века считался тут «русским бульваром» (кафе князя Вяземского, гараж генерала Апрелева, клуб младороссов, бесчисленные агентства русских «риэлторов»…)
Пьер выглядел в тот вечер грустным и озабоченным.
– Дети… – сказал он. – Всегда дети.
– О, дети!
У Пьера их было пятеро, и двое как раз вошли в тот самый, распроклятый «переходный» возраст. Войти-то вошли, когда теперь выйдут?.. Помню, как прошлой зимой, отмахиваясь от моих расспросов, Пьер посоветовал мне почитать книжку Франсуазы Дольто «В защиту подростка». Я начал читать и, по правде сказать, ошалел (она переведена на русский, рекомендую). Знаменитый детский психолог, прославленная мадам Дольто, не мелочась, сравнивала события этого «переходного» периода детского созревания со смертью и рождением нового человека, даже не всегда похожего на своего предшественника. Скажем, если тот обладал абсолютным слухом, этот словно не слышит музыки, и так далее…
Помню, как я читал эту книжку, восхищаясь проницательностью ученой дамы, а из балконной двери напротив (так уж тут строили «резидансы» в послевоенной Ницце – по кругу) в десятый, или, может, в сотый раз чей-то знакомый голос распевал рекламу сладкого химического напитка: «Оазис, Оазис, Оазис, Оазис…»
Как объяснили мне всезнающие аборигены, толстый человек, поющий рекламу, был родным сыном той самой ученой дамы, которая все знала про детей и подростков…
Помню, что уже тогда с неизбежностью пришли мне в голову среди прочих небезразличных мне детей эти трое сирот, эти прошедшие сквозь огонь и ад и мерзкие страхи приемные дети самоотверженных супругов Фрисеро. Как им всем пришлось в новом, «переходном» аду? Уж наверное не легче, чем нашим. Чем всем нам…
– Нет, не легче, – подтвердил мой друг Пьер, – К тому же у приемных детей, у них особая чувствительность, свой счет к жизни… Они недоверчивы. Их уже раз оставили. Они считают, что бросили… Они ждут нового подвоха… Так что у них особые трудности. Вдобавок могли быть и последствия детской травмы.
Я озадаченно молчал.
– Ты хочешь сказать, что французские биографы об этом не пишут? – истолковал мое молчание друг Пьер, – Возможно. Возможно. У нас не принято…
– Нет, у вас не принято… И что может быть последствием травмы? Расстройство?
Пьер порылся в неизменном своем портфеле, который он вечно прогуливает, как нисуазские дамы собачек (а может, он просто прогуливает меня по дороге на работу, по дороге с работы: детей надо подкармливать, даже взрослых… А когда их пятеро…)
– Вот она! Вот она!
Пьер извлек из портфеля довольно толстый американский томик с романтическим названием «Опаленные пламенем».
– Бестселлер? – спросил я безо всякой зависти. У меня уже были в Москве бестселлеры, за них платили так же неохотно, как за любые обреченные книжки. Кей Редфилд Джемисон.
Я взглянул на последнюю обложку. На крошечной фотографии можно было разглядеть счастливую авторшу Кей Джемисон. Это была молодая симпатичная блондинка, и она широко улыбалась, как положено белозубой американской блондинке. Краткая подпись сообщала, что авторша не всегда так улыбается, а пишет и вовсе о предметах вполне невеселых – о душевной смуте, о самоубийствах, о маниакально-депрессивном психозе. Даже читает об этом лекции на медфаке университета Джона Хопкинса… Я снова перевернул книжку и вслух прочел подзаголовок:
– «Маниакально-депрессивный психоз и художественный темперамент». Стало быть, про художников?
– Про художников, поэтов, прозаиков, композиторов… Но теперь стараются не называть это психозом. Называют не так страшно, и притом вполне политкорректно. Называют расстройством. Биполярным расстройством. Два полюса – гипоманиакальное состояние и депрессивное… Иногда называют циклотимией…
Я проглядывал список художников, искал Никола де Сталя. Нашел его в последнем столбике, рядом с Марком Ротко и парижанином Паскиным. Все трое покончили с собой… Но и в целом компания была не слабая. Наряду с Гогеном и Ван Гогом, там были Байрон, Толстой, Тургенев, Блок, Маяковский, Фолкнер, Хемингуей, Лермонтов, Пушкин, Цветаева, Мусоргский, Глинка, Чайковский, Рахманинов, Ибсен, Горький, Гумилев, Есенин, Мандельштам, Батюшков, Бодлер… По части художественного темперамента список был вполне убедительным. И русские занимали в нем вполне почетное место. Но вот по части симптомов… Впрочем, кто наблюдал их по-настоящему, этих одаренных бедолаг?
– Она и сама, твоя американка… – сказал я без особой убежденности.
– Да, она тоже немало намучилась, – мирно сказал мой друг Пьер, – Но она подлечилась и хочет помочь собратьям по страданию. Она считает, что надо лечиться, психотерапевт учит находить равновесие. Есть и лекарства, есть психотропные препараты, есть литий… И главное – не допустить самого страшного… Она даже книгу особую написала о самоубийцах.
– За чем же дело?
– О, тут огромные трудности. Пациента нелегко убедить даже сходить к врачу. Особенно когда он в гипоманиакальном состоянии, в возбуждении, на подъеме. У него такой прилив сил, он так работает, он все может. Бешеная энергия. Он в кайфе. Эйфория. Он почти не спит. А какие любовные успехи… Пойди уговори его угомониться… При этом, конечно, и вспышки гнева. И переоценка собственной личности… Ну, а потом наступает спад, депрессия, подавленность, чувство беспомощности, страх перед будущим. Вообще страхи, слезы… И очень опасен переходный период, между стадиями.
– Это что, раньше не лечили, не замечали? – спросил я.
– Биполярное расстройство первыми описали два медика-француза каких-нибудь полтораста лет тому назад. В конце позапрошлого века немецкий психиатр Крепелин придумал для этой беды название: маниакально-депрессивный психоз (МДП). На нынешний слух некорректно, некомильфотно: психоз, маньяк, депрессия… Так что теперь говорят: «биполярное аффективное расстройство» или БАР. Но симптомы все те же…
– Кое-что ты мог бы назвать…
– Думаю, ты уже и сам заметил при чтении всех этих биографий…
– Не только при чтении. Были друзья…
– Значит, помнишь… Быстрая речь, неудержимое многословие, ассоциации скорее механические, чем смысловые, бессонница… Дальше больше: мысль скачет, человек без конца шутит, смеется, но вдруг – вспышка гнева. Идея величия. Во всяком случае, переоценка собственной личности. Дальше хуже – обрывки слов, неистовство… А при депрессии наоборот: настроение подавленное, движения заторможенные, работоспособность падает. Речь замедлена, вообще человек немногословен. Тоска и тревога, самоуничижение, самобичевание… Вплоть до самоуничтожения… Конечно, есть много вариантов, множество оттенков расстройства… Как впрочем и причин, его порождающих.
Мы оба молчали, попивая какао, которое здесь с гордостью зовут «горячим шоколадом».
– Что ты там бубнишь? – спросил Пьер.
– Одна старая песенка.
– О чем?
– Все о том же. «Я все равно паду на той, на той далекой, на Гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…»
– Кто написал?
– Мой любимый поэт… Она у меня вообще сейчас неотвязно в памяти, эта песня. Как и все эти твои симптомы. А когда-то я о ней говорил с автором. Со знаменитым поэтом. С любимым поэтом. Рассказать?
– Расскажи, – усмехнулся Пьер благодушно.
– Это было осенью. Поздней осенью. В тот день холод был сучий. И такой ветер с утра…
– Где это было? В Париже? В Ницце?
– Еще в Москве. Мы только что разошлись с женой…
– Понятно. Жена ушла к богатому, – уныло пошутил Пьер.
– А у вас тут что, к бедным уходят? Как в кино?… В общем, мы разошлись, но мне еще разрешали брать пацана из школы после уроков. Забирать и отвозить к бывшей теще на Речной вокзал. А в тот день я чуть не опоздал к концу уроков. Читал «Аду» Набоковскую, спохватился и бегом – троллейбус, метро, троллейбус… Школа была на Ленинградском проспекте, за Войковской. Прибегаю. А там пустырь был такой в стороне от Ленинградки, а на нем школьный бункер, обнесенный проволочным забором. Гляжу на часы – даже раньше времени прибежал. Можно сказать, первый. Гляжу – нет, еще один папаша идет вдоль проволоки. Маленький. С усиками, Он самый и был, этот поэт. Его Антоша в одной школе с моим Антошкой учился. Так что мы были знакомы. Шапочно. Он подошел, поздоровались, и я вдруг вспомнил ночное чтение. Говорю: «Знаете, я тут вашу песню нашел у Набокова в романе. Он ее перевел. Я вам сейчас покажу». Достаю «Аду» из портфеля… Надо тебе сказать, что я до самого инфаркта все в портфеле таскал, все, вплоть до словарей и продуктов питания. Это уж после инфаркта единственный русский доктор Парижа Лиза Кишилова портфель у меня отобрала и больше носить не велела… И вот я вынимаю «Аду» и показываю ему это поразительное место в романе, где его песня… Там героиня со своим возлюбленным братом приходят в русский ресторан, где среди прочего русского поют «частушки безвестного русского гения». И дальше в переводе на английский кусок из этой песни, где про «комиссаров в пыльных шлемах». Там еще про острый локоть трубача, и Набоков пришел о в такой восторг, что даже комиссары ему не помешали…
– А кому они могли мешать?
– Мне они мешали. Кабы они еще были в своих кожаных куртках и фуражках… Если б они его убили и проверяли качество работы, как у Платонова, другое дело. Впрочем, он ведь и сам был из комиссарской семьи, наш поэт… В общем, он попросил прочитать ему по-английски, и я стал бубнить… А там фокус звукоподражания. Звучит по-английски, как по-русски. Он сперва даже не поверил. Заставил перечитать. Вот там, к примеру, по-русски «когда трубач отбой сыграет», а в английском «when the true batch outboy the riot». Похоже?
– Похоже, – Пьер усмехнулся. – Но может, это у тебя такой русский английский.
Я конечно, завелся с полоборота.
– Ты что? Я не в вашей бедняцкой Сорбонне учился. Я учился в московском инязе имени Тореза. Был у вас такой ученый. Не помню уж, чем он занимался…
– Он был генсек, – сказал Пьер. – Исключал меня из компартии… А ты считаешь, что он тогда и получил свою травму, твой бедный герой?
– Я так думаю. От нее и сегодня еще страна не очухалась. А скоро уже сто лет…
– Может быть, – сказал Пьер. – Но знаешь, если б он не пережил всех этих страхов, может, не было бы потом взлета его таланта. Может, тогдашние его страдания не прошли даром. Оказались креативны, созидательны. Так думают Кей Джемисон и многие другие. Профессор Джером Каган из Гарварда говорил, помнится, что креативность замешана на боли подросткового одиночества… Важны ситуации, которые называют «вызывающими». Так что мы должны быть им благодарны…
– Я против.
– Я, пожалуй, тоже, но кто у нас спросит?
Мы вышли на набережную. В стороне аэропорта догорало кровавое полотнище заката.
– Как звали твоего поэта? – спросил Пьер.
– Булат Окуджава. Весь мир его знает…
– Теперь и я буду знать, – смиренно сказал Пьер.
Глава 14. Женщина, ваше величество…
Думается, что как раз в ту пору, когда Никола лечил в Маракеше пораненную ногу, он и встретил Жанин, которая взяла на себя заботы о нем. Можно предположить, что и сообщение в письме домой о том, что «Жан оказался хорошей сиделкой» было вполне безобидной шуткой: не Жан, а Жанин, о которой еще долгое время в семье и слыхом не слыхали.
Впрочем, похоже, что и самым осведомленным из биографов (скажем, их дочери Анне) мало известны обстоятельства их знакомства.
Анна сообщает в своей книге, что Жанин пригласила Никола посмотреть ее живопись, и он был поражен серьезностью ее творческих усилий. Далее Анна сообщает, что живопись их была несходной и что они не влияли друг на друга как художники. В высшей степени академичный взгляд на любовь…
А где они впервые увиделись? Может, бедняга приволок свою раненую ногу на многолюдную площадь Джамна-эль-Фна, в огромное, царящее над базаром кафе, где и нынче собираются туристы. А может, она приметила на улице этого большого, красивого и беспомощного сироту, страдавшего от боли и взывавшего к материнской помощи. Увидела и пожалела. По-русски это почти то же, что полюбила. А он позволил себя пожалеть и полюбить, несмотря на свою баронскую заносчивость…
Ну да, вероятно, она привела его в этот пропыленный, убогий шалаш, где она, обугленная солнцем, царила среди мужчин – единственная женщина, бродяжничающая бретонская королева в шалаше бродячих художников-поляков. Королева пропыленного шалаша была женой одного из художников и матерью их пятилетнего сына. Очень высокая, очень худая, с яркими и печальными глазами…
Мы ничего не знаем о том, как складывалась ее семейная жизнь до появления этого долговязого русского бельгийца с не слишком русским именем фон Хольштейн..
Мужа ее звали Олек Теслар, сына Антек, они бродили с друзьями-художниками по марокканскому захолустью уже добрых три года. Может, это из-за ее болезни легких выбрали они для странствий жаркое Марокко. Но может, и впрямь, именно художественные поиски гнали ее дальше и дальше по пыльным улицам Маракеша, по раскаленной пустыне. Так или иначе она круто переменила судьбу, и свою, и всей своей бродячей семьи: ушла за этим бедным, раненым, оказавшимся в тупике и вконец обнищавшим молодым парнем, бросила мужа, отправила во Францию, к не слишком ее причудами довольным родителям своего ставшего обузой пятилетнего сына. Мы мало знаем, кроме того, что в Бретани были озадачены таким поворотом событий и не готовы к нему.
Биографы сдержанно сообщают, что Никола понравились ее картины. Что потом он позвал ее за собой. Или что она его позвала, оценив его талант. Позвала куда?
Она не слишком знала, куда идти, да и он не знал. Он вообще, пожалуй, был на мели… Он знал только, что не хочет возвращаться в Бельгию, а хочет просто идти, идти, странствовать без конца. Что-то видеть в пути, что-то узнавать, чему-то учиться. Странствие смягчало боль, смиряло тревогу. Мир был открытым, бескрайним и полным чудес. Можно было пройти через всю Персию, уйти в Индию. И она решила, что будет идти за ним. Кто и что может остановить влюбленную женщину?
Нетрудно догадаться, что она была старше его. По документам всего на пять лет, но по зрелости – намного больше. Она и живописью занималась намного дольше, чем он. Если в этой сфере человеческой деятельности существует некое «уменье», то она и умела много больше, чем он. Могла какой угодно краской нарисовать и написать не только лошадь (как шутливо сообщал о себе Никола), но и мужчину, и женщину, и кусты, и деревья, и море, и скалы, и касбы… Он верил в ее талант и позволял ей учить себя. Она же, влюбленная женщина, не сомневалась в его гениальности, которая должна была раньше или позже стать очевидной для всех.
Её вере суждено было восторжествовать. С печалью напомню только, что прекрасная эта женщина не дожила до часа своего торжества. Что могу сказать в утешенье тебе, читатель? То, что мы все смертны? Что он все же сумел написать два-три ее портрета? Что, убив себя через десяток лет после ее смерти, он вернулся к ней, в общую их могилу на кладбище в Монруже?
А сейчас оглянемся через худое, загорелое ее плечо назад – чтоб увидеть, откуда она пришла, спасительница…
Жанин Гийу была родом из бретонского города Конкарно, что на западе Франции, на берегу Атлантики. Крепость-цитадель Конкарно была построена прославленным военным архитектором, маршалом Франции Вобаном на былом острове Конкарно, на пути у врагов-англичан. Это было в XVII веке. Цитадель и ныне красуется в Закрытом Городе. Маячат над тихой водой канала могучие башни, Майорская и Губернаторская, гроза былых пришельцев с Британских островов. А новые пришельцы-англичане что ж? Они не враги, они кормильцы, докучливое племя туристов. Еще кормит город рыба: третий рыболовный порт Франции, а по улову тунца, пожалуй что, и первый. Так что есть в городе и консервная фабрика, и предприятия, выпускающие всякую рыболовецкую снасть и спецодежду. А за стенами романтического, таинственного Закрытого Города (недаром же французский король детектива Жорж Сименон загнал на его ночные улицы свою «Желтую собаку», нагнетая чувство тревоги и тайны), вне его стен тянутся богатые дома ушедших веков. В одном из этих домов и жили Гийу, не последние люди в городе. Прадед бродячей художницы Жанин почтеннейший Этьен Гийу был мэром города и кое-что сделал для его усовершенствования. Отец Жанин был моряк, много странствовал, дослужился до контр-адмирала, а выйдя на пенсию, увез семью в теплую Ниццу, где юная бретонка (внешне, впрочем, похожая на нисуазку) брала уроки в школе декоративного искусства. Там она и мужа себе нашла, в свои неполные девятнадцать. Мужем стал ее преподаватель рисунка, метущийся художник-поляк Олек Теслар.
Ее увлечение искусством началось еще до Старой Ниццы, куда переехала семья Гийу. Оно пришло из бретонского Конкарно и его окрестностей, ставших к концу XIX века еще одной меккой не только французских, но и заморских живописцев, а также знаменитых маршанов и великих поэтов, о которых слагали легенды на Монпарнасе. В крошечных селениях, вроде Ле Пульдю и Порт-Манека, в прославленном Порт-Авене и, наконец, в самом Конкарно художников было множество, да еще каких (скажем, Поль Гоген). В Порт-Манеке жил одно время американский меценат, изобретатель и богач доктор Барнс, который прославился тем, что сумел оценить и вывести к славе нищего уроженца польско-белорусского местечка Хаима Сутина, При этом меценат настолько проникся красотой бретонского прибрежья, что велел построить себе в Пенсильвании точное подобие здешнего жилья. Еще в больший восторг приходил от здешних мест лечивший здесь свою военную рану молоденький лейтенант Костровицкий, вскоре ставший прославленным поэтом Аполлинером, вдохновенно описавшим берега здешней речки Оде («синей как молитва», «суденышки Беноде с парусами цвета лазури») и походя подкинувший чистой публике, умеющей выговаривать неодносложные слова, роскошное слово «сюрреализм»… (Как вы, быть может, заметили, мы подбираемся к корням и художественным поискам верной подруги нашего героя, а стало быть, и его тоже).
В 1870 году в Конкарно два художника-бретонца Альфред Гийу и его свояк Теофиль Дейроль основали международную колонию художников, среди которых были как французы (Эрлан, Ле Гу, Лабин, Гунье), так и самые разнообразные иностранцы (Гиршфельд из России, Фромут из Америки, Томпсон аж из Новой Зеландии). Искусствоведы называют их Первым поколением из Конкарно, а к 1920 году обозначилось уже и Второе поколение (Барнуан, Дельни, Менардо, Ассулен, де Беле, полотна которого приобрел Кемперский музей). Альфред Гийу был учеником самого Кабанеля, а Теофиль Дейроль уже с 1876 года выставлялся в Салоне. Это я все к тому, откуда вышла подруга и наставница нашего героя Жанин Гийу…
Неудивительно, что унаследовав неплохую академическую школу, Жанин не осталась глуха к соблазнам кубизма: ведь и бунтующий Понт-Авен был здесь совсем неподалеку. И сама Жанин и ее друг и кузен Жан Дейроль, объявившийся в Северной Африке в пору ее путешествия с Никола, уже пришли к поискам новых форм построения полотна. Так что, Никола нашел у влюбленной в него художницы не только веру в свой талант, но и безоговорочную поддержку всех его, пока еще довольно неопределенных, исканий. Эта поддержка объясняет отчасти то, что августовское письмо Никола отцу из Маракеша звучит некой истинно прощальной, отчаянной решимостью разрыва. Вот она, эта декларация давно назревшего освобождения и прискорбной неблагодарности:
«Маракеш. 31 августа. Дорогой папа. Отвечаю позже, чем хотел, но рана моя заживала дольше, чем надеялся… Все пройдет и останется только жуткое воспоминание об африканских врачах, которые тут настоящие бандиты.
Каждый раз, как соберусь вам писать, не могу отделаться от желания промолчать и послать вам лучше рисунок, чем все эти долгие разглагольствования, которые не приводят ни к чему, кроме более или менее крупных недоразумений.
Да и вообще это последнее письмо, за которым должен последовать рисунок. Я знаю, что вы мне не доверяете и, может, станете доверять еще меньше, когда увидите мою работу, но Бог ведает, кто вложил в меня такую сильную уверенность и в этой предстоящей работе и в тех, что за ней последуют.
Я пишу вам то, что я думаю, И я вам пишу, что я работаю. Вы мне не верите и, может, в ваших глазах это не работа вовсе. Поэтому мне так трудно вам писать. Вы так добры, папа, что мысленно я стою перед вами на коленях, как тот человек, который писал Святому Игнатию. Мне нечего вам сказать, просто нечего, и мне кажется неловким вам писать о берберской архитектуре, о горах, о перевале Ветров, о перевале Прерий, о городе, где щебечут сто пятьдесят видов птиц – как рассказывать, если вы так мало мне верите, считая все мои рассказы завиральными и дилетантскими.
А я не могу даже показать вам, какой я сделал прогресс в моей жизни и теперь я вернусь лишь через много лет.
Дорогой папа, я ничего не могу вам сказать, ничего объяснить, вы сделали для меня больше, чем сделал собственный мой отец; мне грустно от того, что я такой как есть и что я не могу быть лучше.
Господин Брувер был добр ко мне, и я с ним обойдусь «по хорошему». Но во мне сидит кто-то другой, который создает рисунки, и этому другому совершенно безразличны те тысячи соображений, которые важны для меня.
Вы как-то предложили послать мне немножко денег, чтоб «подкормить зверя». Без этого я никогда не обратился бы к вам с просьбой. Если вы по-прежнему считаете, что зверь заслуживает кормления, высылайте мне двести франков в месяц, вы мне этим сильно поможете. Если нет, скажите мне просто, чтоб сам выкручивался, но не просите меня вернуться; потому что честно говоря, я собираюсь еще долгое время отсутствовать, в лучшем случае не прекращать путешествий…»
Окрепшая решимость не прекращать странствий по Марокко, так же, как и другие благие решения, принятые Никола (скажем, закончить наконец рисунок, уладить отношения с тем внутренним человеком, который создает рисунки, обойтись без денежной помощи из дома и т.д.), разбилась вскоре о непреодолимые препятствия, так что эта мучительная (для них обоих) переписка отца с сыном продолжалась еще много месяцев.
Той же осенью 1937 года выяснилось, что кончился срок марокканскской визы, полученной Никола в Брюсселе, и что здешние власти не собираются ее продлевать. Никола и Жанин пришлось перебраться в Алжир, откуда в конце сентября Никола сообщал отцу:
«… я намерен был отправиться в Индию, через Алжир, Тунис, Египет, Персию, проходить неторопливо, этап за этапом. Один Бог знает, удалось ли бы мне это осуществить. Теперь не я принимаю решения, но эти любезные чиновники, которые дают визы. Так что я пока в пути: Касабланка, Фес, Ужда, дальше морем, Порт-Саид, Тлемсен, Алжир. Здесь очень любезный бельгийский консул, он любит живопись и много внимания уделяет художникам. Тлемсен очень красивый город, лежит в предгорье над изумрудной долиной, небольшие, тщательно возделанные поля, вся дорога красива.
… порт огромный. Свет проливается на него с неба, как крупные капли дождя в Бельгии, яркая окраска судов, все как во сне. Множество мелких суденышек и больших сухогрузов, которые медленно входят со стороны моря, и горы, и солнце, оно встает каждое утро и застывает над городом, который белыми уступами спускается к морю. О Боже, как прекрасен, папа, этот мир, прекрасны все виды его деятельности, и портовые машины так же прекрасны, как деревья. Я пишу вам слишком торопливо, ибо спешу увидеть как можно больше картин и книг. Все это просто скандал, как любит говорить Долгоруков, все, что творится в мире, но как великолепен этот скандал.
Я напишу маме длинное письмо, и пусть вас не удивит, если следующее письмо придет из Туниса или из Рима. Я буду там, куда эти вездесущие «заседатели с любезными улыбками» позволят мне ехать.
До свиданья, папа, спасибо за двести франков, которые я получил перед отъездом в Маракеше. Крепко целую вас, маму, Ниссона, от всего сердца».
«Заседатели с любезными лицами» – русские слова, записанные с ошибками (а может, набранные с ошибками), возвращали отца и сына в те не слишком далекие времена, когда они еще вместе читали по-русски Гоголя. Письмо предупреждало о том, что общению их пришел конец. И все же, где-то в Северной Африке вдруг вспомнились ему эти русские «заседатели»…
Потеребив на столе затрепанный польский паспорт Жанин, полученный ею в Варшаве после свадьбы с Олеком Тесларом, и нансеновский паспорт Никола с просроченной марокканской визой и без должных отметок о странствиях, бельгийские «заседатели» разрешили паре обгоревших дочерна художников переплыть из африканской красоты в другую, европейскую, в неаполитанскую красоту.
… Четыре с лишним месяца спустя, в дождливый февральский день, сидя в огромном мраморном зале неаполитанской почты, Никола писал новое письмо отцу. Он получил денежный перевод, подкрепился большим куском хлеба с кальмаром, оглядел Везувий, засыпанный снегом, опустевшие рыбные ряды на базаре, костры под арками улиц, у которых грелись рыбаки, мокрые улицы, мокрые палубы судов, и написал отцу грустно:
«Вы, наверно, хотели бы знать, что происходит в мозгах всех этих людей, которые водят хоровод по этой земле, я посылаю вам газеты. В жизни Неаполя можно увидеть все виды лжи, болезни и порока, которые как мне кажется отпечатались на лицах здешних моряков, рабочих и всей припортовой швали, всех здешних молодцов.
Мне-то на самом деле хотелось бы увидеть фрески, найденные в Помпеях, в Пестуме и во многих других местах, а также те, что выставлены в здешних музеях.
Первое мое впечатление вполне отрицательное, я снова и снова гляжу на них, но после того, как я копировал фламандские примитивы, где каждый штрих порождает эмоцию и возвышает, открывается навстречу сердцу, а тут, Бог мой, все, что я вижу не приближается даже к самому слабому из того, что я находил у Виргилия…»
В общем, ни итальянская архитектура, ни великолепный Пестум, ни Помпеи не трогают Никола, как трогало его Марокко, однако он собирается здесь жить долго, с упорством копировать полотна Тициана, Эль Греко, Мантеньи, Антонелло де Мессины и прочих, хотя они не так близки его сердцу, как фламандцы, голландцы, Рембрандт, Ван дер Меер…
Отчего ж тогда не вернуться? – спросите вы. Папа Фрисеро, кстати, об этом самом и спрашивает в своих письмах…
Нет, возврата нет… Он перебьется. Он собирается долго что-то копировать, долго где-то путешествовать, домой он никогда не вернется. Как он будет жить, на что? Это ему самому неизвестно…
«Что бы я ни натворил, я думаю, я всегда буду оставаться хорошим парнем, и если я никогда не стану господином или джентльменом, я буду выше этого, – гордо и обиженно пишет он отцу. – Волна, которую вы во мне чувствуете, она выйдет в один прекрасный день на поверхность, и может, этот день уже недалек. На этом я должен с вами проститься, милый папа, всегда хочется рассказать вам множество мелочей, но из них и складывается все та же борьба за достижение далекой цели, которой никогда не удастся достигнуть. Еще раз спасибо за вчерашнее письмо. Нежно вас целую. Никола».
Не слишком вразумительно, но вполне печально…
После Неаполя Никола и Жанин переехали в Фраскати, что близ Рима, сняли комнату, накупили красок. Никола сообщает в письме отцу, что продал какому-то немцу свое неоконченное полотно. И конечно, просит новых субсидий. В более или менее замаскированной форме все письма об этом… Оно и понятно. Все труднее становится «кормить зверя». А Никола хотелось бы вдобавок снова побывать в Помпеях, осмотреть весь берег до Капри… Долгие путешествия обходятся дорого. Кстати, Никола нигде не упоминает о том, что он теперь не один.
Отец, видимо, упрекает его в письмах, что он никак не может закончить картину, что он продает незаконченное, что расходы его растут.
«Я уже давно понял, – отвечает Никола, – что должен научиться сам зарабатывать на хлеб и воду и что мне никогда не удастся по-настоящему кончить картину прежде, чем ее продавать или ставить на продажу. Не напоминайте мне больше об этом».
Однако напоминает он сам. Рассказав в том же письме о встрече в Италии со своим 82-летним дядей, Никола возвращается к неизбежной проблеме выживания:
«В среду истекли сроки платы за комнату. Если я не получу денег, Бог знает, что мне делать. Полагаю, что я в последний раз прошу вас помочь мне, но если по получении этого письма вы смогли бы послать немножко денег авиапочтой или чеком в лирах через итальянский банк, я был бы признателен. Если это сердит вас, не делайте этого, но мне так нужны деньги, что даже телеграфный перевод был бы удобен, если вы сможете. Прощайте, милый папа, целую вас с нежностью. Поздравляю с пасхой. Маме я напишу. Никола».
Как ни мало доверяли родители всем этим якобы забавным итальянским историям о глупом немце, купившем у Никола недописанное полотно, главное они поняли: положение у сына отчаянное. Откуда им было знать, что их двое и что если им что-то и удается продать, так это картины Жанин. Что Никола пока еще только учится и долго будет учиться живописи. Что же касается бедняжки Жанин, ей до безбедной (хотя бы без долгов) жизни, увы, дожить было не суждено. Кстати, выживать в небогатой Италии оказалось намного труднее, чем в нищем Марокко. Даже неунывающая Жанин признавалась в одном из писем кузине:
«Несмотря ни на что решила, что выброшусь в окно как можно позже».
Чтобы развеселить кузину, она сообщает в том же письме, что благодаря их высокому росту (ее рост176 сантиметров) и длинному имени Никола (который с неизменностью сообщал, что он «фон Хольштейн»), все принимают их в муссолиниевской Италии за союзников-немцев («тедески») и оттого встречают с большим гостеприимством…
Счастливый народ итальянцы. Я облазил всю Италию автостопом на 60 лет позже, чем Никола и Жанин, и меня принимали там еще гостеприимней и жизнерадостней, чем их, потому что я был человек из Москвы («да Моска»), а в Италии, кажется, все, или почти все, были тогда коммунистами. То, что я при ближайшем знакомстве оказывался скорее антикоммунистом, чем коммунистом, никого не смущало (был бы человек хороший, тем более, из Москвы).
Что касается наших героев, Никола и Жанин, им пришлось уносить ноги на север, как только пришли деньги из Бельгии. Перед самым отъездом, облегчая свой багаж, поневоле скопившийся за годы странствий, они отправили один ящик с картинами в Бельгию, барону Бруверу. Что уж там были за картины, Бог его знает. Французские биографы об этом дружно умалчивают. Скорее всего это были непроданные пейзажи Жанин, а не учебные опыты Никола, далекие от завершения.
Эксперимент выживания был продолжен ими во Франции, где их тоже не ждали ни распростертые объятия родных, ни толпы меценатов-поклонников.
Их вполне равнодушно встретил более или менее знакомый им обоим Париж. Они снимали комнатки в самых дешевых отелях, вроде «Примаверы» на рю Алезиа, размещались то в чьей-то на время уступленной им мансарде, то в комнатке на рю Верней… Было так тесно, что писать мог только один, другой отдыхал или читал. Никола штудировал книгу Пауэрса о построении художественного полотна…
Как иностранцу с нансеновским паспортом Никола необходимо было получить какое ни то разрешение на жительство. Для этого он снова стал студентом и записался на курс в Академию Фернана Леже. Былой обитатель нищенского парижского «Улья» Леже к началу новой войны был уже знаменитостью. Он оформил шведский балет и создал фильм «Механический балет». Разнообразная механика (всякие болты, кронштейны, шурупы, станины, сверла) вообще переполняла его плоские полотна, формировала прямоугольные роботоподобные фигуры, склоняясь, впрочем, со временем к криволинейному кубизму с одной стороны и к коммунизму с другой. Понимая несовместимость последнего с отклонениями от реализма, он разумно продолжал обитать на Лазурном Берегу Франции, настоятельно рекомендуя соотечественникам жить только при коммунизме. Никола де Сталь не сумел увлечься стилем Леже. Впрочем, знаменитый мэтр и не слишком обременял своим присутствием академический девичник на рю Мулен Верт (Никола был в Академии Леже единственным представителем сильного пола). Царствовала в его отсутствие бывшая модель и ученица (а потом и жена мэтра) Валентина Ходасевич. Главный биограф де Сталя полагает, что Никола должен был симпатизировать этой соотечественнице. Может, так и было.
Когда я впервые приехал во Францию, соотечественница уже была вдовой и наследницей Леже, а также «гранд-дамой французской компартии». Мне попали на глаза всего два ее произведения, сходные по идее, и не очень интересные по исполнению. Первый стоял в витрине кассы «Аэрофлота» на Елисейских Полях. Это был портрет Ильича, сработанный из крупного галечника и мелких булыжников. Я отметил, что молодые русские кассирши относились к шедевру без уважения, но на покупателей-французов он производил не слабое впечатление. Второе произведение ассистентки Леже, с которым я познакомился через несколько лет в парижской печати, было произведением литературным (правда, в том единственном жанре, в котором не писал Чехов, – в жанре доноса). О его публикации позаботился знаменитый музыкант Ростропович. В этом тексте сообщалось, что в одном престижном парижском салоне вдова Леже встретила Ростроповича и его жену Галину Вишневскую, чьи высказывания показались мадам Леже недостаточно патриотичными, о чем она и спешила сообщить Кому Надо для того, чтобы впредь музыкант и его жена не смогли беспрепятственно выезжать за рубеж. Ростропович обнаружил это литературное произведение в подаренном ему (в минуты всеобщей растерянности) собственном его досье. Великого музыканта удивило не только то, что вдова точно знала Куда Надо писать в Москве, но и то, что Того, Кому Надо, она называла по имени отчеству. Может, это был тот самый отдел известного ведомства, где подыскивали подходящих жен для слабовольных французских интеллигентов, которые еще и в описываемый нами момент жизни молодого де Сталя (речь идет о весне и лете 1939 года) яростно «боролись за мир», отстаивая политику миротворца Сталина. После жаркого лета наступил отрезвляющий сентябрь, когда Сталин и Гитлер начали дружно делить Европу, отрезая от нее большие куски. Вскоре пришла очередь Франции. Началась война, которая французам показалась «странной». Огромную французскую армию загнали в окопы, над которыми кружили немецкие самолеты. У французов самолетов почти не было, и эта была только одна из странностей. Зато тогдашний французский министр авиации получил позднее Сталинскую премию мира… Не странно ли?
Жанин повезла в ту пору своего возлюбленного в Бретань, чтобы познакомить его с сыном Антеком и родителями. На вокзале их встречал кузен-художник Жан Дейроль, с которым Никола познакомился еще в Алжире. Парижские гости, видимо, рассчитывали долго прожить в Бретани, и Никола даже начал подыскивать жилье для приятеля-уругвайца. Но в просторном старинном доме семейства Гийу нового спутника дочери встретили довольно сдержанно. И впрямь радоваться родителям было нечему. Жанин бросила мужа, спихнула на родителей маленького сына, а теперь привела в дом нового нищего художника, с той разницей, что он не преподает, а только еще учится рисовать… Вот и сейчас он целый день пытается написать ее портрет, бьется и так и этак. Тем временем Жанин и ее кузен Дейроль спорят о геометрическом элементе живописи.. А на дворе война, и не слишком ясно, что будет с ними завтра…
Никола благоразумно решил, что в этой ситуации ему лучше не засиживаться в чужом доме, и один вернулся в Париж. В Париже он долго мыкался по чужим углам, одно время снимал ателье вместе со Сгарби, потом решил уйти в армию. Что ж, почти все фон Хольштейны воевали. На той или на другой стороне…
Как иностранец он мог служить только в Иностранном легионе. Он подал туда добровольцем и стал ждать своей участи. Из чужих домов, в которых он находил на время приют, самым просторным и удобным был особняк архитектора-декоратора Пьера Шаре и его жены Долли. Могло ли хозяину дома присниться в страшном сне, что года три спустя его любезный гость будет рубить топором двери этого дома, коллекционную, экспериментальную мебель, полки его библиотеки. Впрочем, Шаре мог увидеть в провидческих снах и кое-что пострашнее – Аушвиц, Дахау… На счастье, он поверил своим дурным предчувствиям и, закрыв дом на ключ, бежал за океан.
В те последние зимние дни 1939 года одинокий Никола обжил немало чужих опустевших мастерских. Было у него и несколько памятных встреч. Его познакомили с галеристкой Жанной Бюше. Позднее один из добросовестных биографов де Сталя нашел его имя среди многих других имен художников в записной книжке покойной Жанны. Биограф многозначительно отметил, что против имени Никола стоял крестик. Значило ли это, что она видела какой-либо его рисунок? Или просто то, что молодой бесприютный гигант показался ей привлекательным? Или что он был обходительным? Пойди угадай семь десятков лет спустя…
От внимания биографов не ускользнула памятная парижская вечеринка 1939 года, на которой присутствовал Никола де Сталь. В Париже тогда опасались воздушных налетов и соблюдали правила светомаскировки.
Романтично. Страшновато. Волнующе… Среди гостей, собравшихся в квартире мадам Хееринг на улице Томб-Иссуар, что в 14 округе Парижа, был младший брат известного эмигрантского писателя Владимира Сирина-Набокова Сергей Набоков (брат-писатель уделил ему не слишком много строк в своем блистательном автобиографическом романе). Сообщают также, что в тот вечер кто-то из гостей читал вслух русские стихи, в том числе, стихи Маяковского. Никола однажды упомянул в письме строку из Маяковского – во французском переводе. Похоже, что это был все тот же сборник переводов Бенжамена Горелого.. Так или иначе, русским биографам, писавшим о де Стале (скажем, Валентине Ходасевич-Маркаде), приходила на память фигура
Маяковского. Сравнения навевали черты сходства двух молодых авангардистов – рост, голос, странности поведения, «необъяснимое» самоубийство. Однако различий в их судьбе было больше, чем сходства. Маяковский, на его счастье, не был гонимым сиротой и радостно примыкал к гонителям. Зато де Сталя, на его счастье, никогда не заносило «под своды таких богаделен», в которых жировал Маяковский…
В январе 1940 года Никола был зачислен в Иностранный легион и отправился в Алжир, в Сиди-Бель-Абес, откуда направлен был в тунисский порт Сусс, в штаб первого кавалерийского полка, где ему и предстояло просидеть больше полгода – чертить полевые карты, играть в карты с сослуживцами и бездельничать.
Полвека спустя, лежа на пляже в тунисском Суссе или бродя среди античных мозаик в тамошнем великолепном музее, я иногда вспоминал историю де Сталя и удивлялся тому, что после отчаянной своей борьбы за Северную Африку он на казенный счет вернулся на этот берег и словно бы охладел ко всему. Может, виной армия?
Судя по фотографии, ему шли армейская форма и высокие кожаные ботинки.
Но видно, что-то происходило с ним на сей раз в Северной Африке, что отняло интерес ко всему и отняло силы. Ведь не только не осталось никаких рисунков и живописи, но и писем никаких не осталось. Интересовала ли его судьба тяжело больной Жанин, судьба сестер и приемных родителей, судьба друзей? Посещал ли он старинные памятники Магреба, так волновавшие его два года назад? Трогали его судьбы некогда вызывавших столь пылкие его симпатии арабских и берберских племен? Наконец, не интересен ли был сам Иностранный легион? Там было множество любопытных людей из всех стран Европы. Там были русские (даже русские аристократы).
Скорее всего, Никола переживал в то время очередную депрессию. Рутина казармы и службы, карт и штабного безделия помогли ему незаметно пересидеть серую полосу жизни. Жанин отмечала при встрече, что он поправился, окреп…
Можно также заметить, что он всегда был мало чувствителен к трагедиям, сотрясавшим планету, ко всему, что происходило за пределами его мира. В его собственном мире были свои нелегкие проблемы, и живопись должна была оказаться спасением от этих проблем. Остальное проходило где-то на границе сознания. Даже друзья, даже родители и сестры. Наверное, и больная Жанин тоже. Во всяком случае, упоминаний о ней не находишь у него до самого дня его демобилизации в сентябре 1941 года… Что уж тогда говорить о мировой войне, об униженной Франции, об ушедшей на дно Польше, о растерзанной России, где русские отступили за неполных четыре месяца до самой Москвы, оставив врагу богатейшие земли, промышленность, миллионы пленных…
Глава 15. До встречи, месье Жак!
Если покинув садик приходской библиотеки в Ницце, пойти по улице Лоншан в сторону моря, то не пройдя и ста метров, увидишь на левой стороне букинистический магазин месье Жака Матарассо – «Librаiriе Jасquе Матаrаssо». Увидев в первый раз эту вывеску, я почувствовал смятение. Матарассо! Кабинет мэтра Матарассо на улице Турнон в Париже, первые годы моей парижской жизни, работа над первой моей документальной «парижской» книгой – «Этот странный парижский процесс». Процесс называли «странным» (как и «странную» войну, которую незадолго до этого вела Франция), но как и позорная война, он был не просто странным, он был чудовищным. Три с половиной месяца в парижском Дворце правосудия, что на острове Ситэ посреди Сены, русские свидетели из лагерей «перемещенных лиц» тщетно пытались докричаться до французской интеллигенции, рассказывая ей о своей подсоветской жизни – о концлагерях, о насильственной коллективизации. Работая над книжкой, я заходил к бывшему адвокату коммунистов мэтру Лео Матарассо. Эти визиты через сорок лет после процесса были для него мучительны.
– Ну вот вы утверждали… – приставал я к нему.
– Мы говорили и делали много глупостей, – говорил старенький мэтр Матарассо.
– И подлостей, – приставал я, – Знаменитый Пьер Дэкс сказал мне вчера, что это было преступление против человеческого духа…
– Может, и так. Не выпить ли нам кофе?
Мне было его жалко. А он… Может, он жалел меня, зная, что все глупости повторяются бесконечно.
И вот вывеска – Жак Матарассо, родственник мэтра Лео… Мы в Ницце. Мэтр уже там, где нет споров. А глупости, те же самые, повторяются бесконечно. Только вчера слышал то же повторение споров. Причем, где? По радио «Свобода». Какая-то Ольга Эйдельман…
Все же, отбросив воспоминания, я зашел в эту лавку древностей Жака Матарассо, что на улице Лоншан в Ницце. Зашел и не пожалел о своем любопытстве. Теперь часто туда захожу, когда открыто…
Милейший оказался человек, этот букинист и антиквар Жак из левой семьи Матарассо. Похоже, он многое понял к своим 95. Жить надо долго…
В начале Второй мировой войны (то есть 70 лет тому назад) он перебрался из Парижа в Ниццу и открыл на улице Альберти книжную лавку «Стихи и проза». Был тогда молодой Жак, как все прочие Матарассо, нормальным коминтерновским коммунистом. Так что даже и к знаменитому здешнему Сопротивлению довелось ему прикоснуться, а таких во Франции было немного, не больше полпроцента от всего вполне мирно выживавшего при немцах населения. Впрочем, в 1940 еще и немцев тут не было в Ницце: была петеновская «свободная зона», а потом не слишком дотошные, не слишком идеологизированные и даже не слишком неподкупные итальянцы. Так что молодой, энергичный букинист и антиквар Жак Матарассо открыл в Ницце на улице Альберти букинистическую лавку, не такую, конечно, лавку, как была у его отца в Париже на рю де Сен, там, где он ремеслу своему обучился и где было столько редкостей, но лавку все же сумел открыть: благоприятный был момент для французской культурной жизни. Во-первых, торговля шла бойко, куда еще вложить деньги. Во-вторых, Ницца тогда кишела знаменитостями, и все киты искусств и культуры проходили через лавку молодого, симпатичного, вольномыслящего парижанина Жака Матарассо.
– Настоящий был клуб авангардного искусства! – с гордостью сказал мне месье Жак.
– И Ганс Арп у вас бывал, и Клее, и Делоне, и Жерар Филипп, и Превер, и Карко? – спросил я уважительно.
– Спросите лучше, кто не бывал! – воскликнул девяносточетырехлетний живчик месье Жак Матарассо, загоняя меня в угол своей лавчонки.
– И молодой де Сталь тоже бывал? Никола де Сталь?
– Ого-го! Сталь? Да это целая история! – воспламенился старейший антиквар Ниццы, – Может, главная история. История удачи. История жизни… Но только…
И тут, уже приготовившись выслушать эту историю, я заметил, что мой почтенный рассказчик с беспокойством смотрит на часы. Что он теряет всякий интерес к разговору.
– Жена ждет ровно в двенадцать к обеду, – сказал он. – Мы вот что сделаем… Приходите завтра с утра, , ,
Месье Жак мгновенно исчез, и я остался в лавке наедине с его симпатичной дочерью Лорой.
– Конечно, – сказала она, приветливо улыбаясь. – Обед есть обед. Приходите завтра.
Я снова оказался на улице Лоншан и пошел куда глаза глядят, печально размышляя о собственной неловкости и тридцати годах французской жизни, так ничему меня и не научивших. На часы надо глядеть. Ровно в полдень у людей доброй воли обед, и никакие воспоминания, даже самые волнующие (скажем, о том, как осрамилась и оскоромилась могучая Франция в пору войны, или о том, как проснулся в душе Никола де Сталя здесь, в Ницце, тот самый внутренний человек, который вдруг так славно начал писать красками) – никакие воспоминания не должны нарушать привычного хода человеческой жизни. Девяносто четыре года подряд человек обедал (завтракал, ланчевал, перекусывал) ровно в полдень, как же тут не спешить в полдень домой? Пошли ему Господь еще десяток-другой лет этой мирной жизни на берегу, пошли и нам всем, Боже Наш Милосердный…
Что же до Никола де Сталя и до милой его Жанин, до первых его картин, до первой его картины, до первой дочери и до последнего его вздоха – все случилось на этом же сладостном (Лазурным его зовут) берегу. Конечно, это целая история и нам пора к ней вернуться…
Глава 16. Дом на улице Буасси д\'Англас
После отъезда Никола из Конкарно в Париж Жанин слегла надолго. Воспаление легких, вообще слабые легкие, перебои в сердцебиении – плохи были ее дела. Семья за ней ухаживала добрые полгода, и казалось, что надежды на выздоровление мало. Летом вызвали из Ниццы ее сестру Сюзет, помогать в уходе за больной, которой никак не становилось лучше. К концу лета Сюзет стала собираться домой, Жанин упросила взять ее с собой в Ниццу вместе с сыном. Она надеялась, что ривьерское солнце поможет ей, наконец, встать на ноги. И действительно, еще в дороге отчасти вернулся интерес к жизни.
В Ницце, благодаря высоким связям одной из старых ее подруг (тетка ее была замужем за крупным вишистом, самим Пьером Лавалем), Жанин удалось обменять свой польский паспорт на французский. В новой «национальной Франции», которая пришла на смену наскучившей массам «интернациональной», лучше было быть чистой француженкой, чем непонятно кем.
По приезде в Ниццу Жанин и Антек жили у родных на улице России, но уже в конце сентября в Ницце объявился Никола, и тогда они с Жанин сняли первую свою семейную квартиру близ железнодорожной линии, в пяти минутах от городского вокзала Нис-Виль, на улице Буаси д\'Англас. Квартира была трехкомнатная. У десятилетнего Антека была теперь своя комнатка, у Жанин и Никола одна на двоих, а в гостиной, по ту сторону коридора они устроили ателье. Жанин была еще совсем слабая, но вскоре она начала снова писать пейзажи, и маршан Мокер с улицы Массена даже подписал с ней контракт. Глава семейства барон де Сталь тоже зарабатывал на жизнь время от времени: то красил стены, то лакировал мебель в магазине антиквара Дрея на улице Пасторелли. Настоящая фамилия Дрея была Дрейфус, но при итальянской оккупации еврей еще мог надеяться уцелеть. Евреи из северных районов Франции и из Восточной Европы, хоть и не вовсе без страха за жизнь, выживали пока и в самой Ницце, и в Сен-Мартен Везюби, и в других маленьких городках Лазурного Берега. Иван Бунин держал у себя на даче в Грасе молодого журналиста Александа Бахраха.
«Куда ж он пойдет, мой нахлебник? – сочувственно говорил Иван Алексеевич. – Он же еврей». Строго говоря, Бунин и сам был нахлебником обожавших его интеллигентных евреев с самого начала своей эмиграции…
Ниццу заполняли в ту пору беженцы со всего света. Среди них было немало парижан (которые приравнивали свое переселение из оккупированного Парижа на средиземноморские курорты к акту настоящего Сопротивления) и среди них немало художников. Времени на живопись у Никола пока оставалось немного, писал он редко, но художественная атмосфера, царившая тогда в захудалой Ницце, была благотворной для творческих поисков. Конечно, перенаселенность города, нехватка транспорта и долгая война приводили к трудностям со снабжением, хотя настоящего голода, как в России или где-нибудь в Африке, ни в Ницце, ни в Париже не было ни в войну, ни после войны. Была скудная норма дешевого хлеба, но всегда существовал свободный рынок, называемый «черным». Но раз можно было, не затрудняя барона и художницу, послать малолетнего Антека, чтоб он раздобыл хлеба или еще чего, положение еще не было критическим и распухшие от голода люди не лежали на Английском променаде, как где-нибудь в Харькове или Ленинграде. Конечно, в перенаселенной Ницце и в Приморских Альпах хлеб был дороже, чем где-нибудь в Оверни, но ведь и самое слово «голод» слишком трудно перевести на иностранный язык, ибо, с одной стороны, оно при переводе сразу попадает в незнакомую традицию, а с другой, неистощимо используется политическими группами в своих пропагандистских целях. К тому же трудно решить, с чем больше связано ощущение голода – с потребностями желудка («надо кормить зверя», как говаривал отец де Сталя добрый инженер Фрисеро) или с психологической травмой (наблюдаемой сегодня у детей даже в самых сытых семьях «благополучного» мира).
В одном русском очерке о жизни Никола де Сталя я прочел о том, что бедный Никола полжизни голодал. Конечно, захотелось узнать, что имел в виду автор. Тем более, что автор – русский, и вдобавок еще петербургский искусствовед. Ну, а былой Петроград и былой Ленинград не могут не терзать память русского человека воспоминаниями о голоде-убийце (два мильона убитых голодом, такое помнят веками).
Важна к тому же традиция. В те самые времена 74-летний Бунин, живший неподалеку от Ниццы, сделал отчаянную дневниковую запись о том, что жена приготовила ему овощной суп… И тут же сладострастно описал вчерашний завтрак в гостях у богатого дачного соседа: «вчера баранье жиго у Клягина – все плавало в жиру…»
То же булимическое сладострастие ощутимо в письме, присланном Никола де Сталем из Марокко:
«Сегодня… я обедал вместе с Жаном у шерифа Рогради, апельсины рдели на ветвях деревьев, великолепная негритянка принесла на закуску огромный поднос с пирожными на меду, потом принесли очень жирного молодого барашка, мягкого и нежного, как масло, потом каждому дали целую курицу, и блюда благоухали восточными пряностями, а запивали все оранжадом, в которым плавали цветки апельсинового дерева, небо было синим, и птицы гомонили на деревьях. Жан, пять раз опустошив блюдо с мясом, почувствовал себя много лучше. Обед завершало чаепитие. Мы бесконечно долго пили чай под урчание серебряного самовара. И вышли мы исполненные доброты и благодати, мечтая чтоб Платона приговорили к смертной казни».
Да, конечно, Никола хочет повеселить милую мадам Фрисеро. Он пародирует почерпнутое ею из романов представление о пряном, обильном, экзотическом Востоке, а все же он здесь присутствует, этот истекающий жиром барашек, ибо до XXI века с его понятиями о диете еще далеко.
Что же до грустных и небескорыстных рассказов о вечно голодающих нисуазких или парижских тружениках, тем, что знакомы нам по школьным учебникам и бюллетеням новостей, то они все те же, без перемен. Тут довелось мне работать переводчиком-синхронистом на каком-то международном форуме в Верхнем Провансе, и вышел я после ресторанного ужина с группой российских земляков нагуливать сон под провансальскими звездами. Когда я выходил, они о чем-то оживленно спорили. А потом старший из них обратился ко мне с большой задушевностью:
– Вот нам сегодня весь день на форуме рассказывали, что простые люди во Франции каждый год все больше голодают. И мы решили вас спросить, чтоб вы нам сказали правду… Мы вам решили довериться. Тем более, что мы же не можем к французу в дом войти и его спросить…
Я был растроган тем, что товарищи всем коллективом решили мне довериться. Но конечно, я не мог полностью оправдать их доверие, потому что сам тоже не хожу по домам и не спрашиваю у каждого. Замечаю, конечно, что нищие здесь не просят на хлеб, как просили, бывало, дома, но может, это они от стыдливости. В общем, вопрос русских товарищей у выхода из ресторана меня поставил в тупик. И тут мне пришла в голову простая, как все гениальное, мысль.
– Поднимите крышку этого ящика, – сказал я члену группы, оказавшей мне доверие.
– А это за ящик такой? – спросил он.
– Это мусорный ящик. По-ихнему пубель.
Он колебался каких-нибудь десять секунд, а потом решительно откинул крышку ящика, и все понимающе переглянулись. Под крышкой ящика лежало не меньше десятка поджаристых, уже, может, слегка усохших, но вполне нетронутых зубами белых батонов (по-здешнему багетов, а по – новорусски «батонов хлеба»).
– Ресторанные, – сказал я догадливо, – Завтра их уже не подашь. Сохнут быстро.
– Вопросов нет, – сказал соотечественник, и мы пошли прочь от ресторана, разговаривая о всякой всячине.
– И зачем я только поехала на этот форум? – сказала красивая дама из Ужгорода. – Столько дел на работе.
– Как не поехать, раз на их счет приглашают, – сказал соотечественник. – Это сладкое слово халява.
Он обернулся ко мне и поблагодарил меня за познавательную экскурсию. С тем и расстались.
Глава 17. От портретного к беспредметному
В их новом семейном ателье, в доме 8 на улице Буасси д\'Англас Никола продолжил работу над начатым еще в Бретани портретом Жанин. Портрет давался ему трудно, хотя модель его была ему хорошо знакома да и сейчас была всегда здесь и всегда готова позировать. Позднее, лет через восемь, уже после смерти верной своей подруги, он так вспоминал об этой работе:
«Когда я был молод, я на протяжении нескольких лет трудился над портретом Жанин. Портрет, настоящий портрет – это, что ни говори, вершина искусства. Я писал сразу даже две картины, два портрета. Глядя на них, я задавался вопросом: что я изобразил? Живую смерть или мертвую жизнь… И мало-помалу меня стало отталкивать изображение подобных объектов… я стал искать свободного творчества в других направлениях».
Тот, кто захочет в этом рассказе художника (уже писавшего в ту поры картины «беспредметные») найти сколько-нибудь полное и внятное объяснение причин его перехода от портретной живописи к «беспредметной», вряд ли будет удовлетворен. Но кое-что в этом письме де Сталя, адресованном Денису Куперу, все же найти можно. Де Сталь пишет (в связи с работой над портретом), что объектов кругом было слишком много, что все они лезли ему в глаза, и процедура собирания их воедино на полотне его оставляла без сил. Поэтому он и решил обратиться к поискам «более свободного способа выражения», а может, и самовыражения, отсутствие которого его, очевидно, все же мучило.
Думается, он и сам видел, что портрет Жанин, датируемый 1941-1943 годом, хорош, даже очень хорош. Однако, писать одну картину так мучительно долго казалось ему недопустимой тратой времени и неэффективным средством успокоения. С другой стороны, портрет не принес удовлетворения честолюбивому художнику, желавшему открывать новую дорогу в живописи: почти всем знатокам, любовавшимся этим портретом, вспоминались и обожаемый де Сталем Эль Греко и раздражавший его Пикассо («голубого» периода)…
Что ж, в подобном сходстве и совпадениях нет большого греха. Уже не одну тысячу лет художники приходят в мир, населенный трудами их предшественников, в мир, подготовленный их предтечами, но ждущий от них «нового» слова, которое (как это не обидно любому первооткрывателю) никогда не бывает совершенно новым. Так что и прекрасный портрет Жанин в пронзительно желтом шарфе и темно-синем жакете, с ее устремленным в недалекую гибель взглядом темных глаз, эта по существу первая живопись Сталя, тоже не будет забыта его поклонниками.
Когда глядишь на этот портрет, невольно думаешь о том, что своим взлетом к вершинам живописи Никола де Сталь обязан не только трагедии безжалостной русской катастрофы 1917 года, но и любви этой женщины с портрета, вере этой милой самоотверженной бретонки в его гениальность…
Невольно приходит на память одно из давних моих, предотъездных еще, русских знакомств. В гостях у московской (а чуть позднее уже и парижской) искусствоведки Аси Муратовой (племянницы блистательного эмигрантского писателя, философа и искусствоведа Павла Муратова) я познакомился однажды с молодой парой художников. Она была миловидной и доброй, он не только блистал элегантностью и красотой, но и хорошо говорил по-английски, что не в одном лишь провинциальном Париже, но и в родной моей Москве встречалось тогда не часто. Помнится, я в ту пору маялся в разводе и в разлуке с маленьким сыном, поселившись близ села Коломенское в пустующей квартире друга. И вот в одно прекрасное утро я брел из местного гастронома, волоча в нитяной сетке московской авоськи обычный скудный улов тогдашнего покупателя (полбуханки черного, три плавленых сырка «Дружба», бутылку напитка «Буратино»). Скудость улова была привычной, полвека устойчивого дефицита продуктов питания, неизбежного при социализме, не вызывала никаких особых эмоций, однако именно в тот день мне предстояло испытать и нечто непривычное, смутно похожее на зависть…
Близ станции метро «Коломенское» я вдруг увидел милую художницу, недавно лишь встреченную в гостях у Муратовой, жену того самого, который хорошо говорил по-английски. Я ей обрадовался. Потому что, во-первых, редко видел знакомые лица в чужом районе (то ли дело у себя на Хорошевке или в Рублеве), а во-вторых, я всю жизнь стремился подольше оттянуть тот момент, когда больше ничто не будет мешать мне сесть за стол и заняться работой. Так что я рад был пройтись с женой художника и чуток поболтать о том, о сем, о другом, о пятом, десятом. Наконец она остановилась у какой-то блочной девятиэтажки и сказала:
– Ну вот мы и пришли. Тут мы живем. Девочки меня заждались… Но если вы не возражаете, мы продолжим дома…
Я нисколько не возражал, тем более что она меня так внимательно слушала, а я еще не успел изложить историю своей жизни и творчества. Продолжая говорить, мы вошли в убогую (впрочем, такую же, вероятно, как у всех соседей), пятиметровую кухоньку, и я познакомился с их девчушками (они были обе длинноносенькие и премилые), после чего я сходу продолжил рассказ о своей как бы неудавшейся жизни и, кажется, дошел уже до истории первого (надеюсь, и последнего) своего развода, когда почувствовал на руке, на которой висела моя авоська, какую-то дополнительную тяжесть. Думаю, всякий замечал, что слишком пристальный взгляд ложится на живую плоть вполне реальной тяжестью. Я повернулся и увидел, что обе девчушки смотрят на мою руку. Вернее, не столько на руку, сколько на авоську, через которую блестела обертка сырков и темнело полбуханки черняшки. Я не сразу догадался, в чем дело, но в конце концов все же догадался.
– Они, может, есть хотят? – спросил я.
– Да, – сказала спокойно жена художника (напомню, что она и сама была художница), – они очень голодные. У нас в доме ничего нет.
Я выложил на стол убогий продуктовый улов и девочки с аппетитом стали закусывать.
– Видишь ли, – сказала художница, – мы, наконец, купили для Юры мастерскую в центре, маленькую квартирку в развалюхе… У нас ушли все деньги, мы в долгу, но теперь он может работать, теперь он может доказать…
Я энергично кивнул, и раз, и два, но она все же не была уверена, что я понял, что она имела в виду.
– Теперь он может доказать всем, – продолжала она, волнуясь все больше. – Ты разве не знаешь, какой он художник?
Поскольку я молчал, хотя всем видом своим старался выразить бесконечное согласие и понимание, она объяснила мне с большой страстью и убедительностью:
– Бывают хорошие художники или даже очень хорошие. Бывают такие, что кладут начало целому течению или ведут за собой группу. Каких-нибудь «голуборозовцев» или даже фовистов… А бывают такие, что поворачивают все направления, весь ход искусства, создают новые миры… Ты понял?
Я стал очень энергично кивать, потому что я действительно понял. Понял хотя бы то, что мне полагалось понять. Понял то, во что я как человек приличный, а не забредший случайно на огонек завистник или злодей должен был вместе с ней поверить, не медля ни минуты, ибо даже промедление было бы для нее обидным. Поверить, что вот все ликует вокруг и мир получил надежду возродиться, потому что есть среди нас такой вот чародей – художник, а теперь есть у него еще и мастерская, и скоро весь мир признает, что был слеп к чуду. А пока вот все затаилось и ждет, ни шороха в природе, застроенной двенадцатиэтажками до самого горизонта…
Не помню, чтоб я нашел какие-то очень убедительные слова в подтверждение своей униженной позы безоговорочного согласия. Зато отлично помню, о чем я тогда думал. О том, что вот бывают же мужчины, которые способны пробуждать в женщинах такую вот веру. Иногда веру настолько сильную и действенную, что ожидания самоотверженных этих дам оправдываются. То есть, мужьям их удается доказать, что чудо возможно, а талант и трудолюбие пришлись ко двору… Вот, скажем, Владимир Набоков. Или там Федор Михалыч Достоевский. (Это если речь идет о художественной прозе, которая нам, руку протяни, ближе). Так что остается только завидовать. Те, у которых не было таких достижений, да и таких жен тоже, могут лишь с грустью, но не теряя достоинства, позавидовать тем, у кого они были, подобные жены и достижения. Даже если самоотверженным этим подругам творцов не удалось дожить до высшей точки торжества их надежд и веры. Вот героине нашей книги, подруге Никола де Сталя, чудной Жанин Гийу, пожалуй, не удалось… Тем обаятельней ее преданность. Тем выше ее подвиг. Вспомнить об этом вполне уместно перед прекрасным портретом, написанным в Ницце ее мужем. Таких ярких и нарядных портретов («настоящий портрет», как он сам выразился) де Сталь больше не писал. А в приведенных выше его словах об этом портрете уже содержится одно (лишь одно из многих, конечно) объяснение, отчего больше не писал (вы без сомненья помните: объект изображения ускользает, – «живая смерть или мертвая жизнь», все это трудно, хлопотно, нерационально…)
Там же содержалось и объяснение, почему, закончив портрет, Никола де Сталь в том же самом 1942 году, в той же Ницце (которая входила тогда в «свободную» зону Франции) перешел к «беспредметной» живописи. Это был важнейший этап его творческой жизни. Большинство искусствоведов считают, что с этого момента и с этих «беспредметных» картин (часто называемых «абстрактными», хотя сам художник решительно протестовал против такого их названия) начинается «настоящий Сталь», «истинный Сталь».
Это был воистину переломный момент в творческой жизни художника, так что простительно нам будет остановиться на нем чуть обстоятельней, тем более, что и территория, на которую мы ступаем, хоть и не нова и по большей части уже разминирована, все же требует от нас осторожности. Конечно, это не вовсе уж безвоздушное пространство, и все же привычно ли будет нам здесь ориентироваться без привычных предметов, символов или даже лиц? Особенно лиц…
Начну с печального лица, глядящего на нас со знаменитого портрета. Начну с Жанин. Думается, что и выход Никола на спасительную для него свободу беспредметности не обошелся без поддержки ласково его ободрявшей руки Жанин.
Вы возразите, что в письме отцу из Ниццы Никола называет имена многих китов художественного авангарда, зимовавших тогда у мелководного берега Ниццы. Да, их лица мелькали в эмигрантской толпе. Но большинству из них он не был даже представлен. К тому же задолго до них рядом с Никола была Жанин, был ее кузен Жан Дейроль, были их собственные поиски и бесконечные споры о путях искусства. Упомянутые поиски шли именно в этом направлении – к беспредметности, к абстракции или даже еще конкретнее – к «геометрическому» или «плоскостно-геометрическому» стилю. Беглые, но неизбежные упоминания об этом можно найти в биографиях де Сталя, написанных его дочерью Анной и внучкой Мари дю Буше. Вот как пишет Мари дю Буше о времяпрепровождении Никола, Жанин и Жана Дейроля в Конкарно в начале войны:
«В то время, как Никола писал портреты и закаты солнца, Жанин и Жан Дейроль все дальше продвигались в своих полотнах по пути геометрического построения».
Любопытно, что Жан Дейроль, перебравшийся в Париж, обратился к беспредметной живописи одновременно с Никола, в 1942. Не будет с нашей стороны дерзостью, если мы попытаемся опознать те вершины, на которые ориентировалось упомянутое выше продвижение Жанин и ее кузена. Самой заметной вершиной на этом пути был уже стоявший на исходе жизни и творчества голландец Пит Мондриан. В тот самый год, когда Никола де Сталь появился на свет, Мондриан вернулся домой в Голландию после трехлетнего пребывания в Париже и напечатал в первом номере журнала «Де Стиль» теоретические эссе. Позднее он работал в Лондоне и в Париже, а к 1940 году уже был в Нью-Йорке, где пользовался огромным влиянием, и, может, в той или иной степени подготовил пути для героя нашей книги, ибо уже в те годы кратчайшую дорогу к славе можно было найти именно там, за океаном. Ну а к тому времени, как Никола де Сталь поселился в Ницце на улице Буасси д\'Англас, мондриановский «холодный геометризм», его «неопластицизм» уже угнездился в творчество многих мастеров беспредметного искусства и в Америке и в Европе. Эти его окружности, как и другие четко очерченные и строго выверенные геометрические фигуры, все эти его рациональные построения не оставили равнодушными даже таких признанных бунтарей и патриархов бунта, как скажем, Софи Тойбнер-Арп или ее великий супруг Ганс Арп, чье беженское присутствие на улицах скромной Ниццы особо отметил Никола де Сталь в своем уязвленно-гордом письме отцу в Брюссель.
О, этот великий бунт искусства! О, это новое, совсем-совсем новое искусство, о котором столько горячих споров кипело в кругу героев нашей книги в долгие брюссельские, или гранадские, или могадорские, или неаполитанские, или бретонские, или, вот теперь уже нисуазские вечера… Надеюсь, читатель не обидится, если я (не в ущерб стройности нашего повествования) сделаю вместо шага вперед, два шага назад и отступлю к началу этого бунта, ибо мы с вами оказались как бы на обочине великого поля сраженья. Сраженья фигуративного с беспредметным…
Беспредметным (или абстрактным) называют такое направление в искусстве, в котором художники отказываются от изображения реальных предметов, существ или явлений. В котором сюжет или предмет изображения вовсе не имеет значения, а эстетическая его ценность зависит лишь от формальных его и цветовых достоинств. В подобном определении сходились и русские и зарубежные знатоки, хотя русским примерно до середины 80-х годов полагалось безжалостно уточнять, что искусство это является «крайним проявлением кризиса буржуазной культуры». Анафема эта была скреплена солидными именами Алпатова, Ванслова, Пиотровского и прочих китов советского искусствоведенья. Однако не прошло и двух десятилетий, как этот столичный приговор был дерзко высмеян даже вполне провинциальными русскими публикациями (скажем, энциклопедией авангарда, вышедшей в Минске в 2003 году), которые определяли расхожее тогдашнее слово «абстракционизм» как советское ругательство, а само абстрактное искусство почтительно называли одной из важных форм авангарда. Попутно выяснилось много любопытных подробностей касательно этого самого абстрактного искусства. Не только то, что подобная беспредметность имеет солидный возраст и царила издревле и в декоративном искусстве, и в сфере почтенной магии, да и в некоторых из религий (скажем, в мусульманской). Выяснилось, что расцвет беспредметного искусства в начале прошлого века мог опираться на художественный и идейный опыт символизма или, скажем, постимпрессионизма Ван Гога, Гогена, Сезанна и прочих во всем мире почитаемых мастеров. Но это все не такое уж далекое прошлое, тут все более или менее очевидно. Но ведь и другие, более глубокие (во всех отношениях более глубокие) корни, они тоже обнаружились. Да и в какой дали! Еще и Аристотель с Платоном озадачены были проблемами красоты. И не той, какой поражает лицо или фигура человека, или несказанной прелести пейзаж, а красотой обыкновенной линии, проведенной с помощью линейки, или, скажем, круга, добытого с помощью нехитрого циркуля. Что же до воспроизведения (или имитации) существующей красоты художником, то Платон предупреждал, что здесь неизбежно некое «двойное удаление» от первоначальной идеи и замысла. В «Диалогах» Платона все это без труда нашлось.
Более того, не раз упоминали древние авторы о том, что человек способен творить нечто в этом мире прежде не бывшее. Не на это ли замахнулся творец абстрактного полотна?
Вдобавок, кроме всем очевидного и видимого существует ведь еще невидимое. Абстрактное искусство как раз и посягает на раскрытие этого невидимого. Раскроет оно его или не раскроет, не в том вопрос. Очевидно, что посягает. И что оно на это замахнулось не первым, тоже очевидно. Еще византийские труженики искусства об этом думали, да и до них многие на этом поприще тупили перья и ломали колонковые кисти. Обо всем этом говорило и немало русских. Сперва и в России, потом уж только в изгнании. Даже полуослепший Владимир Рябушинский об этом толковал в парижской «Иконе». При этом поверх его бумаг покоился его тяжкий старческий посох.
Так вот, абстрактное искусство, оно ведь и на раскрытие этих невидимых тайн тоже посягает. Даже и на раскрытие тайны творенья. Так что абстрактное полотно бывает до краев нагружено всякой очень непростой информацией.
Другое дело – насколько зритель (а картины все же, несмотря на весь бескрайний эгоцентризм художника, пишутся с расчетом на зрителя, хотя и без должного учета его уровня) подготовлен к расшифровке всей этой информации или хотя бы настроен на труд расшифровки? Откуда найдутся такие зрители? Это уже особый вопрос и мы с вами его коснемся. Вопрос восприятия, мотивов, таинственной «внутренней вибрации»…
При показе абстрактного полотна неизмеримо возрастает роль зрителя, которому предоставляется художником широчайшая свобода понимания, интерпретации произведения. По существу, зритель является соучастником творчества, как бы сотворцом. Отсюда и проблема времени сотворчества, его протяженности…
И еще нельзя умолчать о художественных приемах и принципах, поскольку речь идет о художественном творчестве. При создании абстрактного произведения не только не умаляется, но напротив возрастает роль и фактуры, и ритма, и композиции, и колорита… Да, да, ритма – как в музыке, или скажем, в шаманских заклинаниях. Вот в какие дебри заводит простенький казалось бы отказ от фигуративности, простенькое «бес» этой самой беспредметности… «Бес меня попутал», – скажет читатель, приготовившись отложить наше сочинение до худших времен, но мы и сами чувствуем, что пора кончать с отступлениями и вступлениями… Только еще два слова о сравнительно недавнем взлете всей этой абстрактной моды, довольно логически наступавшей на пятки ослепительному постимпрессионизму уже и в 80-е и в 90-е годы XIX века где-то во Франции («Девушки под снегом», все бело, ничего не видно, ни снега, ни девушек, а жаль, может, неплохие были девушки) или в Голландии («Абстрактная композиция с растительным мотивом», надо понимать, вполне экологически чистое творение господина Ван дер Вельде). Ища точку опоры, историки искусств хватаются за сочинение г. Воррингера «Абстракция и чувствование». Это 1907 год. Для нашей национальной гордости эта дата не слишком унизительна. Подумаешь, брошюру сочинил господин Воррингер. Наш Василий Васильевич Кандинский (еще в 1908 году сочинивший сценическую композицию «Желтый звук») в 1910 году все это «вчувствовал», и ведь был к тому времени уже высокограмотным человеком, за десять лет до того защитил докторскую «О законности трудовой заработной платы». Ну а в 1911 году все беспредметные открытия В.В. Кандинский отразил в своих «Импрессиях», «Импровизациях» и «Композициях».
Был он вдобавок ко всему замечательный писатель, создал труд «О духовности в искусстве», и там все уже есть, что нужно авангардному художнику для жизни и смерти. Так что, если в переписке современных художников с родными и близкими или в их спорах об искусстве вы встретите что-нибудь, что совпадет с идеями, мыслями или даже словами высокоученого нашего В.В.Кандинского, то это ничьей искренности не в упрек, а лишь новое свидетельство того, что и в авангардном искусстве наша родина Россия была в ту, пусть еще и допотопную пору, как выразился поэт, «впереди планеты всей». Поэт шутил, да и мы с вами не на футбольном матче. Что же касается патента на абстракцию или абсурд, то уже и весной 1908 года в пассаже на Невском проспекте каких только не выставлялось наших собственных Бурлюков, Лентуловых, Кульбиных… А какие были люди! Яростный авангардист Николай Иваныч Кульбин был доктор медицинских наук, врач генштаба в генеральском звании, написал тридцать сочинений на медицинские темы и прочитал знаменитый доклад о том, как быть здоровым. Назывался доклад «Свободное искусство как основа жизни». Такие вот люди водились в Петербурге до катастрофы. На каждом шагу. Катастрофы 1917-42 гг их число сильно поубавили.
Как, впрочем, ни велик петербургский соблазн, пора нам все же возвращаться в Ниццу 1942 года, где герой нашей книги 28-летний художник Никола де Сталь начинает свою карьеру на ниве абстрактной живописи. Сообщая в письме отцу, о том, каких знаменитых художников авангарда встречает он (скорей всего, просто видит издалека и узнает) на Английском променаде в Ницце, Никола первым называет великого Ганса Арпа. И вовсе не потому называет его первым, что близко с ним знаком, а потому что по мнению увлеченного своими опытами Никола, уж Ганса-то Арпа, самого великого Гансарпа, должен был знать всякий просвещенный человек, хотя бы и в захолустном Брюсселе.
Но ведь и впрямь с именем гулявшего тогда по Ницце вполне еще бодрого Арпа (гулял он под руку со знаменитой супругой-художницей Софи Тойбнер-Арп) связано многое из того, к чему пришли в минувшем веке люди искусства.
Художнику Гансу Арпу было в ту пору около шестидесяти и был он художником-сюрреалистом (с чем иные из глубокомысленных искусствоведов связывают его тяготение к сексуальным формам беспредметных предметов). Но прославился этот эльзасский баловень славы еще и до того, как блистательное слово «сюрреализм», которым обогатил мир француз Гийом Аполлинер, вошло в словари. Арп уже известен был к тому времени как один из основоположников игривого дадаизма, который был придуман им вместе с друзьями из цюрихского «Кабаре Вольтер» в нешуточном 1916 году. В ту пору, когда сверстники их гнили по окопам вполне бессмысленной Великой войны, Арп и его друзья придумали теорию, отрицавшую все основные положения искусства, вводившую в обиход все бессмысленное и антихудожественное.
Никто толком не знает, что означало это «дада» – деревянная лошадка, детский лепет или просто калдыбалдычекалды – неважно. Важно было шокировать, удивить, эпатировать, желательно даже обхамить. В общем, слово прижилось – дадаизм, дада. Это означало бросить вызов былому искусству. Плюнуть в публику (понятное дело, в публику чистую). Ну скажем, подрисовать усы Джиоконде или обозвать унитаз фонтаном… Старое искусство скомпрометировано, место расчищено для нового (хотя мы сами его и не создаем)…
Мода имела успех. Из нее вырос сюрреализм. Честолюбивые теоретики, вроде Бретона, сели за создание теории (писали «манифесты»), находя кое-что для себя подходящее то в психоанализе Фрейда, то в экзистенциализме. Правда, были искусствоведы, которые называли дадаизм «продуктом истерии и растерянности» (мир ведь и правда сошел тогда с ума), но кое-какие из тогдашних теорий пригодились и художникам и писателям (скажем, погружение в глубины бессознательного), получили всемирное распространение. Так что, если из основоположников дадаизма (а потом и сюрреализма) в Ницце 1942 года присутствовал только один (все тот же Ганс Арп), то видных (или едва заметных) художников-сюрреалистов было в Ницце и в прочих деревнях Французской Ривьеры в ту пору предостаточно. Много гениев пряталось от жестокостей фашистских режимов в этом городе временного безвластия, в приморском тепле…
Так что молодые художники Никола и Жанин угодили в Ницце в атмосферу авангардно-художественную и вполне семейно-дружественную.
В 1942 году Жанин родила своему любимому дочку, которую они назвали Анной. Никола был растроган. Он без конца рисовал их крошечного заморыша и даже фотографировался на пляже с дочкою на огромной костлявой руке.
Тогда-то он и закончил портрет Жанин, доставивший ему столько хлопот. Попытки Никола писать пейзажи и натюрморты оказались тщетными. Живопись Жанин имела гораздо больший успех. Галерея устроила выставку ее работ, и все работы были проданы.
Уже в первый год их совместной жизни на Буасси д\'Англас молодые художники обзавелись множеством друзей. В гостях у них бывали ученый-синолог Фуркад с супругой, художники Мари Реймон, Фред Кляйн и Анри Гетц с супругой-художницей Катрин, маршан Борис Вульфер, преуспевающий архитектор и декоратор Феликс Обле, аббат Кребс… Поддерживать веселье в небогатой квартире на Буасси д\'Англас помогали неунывающий легкий характер Жанин, ее такт и обаяние. Что же до молодого хозяина дома, то он тоже бывал по временам веселым, открытым, громко хохотал и даже странно шутил, но часто впадал вдруг в мрачное отчаянье, уничтожал свои работы, замыкался в продолжительном и недружелюбном молчании. Только Жанин с ее бесконечным терпением и самоотверженной влюбленностью могла вывести его из депрессии, отваживалась давать ему советы, поправлять его работы…
Наряду с множеством бодрых воспоминаний о хохоте де Сталя сохранилось мемуарная запись той нисуазской поры, сделанная французским писателем Морисом Женевуа. Писатель и его жена гуляли как-то по авеню Виктора Гюго в Ницце и заглянули в картинную галерею. Там они увидели молодую художницу с крошечной дочкой на руках. Писатель переглянулся с женой, и оба подумали, что вид у мамы и дочки был не слишком сытый. Не сговариваясь, они купили одну из ее картин и были тут же представлены художнице, которую звали Жанин Гийу…
После визита они стали прощаться, и Жанин принялась уговаривать супругов Женевуа, чтоб они непременно познакомились с ее мужем, который был, по ее словам, замечательный, воистину замечательный художник. Супруги записали адрес и действительно пришли в ателье к де Сталю. Вот как позднее описывал этот их визит Морис Женевуа:
«Человек, который открыл нам дверь, при всей своей вежливости и безупречном дружелюбии, на всем протяжении нашего визита находился как бы в неком отдалении от нас. Он был довольно высокий, с продолговатым, абсолютно гладким лицом, взгляд у него был прямой и пронзительный, он с большой тщательностью играл в гостеприимство, держался с непринужденностью и даже уверенностью, и между тем не оставляло ощущение, что разговаривая с нами, он все время старается уйти в какой-то свой внутренний мир, что тяга эта была сильнее его отчаянного желания казаться приветливым, она удаляла его от нас, уносила куда-то прочь от наших мирских дел, хотя он и оставался в этом мире».
Никола наотрез отказался показать гостям свои последние картины, сказал, что у него ничего нет, что он все сжег. Может, это и не было правдой, но для него не было четкой границы между правдой и выдумкой. Фантазия овладевала любым его рассказом, и тогда его несло безудержу. Впрочем, в той выдумке, которую он преподнес супругам Женевуа, была лишь доля выдумки. Он и правда стоял на пороге того, чтобы сжечь все, чему учился (и пожалуй, толком не научился) и чему поклонялся (продолжая, впрочем, поклоняться и тому, что сжигал). Он был уже в двух шагах от перехода к беспредметному, «нефигуративному» искусству.
В ту нисуазскую пору, когда все его попытки написать пейзаж какого ни то уголка Приморских Альп или натюрморт с лимонами, с пачкой табака и трубкой кончились более или менее заметной неудачей, у них в компании художников чуть не каждый вечер шли разговоры об абстрактном искусстве, о сюрреализме, о подсознании, об автоматическом письме и живописи, о наитии и тайне.
Однажды близкие друзья семьи художник-сюрреалист Анри Гетц и его художница-жена Кристина предложили де Сталю и Жанин сделать совместный абстрактный рисунок, придерживаясь одной и той же, предложенной Гетцем идеи. Придя вскоре в ателье Никола, они застали хозяина за работой и то, что произошло дальше (по рассказу Анри Гетца) наводит на мысль о судьбе прежних вещей де Сталя:
«Мы дали ему закончить. И мы нашли, что ему удается. Потом, он стал большим ножом упрямо уничтожать все, что мне так поначалу нравилось».
Но в конце концов этому долгому периоду то ли учебы то ли самоуничтожения настал конец. В том же 1942 году Никола де Сталь нашел свой путь, выбрав себе учителя, покровителя и кумира. Им стал уроженец Тосканы художник-самоучка Альберто Маньели.
Глава 18. Знаменитый флорентиец
В период их первого знакомства с Никола де Сталем Маньели писал абстрактные полотна и жил в собственном доме неподалеку от Граса и Ниццы. Случай пожелал, чтобы он стал первым знаменитым художником, с которым Никола де Сталю удалось сойтись близко. Для этого все должно было сойтись – и тупик, в который зашли живописные опыты Никола де Сталь, и его авангардистское окружение в Ницце, и близкое расположение усадьбы Маньели «Ла Ферраж», куда итальянец бежал из Парижа, справедливо опасаясь за судьбу своей жены Сьюзи, в чьих жилах текла еврейская кровь…
О Маньели де Сталю рассказали друзья художники Фред Кляйн и Мари Реймон, жившие в городке Кань-сюр-Мер, недалеко от усадьбы Маньели.
И вот – исторический первый визит. Двадцативосьмилетний, никому в целой Европе, во Франции и даже на тесном Лазурном Берегу не известный художник Никола де Сталь входит в ателье одного из отцов абстрактного искусства Альберто Маньели. Итальянец чуть не в два раза старше гостя, он начал писать абстрактные полотна в родной Флоренции в тот год, когда Никола, лежа в колыбели за стенами Петропавловской крепости, впервые произнес слово «мама». Но главная причина смущения и волнения гостя даже не в этом. Никола увидел те самые «конкретные», те самые «геометрические» абстракции, которые сближали хозяина дома с Мондрианом (а если правду сказать, также и с Леже, который не смог произвести на Никола ни малейшего впечатления четыре года назад – видать, время его тогда еще не пришло).
Двадцати двух лет от роду Маньели приехал в Париж из Флоренции, познакомился с кубистами, футуристами, с Леже и Пикассо, но ни в одну из групп не вошел. Он всегда стоял особняком – то писал абстрактные полотна, то вдруг возвращался к «фигуративной» живописи. Он был самоучка, автодидакт, в 1958 году он получил американскую премию Гугенхейма и прожил после этого безбедно больше десятка лет на благодатном Лазурном Берегу Франции. Он умер в 1971 году, и после его смерти вдова отдала множество его полотен муниципальному музею в городке Валорис (известен любителям керамики и почитателям Пикассо), где я и обнаружил их недавно, случайно забредя в этот музей с любознательной семьей Ушаковых (вход там, кстати, бесплатный).
Восторженный отзыв о ранних, юношеских работах Маньели я нашел позднее в книге петербургского искусствоведа Михаила Германа, писавшего, что этот самоучка Маньели «взрастил свой тонкий дар в музеях и соборах Тосканы»:
«Он сумел синтезировать эффект формальных плоскостных композиций с реальными жизненными впечатлениями в тех картинах, которые сам называл «полуфигуративными» (середина 1910-х годов). Ему не было равных в виртуозном сочетании линии и яркого локального цвета при сохранении остроты и иронии жизненных впечатлений («Рабочие на телеге»)».
Окажетесь в Нью-Йорке, непременно поглядите на эту телегу с рабочими. Впрочем, мне и без поездки за океан, в подурневшем за последние десятилетия Валорисе достались добрых два зала Маньели. Я искал, конечно, в первую очередь те «геометрические» абстракции с сегментами кругов и квадратами, которые так взволновали молодого де Сталя. Они нашлись.
Я представил себе, какую они вызвали в Никола де Стале «душевную вибрацию». Это было излюбленное выражение Кандинского и, право, очень неслабое (не хуже, чем нынешние «торч» и «балдеж»). Не только самому переживать эту вибрацию, но и наблюдать ее в других вполне трогательно. Помню, как-то раз в Париже московский мой друг Андрей Герцев, большой знаток авангардной живописи, позвал меня погулять по любимому его заречному парижскому району – в Марэ.
Кто ж не любит Марэ, экзотический квартал, где на былом приречном болоте процветал некогда орден рыцарей – храмовников (предки Никола де Сталя наверняка знали сюда дорогу). Богатых тамплиеров-храмовников решил ограбить французский король Филипп Красивый. Король пытал и сжег на костре командора ордена тамплиеров, но выпытать тайн Марэ не сумел, был проклят на костре Жаком Мелэ и не дожил до конца года. Много тайн о не выданных под пыткой сокровищах прячет квартал Марэ…
В Марэ – старинные улицы, дворцы и картинные галереи, галереи, галереям несть числа. Мне казалось, что я их чуть не все облазил за последние тридцать лет, но когда пошел гулять с Андреем Герцевым, мне открылся еще один, незнакомый Марэ, таинственный, подземный.
Помню, как Андрей толкнул малозаметную дверь, мы спустились по лестнице и попали в большие подземные залы галереи авангардной живописи. Андрей поздоровался со всеми смотрителями и нырнул в небольшой зал, где сразу отыскал среди многих прочих «своего» художника. Звали этого испанца Жуан-Хернандес Пужуан, и на всех его картинах было по несколько черных кружочков на небрежно забеленном полотне. Что-то вроде бубликов, только черных. Количество кружочков было не случайным набором и, видимо, что-то означало: и для художника и для Андрея…
Сколько-то времени я простоял возле Андрея, который о времени и обо мне начисто забыл. Потом меня потянул за рукав хозяин галереи, который пригласил меня посидеть с ним в большом зале, отдохнуть в удобном кресле.
– Спасибо, – сказал я, – а то ноги затекли.
– О, ваш друг теперь надолго… – сказал он. – Тем более, что этой, с десятью кружочками, он еще не видел. Так что он теперь…
Я отметил, что даже такой бывалый человек, как хозяин галереи месье Хипас несколько удивлен тем, что происходит с московским человеком перед картинами этого Пужуана.
– Да, так бывает… – сказал он.
– Вибрация! – вспомнил я, обрадовавшись, что слово так быстро явилось из диванного зала моего мирного склероза.
– Да уж… – согласился он.
Он стал мне рассказывать, как этот Пужуан принес ему много лет назад свою первую картину (там было только три кружочка), как он без конца звонил из Испании, справлялся, что с ней, с картиной, небось, толпятся ценители… А что с ней? Висела непроданная. А потом пошло, поехало…
– Теперь не звонит? – спросил я.
– Звонит. Но редко. У него и другие теперь маршаны… – сказал месье Хипас. – Во всех странах.
Меня удивило, что волнение моего друга перед картиной было принято всерьез не только мной, но и многоопытным хозяином подвала. Позднее я обнаружил суждение о языке картин, высказанное художественным критиком Жоржем Муненом. Мунен предлагал «рассматривать картину как стимул и изучать реакцию, которую она пробуждает в зрителе, ее созерцающем, конечно, убедившись предварительно, что зрителю этому удается вступить в контакт с полотном, а может, через него и с самим художником, точно так, как слушатель вступает в контакт с оратором». Мунен считал, что серьезное исследование, основанное на этой базе, может позволить нам установить, в какой степени взаимоотношение Картина-Зритель «представляет собой комплекс специфических отношений, предусматривающий, без сомнения, соучастие, идентификацию, отражение и, может, даже истинное общение».
Не думайте, что я выкопал этого Мунена в подвалах Национальной библиотеки Франции. Я выудил его из книжки Мансара о де Стале. А книжку Мансара, где немало есть всякой учености, дала мне почитать красавица – артдилерша Мишель де Шампетье из Канн. Впрочем, ученую книжку Мансара я получил много позже, а тогда, в подвале просвещенного грека месье Ленаса Хипаса я вскоре отвлекся от тайн «вибрации» и стал разглядывать холст с огромным треугольником над самой головой у месье Хипаса. Перехватив мой испуганный взгляд, любезный хозяин галереи беспечно махнул рукой и сказал с улыбкой:
– Это промежность. Женская промежность
– Да, похоже на то. И довольно большая, – сказал я уважительно.
– Что-то она не продается, – сказал месье Хипас вполне беспечально.
Потом, наконец, вышел Андрей. Он пообещал хозяину вернуться и купить картину. Месье Хипас пожал мне руку и попросил повторить это слово, которое я тут давеча обронил.
– Вибрация, – сказал я с такой гордостью, будто сам придумал это слово. На самом деле я вычитал его у Кандинского. Оно пришло мне в голову в связи с первым визитом Никола де Сталя к Альберто Маньели на Лазурном Берегу под Грасом.
Надо сказать, что Маньели отнесся к молодому гостю по-братски, хотя посетив Никола и Жанин в Ницце, не скрыл того, что предпочитает экспериментам своего почитателя более зрелую живопись его жены.
В ту пору Никола с большим увлечением писал абстрактные картины. Конечно, это свело почти к нулю его и без того скудные заработки маляра, штукатура и полировщика мебели, но благородная Жанин рада была, что глава семьи нашел, наконец, «свой путь». Никола нашел поддержку и у друзей из Ниццы. Жак Матарассо, Борис Вульферт и Жан Хеллигер были первыми его поклонниками, а Жак Матарассо даже купил у Никола его небольшое абстрактное полотно. Для них обоих, для молодого художника и молодого букиниста, эта их первая, в высшей степени скромная сделка была большим событием. Впрочем, и сегодня букинист Жак Матарассо рассказывает о ней с гордостью. Где б он ни заводил рассказ о семидесяти годах своей деятельности коллекционера, он непременно упоминает эту первую свою абстракцию, купленную у Никола де Сталя. Собственно, ведь и знаменитого некогда Альберто Маньели чаще вспоминают сегодня в связи с живописью Никола де Сталя, чем по каким бы то ни было другим поводам…
А что там было нарисовано на этой знаменитой картине, купленной у Сталя молодым букинистом Матарассо и подаренной им в старости Музею современного искусства Ниццы? На мой взгляд, нечто похожее на банку с водой и водорослями. Но у другого зрителя ассоциации могут быть совершенно иными. У третьего картина может вовсе не вызвать ни ассоциаций, ни «душевных вибраций». Иные согласятся, что картина «красивая», но иные напомнят при этом, что слово «красивая» утратило смысл, что для абстрактной живописи характерен антиэстетизм, который никак не лишает ее ни ценности ни глубины.
Двоюродный брат Жанин художник Жан Дейроль, в то же время, что и Никола, вставший на путь беспредметной живописи, напоминал в своем очерке об абстрактном искусстве, что у искусства этого существует не одна и не две, а тысяча возможностей различного восприятия:
«Необходимо только, чтобы зритель научился этой игре, чтобы он умел складывать формы, дополнять одну другой по собственному выбору. Каждое полотно предоставляет множество возможностей для такой игры».
Люди требовательные скажут, что я не слишком убедительно описал первый проданный де Сталем шедевр абстракции, украшающий ныне огромный и полупустой музей Современного искусства в Ницце. Но люди снисходительные напомнят нам, что литературный язык вряд ли пригоден для рассказа об абстрактной картине. У живописи вообще свой язык. На этом настаивает, в частности, исследователь творчества де Сталя, упомянутый выше Арно Мансар. Об этом говорят и прочие исследователи: слова здесь мало помогают, дефиниции только ограничивают. И все же ни одно меткое наблюдение литератора, способное приблизить читателей к пониманию абстрактной живописи, не прошло, наверно, незамеченным. Не только строки какого ни то символиста или авангардиста, современника абстрактной живописи XX века (А. Блока, Б. Пастернака, Т. Манна или Г. Гессе), но и самого что ни на есть отчаянного реалиста, классика реализма, вроде Льва Николаевича Толстого. Забравшись в дебри третьей части второго тома романа «Война и мир», читатель обнаружит вполне легкомысленный (но в колорите позднего де Сталя) разговор юной Наташи Ростовой с ее почтенной матушкой – графиней (не про живопись разговор, а про ее, Наташиных, кавалеров – Бориса и Пьера):
– «Мама, а он очень влюблен?.. И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый…
– Что ты врешь! – сказала графиня.
Наташа продолжала:
– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный.
– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь, сказала графиня,
– Нет, он франмасон… Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать…»
Ай да Наташа Ростова, ну, чистая Соня Терк-Делонэ или Наталья Гончарова! А что матушке-графине про темно-синего Пьера не растолкуешь, так это не ей одной непонятно. Несчастный отец Никола де Сталя, инженер Эмманюэль Фрисеро, шесть лет прождав от приемного сына обещанный рисунок, получил, возможно, нечто окончательно убедившее его, что все посходили с ума… Дада… Это ж надо такое мазюкать в разгаре такой войны…
А смертельно обиженный Никола (ничем так не обидишь творческого человека, как насмешкой над его творчеством) призвал на помощь самые высокие из имен в средиземноморской эмигрантской иерархии и ответил с достоинством всем людям, чье серое вещество не бодрствует, а дремлет:
«Из художников я вижу здесь Делонэ, Жана Арпа, Маньели, Ле Корбюзье, когда он приезжает в Ниццу, и наконец, Обле, всех тех, кто напряженно трудится и делает хоть какие-то усилия, чтоб расшевелить серое вещество и создать что-нибудь новенькое».
Видит он этих великих людей издали или видится с ними, понимай как знаешь, а только что ж спорить: на всех одинаковых душевных вибраций не напасешься. Что там бедная мать графиня Ростова или внук художника, брюссельский инженер Эмманюэль Фрисеро, когда и самый что ни на есть первый в петербургской (а позднее – и в русской эмигрантской) прессе художественный обозреватель Александр Николаевич Бенуа писал с последней прямотой о «дикарстве модернизма», которым соблазнялся Дягилев:
«…знаю доподлинно, что тех эмоций, которыми я обязан Ботичелли, Микельанджело, Тинторетто, Рембрандту, Баху, Моцарту, Вагнеру, Мусоргскому, Бородину, Чайковскому и т.д., эмоций такой же интенсивности, той же степени восторга, я никогда не испытывал и не в состоянии испытывать от самых изощренных картин, ну, скажем, Брака, Пикассо, Матисса или даже импрессионистов».
В ту пору, когда писались эти строки, стареющему Бенуа все чаще приходил на память их собственный молодой полемический задор, с которым они, реформаторы-мирискусники, атаковали когда-то своих просвещенных и благородных родителей, не спешивших в стан их поклонников (среди старших были и такие знатоки искусства, как отец Кости Сомова)…
Старинная эта тяжба вспомнилась мне недавно в Париже, где я встретил московского приятеля, замечательного авангардного художника Володю Янкилевского. Володя подарил мне при встрече свою книгу, и в ней есть разговор героя, художника-авангардиста с его милым интеллигентным отцом. Вот он, этот разговор:
«– Ну, как у тебя с деньгами? – спросил отец, участливо глядя на меня.
– Нормально, – сказал я.
– А, у тебя всегда все «нормально»… Что это у тебя такая замурзанная куртка?
– Я же в ней работаю, или я должен во фраке работать?
– А, все у тебя крайности. Так же некрасиво, все-таки к тебе люди ходят, одел бы какую-нибудь приличную кофту.
– Но я к себе не пускаю тех, кто ходит на мою кофту смотреть.
– А, все у тебя не так, как у людей. Как твои творческие успехи? – спросил он, оглядывая исподлобья мастерскую и не вставая со стула.
–… Работаю…
– Над чем сейчас трудишься?
– Да… Делаю кое-что…
– Вот ты мне объясни, я очень хочу понять твое искусство.
– Разве искусство можно объяснить?
– Ну, Ван Гога, например, я понимаю.
– Да, но три года назад ты же его считал абстракционистом.
– Но теперь я его понял.
– Не забывай, что он жил сто лет назад. Если бы ты тогда его понял, когда его, кроме брата, никто не понимал, это было бы достижением. Пикасо для тебя ведь тоже абстракционист?
– Почему, некоторые его ранние вещи мне нравятся, голубой период, розовый, и вообще, он, когда хочет, может хорошо рисовать…
– А так, значит, он плохо рисует?
– Да, черт-те – что, сплошное уродство. Вообще, должен тебе сказать (доверительным голосом), все «это» уже было. И то, что ты делаешь, в двадцатые годы в Москве, я помню, мы бегали на разные выставки…
– Знаешь, пап, я думаю: одни делают, а другие бегают… так почему те, кто бегает, должны учить тех, кто делает?
– А для кого же тогда делается искусство?
– Я думаю, что человечество делает искусство для себя руками своих представителей, которые называются художниками…
– Но почему они делают непонятно?
– Непонятно кому?
– Как кому? Народу, всем…
– У тебя есть статистика, какому количеству населения Земли что понятно а что нет?
– Зачем мне статистика, я и так знаю…
– Ну, хорошо. Назови мне десять имен современных иностранных художников.
– Я их не знаю и знать не хочу, там одно сплошное надувательство…
– Как же ты можешь говорить о вещах, которых не видел? У нас же не было выставок…
– А кому они нужны, эти, с позволения сказать, «выставки»? Народу нужно реалистическое искусство, а не эти буржуазные выверты…
– Но твой Ван Гог тоже буржуазный выверт?
– Ну почему же, он цветовик хороший…
– Ну а то, что я делаю, это тоже буржуазный выверт? – спросил я.
– Нет, я уже обедал, – сказал отец.
– Разве я похож на буржуа, или мои идеи буржуазны?
– Врач велел мне делать лечебную гимнастику, – сказал отец.
– Почему же это формализм? Наоборот, я ищу форму, выражающую мои идеи…
– Ты плохо выглядишь, – сказал отец.
– Я хочу только одного: спокойно работать и иметь возможность показывать свой труд наравне с другими художниками на выставках… Я же не делаю порнографии или пропаганды войны или фашизма…
– Нет, – сказал отец, – завтра я поеду с мамой на дачу.
– Передай ей, пожалуйста, привет, – сказал я».
Володина история показалась мне грустной и безнадежной, как переписка Никола де Сталя с его приемным отцом. Среди выставок, на которые «бегали в молодости» Володины папа с мамой, были и выставки русского художественного авангарда. В первые десятилетия XX века в России был очень активный авангард. После русской революции 1917 года и после октябрьского большевистского переворота авангард был в русских городах еще популярнее, чем до революции. Большевики его поощряли. Может, потому что видели в нем протест против старого мира. Может, потому что авангард был молод и энергично теснил своих противников. А может, были и какие ни то побочные и случайные причины. Скажем, то, что главным комиссаром («народным комиссаром») по всем вопросам культуры стал у большевиков журналист-авангардист Луначарский. В бытность свою парижским корреспондентом какой-то провинциальной газеты он заезжал в художественную общагу на южной окраине Парижа, познакомился там с Штеренбергом и Шагалом, которых и уполномочил позднее быть комиссарами по искусству (снабдив их кожаными куртками, комиссарскими пайками и револьверами)… Позднее с авангардным искусством в России на четверть века было покончено. Одни искусствоведы считают, что у большевиков дошли руки до мелочей и они свернули голову авангарду. Другие считают, что русские авангардисты сами в этом отчасти виноваты: больно уж пылко они шли навстречу тоталитарной власти. Именно так считал известный московский искусствовед Игорь Голомшток. До эмиграции он жил в Москве неподалеку от нашей западной блочно-панельной окраины и был очень знаменит. Он даже издал книгу о Пикассо. О Пикассо в порядке исключения разрешено было кое-что писать и говорить, несмотря на его заметные отклонения от соцреализма, которые Москва прощала ему за то, что он был видный коммунист и борец за мир. Борьбой за мир называлась еще и до новой мировой войны, к которой так активно готовились большевики, всякая активность в пользу советской внешней политики. Так что Пикассо был полезный активист…
Позднее, когда уже посадили его соавтора по книге о Пикассо, Игорь Голомшток уехал с семьей в эмиграцию, а когда меня впервые выпустили в Англию по приглашению, я побывал у Голомштока в Оксфорде. Мы прогуливались с ним по улицам этого древнего университетского города, и я расспрашивал его о путях русского авангарда, с которым Игорь был хорошо знаком.
– Русские авангардисты хотели слиться с власть имущими, – сказал Игорь, – вот и пришли к тому, к чему шли, к безликому соцреализму.
– О, это были очень крутые мужики и дамы, – сказал я, проявляя начитанность. – Даже полезного, но недостаточно авангардного комиссара Шагала они из его родного города выселили в 24 часа, а он ведь так для авангарда старался. Потом пришлось ему маяться, сперва в Малаховке, потом на Лазурном Берегу Франции. Интересно, он кожаную комиссарскую куртку сдал при выезде? А револьвер?
– Иди-ка ты в свою православную церковь, – сказал мне Игорь, утомленный моим интересом к несущественным деталям. – А я пойду спать… Все равно искусство уже умерло.
Он часто так говорил, что искусство уже умерло, но я ему не верил. Искусство живет и процветает. Дети из хороших семей всегда будут углубляться в искусствоведенье. А в приемных у зубных врачей и кардиологов всегда будут висеть репродукции картин Кандинского. Может, они напоминают врачам счастливые студенческие годы, работу с микроскопом…
Но любопытно, что прежнее противостояние между «фигуративным» и «беспредметным» (таким, которому «приличествует не только отсутствие темы или сюжета, но и всякого изобразительного намерения» В. Вейдле) сохранялось и во второй половине XX века. К этому времени относится не только приведенный мной выше разговор отца с сыном в книге В. Янкилевского, но и рассуждения русского искусствоведа Владимира Вейдле, писавшего, что искусство того времени (1960 год) «самым решительным образом отмежевало себя от искусства девятнадцатого века, как и от искусства всех былых времен… между двумя веками разверзлась такая пропасть, что старожилы, верные заветам отцов или привычкам своей юности только дивятся и недоумевают… бредя по выставкам… современной живописи и скульптуры… Во всем мире существует нынче столь резкое расхождение между сторонниками и противниками модернизма… что разумная беседа между ними становится невозможной».
К послевоенноому противостоянию двух этих лагерей мы еще вернемся, ибо они сыграли решающую роль в жизни героя этой книги, а сейчас нам самое время вернуться на берег Средиземного моря в тот не слишком радостный для Европы 1942 год, когда в Ницце народился новый «беспредметный» (или, как выразилась видевшая его лишь однажды, в обществе Альберто Маньелли вдовая художница Соня Делонэ) «необъективный» художник Никола де Сталь.
Глава 19. Спасительные композиции
Итак, в 1942 году появляются на свет Божий первые абстрактные пастели Никола де Сталя, которые он называет «Композициями». Не слишком трудно предположить, от кого пошло это излюбленное мастерами и подмастерьями абстрактной живописи название.
Возможно, что от Кандинского. «Самое слово композиция , – писал Кандинский, – вызывало во мне внутреннюю вибрацию. Впоследствии я поставил себе целью своей жизни написать «Композицию»… С самого начала уже одно слово «композиция» звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением…»
Для Никола де Сталя возможность сесть перед чистым холстом и писать просто «из головы» (или что в душе накопилось, что наболело) оказалась спасительной. Он не раз настаивал в своих письмах на том, что диктует ему некто – тот самый сокрытый в нем «другой», который и пишет и рисует. Но понятно, что вся эта его душевная мука, которая так настоятельно искала исхода, накоплена была его жизненным опытом, былыми горестями, детским испугом, горечью потерь.
«Я стремлюсь достичь гармонии. Материалом для ее достижения служит мне живопись. Идеал мой определяет моя индивидуальность, моя личность, сложившаяся в результате всех впечатлений, полученных мной из внешнего мира на протяжении жизни, а равно и до рождения».
Все так просто и все так сложно, ибо и русские, и европейские, и африканские впечатления, и фламандские, и византийские влияния, и Курбе, и Зехерс, и Шарден, и Делонэ, и Маньели, и боль души, и одиночество, и сиротство – все переплавлено его индивидуальностью, характером, талантом. Все ему выпало свое, оттого на фоне множества «геометрических» и «лирических» и «конструктивных» абстрактных художников особняком стоит Никола де Сталь.
Вот как писал о том же много десятилетий спустя русский художник-москвич, мой друг В. Янкилевский:
«Художник вглядывается в чистый лист с закрытыми глазами, глядя одновременно и вовнутрь себя, пытаясь найти туннель, «внешнее» и во «внешнем» увидеть «внутреннее». В этом взгляде-видении «вовнутрь – вовне» и идет нащупывание, поиск той формы, что проявляется, «всплывает» из глубины белого пространства холста художественной волей художника, «увидевшего» и «утвердившего» эту уникальную форму из множества возможных, имплицитно сосуществующих в пространстве Универсума.
И в этой выявленной форме есть все: и Вечность, и Бог, и вчерашняя поездка в метро. И эта поездка в метро или авоська с вермишелью и водкой становятся окаменевшим отпечатком мгновения в вечном потоке времени, где человек находится в поле экзистенциального напряжения между жизнью и смертью».
За много столетий до нас с вами художественное творчество понимали как таинственный акт сотворения бытия из небытия. Стало быть, известно это было до всех «измов» и новейшей эстетики…
Несмотря на некоторые детали абстрактных полотен де Сталя, говорящих о его знакомстве с Маньели, Делонэ и другими, он стоит в абстрактной живописи особняком, не примыкая ни к «лирикам», ни к «геометристам», ни к «конструктивистам», ни к «неопластикам». Его старшая дочь Анна де Сталь так писала о ранней абстрактной живописи отца:
«На его картинах той поры рисунок, нервный, напряженный, напоминающий натянутую и вибрирующую скрипичную струну… Поверхность полотна иногда процарапана гвоздем или кончиком ножа, что дает более глубокое углубление, чем простая карандашная линия и создает решетку, заполненную краской. Глубина серой линии сгущает цвет до черноты и напоминает лезвие ножа».
О живописи той же поры Андре Шастель в своем знаменитом исследовании творчества Никола де Сталя (в начале 70-х годов) писал:
«Переход на язык абстракции в 1942-1943 гг отмечен был зубцами и узкими полосами, врезанными в темную палитру…»
Что же до автора новейшей монографии о де Стале Жан-Клода Маркаде, то он считает, что родство первых «Композиций» Никола с работами Маньели несомненно, во всяком случае, до 1944 года.
Искусствовед Арно Мансар, предупреждавший о том, что словами не передать живописи, в конце концов все же решается рассказать, что же там было на этих первых абстрактных полотнах Де Сталя и говорит о борьбе усилий, о состязании энергий, о мрачноватом фоне.
В том, что эта выплеснувшаяся наружу мрачность была вызвана потребностью души, в этом сходятся все искусствоведы. Но как легко догадаться, современный петербургский искусствовед (А. Костеневич) склонен видеть истоки этой мрачности в окружающей действительности, в обстоятельствах войны и бедности, даже, может быть, голода (куда ж человеку из Петрограда – Ленинграда деться от впитавшихся в кровь воспоминаний о голоде, о трупах на улице):
«С первого взгляда на них (на ранние полотна Никола де Сталя – Б.Н.) невозможно не почувствовать, что своим появлением на свет они обязаны мрачному беспокойству и тревогам времени. Ощущение времени выражено в них форсированно энергичной ритмикой и колючим напряжением форм. Можно сказать и иначе: эти картины, минуя посредство сюжета или узнаваемости форм натуры, напрямую выражали эмоции живописца».
Настроения пастели молодого де Сталя навевают мрачные, это правда, но с международным положением и с материальной скудостью они вряд ли были связаны напрямую. Скорее, художник стремился облегчить душу, а на душе у него было мрачно. Он в этом признавался неоднократно:
«… я пишу, чтоб освободиться от всех впечатлений, всех чувствований и всего, что меня тревожит, и избавление одно – в живописи».
Беспредметное искусство было идеальным способом раскрепощения души. Оно избавляло живописца от пут окружающего мира и даже правил былой живописи. Об этом немало говорили тогда как в их курортно – беженском художественном кругу, так и в кругах «основоположников». Вдова Робера Делонэ, одесская уроженка и некогда петербургская гимназистка Соня Штерн-Терк, а позднее «сама Делоне», которую Никола сподобился однажды видеть в Грасе (по протекции Маньелли), формулировала это с большой убежденностью:
«Абстрактное искусство – это начало освобождения от старого способа живописи. Но истинно новое искусство будет только тогда, когда поймут, что цвет живет своей собственной жизнью, что в бесконечных сочетаниях цвета есть своя поэзия и что поэтический язык их куда выразительней, чем старая живопись».
Однако раз уж соотечественница коснулась «старой живописи», кстати будет упомянуть, что абстрактный живописец Никола де Сталь до конца своих дней оставался пылким приверженцем и учеником именно этой «старой живописи» (и Курбе, и Шардена, и Рембрандта, и Гойи, и Веласкеса, и еще многих, что музеи притягивали его «как магнит».)
Не забудем также отметить, что он сохранил верность полотну и живописи («верность поколению полотна», как заметил в очерке о де Стале маститый Шастель). До конца своих дней де Сталь говорил о том, что прежде всего ценит «хорошую традиционную живопись» (сам он так и не соблазнился ни «монтажом», ни доступной россыпью мусора).
При этом он настаивал на том, что, хотя образы его идут прямым путем из подсознания, туда они все же поступают из окружающего нас мира, из прошлого, порой такого далекого прошлого, что и не упомнить.
Сам он боялся вспоминать, не вспоминал ни о ком. Через много лет после его гибели, выяснялось, иногда случайно, что еще многие его помнят. И не только антиквары, галеристы, искусствоведы, но и просто соседи…
Прошлой весной в Ницце, проходя под вечер по улочке Буасси д\'Англас, я обнаружил, что дом, где жили в начале сороковых Жанин Гийу, Никола Сталь и их дети (дом 8) выкрашен заново и желтеет, как цыпленок. Заботливые трудяги привинтили после ремонта дощечки с именами жильцов. Я остановился, начал читать имена и пережил легкий испуг: первым красовалось в списке имя Николай.
– Вернулся? – пробормотал я, следуя многолетней уже анахоретской привычке говорить с самим собой, – А на черта было уезжать из Ниццы?
Я нажал кнопку звонка у имени Николай и стал ждать, что будет дальше. Я не очень бы удивился, если бы он и вправду вышел, долговязый, худющий наш гений, Никола Сталь фон Хольштейн. Но вышла дама, не слишком молодая, но вполне еще бодрая.
– Месье! – сказала она, то ли здороваясь, то ли ставя под сомнение уместность моего существования. За тридцать лет своей здешней жизни я так и не смог привыкнуть к этому приветствию, как бы исключающему для меня, русскоязычного, всякую благожелательность.
– Мадам, – сказал я, не умея скрыть своего разочарования. Потом спросил не без робкой надежды:
– А что художник Николай? Они тут жили…
– Конечно! – воскликнула она с живостью, – тощий такой блондин. Очень тощий. И высокий. Она тоже была худая. Все коляску катала с младенцем. Младенец был смуглый. Кажется, девочка. А она… Так себе. Дама. Они над нами жили, на втором этаже. У них еще второй был ребенок. Мальчик…
– Вы их помните?
– Конечно, помню. Мне тогда двадцать два было. Хорошее время. У них, между прочим, гости бывали, тоже художники. На меня, конечно, пялились. Я ничего была, роскошная блондинка… А этот ваш Никола. Почти как у нас имя. Мой отец был Николаи. Мы все Николаи. Один раз случай был, в войну. Пришли полицейские моего отца забирать… За что забирать? Ну за то-сё, война, все крутятся. Полицейские тоже, как вы сегодня, перепутали – Никола, Николаи. Стучат к Сталю. Как раз над нами. Никола открыл дверь: «В чем дело?» Высокий такой блондин. Чистый немец. Говорил, что барон. Все может быть. Вы же слыхали: он себя порешил… Ну полицейские говорят: «Извините, не похож на этого, которого ищем. Только имя похожее…» И ушли. Проходят – на меня смотрят. Все смотрели. Было время… Да мне и сейчас еще… восемьдесят семь.
Невинное кокетство. Посчитал про себя (по-русски, конечно, считал) – выходило больше. Я сказал учтиво:
– Никогда не дашь. Какие наши годы…
Глава 20. Париж всегда Париж
В 1943 году Никола и Жанин столкнулось с новыми материальным трудностями. Главная добытчица Жанин теперь нянчила дочку, а глава семейства, который и раньше неохотно отрывался от мольберта для заработка, теперь и вовсе нашел свой путь в искусстве и отвлекаться для недостойных глупостей не хотел. С голоду впрочем в тот год и в Ницце никто не помер…
Забегая вперед, сообщим, что герой нашей книги достиг всего, о чем мечтал. Однако ждать ему оставалось немало, а пока надо было срочно что-то делать. Никола и Жанин решили переехать в Париж.
Известно стало, что в оккупированном Париже художнику выжить легче, чем в свободной Ницце. Об этом писали Жанин в письмах друзья, писал кузен-художник. Вообще, Париж – это Париж, и он манил всех неодолимо. Паническое бегство культурной элиты из Парижа в 1940 году на курорты Лазурного Берега было актом «сопротивления», но так долго жить вдали от бурного парижского кипения оказалось не под силу даже самым знаменитым «резистантам». Тем более, что известия из Парижа в 1941-1943 году приходили самые утешительные: культурная жизнь в столице била ключом. Вскоре после героического «исхода» начались репетиции в театрах, съемки новых фильмов. И не только на «Коварство и любовь» ходили парижане и «гости столицы». На годы оккупации приходится, скажем, режиссерский расцвет Юрия Анненкова. Он осуществил в эти годы постановку опер Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» в Большом зале Плейель, оперы Мусоргского «Женитьба», а в 1943 году поставил драму Грибоедова «Замужняя невеста». Опера и вовсе не простая была. Лифарь водил Геббельса по Дворцу Гарнье, послал приветственную телеграмму Гитлеру по случаю взятия Киева… Неудивительно, что дописав пьесу «Мухи» на пленительном острове Поркероль, устремился в Париж резистант Сартр, и зрительный зал, полный интеллигентных офицеров вермахта, рукоплескал новому достижению французского гения. Вернулись в Париж очень «левый» Жан Полан и другие законодатели культурной моды и вкуса. Конечно, и едва начавшему свою карьеру абстрактного живописца молодому апатриду де Сталю место было в исконной столице передовой живописи – в Париже.
Уже летом 1943 семья начала приготовления к отъезду. По дешевке распродавали мебель, освобождались от непроданных картин…
Как-то вечером, в неурочный час у дверей дома в Северной Ницце, где жил молодой букинист Жак Матарассо, раздался звонок. Хозяин обмер. Затаился. Приоткрыл занавеску. У входа маячила долговязая фигура де Сталя. Матарассо с облегчением загремел засовами.
– Я прощаться, – сказал Сталь. – И вот вам подарок.
Он сунул в руку растерянному Жаку пастель.
– Но почему?
– Вы первый купили мою абстракцию. Такое не забывается. Но я еще вернусь.
Когда стану знаменитым. Через десять лет.
– И вы знаете, он правда вернулся десять лет спустя, – сказал мне девяносточетырехлетний букинист Жак Матарассо в своем магазине на рю Лоншан в Ницце, – он и правда вернулся знаменитым, и я даже подготовился к его возвращению. Это целая история, я вам ее расскажу… А вот тогда, ночью, когда он позвонил у двери, я думал, за мной пришли…
– Отчего вы так думали?
– О, это другая история. Связанная с Сопротивлением. Вам, наверно, неинтересно. Вы их много слышали, историй о резистантах…
– Одну – две. В основном о русских резистантах. А вы француз. Редкая удача.
– Почему редкая?
– Потому что по официальным данным насчитали на всю страну, на полсотни мильонов французов, двадцать пять тыщ резистантов. Среди них «резистанты последнего часа», а то и вовсе липовые. А сколько их нынче осталось в живых? Так что мне повезло. Встретил настоящего. Расскажите, месье Жак.
– Ко мне в 41 году пришел Арман Фраден, он был из Бельгии. И в здешнем Сопротивлении он возглавлял связь с английской Интелидженс Сервис. Он предложил, чтобы я помогал им в хранении всяких бумаг. У меня в ящике стола лежали фальшивые бланки, печати… В общем, я был их почтовым ящиком. Понимаете?
– Да, как я понимаю, былая сеть коминтерна сгодилась Интелидженс Сервис, – сказал я, гордясь своей сообразительностью.
– Для ведения войны, – сказал месье Матарассо.
– Как раньше для ее разжигания. Но все равно. Большой риск. Нужна большая храбрость. И что было потом?
– Потом пришли итальянцы. В 43-ем. А в 44-ом немцы их выгнали и полиция стала лютовать… Сперва они по всей Ницце расклеили плакат «Как опознать еврея?» Потом к моей книжной лавке подъехала машина и вышли двое. Один был черненький, другой блондин. Они обыскали всю лавку, но бумаги не нашли. Они ящик стола открыли не до конца. А там в глубине…
– Халтурщики.
– Но они все равно повезли меня в гестапо. В отель Эксельсиор. На улице Дюрант. Да вы знаете… Там они меня раздели…
– И узнали всю правду.
– Нет. Они увидели, что я обрезан…
– Вот видите, мой друг…
– Но это ничего не значит! – возмущенно сказал месье Матарассо – Мне было семь лет, когда мне сделали обрезание. В гигиенических целях.
– И цель была достигнута, – сказал я, с завистью глядя на бодрого букиниста. – Завтра же запишусь к хирургу…
– Да. Мне уже девяносто четыре и здоров – грех жаловаться.
– Но им ничего нельзя доказать. У них были афиши, НИИ, специалисты, теоретики… Гиблое дело.
– Фраден мне тоже так сказал. Они отпустили меня до утра, а Фраден пришел ко мне и сказал, что мне надо бежать. Я пошел на вокзал. А там стоял эсесовец с особыми очками и смотрел, у кого еврейский нос.
– Чистый Проханов, – сказал я восхищенно. – И вы уехали?
– Да, я уехал в Ориак. Мой кузен Лео издавал там резистантскую газету. Он тоже прятался часто в Кантале, у тещи и тестя… Это было в 44-ом… Де Сталя тогда уже не было в Ницце.
Семья Никола де Сталя двинулась в путь в сентябре. Пересечение границы оккупированной зоны могло им грозить неприятностями. Благоразумнее было бы добираться по местным дорогам с Николаевым-то нансеновским паспортом и громкой национальностью – русский, но им обоим уже не терпелось: в Париж! В Париж! Париж решит все их проблемы – проблемы творчества, здоровья, питания, карьеры. Принесет ему заслуженную славу. Когда она будет заслужена. Или даже раньше… Они поехали напрямую…
И вот первый немецкий патруль. У Жанин не должно было быть трудностей. Бывшая полька снова была француженка.
И вот Николай неторопливо, с достоинством достает бумагу об увольнении из Иностранного Легиона. Немецкий офицер теребит странную эту Николаеву ксиву. И вдруг – чудо. Жанин с восторгом и с гордостью рассказывала в письме подруге, что там, в паспорте, аккуратным писарским почерком было крупно выведено: «Сталь фон Хольштейн». Рассказывала, что немец щелкнул каблуками, почтительно возвращая бумагу. Бывают же счастливые мгновенья в нашей недолгой жизни! Спасибо папе Фрисеро, сохранившему мальчику гордое имя.
Впрочем, последняя строка – это моя слабонервная русская импровизация. Никола ни к кому не испытывал этого плебейского чувства благодарности… И меньше всего к приемным родителям.
Ну а что до оккупированного Парижа, то Париж сулил им обоим удачу (если помнить о том, что всей жизни Жанин оставалось каких-нибудь три года).
Трудно сказать, с кого начался парижский успех Никола – со знакомства с художником-голландцем Сезар Домеля, адрес которого дал ему Маньели, или со встречи с галеристкой Жанной Бюше. Может, и Жанне Буше рекомендовал Сталя тот же Домеля еще до своего отъезда на каникулы. Впрочем, Никола однажды уже знакомили с Жанной Бюше года четыре тому назад, и хотя у него тогда не было работ, которые он мог бы ей показать, сам он произвел на нее благоприятное впечатление. Он вообще производил благоприятное впечатление на женщин, двухметровый блондин Никола, его лицо, его осанка, его бас, его странная речь, его романтическое происхождение, его баронство… Жанна Бюше впустила семью де Сталя в пустовавшее ателье художницы Марии Елены Виейра да Сильвы, бежавшей с приходом немцев в Бразилию, а чуть позже вручила ему ключи от двухэтажного особняка в квартале Батиньоль (улица Нолле 54), где жил известный декоратор Пьер Шаре, сбежавший от немцев в США. По свидетельству пасынка де Сталя, бежали Шаре с одним чемоданом, оставив дом, полный чудес и сокровищ. Не могу сказать, отчего из связки ключей, вверенной ей беженцами на хранение, очарованная галеристка выбрала ключи роскошного особняка на рю Нолле. Может быть, Никола рассказал, что он уже ночевал там однажды. То есть как бы не был за этой оградой человеком случайным. Так или иначе, все устроилось мгновенно, и в конце сентября Никола написал письмо на Лазурный Берег Альберто Маньели:
«Мой дорогой Маньели, нынче вечером получил ваше письмо и спешу сказать вам, как оно меня растрогало. Дело не только в том, что меня трогает все, что вы делаете, даже не замечая этого, но и в том, что в душе моей зародилось по отношению к вам истинно дружеское чувство, я не умею все это должным образом выразить в письме, но вы представить себе не можете, до какой степени и ваши произведения и вы сами были там и остаетесь здесь мне близки.
Париж производит впечатление необычного достоинства, я никогда не видел его таким красивым. Я видел Кандинского совсем коротко, он уехал на отдых, а Домеля еще не вернулся.
Я просто шалею от удовольствия во время прогулок, и несмотря на разнообразные трудности нашего здешнего устройства до конца войны, я очень рад, что я здесь. Что касается абстрактной живописи, то здесь ее не видно, в этом смысле мало что изменилось».
Пересказав своему благодетелю кое-какие новости о парижских художниках и выставках, Никола не без гордости сообщает о роскошном своем столичном обиталище:
«… Я живу в особняке, который снимал Пьер Шаре, отсюда я ушел на войну, и случаю было угодно, чтобы вернулся сюда: большое ателье внизу, другое наверху, дети весь день проводят в саду, а я работаю без передышки. Жанин в Бретани у своей матушки, вернется к субботе. Мы все еще не придем в себя от того, что поселились в таком дворце. У меня настоящая лихорадка, как бывает, когда хочется работать, а в Ницце с этим было так трудно».
Такое вот восторженное письмо прислал из Парижа старшему другу Никола де Сталь, и его можно понять. Тем более, что период очередной депрессии сменился у него подъемом, и ему снова хотелось работать. И все, о чем он пишет в письме, было правдой: красиво, тихо и малолюдно было в тогдашнем Батиньоле, после былого затемнения сиял огнями центр Парижа, звучали музыка и смех в кафе, кабаре и «заведениях» (число которых было щедро увеличено по рекомендации ученого душеведа и человеколюбца доктора Геббельса). Лирически склонялись над Сеной влюбленные пары…
А война? А как же война? Да, да, война, чуть не забыл. Такая забывчивость непростительна. Как раз в те годы молодая эмигрантская писательница Нина Берберова прислала русским друзьям открытку из Парижа. Вполне оптимистическую, хотя и менее восторженную, чем письмо Никола к другу Маньели. Ей потом пришлось годами оправдываться за эту правдивую открытку перед русской эмиграцией и в конце концов сбежать от упреков в Америку… Впрочем, и наиболее политкорректные из французских биографов де Сталя тоже испытывают некое неудобство, цитируя это искреннее письмо, и с неизменностью добавляют ханжеское:«как это не парадоксально». Иногда даже пытаются объяснить, где тут парадокс: «Лувр был закрыт» и, конечно, еще: «люди умирали от голоду». Внимательный читатель вспомнит, что хотя Лувр был и правда на время закрыт, для парижан открыли один новый музей (музей еврейской опасности), ну, а с голоду за последние сто лет никто в Париже не помер.
На самом деле и в письме Сталя и в открытке Нины Берберовой не содержалось обмана, и словечко «парадокс» может смутить лишь тех, кто не знает, что о некоторых эпизодах новейшей истории Франции вспоминать не положено. К примеру о том, что жизнь оккупированного Парижа очень мало была похожа на жизнь оккупированных Киева и Варшавы.
Париж веселился, пел, танцевал (пели Эдит Пиаф, Морис Шевалье и все прочие), в Париже тогда снимали больше фильмов, чем до войны, выросли сборы театров, в Париже звучала музыка. «Как ни парадоксально», русская музыка. Ярче, чем до войны и до оккупации, Париж сиял огнями увеселительных заведений всех рангов и достоинства. Одних только тех, что были открыты для героев Восточного фронта, было больше сотни.
И, пожалуй, больше других служителей муз выиграли от военных трудностей художники и маршаны, продававшие произведения искусства(во всяком случае те из них, кто мог доказать свое арийское происхождение). Об этом отважился сообщить в своей книге один из ранних биографов Никола де Сталя Ги Дюмюр:
«Большинство крупнейших арт-дилеров были евреями, так что им пришлось бежать, но на их место пришли другие».
Тем временем в Париже (как впрочем и в Ницце, о чем рассказывал мне антиквар месье Жак Матарассо) появилось немало новых покупателей. Дело было не только в том, что исчезли многие возможности для вложения капиталов, но и в том, что появилось несколько богатых покупателей из Берлина. Одни покупали произведения для музея Гитлера, другие – для знаменитой коллекции маршала Геринга. Конечно, и те и другие нуждались в оплаченных советах французских знатоков, но за знатоками и советчиками дело не стало. Один из этих советчиков-галеристов (месье Жак Дюбур) стал в скором времени поклонником и другом де Сталя.
Понятно, что повышение спроса на произведения искусства облегчило жизнь и маршанам и художникам. Упомянутая выше Нина Берберова из тесной бийанкурской квартирки, где она жила с первым мужем-поэтом, переехала с новым мужем-маршаном в пятикомнатную парижскую квартиру. Впервые смогла снять хорошее ателье замечательная художница Зинаида Серебрякова…
Что же касается интереса молодых художников Парижа к абстрактной живописи, то этот интерес (по меткому наблюдению того же Ги Дюмюра) был в немалой степени обострен нападками правой прессы на «дегенеративную» живопись (русские могли бы подтвердить это наблюдение более поздним, послевоенным русским опытом).
Так или иначе, Никола приехал в Париж вовремя.
Глава 21. Новые знакомства, первые успехи
Всемирно известный гений абстракции Василий Васильевич Кандинский, к которому направил де Сталя благожелательный Альберто Маньели, не мог служить новому парижанину опорой в предстоящей ему нелегкой борьбе за выживание и место в искусстве. Кандинский устал, и жить ему оставалось чуть больше года. А вот со вторым собратом Маньели по абстрактному искусству, с голландцем Сезаром Домеля молодого де Сталя связала дружба (как часто бывало со стороны ненадежного Сталя, пылкая и не слишком долговечная).
Домеля жил тогда в известном среди парижских художников «Квартале цветов» на бульваре Араго (том самом, где больше полвека снимал студию герой любовной лирики Анны Ахматовой мозаичист Борис фон Анреп). Никола чуть не ежедневно отправлялся из своего Батиньоля в студию нового друга на велосипеде, да и Домеля нередко добирался в батиньольский «дворец» де Сталя, вызывавший всеобщее восхищение. Вот как вспоминал о тогдашней вилле пасынок Никола Антек Теслар:
«Это был меблированный особняк. Шаре, судя по всему, уехал с одним чемоданом. Там быди настоящие сокровища, экспериментальная мебель, все по эскизам Корбюзье…»
Всей этой мебельной роскоши Никола нашел применение. По наблюдению Домеля, де Сталь не выпускал из рук топорик. Он рубил коллекционную мебель хозяев, полы и двери и топил железную печурку.
Сезар Домеля был на четырнадцать лет старше де Сталя (и пережил его еще на добрых тридцать семь лет). Он был, как и Маньели, автодидакт, самоучка, долго жил в Берлине, увлекался русскими конструктивистами, а потом бежал в Париж и там до конца своей долгой жизни тачал абстрактные «объекты». Чтоб получить представление об изготовленных им произведениях, полезно услышать суждение искусствоведа Михаила Германа о знаменитом шедевре Домеля «Рельеф № 12» и о самом мастере:
«Сезар Домела, уроженец Амстердама, занимавшийся до прихода к власти нацистов фотомонтажом в Берлине и переехавший в начале 1930-х в Париж, забыв отчасти о конструктивистских идеалах своей юности, обратился к созданию пластических конструкций, странно сочетавших редкую смелость пространственного решения, контраст материалов с фактурной изысканностью и даже некоторой избыточной нарядностью, в сущности чуждой самой природе скульптуры. Его «Рельеф № 12» выполнен из бакелита, плексигласа, латуни, и только очень внимательный, непраздный взгляд различит за светской репрезентативностью композиции резкую пластическую драму, свидетельствующую о высоком, хотя и несколько рационализированном мастерстве». Обладавшая как раз таким вот внимательным и непраздным взглядом Жанна Бюше пригласила абстрактного мастера Домеля принять участие в выставке вместе с самим Кандинским. Ну а Домеля посоветовал ей взять к ним для компании молодого де Сталя. Жанна поразмыслила и согласилась. Собственно, ей и самой нравились и работы Сталя и сам Сталь. Так все и началось, Париж определенно принес Никола де Сталю удачу.
Выставка у Жанны Бюше должна была открыться в начале января 1944 года, первая парижская выставка начинающего абстрактного художника. Коллективная, конечно, выставка, не персональная, но в каком соседстве, в каком сообществе – с самим Василием Кандинским, с самим Домеля, да еще у самой Жанны Бюше, которая известна была и галеристам, и маршанам, и художественным критикам точностью своего глаза (глаз алмаз!). Разве это не она пригласила лет пятнадцать тому назад выставиться вместе со знаменитым живописцем Компильи мало кому известного тогда скульптора Джакометти, а в 1939-ом в пару к Кандинскому добавила скульптора Этьена Хаждю?
Жанна побывала в мастерской у Никола и осталась довольна. Кандинский тоже не возражал против участия начинающего де Сталя, ему понравился этот тощий верзила, уроженец Петропавловской крепости…
Никола де Сталю оставалось только писать, писать, писать. На счастье, у него был период возбужденного подъема.
Жанин была рядом с ним. Она больше не писала, уступив ему все место, все недешевые краски. У нее были маленький ребенок и заботы по прокормлению семейства. Так что если это и было жертвой, то счастливой жертвой. Да, пожалуй, и сил у нее и не оставалось на многое.
Никола писал весь день и часть ночи. Он еще вырабатывал стиль Никола де Сталя. Пока это был фантастический ночной стиль. Отталкиваясь от какого ни то реального предмета (скажем, от молотка, ножниц или мастихина) рвущаяся из недр его смятенной души фантазия рождала мрачные и изысканные композиции, звавшие к прочтению и разгадке. О тогдашних его картинах искусствовед Жермен Виат писал так:
«Его работы в то время отличались нервным, напряженным, извилистым рисунком, напоминавшим вибрацию натянутой скрипичной струны… Поверхность картины изборождена была гвоздем или острием ножа…»
Кандинский дал на выставку несколько новых гуашей, Домеля три «предмета», а де Сталь несколько малых и три больших полотна, для которых Жанна Бюше сама задним числом придумывала названия (Композиция из треугольников, Дневные лучи…). Задним же числом одна из картин была посвящена памяти Кандинского.
Сама опытная Жанна и объявила, что выставка будет нелегальной или полулегальной. Не будут печатать и рассылать приглашений, она даже не пойдет с извещением к немецкому цензору капитану Ланге в бюро «Пропаганд Штаффель», что размещалась на Елисейских Полях в доме 52. Капитан непременно спросил бы, нет ли среди ее художников евреев. В остальном его мало занимали все эти художественные изыски: у немцев к этому времени возникли заботы покруче дурацких споров беспредметников с реалистами.
Поскольку о выставке знали на Монпарнасе все кому нужно и даже не нужно, в том числе знаменитости и их окружение, кишевшее доносчиками, нелегальность выставки, открытой на знаменитом бульваре Монпарнас, была лишь пиар-ходом, способным подогреть интерес интеллигентной публики. Точно так же, как более позднее описание всех этих тайн во французских биографиях де Сталя (Жанна Бюше предстает в них в образе Жанны д\'Арк Великого Беспредметного Искусства). Это правда, что в 1937 году нацисты провели кампанию против «дегенеративной» живописи, но кампания была им выгодна тогда, и в Берлине, а не в Париже. Кое-кого из малооплачиваемых журналистов коллоборантских газет тема «дегенеративного», конечно же, «неарийского» искусства еще могла подкормить в трудную минуту бестемья, но человека, жившего когда-нибудь в «нормальной» тоталитарной стране, размышления галеристки над тем, идти или не идти к цензору, могут только насмешить. Во времена моей журналистской молодости даже российский печатник, готовящий этикетки для банок с хреном, знал, что без подписи цензора (как правило, спившегося разведчика) хрен не поступит в продажу. К тому же в Париже в ту вегетарьянскую пору выставлялись уже без вреда для здоровья и сюрреалисты, и любые исты, а в 1942, кстати, впервые выставил на Распае свои абстракции Андрей Ланской. Много чего начиналось в те бурные годы.
Но конечно, всякий аромат полулегальности и полузапрещенности сильно повышает шансы на успех. В шестидесятые и семидесятые годы минувшего века этой тонкостью не пренебрегали и московские беспредметники, водившие на таинственные чердаки взволнованных дипломатов из спокойных стран западного мира.
Как можно было предсказать, выставка у Жанны Бюше прошла благополучно. Были все, кто интересуется и кому положено, а также друзья тех, кто интересуется и кому положено (как шутили в послевоенной Москве, Марсо Марсель и Николь Курсель). Был, конечно, Андрей Ланской (ему тогда маньелиевская геометрия де Сталя не понравилась), был знаменитый Пикассо, конечно, с возлюбленной, одной из самых прославленных – с Дорой Маар. В Париже потом рассказывали, что маленький Пикассо, увидев огромного де Сталя, попросился к нему на ручки. Может, и попросился, хотя вероятнее, шутка была придумана позже. Такие острые словечки придумывают и в Париже острословы-профессионалы за столиком кафе (так же, как армянские и еврейские анекдоты в Москве). Почтенный Василий Кандинский назвал эту выставку «моральной победой» и звал друга Маньели приехать в столицу из ривьерской глуши и выставиться вместе с ним. И Маньели собрался в дорогу.
Кстати, если и была во всей этой истории какая-нибудь опасная подпольщина, то ее надо искать по женской линии. И у Маньели, и у Домеля жены (их звали Сюзи и Рут) были еврейки, так что они и жили, и путешествовали в ту пору с поддельными документами, как генерал Владимир Сталь фон Хольштейн при большевиках. Откройся эта жуткая тайна художницких жен, гореть бы им обеим в печах крематориев, укромно размещенных на польской территории.
Парижская художественная критика вполне легально откликнулась на монпарнасскую нелегальную выставку. Критик Габриэль Жозеф Гро сообщил в художественном журнале «Бозар» (номер за 25 февраля 1944 года), что пытаясь избежать предметности, художники, выставленные Жанной Бюше, прибегают к геометрическим фигурам, полоскам и декоративным элементам, но не выходят за рамки поверхностного украшательства. Как ведется и по сей день во французской прессе, все нефранцузские имена были в статейке перевраны, а прославленный Кандинский был небрежно назван Кандускиным.
Альберто Маньели на выставку у Жанны Бюше, которая длилась всего неделю, опоздал. И тогда находившаяся под покровительством Жанны галерея «Эскиз», размещавшаяся на Кэ дез Орфевр (под боком у Дворца правосудия, полиции и будущего кабинета сименоновского инспектора Мегре) решила устроить выставку сразу четырех абстрактных художников (Кандинский, Домеля, Маньели и де Сталь). На сей раз были афиши и на них вполне открыто было обозначено, что это выставка абстрактной живописи и «композиций из материалов». Вернисаж состоялся 7 апреля 1944 года, и выставка должна была продлиться целый месяц. Уже в первые дни были проданы две работы де Сталя и, может, дальше пошло бы все еще лучше, но через неделю на выставку забрели два гестаповца, и этот визит (может быть, вполне праздный и безобидный, хотя и противный) так испугал галериста Панье, что он попросил художников все снять со стен галереи и залечь на дно. Понятно, что история эта интригует французских биографов, ибо прямым путем вводит в героическую атмосферу времен оккупации.
По французским книгам бродит легенда о том, что в подвале под галереей «Эскиз» хранилось оружие Резистанса. Она и вдохновила Лорана Грельсамера (автора самой подробной биографии де Сталя) на воистину героические гипотезы. Скажем, такую: Жанна Бюше могла знать, что «Эскиз» служит (перевожу старательно и восхищенно) «крышей для члена подпольной коммунистической партии, одного из самых важных агентов связи с советскими службами» – ее друга Панье? Так, может, она и сама прибегала к услугам «сети Робинсона», изготовлявшей фальшивые документы, «если надо было помочь тому или иному беженцу-художнику в его бедах?» – восхищенно грезит Грельсамер. Ведь помогла же «сеть Робинсона» самому Морису Торезу дезертировать из французской армии в тот самый момент, когда ей пришлось оказывать сопротивление немцам… Воображение Грельсамера воссоздает сцену ночной деятельности коммунистов-галеристов, которые, заперев под вечер двери своей галереи, «приступали к настоящей работе»…
Еще дальше идет по этому пути жизнеописатель де Сталя Жером Виат. Он включает скромную галерею Панье в подпольную сеть Жана Мулена, рекомендованного де Голлем для руководства всем Сопротивлением…
Увы, несмотря на все усилия биографов, прилепить к «сопротивлению» безразличного к политике де Сталя никак не удается. Однако, самые причины этих попыток небезынтересны. Распространение легенд о бескрайнем французском Сопротивлении (чьи усилия и привели к освобождению Европы от нацизма) стало после войны одним из важных занятий французской исторической науки и пропаганды, сотворивших истинную «сагу» о минувшей войне. Именно так назвал продукт коллективных усилий своих коллег член Французской Академии, видный историк Пьер Нора. Мотивы этих титанических усилий историков без труда можно понять. Даже если насчитать на всю Францию 25 тысяч Резистантов, то и эта с усердием воздвигнутая цифра покажется до крайности скромной в сравнении с населением страны или даже с той сотней тысяч молодых французов, которые пожелали добровольно вступить в Ваффен-СС, с той сотней тысяч пылких активистов, что вступили в прогитлеровскую партию былого коммуниста Доррио, с тридцатитысячной антирезистантской вспомогательно-добровольной милицией Дарнана, с теми тысячами французских тружеников, что уехали в Германию добровольно – подработать на немецких военных заводах. Франция была в войну главным поставщиком рабочей силы для рейха (лишь на строительстве оборонительной линии Атлантического вала было занято чуть не полмильона французов).
Но, может, и нам, по примеру солидных биографов, следует отвлечься от скромных первых успехов нашего героя и оглядеться по сторонам. Что происходило в Париже в том бурном 1944-м после четырех лет немецкой оккупации?
В конце апреля Париж посетил отец нации, прославленный генерал Петен. Восторженные толпы парижан устремились на площадь Отель де Виль, требуя, чтобы любимый вождь вышел на балкон мэрии. Вождь вышел, и площадь огласилась восторженными приветствиями. Газеты писали, что Париж сохранил верность Петену, напоминали о том, что милиция Дарнана активно сотрудничает с немцами в установлении «авторитарного и социалистического» режима. Кстати, Париж в то время еще был обклеен так называемой «красной афишей», сообщавшей о расстреле членов антифашистской террористической группы Мисака Манушана. На афише были имена расстрелянных и их фотографии, чтобы каждый мог убедиться, что среди них нет ни одного француза – все как есть эмигранты, армяне, итальянцы, евреи, чехи, да еще вдобавок красные, как сама афиша…
Итак, мирный Париж 1944 года был еще городом искусства и сотрудничества. Группы парижских актеров, эстрадных певцов и художников (в их числе «дегенеративные» Сегонзак и Дерен) только что посетили дружественный Берлин. Петен горячо поздравил Гитлера, сбросившего в море канадцев и грозившего исконным врагам Франции, злокозненным англичанам. Согласию и миру не видно было конца, да и легко ли представить себе конец «тысячелетнего рейха»?
Конечно, сказываются трудности войны. Все чаще перебои со снабжением. Продукты приходится «доставать»… Весной 1944 один из родственных Дейролей, Эмиль, брат художника Жана, заехал на рю Нолле и предложил забрать маленькую Анну и Антека к себе на ферму, что под Сен-Назером: там у него скот, молока – залейся, масло, овощи…
Дети уехали, и письма Жанин кузине в провинцию звучали теперь оптимистично:
«Мы вдвоем и счастливы и несчастны… совершенно свободны и сыты, непривычно позволяем себе всякие вкусные вещи, которые обычно покупаем на стороне и откладываем для деток. Мое сердце тоже немножко пришло в норму. Мы работаем и чаще выходим по вечерам. Пойдем наконец на «Антигону» и «Сатиновые туфельки», о которых я тебе напишу».
Счастье, впрочем, оказалось недолгим. Шестого июня 1944 года злокозненные англичане, вместе с десятками тысяч злокозненных американцев, поляков и недобитых канадцев (а с ними и восемь десятков приблудных французов) высадились на нормандском берегу.
В конце августа и в Париже тоже начались бои. Самые долгие (целую неделю) шли у мэрии, на площади Отель де Виль. Большинство парижан разумно сидело дома, но были и такие, что интересовались невиданными сражениями, толпились неподалеку от мэрии, или просто продолжали стоять в очередях за продуктами, в результате чего при освобождении Парижа погибло больше пятисот мирных жителей. Вторая бронетанковая дивизия генерала Леклера, созданная в рамках американской армии со специальной этой "столичной" целью, потеряла130 человек, зато немцев было убито больше трех тысяч. Тринадцати тысячам немцев посчастливилось сдаться в плен. Вторая бронетанковая дивизия обеспечила безопасное пешее прохождение генерала де Голля по Елисейским полям до самой площади Согласия, где он и встретился с некоторым количеством парижан, которые, узнав, что это новый отец нации, приветствовали его криками. Так что самым активным из парижан посчастливилось в тот год аплодировать сразу двум отцам нации, старому и новому. Речь нового была длиннее. Он пылко говорил о бедном, героическом, истерзанном, измордованном Париже. Так, словно его самого привезли не из военного Лондона, а из курортного Майами. В конце того же года де Голль полетел в Москву, чтобы представиться Сталину и хоть как-то противодействовать злокозненным американцам, которые вообразили себя освободителями. Сегодня любой французский школьник знает, что и Францию, и Европу освободила Вторая бронетанковая генерала Леклера (единственная «наша» из пятидесяти дивизий в одной из огромных американских армий)…
В тот самый час, когда не успевшие осмыслить все исторические перемены парижане аплодировали на плас де ла Конкорд новому отцу нации, во двор дома 54 по улице Нолле ворвались освободители из Французских Внутренних Сил (FFI). Сосед донес, что Никола или Жанин, в общем, кто-то из их дома стрелял по резистантам. Хозяев дома поставили лицом к стене, и отважные освободители произвели обыск. Никакого оружия в истерзанном доме они не нашли, ничего особо подозрительного не увидели. Увидели какие то странные картины, изрубленную лестницу, дырки в паркетном полу, остатки изрубленной топором мебели – все, что обитатель дома 54 еще не успел сжечь в железной печурке. Мстители ушли искать новых виновников французских бед, сообразуясь с новыми доносами. Доносительство во Франции тех лет достигло особых размеров. Раньше доносили на спасавших свою бесценную жизнь евреев. Но летом 1944 года ситуация резко изменилась. Донос на еврея не мог больше принести ни дохода, ни морального удовлетворения. Напротив, у выжившего еврея можно было взять справку о гуманном отношении. Теперь коллоборанты стали доносить на коллоборантов, а потом все вместе – на распутных женщин: «Обращаю ваше внимание: она спала с немцем». Новые мушкетеры брили женщин наголо и обритыми выставляли на посмешище героическому населению…
Все эти события мало затронули нашего героя-художника. Правда, ему пришлось съездить в Бретань за детьми. Помогла любезная Натали, работавшая у Жанны Бюше. На ее машине они доехали до линии фронта и пересекли ее на велосипедах. К машине вернулись уже с с детьми.
В октябре в Париже открылся Осенний салон художников, посвященный на сей раз Пабло Пикассо.Теперь окончательно выяснилось, что Пикассо, к которому и культурные нацисты заглядывали не раз поглядеть на живопись и потолковать об искусстве, оказался настоящим коммунистом, а былые коминтерновцы были теперь в чести. Они были из тех немногих профессионалов, что сотрудничали с разведкой союзников.
И авангардисты, в том числе абстрактные художники, теперь были в чести. Они не уставали напоминать публике о том, что на выставке 1937 года нацисты (а позже и нацистские подпевалы, вроде Бразийяка, который был расстрелян и расплатился за всех) назвали их искусство «дегенеративным». И вот в освобожденном Париже открылась огромная выставка главного, самого плодовитого и изобретательного из «дегенератов». Пикассо выставил 74 картины и пять скульптур. Меньший зал отдали авангардистам второго поколения, меньшим братьям, тоже, впрочем, дожившим со временем до известности – их имена были Базэн, Менесьер, Ле Моаль, Ла Сенэзьер. И конечно, де Сталь, которому суждено было затмить всех «меньших». Он уже тогда знал об этом, а Старшего Брата недолюбливал, хотя и гордился тем, что был к нему вхож.
На рю Нолле, в истерзанном особняке, где жили Никола и Жанин, как и в войну, время от времени собирались друзья. Жанин умела и любила угощать гостей. Бывали родственники Жанин, Жан Дейроль, художники, поэты, монах-доминиканец отец Лаваль, супруги Домеля… Говорили об искусстве, спорили, ужинали, пили вино. Сезар Домеля вспоминал позднее, что Никола не расставался с топориком, которым он вырубал топливо для печурки среди уцелевшей мебели, как в лесу. Очередь дошла до полок библиотеки из жарких пальмовых дощечек.
Как бы упрекая нищего художника в мотовстве, Домеля отмечал также, что угощение часто бывало роскошным. (При чтении этих заметок невольно вспоминается поразивший скромного Лукина ресторанный омар на блюде…) Впрочем, французские биографы не дают нам забыть, что жареная курица у хозяев была несчастная, а заяц жалкий, и что в целом Париже только на приемах у галериста Луи Карре угощение и в ту пору бывало по-настоящему обильным.
Жанин умела привлекать в их дом гостей. Она была обаятельной и остроумной. Навещавший ее доктор Морис Ивер знал, что у нее серьезные проблемы с сердцем. Она уже почти перестала работать. В доме теперь оставался один художник, один гений. Она знала о нем больше, чем все окружающие. Она утешала его в дни и месяцы его неудач и депрессии. Знала все его слабости. Но и в них видела лишь подтверждение его особости, его гениальности. Иногда она вела о нем записи в своем дневничке, то ли влюбленной прозой, то ли влюбленными стихами:
Свою правду я вверила
Ему, от рожденья лжецу,
Кто не скажет ни слова правдивого.
Он ложью живет.
И гениальная ложъ его, изреченная перед миром,
Станет реальностью ощутимой.
Впрочем, в ту самую пору обнаружилось, что гениев в доме два, оба представителя мужского пола в семье были гениальны. Это было большим утешением для измученной женщины. Гениальным поэтом оказался двенадцатилетний пасынок Никола де Сталя Антек Теслар. Он взрослел быстро, и жизнь ему выпала непростая. Раннее детство прошло в Польше и в бродяжьих скитаниях по марокканским пустошам. Потом были без восторга его встретившие Бретань, Ницца и Париж, вечная охота за пищей. Уже в Ницце малолетний Антек проявил себя как незаурядный снабженец и опора семьи. Знал, где что и на что можно выменять. Помогал матери ухаживать за сестричкой. С отчимом отношения были вполне здравые и дружеские. Никола не лез в дела пасынка, съедал добытое десятилетним мальцом и возвращался к трудностям творчества или очередному приступу уныния. Избыток эмоций, если таковой случался, он отдавал крошечной дочурке. Так что Антеку оставалось взрослеть, и он это делал успешно. Школой его не мучали, кое-чему научили дома грамотные родители, он писал (возможно, не слишком грамотно, но кто ж тут научится всем тонкостям этой головоломной грамматики), кое-что читал и много слушал. Был о многом наслышан – и на улице и дома.
В Париже ему пришлось суетиться еще больше. Труднее стало доставать продукты, покупать, выменивать, выпрашивать, комбинировать… Он все больше торчал на улице и научился всякому, может, и подворовывать. Во всяком случае, однажды в особняк на рю Нолле явилась возмущенная соседка-вдова и объявила о пропаже дорогих для ее памяти предметов, какой-то сумочки и еще каких-то мелочей. Все перечисленные дамой предметы отыскались у Антека, и Никола пришел в ярость. Только этого им не хватало… Никола взял испуганного воришку за руку и повел его вверх по лестнице – выше, выше, на самые антресоли. Там он посадил пасынка на запыленный стул перед запыленным столиком и сказал, что отныне он не дожен отсюда отлучаться, вплоть до особого разрешения. Произнеся этот приговор, грозный Никола спустился вниз и предался своим собственным печалям.
Антек же, осмотревшись, принялся за изучение чердака, заваленного всякой любопытной рухлядью, картинами, книгами, бумагами. Как он позднее рассказывал, он видел там даже эскизы Корбюзье для той самой мебели, которую так успешно рубил его зябнущий ковбой-отчим. Исследовав чердачные сокровища и притомившись, узник антресолей присел к запыленному столику, взял тетрадь с карандашами и начал писать.
В этом доме все что-нибудь да писали – картины, прозу, стихи. Как многие в его возрасте, Антек предпочел стихи. Занятие оказалось таким увлекательным, что он продолжил его назавтра и угомонился только тогда, когда вся тетрадь была исписана. В эту пору к нему на свидание был в порядке исключения допущен родственник из провинции, собравшийся уезжать домой. Болтая с антресольным узником о том о сем, родственник открыл тетрадь и обнаружил там странные колонки строк. Спустившись вниз, родственник принес семье сенсационное сообщение о том, что Антек пишет стихи. Думаю, что в русском доме такое сообщение мало кого удивило бы, но у нас речь идет о чужой жизни. Для обитателей и гостей дома на рю Нолле «стихи» было словом магическим. Стихи – это еще не картины и не скульптуры, но уже нечто близкое к искусству, почти как музыка… Жанин пришла в необычайное волнение. Еще один поэт в ее доме! Чего-то в этом духе она ждала от своего Антека. И вот дождалась. Еще один гений. Значит, все было не напрасно.
Жанин без конца читала сама и давала читать окружающим эти сыновние опыты. И все признавали, не могли не признать, что это гениально. Жанин не успокоилась, пока стихи не прочел один из посетителей их дома, который был настоящий, профессиональный поэт – Пьер Реверди. Он подтвердил, что это совершенно феноменально.
– Сколько ему лет?
– Двенадцать. Еще нет тринадцати.
Реверди задумался:
– Да, феноменально. С этим надо что-то делать…
– Надо. Подумайте…
Жанин не оставила в покое Реверди, пока он не придумал, что они будут делать. Реверди покажет эти гениальные стихи своему другу, гениальному художнику Жоржу Браку и, если Брак согласится сделать рисунок для книжечки стихов, никакой издатель не откажется от такого уникального издания…
Французские биографы де Сталя цитируют стихи, но когда речь доходит до русских переводов… Молодая Ахматова была озадачена, познакомившись с французской поэзией сто лет тому назад, и легкомысленно сообщила, что уже тогда французская живопись съела французскую поэзию. Но может, и правда съела. Не нам судить… И все же…Обратите внимание на то, как русские переводчики состязаются в бесчисленных переводах все тех же двух, вернее, только двух, стихов – «Моста Мирабо» Аполлинера и Верленовского романса про дождик: вероятно, они только и кажутся русским единственно поэтичными…
Из строк малолетнего Антека чаще всего обращают внимание на его афоризм о стене, мужчине и женщине, хотя нередко цитируют и другие его стихи:
Я сын всего мира,
Гуляющий по Парижу.
Париж принял меня
Я его поглощаю и впитываю
Это наш взаимный Париж
Я брожу здесь и живу,
Я гляжу наяву
Вот иду я в Шатле
Всех спектаклей на земле
Я ищу тот ров бездонный
Куда сбросили Вийона
Прохожу я над веками
Чтоб свою найти судьбу
В жизни тех людей что проходили
По Парижу где иду.
Очевидно, что малолетний Антек уже о многом наслышан, что он считает себя обреченным на славу и живет в окружении гениев авангарда.
Я иду со своей невезухой
Со своей голодухой
Той что вертится
Так как круглая
Мой живот не круглится однако
Со своей голодухой иду
Со своей невезухой и хлебом
По далекой дороге под небом
И вина моя тоже длинна
Голодуха моя видна
Не унять ее даже хлебом.
Поэт Пьер Реверди показал стихи Антека великому художнику Жоржу Браку, и Брак позвал в гости молодого гения, к себе в парижское ателье, в гости. Брак обещал украсить сборник поэзии своим бесценным рисунком, и Жанин с восторгом писала сестре:
«Книга стихов Антека будет называться «Антресоль» и выйдет под псевдонимом Антуан Тюдаль. Это будет роскошное издание с цветной литографией Брака и оно выйдет (тъфу-тьфу не сглазить) до конца месяца».
Сразу два гения в одной семье… Это было большим утешением для бедной, угасающей Жанин.
Роскошное, дорогое издание стихов вышло в свет небольшим тиражом, и Жанин даже удалось продать несколько экземпляров среди друзей. Антек оказался вундеркиндом. После этого он прожил долгую жизнь, но как и большинство вундеркиндов, не превзошел своего чудесного детского триумфа… Помнится, у меня был как-то симпатичный наставник на ялтинском семинаре драматургов, довольно известный московский драматург. В нежном возрасте он написал пьесу, которую похвалил сам Горький. С тех пор он вырос, написал много пьес, которые были поставлены в московских театрах, но былой его триумф не повторился: Горького не было в живых, и никто больше не стоял на такой заоблачной вершине авторитетности…
Пожилой Антек и ныне живет в былом парижском ателье Никола де Сталя, но нет больше ни Брака, ни Сталя…
Впрочем, надо напомнить, что именно благодаря Антеку в жизнь Никола де Сталя тогда вошли (насколько вообще можно было войти в загадочный лабиринт этой жизни) несколько надолго задержавшихся рядом с нашим героем живых существ.
Первым из них оказался прославленный Жорж Брак. Он был больше чем на тридцать лет старше Никола, прошел большой путь от маляра и декоратора до почти, можно сказать, основоположника одного из моднейшего в XX веке живописных направлений. Рассказывают, что именно по поводу его картины, выставленной в салоне, удачливый критик сказал что-то про кубики, из которых Брак слагает свои образы. И вот, мол, пошло-поехало: кубики, кубизм…
Со времен Великой войны Брак несколько отдалился от главнейшего тогдашнего кубиста, от испанца Пикассо, но среди французов он оставался главным и сколько он всего напридумывал в живописи не беремся даже все перечислить.
Поскольку всякого художника историки искусства и маршаны-галеристы стараются в целях лучшего понимания, убедительной рекламы и успешного сбыта приблизить к какой-нибудь эпохальной фигуре, то и Никола де Сталя (который на самом деле стоит особняком и сам вполне эпохален), стараясь как ни то его квалифицировать, причисляют к браковскому окружению. И верно ведь, после истории с «Антресолью», отчим Антека Никола де Сталь, который уже был шапочно знаком по выставкам со знаменитым Браком, стал вхож к великому мастеру, заходил к нему в гости, беседовал с ним, почтительно разглядывал полотна и оглядывал мастерскую.
Понятно, что биографов не может оставлять равнодушным вопрос о том, как Брак влиял на молодого художника «своего круга». Уж наверняка как-то влиял. Хотя бы примером бесконечного труда. Примером вечного поиска. Или, скажем, примером философского отношения к трудностям, к скудости и неудачам… Между прочим, именно супруга Жоржа Брака Марселина предупредила однажды де Сталя, что бедность пережить еще не самое трудное: труднее пережить богатство. Вероятно, Никола принял это за шутку, за парадокс. Да и богатство пока не маячило на горизонте…
Сам Жорж Брак не раз бывал в доме на рю Нолле, но воспоминаний о нем не оставил. На радость биографам сохранились от тех времен дневниковые записи молодого Марка Ивера. Он был сыном доброго доктора Мориса Ивера, наблюдавшего в ту пору за здоровьем Жанин. Дневниковые записи всегда казались мне интересней и достовернее мемуаров, так что позволю себе процитировать эти записи юного докторского сына.
«27.5.45
Антек уже приходил к отцу за справкой для своей матери, у которой больное сердце. Это четырнадцатилетний мальчик, которому на вид не дашь больше десяти.
В воскресенье я в первый раз пошел к ним в дом 54 по рю Нолле. Дом продан, они должны выехать, а жаль, потому что место невероятное и им очень подходит… Антек побежал искать отчима, чтобы открыть дом. Ставни в нем заперты, потому что двери разбиты на куски.
Я вошел в комнату, забитую полотнами Сталя, все разрушено, четыре комнаты без дверей, потолок почти провалился. Несколько полотен, огромные, но хорошие, как правило, очень абстрактные, но мне нравятся, так сказать, «красивая живопись», «хорошая работа» и везде видна его индивидуальность.
Через пять минут пришел Сталь. Огромный, не меньше двух метров, и голос как оркестр.
… Пришел месье Перре со своими друзьями, которые наверно, купили много картин.
Мы поднялись на второй этаж. Я знакомлюсь с мадам… настоящая покойница, зеленоватый оттенок кожи. Короче, сердечница. А на самом деле, существо замечательное, и ум в ней так и светится.
Она побежала искать стихи своего сына, чтобы мне показать, и я подумал, что это признак ее материнской любви… У нее поразительно живая речь. Так льется потоком, что отдельные слова даже не выделяешь.
«13.6.45
Сталь приготовил нам чай, вернулся с половиной длинного хлеба, который он разрезал и смазал маслом. Потом он принес нам огромный поднос со сладким творогом, чтобы намазать сверху. Странное блюдо, но недурно.
Реверди принес двух кур, пакет и огромный чемодан с 30 бутылками розового вина. Пиршество длилось до 3 или до 4 утра. Сожгли многие двери дома…
22.1Х
Они еще несколько дней будут на улице Кампань-Премьер. Я говорил ему (де Сталю), что мне хочется пойти с ним к Пикассо, чтобы с ним познакомиться. Он сказал, что мне это только повредит, потому что Пикассо не любит, чтобы ему слишком откровенно говорили, если на его картинах что-нибудь не понравится. Он любит, чтоб ему льстили, так что появление в обществе Сталя может мне только повредить. Мне показалось, что у него очень много показного, саморекламы…»
Глава 22. Таланты и поклонники, великие покойники
Скромные коллективные выставки все же ввели нового парижанина де Сталя в круг художников, знатоков искусства, галеристов и маршанов, помогли завести друзей и приобрести поклонников. Без поклонников-меценатов художнику, не имеющему внехудожественных доходов, выжить и вовсе невозможно. Выставки 1944 и 1945 года, а также близость к окружению Сезара Домеля и Альберто Маньели расширили круг парижских знакомых Никола, а со временем и круг его покровителей, его покупателей. Среди них были и художники, и любители, и просто тонкие знатоки искусства, и торговцы живописью, и поэты, и люди близкие к художественным кругам, и родственники Жанин. Одним из новых друзей Никола стал чуть раньше него пришедший к абстрактной живописи русский аристократ, граф Андрей Михайлович Ланской. Если верить ему, он был потомок того самого графа Ланского, который унаследовал супружеское ложе Пушкина, взяв в жены его вдову со всеми ее детьми и влиятельными связями. Русский эмигрант, художник Андрей Ланской был всего на двенадцать лет старше Никола де Сталя, но каждый из этих двенадцати лет стоил многих довоенных или мирных бельгийских. Как и Сезар Домеля или Альберто Маньели, он был самоучка. Годы его отрочества переломили война и революция. Он успел поучиться всего год в Пажеском корпусе и один год в гимназии, а семнадцати лет от роду юный аристократ Ланской ушел в белую армию драться с большевиками. Кто предскажет нам дороги и тропы судьбы? Чуть позднее, в Париже, Ланской был облеплен эмигрантскими большевиками, как сахар мухами, но судя по воспоминаниям, он к тому времени больше не придавал значения ничему, кроме занятий живописью. Понятно, что биографы и в жизни самых классических самоучек ищут – у кого учился, кого посещал. И всегда то ни се находят, не вполне, впрочем, точно. Вот про Ланского пишут, что в Киеве он заходил в студию А.Экстер, а в Париже к Судейкину. Но сколько раз заходил, теперь уже спросить некого. При ближайшем рассмотрении короткой и заполненной под завязку трудами и неприятностями парижской жизни Судейкина отыскать в ней щель для уроков трудно. А вот кто принял Ланского в Париже с распростертыми объятьями, так это были молодые парижские художники и их леваки-пастыри Ромов, Барт, Зданевич, Ларионов, а также их пробольшевистские группы «Удар» и «Через». В эту вот компанию левой молодежи (Терешкович, Карский, Воловик, Минчин) и тех, что были постарше, но там же паслись (вроде Пуни, Кременя, Липшица, Сутина, Цадкина, Грановского), и вошел в Париже Ланской: сидел с ними в кафе, где толковали о новой российской безграничной свободе, и уже через два года начал участвовать в ими организованных выставках. Сперва в большой коллективной в галерее «Ликорн», потом в галереях «Кармин» и «Анри» вместе с недавним красноармейцем Костей Терешковичем и недавним комиссаром Марком Шагалом. Оба были, впрочем, дезертиры и беженцы-эмигранты (Костя, как положено, бежал в Константинополь и оттуда в трюме добрался в Марсель, а комиссар Шагал сбежал из командировки, но вероятно, наган и кожаную куртку успел сдать то ли на границе, то ли еще в Москве). На выставке в галерее «Кармин» добрый человек, большевик Сергей Ромов охарактеризовал Ланского как художника «русской школы», произрастающей из «французской школы». Зато на афише Ромов представил Ланского как графа, потому что уже известно было, что новой российской власти, перебившей чуть не всех аристократов, хотелось бы заиметь своих «красных графов» на самых заметных участках жизни.
B конце 20-х на живопись Ланского (в ту пору еще вполне фигуративную) обратил внимание художественный критик и коллекционер Вильгельм Уде, некогда сосед, и даже супруг молодой художницы Сони Терк, что была родом из города красивых женщин Одессы. На самом деле никакие женщины, даже бойкие одесские (вроде Дины Верни), даже с петербургским гимназическим образованием (вроде Сони Терк) знаменитого Уде не интересовали. Его интересовало искусство, и может, еще чуток мужчины. Но родственникам, материально поддерживавшим бескорыстные усилия Вильгельма на ниве искусства, было бы приятнее, если б он женился. Да и Сонины приемные родители были обеспокоены одиночеством девушки в чужом городе. Желая укрепить свою экономическую базу и успокоить кормильцев, Соня и Вильгельм вступили в брак, освященный искусством. Чуть позднее Соня вышла замуж за Робера Делоне, а Вильгельм, среди прочих своих открытий на ниве искусства, открыл Ланского и даже написал о нем статью. Конечно, в статье содержались намеки на влияние Достоевского (но какой же иностранец, заговорив о русском, избежит намеков на Достоевского?). Зато, дописав свою статью, Вильгельм Уде привел Ланского на рю Боэси в престижную галерею «Бинг» и представил его знакомым галеристам. Так Ланской попал в одну компанию с такими знаменитостями, как Брак, Дерен, Руссо, Матисс, Бонар, Фрис, Ван Донген, Марке, Вламинк… А главное, в галерее этой произошло одно воистину судьбоносное для Ланского знакомство: он познакомился с пятидесятилетним Роже Дютийелем (или Дютильелем), и знакомство это оказалось более важным для жизни и творчества Ланского, чем все перечисленные выше столь престижные и столь лестные для любого художника знакомства. Ибо Роже Дютийель был коллекционер и меценат. Он мог не просто выручить художника, купив у него картину, он мог покупать много картин и выручать из беды многих художников. Ко времени его знакомства с Ланским имена художников, которых меценат Роже Дютийоль выручил из беды, могли бы украсить любую художественную энциклопедию: Брак, Вламинк, Дерен, Шаршун, Модильяни, Миро, Бошан, Марке, Руссо, Фрис, Вюйяр, Ван Донген, Руо, Матисс… Ученый искусствовед Бертье так писал об этом в своей диссертации:
«В условиях рыночной экономики, когда произведение искусства является товаром, положение художника зависит от спроса. Роль коллекционеров авангардной живописи в конце Х1Х и в первые годы XX века была не пустячной. Лишь они, вместе с несколькими маршанами, смогли оказывать своим любимым художникам материальную и моральную поддержку… Тот же Ланской получал материальную возможность продолжать работу на протяжении семнадцати лет исключительно благодаря Дютийелю». Ланского Дютийель любовно называл «мой колорист», а когда любимец его стал мало-помалу переходить к абстракции, меценат оговаривал в письмах к другим своим художникам некое особое право «своего колориста» на эту стезю, которая многим казалась и соблазнительной и доступной и притом героичной:
«…избегайте «абстракции», которой Ланской, может быть, и есть один-единственный представитель, поскольку он художник искренний и уже успел с разных сторон (как примитивист, как самоучка) утвердиться в живописи – пейзажами, цветными портретами, натюрмортами и т.д. Поскольку он утвердился, он может многое себе позволить. Он человек честный, и он не ищет в абстракции фальшивых тайн, того, что многим критикам кажется «религиозным»… Ланской – чистейшей воды православный, со всей церковной практикой. Вот почему он кончит свою жизнь в изгнании. Он верует во все, даже в свою «абстракцию». Я уважаю его веру».
В творчестве Ланского, по наблюдению искусствоведа Жан-Клода Маркаде, прежде всего «брызнул… СВЕТ»:
«Это мистический свет, исходящий из недр изначального света, прошедший через призму духовности. Это и есть тот свет, который озаряет витражи средневековых соборов. Как в церковных витражах, в картинах Ланского есть всегда доминирующий цвет: синий, фиолетовый, индиговый, красный, черный, белый, зеленый, всегда чистый, яркий, певучий, как в иконописи. Его палитра блещет оргией красок, вибрирующих наподобие русской старинной песни, выражающей гаммы мельчайших чувств, которые сопровождают главнейшие события человеческого существования…»
Я позволил себе привести столь длинную цитату из старой статьи Жан-Клода Маркаде, желая обратить ваше внимание на проблему света, которую любили обсуждать Ланской с Никола де Сталем (уверен, что о таких вещах они говорили по-французски, а не по-русски). Решение ее Ланской считал своей главной удачей в живописи. А тридцать лет спустя Ланской признал однажды, что решение этой проблемы удалось и его другу Никола де Сталю. Такая похвала многого стоит. Никола дер Сталь ее не услышал. Его уже давно не было на свете…
Однако не будем спешить. Вернемся в «сороковые роковые», как назвал их русский поэт-фронтовик. Для парижан они, впрочем, не были столь уж безысходными. В 1942 году Андрей Ланской провел свою первую персональную выставку абстрактной живописи в парижской галерее Берри-Распай. Вторая выставка абстрактной живописи Андрея Ланского состоялась в 1944 году. В том же 1944 году вполне уже маститый художник Андрей Ланской и познакомился с младшим собратом по искусству Никола де Сталем. В мрачноватой абстрактной живописи де Сталя Ланской видел большие задатки, однако посмеивался над маньелевской геометрической выверенностью ранних полотен де Сталя, над всеми этими сегментами и углами, которые казались младшему неизбежными спутниками абстракции. Ланской призывал де Сталя к большей смелости, к введению в композиции звучащих аккордов белого и красного.
Ученый исследователь творчества Никола де Сталя, внучка художника Мари де Буше находит в некоторых тогдашних полотнах де Сталя сходство с построением абстракций Ланского. Не думаю, что даже самые интересные находки такого рода столь уж существенны. Абстрактные полотна тридцатидвухлетнего Никола де Сталя были «зрительным залом его души», а боль его души была особой, его собственной. В «незабываемом» 1919-м Андрей Ланской был уже мужчина, пусть даже и совсем юный. Он умел принимать взрослые решения, он ушел воевать. А пятилетний Никола прижимался тогда испуганно к спасительной материнской шубке, и кругом были ночь и снег, и ужас погони, и зловеще чернела кобура нагана на боку у комиссара, проверявшего документы беглецов, наверняка фальшивые…
А теперь по ночам в мастерской на парижской рю Нолле рождались на свет эти мрачные черно-коричневые, странные, сложные, большие полотна…
1944 год был годом многих потерь. Умер Альберто Маньели. Умер прославленный Мондриан. А 13 декабря в западном предместье Парижа, в Нейи-сюр-Сен умер на 79-ом году жизни Василий Кандинский.
Его отпевали в Александро-Невском соборе на рю Дарю. Истаивали в пальцах тонкие свечи, золотом мерцали оклады икон, пел хор, женские голоса уплывали в нездешнюю даль. Что-то смутно всплывало в памяти Никола де Сталя, может, иконостас Петропавловского собора, ангелочки на польском кладбище под серым небом…
Вместе с Андреем Ланским и другими Никола нес на плече гроб Кандинского… Может, не случайно первый его визит в Париже был к Кандинскому, первая его выставка в Париже была с Кандинским… Никола решил, что он посвятит Кандинскому то самое, большое (113 на 78) полотно с выставки…
Он уже знал, что выставки будут еще. А вот продлится ли этот ветер, что несет тебя куда-то, несет, несет и вдруг – спадает… И тогда ждешь в глухой тишине ночи, чтоб он вернулся, подул с новой силой, ждешь в страхе, что он не вернется, не повторится. Что уже никогда не вернутся желанье и сила. Боже, как страшно…
Глава 23. Порыв ветра
В том 1944 году Никола написал не больше полутора десятков картин (не так много в сравнении с грядущими годами безудержности, когда он будет писать по две с половиной сотни полотен).
Среди начатых в 1944 и законченных в 1945-ом были большие и очень сложные абстрактные полотна, вроде сходу купленной его поклонником Луи Кэле картины «Порыв ветра». Известно, что названия для абстрактных полотен де Сталя Жанна Бюше придумывала сама. Они бывали навеяны случайными и неслучайными впечатлениями. Откуда же взялся ветер в этом изощренном, замкнутом, герметичном полотне? Думаю, и порыв, и ветер в названье картины пришли не случайно. Думаю, они пришли из безудержных, порой казавшихся лишь ассоциативно связанными друг с другом исповедальных фраз молодого художника, из наблюдений внимательной галеристки над взлетами и спадами его вдохновенья, над сменой озорства и отчаянья в его взгляде…
Слово ветер, как и многие другие французские слова в личном его словаре, имело для словотворца – сюрреалиста де Сталя собственный, зашифрованный, герметичный смысл, а также особую эмоциональную окраску, которая становилась все более угрожающей по мере углубления его душевного кризиса. В сороковые годы порыв ветра был чем-то сулившим ему мрачное возбуждение, прилив безудержной силы и энергии, полуночного труда. С начала пятидесятых «ветер» (все чаще упоминаемый в письмах, но не представленный, как, скажем, у того же Сутина, на полотнах) свидетельствует о пугающих переменах, упадке, непостоянстве, даже смертельной угрозе… Впрочем, нам с вами еще далеко до пятидесятых, вернемся в середину сороковых, к знаменитым «большим абстракциям», среди которых особую известность и приобрел «Порыв ветра».
О работе Никола де Сталя над ранними абстрактными полотнами так писал младший сын художника Гюстав де Сталь:
«В первых своих абстрактных картинах он без конца накладывает один на другой слои краски, скребет, счищает, врубается в эти слои до самого полотна, подобно тому, как пахарь выворачивает слоями землю из глубины на свет солнца, вспахивая полосу на поле и проходя по нему раз за разом со своим плугом. Перепахивает картину, на которой с неистовством создает все эти композиции из элипсов, обрывков и обрезков прутьев и завитков, извлекаемых на свет из мрака небытия. Когда стремительная поспешность влечет его за собой, встречному потоку удается сдержать его руку, завладеть и повелевать его жестом. И только, когда стихийная материя смирится, руке его бывает позволено выстроить гармонию. Щедро расходуя материю, он горделиво отдается разорительному порыву, не щадя материальных затрат. Эти полотна, при создании которых он дает волю жесту, доходящему до любой крайности, свидетельствуют о безвыходных лабиринтах, в которые заходила душевная жизнь художника. Палитре его приходилось ограничиваться коричневым, серым и черным. Блуждая в этих тонах, он искал дорогу к дневному свету, хотя за окном в ту пору стояла ночная тьма. Всю свою жизнь искал он проблеск этого света, пробиваясь к нему из мрака. И свет возникал в результате тончайшей оркестровки отблеска ближних цветов».
В этом описании Гюстав сводит воедино характеристику художественного жеста с подробностями ночного (в ту пору жизни по преимуществу ночного) труда неистового, тридцатилетнего живописца-отца, сталкивает догадки о тяготах его существования с поэтическими образами.
(Впрочем, о мельком здесь упомянутых материальных затратах можно найти и реальные, бытовые отклики – в письме Жанин Гийу к сестре Никола Ольге де Сталь: «Он пишет большие полотна, размером больше самого себя и тратит по 10000 франков в месяц на краски, зарабатывает до 23000 и занимает со всех точек зрения так много места, что я вовсе перестала работать…»)
Что же до выбора темных красок из экономии, гипотезу эту давно опровергли расчеты знатоков, доказавших, что и белая, и красная, и прочие краски обошлись бы художнику не намного дороже темных. Ведь и отнюдь не бедствовавший в ту пору Брак прибегал к темным.
А вот наблюдение о без труда узнаваемой смелости художественного жеста и особой привлекательности палитры де Сталя, оно бесспорно. Об этом писали не раз историки искусства. Сошлюсь на одного из самых престижных и требовательных критиков искусства Андре Шастеля:
«С 1944 года все более утончается каемка полотен Сталя, возрастает притягательность их поверхности, которая как бы впитывает краски, причем он покрывает ее все более толстым маслянистым покровом. От серого к черному с желтыми и коричневыми просветами и со все более очевидными и менее беглыми красными. Вся эта вязь способна привести на память миниатюры раннего средневековья, где разнообразные формы, сплетаясь и расходясь в нервном напряжении, теряются где-то в непрестанном движении».
Тот же Андре Шастель, считавший абстрактные полотна де Сталя этой поры «очень сложными и герметичными произведениями», высказывал догадку, что художник черпает свои образы из некоего ускользающего хранилища. Вот это тонкое наблюдение, впрямую восходящее к «Порыву ветра» и темным залежам души художника:
«Речь идет об очень сложных и герметических произведениях, черпающих образы из некого весьма переменчивого хранилища…
… какие-то косые спазмы, клеевые пики, застывшие языки пламени, скованные и недвижные переплетения, а то и вовсе беспорядочные пятна, где порой пятно становится фоном, или наоборот…»
Анализируя эти полотна, петербургский искусствовед Костаневич говорит об их «форсированной энергичной ритмике и колючем напряжении форм».
О поражавшей поклонников де Сталя его палитре знаменитая галеристка Жанна Бюше сказала, что это воистину «бархатная палитра». Услышав это суждение, тонкий ценитель искусства и меценат Жан Борэ, состоятельный промышленник, представлявший в Париже семейное производство текстильных изделий, в письме к де Сталю дерзнул оспорить авторитетной галеристки:
«Бархатная палитра, говорит Бюше, я бы скорее сказал, что это написано зубной пастой, эликсиром зубной пасты, здесь слюна и капелька крови из десен, и все это связывается, сочетается, принимает единство души, тела, движется или приводит в движение или сулит привести в движение в будущем; все это становится интересным, особенно в связи с тем, что это недорого, но цены на недорогую живопись становятся ныне такими заоблачными, что я даже не отважился справиться у мадам Бюше, сколько это может стоить…»
В том же письме мецената наряду с гимном зубной пасте («это чудо из чудес, волнующее воображение ребенка, который спрятан в глубине каждого из нас») содержалась осторожная похвала линии де Сталя:
«Она пока еще несколько холодна, нова. Ломайте ее, как певец ломает голос. Чтобы запеть, надо сделать усилие и победить свой голос, чтоб он возродился потом в своей первородной естественности».
О картинах этого периода (условно говоря, до и сразу после Освобождения, то бишь, 1943-45 гг) существует целая литература, затрагивающая разные стороны живописи Никола де Сталя. Конечно, и современникам и более поздним искусствоведам очевидны агрессивность, динамизм, с трудом обуздываемые сила и энергия этого едва вышедшего на арену абстрактной живописи (что касается Франции, арену пока еще довольно пустынную) и долго ждавшего своего раскрепощенья художника. Вот что писал о тогдашних картинах де Сталя художественный критик Арно Мансар в своей книге о де Стале, вышедшей в парижском издательстве «La Мanufacture» в 1990 году:
«В первую очередь полотно его выражает игру мускулов, проявление и столкновение энергий; мощь его арабесок бывает как правило подчеркнута и увенчана толщиной мазка (здесь царят мастихин, широкий нож или лопаточка, а не кисть), цвет он часто выбирает нейтральный (коричневый, серый и т.д.), притом что кое-где попадается тон поживее, в каких-то язычках пламени, мерцающих охрой, синевой, ярко-желтым…»
Мансар отмечает, что в 1944 году в картинах де Сталя еще нередки геометрические формы и какие-то сооружения, напоминающие строительные леса, вполне ненадежные, близкие к распаду. Иногда во мраке вспыхивают красные искры, а граненые оконечности форм и срезы оживляют картину. Порой же квадраты или пестрые ленты словно летят в пустоте, подброшенные невидимым фокусником.
Анри Мансар задается вопросом, не поддался ли де Сталь влиянию рельефов своего первого парижского друга Сезара Домеля.
Думается, что опасения критика напрасны. Полотна де Сталя с самого начала далеко ушли от творений всех почитаемых им друзей – и Маньели, и Домеля, и Ланского, и даже, вероятно, самого Брака, великого Брака, которого де Сталь и в конце своего пути ставил в один ряд с божественным Учелло.
Надо сказать, что не каждая из «больших» картин (а размеры их с годами становились все убедительней) удостоилась отдельного разбора в книгах о жизни и творчестве де Сталя. По понятной причине повезло картине «Порыв ветра», явившейся в значительной мере пограничной для творчества де Сталя – картине обаятельной, загадочной, наводящей на размышления, допускающей бесконечное число разгадок и толкований, как, впрочем, и положено абстрактному полотну.
Начать можно с того, что многим из знатоков (как, кстати, и самому Де Сталю) полотно это не казалось столь уж «абстрактным». Де Сталь не любил этого слова и утверждал, что если что-либо на его картинах и не является реальным, то уж пространство на них наверняка реально. А пространство в художественном мире де Сталя значило много, и он писал об этом не раз.
Особое внимание на проблемы пространства обращал уже Кандинский.
А нынешние источники мудрости (скажем, «Энциклопедия русского авангарда», Минск, 2003 г.) признают, что «само пространство есть некий абстрактный язык, который используется дла разных типов художественного моделирования», что «пространственная схема, превращаясь в абстрактный язык, способна выражать разные содержательные понятия», а «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства».
Последняя фраза, без сомнения, извлечена из обширной работы о. Павла Флоренского «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях». Универсальный ученый и православный священник отец Павел Флоренский в тот год, когда маленького Никола тайком увезли из Петрограда, еще читал курс о пространственности в высших художественных мастерских в Москве, но к тому времени, когда Никола де Сталь обратился в оккупированном Париже к проблеме пространства в живописи, отец Павел уже дотягивал десятый год заключения в советском концлагере и вскоре сгинул на одном из Соловецких островов…
«Образной делает живопись Сталя ее трехмерность, – писал добрых полвека спустя петербургский искусствовед Альберт Костаневич, – что заметно отличает его от основоположников абстракции, не только от Малевича, Купки, Робера Делоне, но и от Кандинского».
Костаневич настаивает на том, что в абстрактных полотнах де Сталя человек внимательный разглядит немало аллюзий и значимых мотивов, «мотивов не пустяковых или каких-то случайных, а предполагающих контекст наиболее сущностных пластов культуры».
«…у живописи Сталя, и в этом одно из ее достоинств или, по крайней мере, отличий, – пишет А. Костаневич, – действительно имеются немалые ресурсы самообъяснения, не только потому, что она выразительна и краски радуют глаз, но еще и потому, что ее содержание может не исчерпываться всего лишь игрой отвлеченных форм. Беспредметная картина Сталя может оказаться содержательной в более или менее традиционном смысле этого слова. В ней содержатся элементы экспликативности, поскольку художник не держался за раз и навсегда выбранную форму».
Переводя это с искусствоведческого на язык родных осин, выясняем, что в беспредметных и абстрактных картинах де Сталя можно усмотреть кое-какие, хотя бы изначально присутствовавшие предметы и некое содержание. Подобное суждение о живописи де Сталя можно, впрочем, найти и у французских авторов. К примеру, почтенный Бернар Дориваль, возглавлявший Музей современного искусства, писал, что из всех абстрактных художников де Сталь «несомненно… наилучшим образом избегает опасности декоративности и достигает наибольшей человечности».
Правда, когда дело доходит до трактовки содержания абстрактного полотна и разнообразных аллюзий, услеженных искусствоведами, возникают, естественно, разночтения, которые, впрочем, никоим образом не умаляют ни ценности полотна, ни глубины его замысла, ни его философичности. Примером может служить тот же «Порыв ветра», о котором писали так часто и охотно.
Первое слово следует предоставить любимой старшей дочери художника парижанке Анне де Сталь. Она искусствовед, прозаик и поэт, много писала о картинах отца и вообще – lаdiеs firsт. В своей книге «От линии к цвету» Анна де Сталь среди прочего сообщает о том, что она видит на знаменитой картине:
«Что касается картины «Порыв ветра», на которой при рассмотрении частей ее в целом представлено нечто вроде корабельной надстройки, остатков ковчега, разметанных ураганом и собранных в некую модель нового мира. Вот окна, одни освещены, другие темны в этой композиции, сложенной из разнообразных лезвий и треугольников, которые устремляются в промоину вслед за разрушительной волной».
Описание это уточняет в своей книжке «Невиданный свет» (Париж, «Галлимар». 2003) внучка де Сталя и дочь Анны Мари де Буше, тоже искусствовед и философ. Она сообщает: «Начиная с «Порыва ветра» (1944-1945), форма и материал нерасторжимы. Сталь находит здесь форму выражения своего внутреннего видения, обозначая элементы присущей ему поэзии, которые будут появляться с неизменностью в его последующих произведениях. Их передает темная палитра, пронзаемая лезвиями серпа и «углами», и подсвеченная откуда-то снизу просочившимся светом, в каждой картине очень точно найденным».
Понятно, что молодой француженке нехватает здесь очертаний молота (кстати, кое-где у де Сталя мелькающих), увы, разлученного с серпом, хотя внучка и высказывает политкорректное предположение, что ее дед вывез все же из тогдашнего смертоносного Петрограда некий энтузиазм революции.
Художник Сезар Домеля, часто встречавшийся со Сталем в пору создания «Порыва ветра» считал своего младшего собрата «ночным художником», о чем свидетельствовали, по мнению Домеля, все его тогдашние картины. Позднее Домеля так писал в своих воспоминаниях о Стале:
«Он жил в те времена в особняке, который он сжигал в трудные дни, сперва деревья в саду, потом двери, лестницы, да и все, что можно было пустить на дрова… Это был по преимуществу ночной художник и картины его на это указывают достаточно. Часто он просыпался среди ночи и писал до рассвета, и к утру голос у него становился еще более глухим, а глаза краснели и наливались кровью».
Русские поклонники де Сталя высказываются о знаменитом полотне «Порыв ветра» с большим энтузиазмом.
«Крутая работа, – говорит молодой московский художник Илья Комов. – Средствами композиции де Сталю удается передать сложнейшие, глубокие переживания. Здесь идеально отобрано главное, очень точное видение цвета. Это, знаете, как музыка, когда нельзя описать словами, нельзя прокомментировать, но можно сопереживать, все почувствовать. А тут каждый миллиметр цвета несет переживание, вибрирует. И предельный лаконизм… Обратите внимание, как разные работы передают настроение. Они фигуративны, его работы, но точка зрения абстрактная…»
В 2003 году, приглашая жителей Петербурга посетить первую в Россию выставку знаменитого уроженца города Петра, кураторы «Эрмитажа» (в числе их и Альберт Костаневич) сообщали непривычному посетителю, что и с чем следует им ассоциировать:
«Композиции» середины 1940-х гг. Ассоциируются со скалами, нагромождениями лавы, зарослями. Полные ломаных линий «Композиции» вскоре как будто организуются и смиряются. Рубцы и кривые линии уступают плоскость холста вертикалям и горизонталям…»
В общем, рекомендуется ассоциировать со скалами. Впрочем, в 2003 году уже было позволено и в Петербурге иметь другие ассоциации в связи со столь отвлеченными и далекими от политики предметами. Тот же Альберт Костаневич писал в обширной статье, помещенной в великолепном каталоге выставки, и о «безукоризненном видении цвета» в ранних «Композициях» Сталя, и о «мощной лаконичности» этих абстрактных полотен, и, конечно, о свете де Сталя:
«Свет – одно из главных средств его живописи, то мерцающий в неровностях текстуры, то трубной медью сверкающих высветлений прорезывающий мерный фоновый гул и тем самым организующий ритмическую основу всей живописной структуры. Звучания красок то замирающие, то нарастающие и обогащенные обертонами и вибрато, то глуховатая, но очень слышная, заметная работа ударных. Такая живопись требовала не только колористического дара, но и особой врожденной музыкальности».
Так писал искусствовед из города композитора Глазунова о выходце из глазуновской семьи, художнике, давно известном всему миру и наконец показанном на родине.
Парижскому абстрактному художнику Александру Аккерману то, что предстает на полотне «Порыв ветра», представляется заоконным видом, а тонкая рамка внизу, по краю полотна – подоконником.
– Мы словно заглядываем в другой мир… – интимно сообщает мне почтенный мастер абстракции Саша Аккерман в кафе у площади Италии, – Там тайный мир художника, как говорят французы, jardin secret, его потаенный сад. У него там своя собственная топография, своя фактура. Своя живописная хиромантия, все полно значения. И это мерцание, эта вибрация по краю форм. Белые эти просветы, они светоносны. И обрати внимание на цвет, который виден из-под другого цвета, как цемент выходит из-под кирпичей при кладке. Важно, как был положен цемент, как лег кирпич… Ну и, конечно, музыкальность цвета, музыка цвета…
… Живущий в Париже известный московский художник-авангардист Владимир Янкилевский считает «Порыв ветра» полотном большого философского звучания.
А известная московская художница Алена Романова обращает все же внимание на замкнутость, герметичность, загроможденность того же полотна, его мрачность и непохожесть на позднего Сталя. К ее оценке присоединяется и легендарный московский искусствовед Андрей Сарабьянов.
Сходные наблюдения были сделаны и некоторыми французскими искусствоведами. Вот что писал о картинах 1944-45 гг и более позднем открытии «ночным художником» ясного неба автор очень толковой книги о Никола де Стале Ален Мадлен-Пердрийя:
«… за этими абстрактными работами художника, так тесно загроможденными деталями, так отчаянно изборожденными, процарапанными линиями, такими мрачными и замкнутыми – за ними стояло открытие просторного, ясного неба, о котором он словно забыл на время, отважимся сказать, пытался о нем забыть…»
И все же очень высоко оценивают это полотно живущие попеременно то дома в Париже, то дома в Москве, то дома на Оке, в Тарусе, маститый абстрактный художник Эдуард Штейнберг и его жена-искусствовед Галина Маневич.
– Для меня это вообще очень важные люди, эта четверка русских де Сталь, Шаршун, Поляков, Ланской… – говорит мне Эдик, – Но первый среди них де Сталь. В его живописи – метафизика, религия. Это все очень значительно.
– Недавно я видел оригинал одной ранней абстракции, – говорю я, – «Порыв ветра».
– Где ты видел оригинал?
– О, это целая история. Я ждал сына у станции…
– Как поживает твой знаменитый сын? Где он? – спрашивает жена Эдика.
– Я же говорю: это целая история…
Я и на самом деле ждал сына на площади у маленькой железнодорожной станции Болье-сюр-мер, что к востоку от Ниццы. Станция была выбрана для меня, безлошадного, а сын должен был подъехать на машине, откуда-то из Швейцарии, кажется, из Цюриха. Я не видел его целых два года. Он был занят, и дела не завлекали его в те углы, где я вольняшкой досиживал свой пожизненный срок – ни в глухую деревушку на границе Бургундии и Шампани, ни в Северную Ниццу. Но потом он вдруг позвонил мне среди ночи откуда-то из Португальской Индии и сказал, что мы сможем повидаться. Вдобавок я смогу увидеть его жену и впервые – своего внука, которому уже два года. Он сказал, что он приедет и поселится во дворце над морем, а я могу пока сидеть дома и ждать его звонка. Я сказал, что дома мне не усидится. Кроме того у меня был печальный тридцатилетний опыт напрасного ожидания обещанных звонков во Франции, где такое обещанье просто форма вежливого прощания («Созвонимся… Вам непременно позвонят…») Я предпочел ждать у станции, пока мой сын одолеет препятствия неблизкой дороги. В ожидании его приезда я гулял по главной улочке дачного поселка Болье, вспоминая всех русских, что гуляли тут до меня… Ложно обвиненный в убийстве и откупившийся крупной взяткой драматург Сухово-Кобылин. Он тут прожил большую часть жизни…Антон Павлович Чехов, приезжавшей в гости к Максиму Ковалевскому. Мережковский, гостивший на вилле Максима. Софья Ковалевская, влюбившаяся в однофамильца и собравшаяся за него замуж: одна из первых жертв феминизма… Сама крошечная вилла Ковалевского стояла в конце улицы под горой. Год назад ее снесли муниципальные торгаши, которые и в грош не ставят ни свои, ни чужие памятники… Я все ходил да ходил, и час, и два, и три, печалуясь о чужих несложивших жизнях. Вспомнил, что по улице этой гуляли цветаевский друг, добродушный эсер Марк Слоним, лихой, обедневший уже прохиндей Коля Рябушинский, крошечный гений Стравинский с громоздкой супругой художника Судейкина, гулял англичанин Сомерсет Моэм со своим дружком-шофером…
Иззябнув, я грелся у повара в ресторане «Агава» и снова выходил на привокзальную площадь. Тут-то возле меня и остановилась какая-то современная машина со множеством колес (все как есть ведущие). К моему великому удивлению, меня окликнули по имени, и я увидел, что за рулем сидит Сергей.
С Сергеем мы познакомились сравнительно недавно. Нас познакомил здесь же, на Лазурном Берегу лондонский арт-дилер Валерий Жерлицын, который помогал нескольким живущим на берегу коллекционерам в поисках и покупке картин. Валерий с некоторым даже удивлением рассказывал мне о восторженной увлеченности своего клиента, московского предпринимателя, современной живописью. И вот однажды мы встретились втроем за столиком кафе под деревьями Кур Салейя в Старой Ницце. Мне хорошо запомнилась эта встреча. Мальчонка лет шести, игравший в футбол тут же, под деревьями, с неизменностью попадал мячом в наш кофе. И тогда из-за соседнего столика приходил с извинениями его молодой папа. Услышав, что мы говорим по-русски, симпатичный папа стал вполне сносно извиняться по-нашему, и я выяснил, что он приходился родственником одной из самых ярких героинь былой русской эмиграции, светлейшей княгине Софье Волконской, чью замечательную книжечку («Горе побежденным») я давно уже мечтаю переиздать…
После нашей встречи в Старой Ницце я несколько раз разговаривал с Сергеем по телефону, он помогал нам в издании книг о русских художниках-эмигрантах. В последнее время мы чаще всего говорили о нашем бедном де Стале. А в тот памятный день, когда я ждал на вокзальной площади приезда сына, который, судя по его звонкам, еще не добрался до Вентимильи, Сергей остановил машину и сказал:
– Хотите увидеть картину де Сталя?
– Конечно. Вот только боюсь далеко отходить… Мой сын…
– Тут рядом. Садитесь.
Мы и правда добрались к Сергею мгновенно: столько ведущих колес. В комнате, куда мы вошли, не было никакой мебели. Одни картины. Де Сталя я увидел сразу. Хотя оригинал разительно отличался от виденных мной репродукций. Знаменитый «Порыв ветра». Картина была сложней и в тыщу раз привлекательней, чем на репродукциях. Она не была плоской, а была словно бы холмистой (может, и правда, "рельефы" тогдашнего друга Сезара Домеля подвигнули Никола на рельефность). На поверхности видна была почти ювелирная игра цветных линий, незаметных на репродукциях (недаром же Андре Шастель поминал в этой связи средневековые миниатюры). Я понял, что можно часами разглядывать эту загадочную вязь и, вспомнив, что мне предстоит нынче увидеть сына и другое нерукотворное чудо, двухлетнего внука, повернулся к Сергею. Повернулся вовремя, чтобы заметить, как он глядит на картину. Может, это и было самым впечатляющим. То, как он глядел. Кандинский называл это «внутренней вибрацией». Знаменитый француз что-то говорил про впечатляющий «контакт».
– Ну что? – нетерпеливо спросил Сергей, – Что вы думаете?
Я думал о том, что можно позавидовать человеку, который способен переживать такое волнение перед картиной. Но конечно, Сергей не о себе спрашивал – о картине бедного Никола, который полвека тому назад сам оборвал свою жизнь на этом вот берегу. Я не мог произнести слово «позавидовать». Могли не понять, чему я завидую…
Картина меня тоже поразила, но найти короткое суждение я затруднялся. И пришла в голову лишь пацанская дневниковая запись докторского сына Марка о посещенье дома на рю Нолле, как раз в ту самую пору. Уже и пацан ее взял в кавычки за тривиальность:
– Красивая живопись! Хорошая работа!
… Сергей высадил меня на привокзальной площади в Болье-сюр-мер. Еще через час-другой подъехала машина, и я увидел сына, свою belle-fille и спящего внука. Он был смешной, курносый, прелестный, совершенно неотразимый. Звали его очень торжественно: Лев-Матвей Антонович. Господи, жизнь только начинается, а он уже Лев-Матвей. Да он еще сам придумает себе сто имен. Будет Чун-Цин Ли, или Мохамед ибн Антон. Был бы только здоровенький…
Глава 24. Победа и беды
Полотно «Порыв ветра» было куплено одним из новых поклонников де Сталя коллекционером Луи Клэе еще до того, как Никола счел работу законченной. Продавались также помаленьку (и вполне недорого) другие картины де Сталя. Среди новых покупателей были Жан Мазерель, Жан Дютийель и другие. В особняке на рю Нолле бывало теперь все больше посетителей, и художников, и поэтов, и маршанов. Знакомство с некоторыми из них было прямо или косвенно связано с малолетним, и
вдобавок малорослым, но общительным и подвижным пасынком Никола Антеком. Во-первых хлопоты об издании стихов Антека в роскошной, дорогой серии с иллюстрацией самого Жоржа Брака послужило сближению начинающего художника де Сталя с классиком авангардной живописи. Брак стал бывать в ателье у Сталя и вел с ним долгие беседы у себя дома.
Обнаружив у себя под боком гениального поэта, Жанин и Никола задумались над тем, что неплохо было бы поэту получить какое ни то регулярное образование. Решили найти мальчику учителя и проверить, что он знает и куда бы он мог поступить на учебу. На поиски репетитора пошел глава семьи и по совету Пьера Реверди он, не мелочась, отправился в самое престижное учебное заведение Парижа, в знаменитую Эколь нормаль сюпериор, что и нынче блистает на левобережной улице Ульм. На меньшее, чем этот питомник дипломатов, депутатов, министров, лауреатов и гениев математики, ни гордые родители, ни сам вундеркинд были несогласны. В общем, отложив свои кисти и тряпочки, но не слишком озаботившись состоянием своего костюма, самоуверенный гигант де Сталь переступил порог прославленного святилища французского наробраза и стал бродить по коридорам, ища с кем тут можно поговорить.
Три года спустя молодой поэт Пьер Лекюир так вспоминал о начале своего знакомства со Сталем:
«Никола де Сталь нашел меня тому года три назад в моем закутке «дворца», в Эколь нормаль на улице Ульм в послеобеденный час, зимой… Сталь постучал в дверь. Я увидел, что входит гигант, одетый, как каменщик, перемазанный известкой и красками, взгляд у него блуждает где-то в пространстве, жесты неторопливые, а голос твердый и нежный, какой бывает, когда произносят какие-то русские слова. Он пришел поговорить о своем пасынке Тудале. С того самого дня и до лета мы с Тудалем занимались вместе довольно странно и симпатично».
К лету репетитору стало ясно, что способный этот поэт-вундеркинд никаких требований школьной программы выполнить не сможет, и занятия прекратились. Однако общение молодого поэта, книгоиздателя и фанатика книги (он называет себя «конструктором книги») с художником де Сталем длилось до конца жизни художника, да строго говоря, еще и не кончилось. И сегодня, уже почти девяностолетний «конструктор книги» Пьер Лекюир пишет и охотно рассказывает об этом судьбоносном зимнем дне 1945 года, когда у него в закутке на верхнем этаже «дворца» раздался стук в дверь…
– За кого же вы его приняли, месье Лекюир? За каменщика?– спросил я не далее, чем в конце июня 2010 года, посетив почтенного поэта и его супругу Милу Гагарину (из тех самых Гагариных, что приняли католичество еще в позапрошлом веке и посоветовали художнику Жозефу Фрисеро отправиться на заработки в блистательный Петербург) у них на рю Бюффон, что как раз напротив старинного Сада растений.
Этот не то чтоб слишком оригинальный или остроумный мой вопрос против ожидания необычайно оживил «конструктора книги» Пьера Лекюира.
– Даже не каменщика, а кровельщика… Там чинили железную крышу, весь день стучали… Я думал, что он хочет через окно выйти на крышу. Я сказал: пожалуйста. И я распахнул окно… На такой высоте…Теперь, когда я думаю… Страшно. Предопределение судьбы.
Я вдохновенно кивнул и подумал, что мысль о предопределении судьбы приходит в голову в девяносто лет чаще, чем когда тебе двадцать два. А тогда как он мог угадать, юный студент-«нормальен», что этот верзила в перемазанной одежде на десять лет (да что там наш десять, на все семьдесят!) станет главным персонажем его жизни. Жизнь едва-едва началась, все эти пятьдесят его роскошных книг ждали своего «конструктора», архивы Национальной библиотеки Франции еще не ждали его приношений, и в Париже, только что перешедшем от мирной оккупации к мирному выживанию, знали лишь тогдашних времен «конструктора книги» Ильязда (Илью Зданевича из Тифлиса), но не догадывались, что вот он произрастает, наш собственный конструктор Пьер Лекюир… А он нашел свой путь, свою главную тему жизни, а заодно и великих художников, вместе с которыми он пришел к славе. А пока надо было семье Сталя что-нибудь сделать для их вундеркинда Антека.
Когда завершились попытки Лекюира и Антека совместно нащупать пути к официальной программе высшего или хотя бы среднего образования, добросовестные родители сделали вторую общеобразовательную попытку, которая, как и первая, не прошла бесследной в короткой жизни родителей юного поэта с рю Нолле. Никола и Жанин решили, что мальчику поможет английский язык. Ясно, что он поплывет искать свою мужскую судьбу и удачу на английских островах, а там говорят на своем языке, на труднопостижимом английском. В Париже, где иностранные люди встречаются на каждом перекрестке, с изучением ненаших, нефранцузских языков возникают всегда непреодолимые проблемы, каких не знают ни голландцы, ни японцы, ни русские, ни монголы… Как научить мальчика говорить по-английски? Кругом сплошные американцы и англичане, но у кого учиться мальчику?
– Так есть же Франсуаза! – воскликнула Жанин. И все стало просто. У семьи Гийу были дальние родственники в Альпах, семья Шапутон. У одной из их дочек, у Франсуазы, подружка вышла замуж за англичанина. Так что подружка поневоле научилась по-ихнему. А с ней и Франсуаза кое-чему научилась. А теперь она, говорят, приехала чему-то такому учиться в Париж, эта Франсуаза. Остается позвать в гости сестричек Шапутон и все будет в порядке.
Это очень странная история, очень французская. Здесь покупают самые дорогие машины, дорогие дома. Но образование должно быть дешевым. Если не так, то зачем тогда мы отрезали голову прекрасной королеве? Зачем расплодили столько бюрократов?
Сестрички Шапутон пришли в гости на рю Нолле. Все здесь казалось таким странным и забавным этим юным альпийским провинциалочкам. Роскошный драный дом и дорогое угощение. Горы немытой посуды. Везде картины… И этот огромный художник, который вынул топорик из-за пояса, изрубил лестничные перила и растопил печурку. Все поражало Франсуазу. Ей еще не было двадцати. Она была хорошенькая, совсем юная. Художник это заметил. Она стала бывать в доме, научила Антека нескольким английским фразам. А высокий художник (он был моложе бедняжки-жены) сводил ее в кино. И еще куда-то сводил. В картинные галереи, в какие-то мастерские…
Потом английские фразы кончились и Франсуаза к ним ходить перестала. Жанин, вероятно, было уже не до того. У нее было очень плохо с сердцем. Три недели она пролежала в больнице. Да и с деньгами было хуже, чем всегда: какие-то случайные продажи…
Вдобавок и снабжение освобожденной столицы продовольствием пока еще толком не наладилось. То ли война мешала, то ли американцы еще не подоспели со своей коварной помощью и губительным планом генерала Маршала (в одном единственном французском городе довелось мне видеть площадь имени генерала-кормильца: в Ницце. Стало быть, Ницца и впрямь смогла оценить свиную тушенку).
Это именно в апреле 45-го послал Никола пасынка занять две тыщи у щедрого мецената Жана Адриана. Зато в том же апреле открылась у Никола де Сталя персональная выставка абстрактной живописи в галерее Жанны Бюше. Большое событие! И успех был (хотя ни одна картина не продалась). Успех потому что не осталась выставка незамеченной. Были замечены многие картины (среди них «Дневные лучи» и «Вокзал Вожирар») и был замечен де Сталь. Он все еще был начинающим, но он не был более безвестным. В галерейной книге отзывов (такие принято называть «Золотой книгой», да и то сказать, для непризнанных гениев каждое доброе слово, или просто громкое имя – на вес золота) были имена художников и скульпторов (Жан Базен, Жан Деван, Анри Гетц, Альберто Маньели, Жан Дюбюфе, Этьен Хаждю), коллекционеров (Жан Адриан, Гектор Сгарби, Жан Мазюрель), галеристов (Луи Карре, Рене Друэн, Дениз Рене), даже художественных критиков (Жорж Лэмбур, Рене де Солье). Конечно, это еще не «весь Париж», но иные (вроде Клэе, Борэ, Ланского, Дютийеля или Дюбура) побывали на выставке неоднократно, но в книге не «засвечивались». В общем, как говаривал герой любимого писателя, «Успех, Тетка, успех!»
А в мае прошел в помещении «Галери Лафайет» на бульваре Осман второй по счету Майский салон. Де Сталь выставил огромное полотно «Астрономическая Композиция» и снова был замечен. На полотне этом были еще навеянные мэтром Маньели «геометрические» формы, но полотно самого мэтра, вывешенное здесь же неподалеку, выглядело в сравнении с безудержно страстной живописью ученика – скучновато. На биографов де Сталя произвел впечатление забавный выставочный курьез: какой-то псих отрезал от магической «Астрономии» де Сталя кусочек на память. Впрочем, загадочное полотно заметили не одни приблудные психи. В конце мая Жанна Бюше написала в Бразилию сбежавшей перед оккупацией из Парижа художнице Виейра да Сильва:
«Больше всех мне понравились Ланской и Никола де Сталь, они самые абстрактные и не подражают ни Матиссу, ни Бонару, ни даже Пикассо…»
Вскоре стало ясно, что не только старой поклоннице де Сталя, его благодетельнице Жанне Бюше нравятся его полотна. Появились у него новые поклонники, большие знатоки живописи и притом люди не бедные. В общем, будущее сулило удачу, успех, надо было только дожить до них. Но как раз у главных поклонниц таланта де Сталя сил оставалось на донышке. Жанна Бюше умерла год спустя. Измученную болезнью и невзгодами Жанин в июне пришлось отправить на отдых в Верхнюю Савойю, в горы.
В одиночестве горного Сен-Жерве слабеющая Жанин написала давно обещанное письмо сестричке Никола Ольге в ее монастырь. Конечно, ей хотелось поговорить о Нем, а кто был к Нему ближе, чем они обе, любимая младшая сестричка и любящая его без памяти и предчувствующая разлуку верная подруга всех этих тяжких и счастливых лет, последних лет ее жизни (в этом она не сомневалась). Вот оно, это письмо:
«Раз уж вы высказали пожелание, чтоб я написала вам о Коле, я напишу о нем, со всей прямотой.
Он превосходит и силой и своей красотой всех окружающих его, что же до духовной его мощи, то она выше всего, о чем я упомянула. Однако пока все, что с ним происходит и что он обычно сам делает, – все, не считая редких счастливых мгновений, ему только вредит. К моему счастью, я возлагаю больше надежд на тот притемненный, но истинный свет, который вдруг вспыхивает по временам, озаряя его и удаляя мрачность его облика. Я говорю о недостатке терпения, о желании поразить окружающих какой-нибудь ложью, ничтожной выдумкой, которая в сто раз ничтожней того, что есть на самом деле и т.д.».
(Вы, может, обратили внимание, что эти следы пережитой в детстве травмы проходят вовсе незамеченными в многостраничных, прежде всего «семейных» биографиях де Сталя. Разве что простодушный Лукин, но что нам Лукин…)
«Должна признать, – продолжает свою исповедь Жанин, – что увлекаясь своими завиральными историями, он теряет всякую меру, но потом вдруг приходит к какой-то творческой идее, которая ближе к истине, чем любая реальность факта».
(Здесь невольно вспоминаются строки Пастернака о внезапном впадении в истину. Пастернак нам вспомнится не раз, и не случайно…)
«Не опасайтесь за него, – утешает молоденькую монашенку Ольгу верующая лишь в любовь подруга Никола, – он так огромен, а я ведь человек трезвый. Так что, если я вам признаюсь в чем-то (первый раз в жизни), то это лишь потому, что вы, думается, как и я, любили бы его, даже если бы он был полным ничтожеством.
Восемь лет прошло, как мы встретились с ним, а расставались только на те восемь месяцев в конце войны, когда я была очень больна.
Мы были вместе в Алжире, в Италии, а потом в Париже. И даже я понятия не имела, какая у него сила духа и трудоспособность. Он искал себя, подчинялся так сильно его притягивавшему магнетизму музеев и работал очень мало. Мы тогда жили в такой бедности (но так счастливо), что он даже не решался упоминать обо мне в своих письмах (вы с вашей чувствительностью не могли не заметить этого умолчания).
В легионе он окреп физически и обрел некое чувство реальности, что же до сознания долга и достоинства, они пришли позже, когда он понял, о чем вообще идет речь и что он должен защищать.
В Ницце он занимался кое-какими оформительскими работами, которые дали нам возможность кормиться и заниматься живописью…
Вскоре я подписала контракт, который позволил нам несколько месяцев жить вполне прилично, а Николаю позволил искать свой собственный путь в живописи, так что по переезде в Париж он смог познакомиться с писателями, художниками и торговцами живописью, которые просветили его по поводу его нового пристрастия и пути, усердствуя как на пользу его творчеству, так и во вред ему…
… я вовсе перестала работать и трачу остаток сил на постоянную, яростную и по временам весьма тяжкую борьбу. К тому же есть еще дом и дети. В конце концов я была совершенно изнурена, и Коля выразил желание, чтобы я уехала сюда, в Верхнюю Савойю с детьми и отдохнула месяц.
Я изо всех сил стараюсь поправиться, воскреснуть и привезти здоровой девочку, которая умеет вселять в него уверенность.
Разве история этого мира не слагается из истории людей, которые обрели в себе уверенность? И не есть ли это мужским способом доказывать веру в Господа.
Пока я здесь отдыхаю, ему придется также искать новое место для работы, ибо то, где мы жили, больше не будет доступно, так что предстоят бесконечные поиски, из тех, что по большей части ни к чему не приводят, но если не удастся этого сделать, у него не будет своего угла для работы, так что я без конца с грустью размышляю о том, как у него идут его поиски…
Что касается Колиной любви ко мне, то она оставалась выше всех ожиданий, несмотря на многочисленные попытки фальшивых друзей его от меня отдалить. У него самое глубокое, самое высокое понятие о любви, какое только бывает, именно поэтому я способна прощать ему все на свете. А сегодня он дает мне много больше того, что я могла ему когда-нибудь дать».
Такое вот письмо написала Николаевой сестричке уже очень больная Жанин, чувствовавшая приближение смерти. Не письмо, а завещание, исповедь со многими умолчаниями… Автор новейшей монографии о де Стале Жан-Клод Маркаде считает, что в этом письме далеко не все правда…
Когда Жанин вернулась из Верхней Савойи, подошел конец их жизни на роскошной вилле в Батиньоле. Не один только юный докторский сын Марк Ивер жалел о том, что семья художника уедет с улицы Нолле. К тому времени сложился у обитателей виллы довольно обширный и вполне неординарный круг посетителей, парижан и провинциалов, тех самых, что по словам Жанин, «просветили его по поводу его нового пристрастия и пути, усердствуя как на пользу, так и во вред ему». Хотя лично я думаю, что все эти влияния «старших» и их «просветительские» уроки могли лишь весьма поверхностно отразиться на творчестве такого художника, как де Сталь, на творчестве, истоки которого лежат в глубинах пережитой трагедии, мы не можем вовсе уж отмахнуться от влияния новой среды, от искусствоведческих (пусть даже и не слишком вразумительных) поисков истоков, от книг, статей и монографий, в которых с неизменностью присутствуют имена тех, кто бывали в многотерпеливом особняке на улице Нолле в Батиньоле и, конечно, могли «повлиять», могли «оказать» или хотя бы «заострить внимание». Некоторые из этих имен мы уже упоминали выше. Иные из посетителей особняка исчезнут с нашего горизонта. Да и с самим особняком пришло время расстаться. Так что поспешим встретиться с ними в эти последние дни пребывания на рю Нолле…
Глава 25. Посетители – просветители
Легко предположить, что первыми гостями у Сталя и Жанин в роскошном особняке на рю Нолле, ключи от которого с беспечностью доверила обремененному семьей де Сталю галеристка Жанна Бюше, были долговязый абстрактный художник Сезар Домеля и его жена Рут. Едва начавший свои парижские труды Никола подарил в ту пору своему гостю Домеля большой рисунок углем (остроугольные фигуры в стиле «геометрических абстракций» Маньели) с размашистой надписью: «Все, что имею, принадлежит тебе». И этот порыв безоглядной благодарности легко объясним. Щедрый Маньели дал уезжавшему из обжитой Ниццы в Париж нищему начинающему художнику де Сталю адрес своего друга – голландца, и де Сталь нанес супругам Домеля визит в их Сите де Флер на бульваре Араго. Адрес и визит не стоят во Франции многого (я тоже привез 30 лет назад полный карман адресов). Ну придешь, навяжешься, предложат тебе воды с сиропом, с неловкостью поблагодарят за подарки, попросят оставить свой номер телефона. И не позвонят. Никогда. А Домеля повел себя воистину по-братски. Это он порекомендовал Жанне взять начинающего «геометрического» маньелиста на ту же выставку, что его самого и «основоположника» Кандинского. Может, и все благодеяния, которыми осыпала русского красавца стареющая галеристка, были подсказаны добрым голландцем – «неопластиком». Похоже на то.
Сталь ему понравился. Домеля и сорок лет спустя вспоминал об этом «верзиле» с симпатией. Конечно, многое его удивляло в русском бароне, кое-что казалось смешным и даже непотребным, но он вспоминал и об этом с улыбкой: за долгую жизнь в среде художников он насмотрелся всякого. А недолгие годы их дружбы со Сталем он запомнил хорошо и вспоминал о них в разговорах с корреспондентами еще и в 80-е годы.
Сезар Домеля родился в семье лютеранского пастора в Амстердаме, решив стать художником, рано покинул Голландию, уехал в Швейцарию, а двадцати трех лет от роду уже выставил свою первую абстракцию на берлинской выставке. Потом перешел к «неопластическим» рельефам, входил в группы и объединения Мондриана, потом Сейфора, потом прочих.
Любопытствующему и мало знавшему об истории абстрактной живописи де Сталю он пытался напомнить главные принципы довоенного абстрактного авангарда – принцип динамической, а не эстетической ценности цвета, законченности построения полотна и его единства. Домеля говорил об экономии средств, о точности выражения, а главное о духовности, ибо Домеля, по наблюдению Арно Мансара, выбирая между эстетикой и метафизикой, всегда отдавал главенство последней…
Такие вот беседы шли у них и на бульваре Араго и на рю Нолле в роскошном особняке беженца Шаре. Состояние, в которое привел русский оккупант этот предоставленный ему дом, похоже, немало удивляло честного голландца и он вспоминал свои визиты не раз:
«В те времена кузина Жана Дейроля жила с ним в большом доме, который уступил им декоратор Пьер Шаре… Он жил на первом и на втором этаже и, вооружившись топором, он вырубал доски из пола, буквально, и сжигал, по крайней мере обогревался… Место было запущенное, все в расщелинах и трещинах, испохабленное, в самый раз для романа Кафки. Никола, тогда уже беспредметный художник, занимался «гениальной стряпней». Он использовал остатки углей, красок и писал на картоне и на обивочной ткани с мебели. Что до Жанин, то она, уже очень больная, привлекала своим умом и своей чувствительностью, своим вкусом целый круг писателей, актеров и художников (Брак, Реверди, Ланской), которые обсуждали различные актуальные эстетические вопросы».
Рассказав о ночных бдениях де Сталя, Домеля нарисовал не вполне традиционный (во всяком случае для «семейных» биографий) портрет молодого художника:
«Этот спортивного вида верзила всегда готов был выкинуть какой ни то недозволенный номер, но и проявить щедрость мог тоже. Он говорил обо многих вещах с некоторым цинизмом, зато о своей живописи с высокомерной гордостью, к которой примешивалось много наигранности. Так что трудно было даже отличить, где тут шарлатанство, где истина, а где и гениальность. В огромном его теле, которое казалось неутомимым, хватало места, чтобы сокрыть немало тайн и страданий. Казалось, что все свои ночи он проводит замурованным в стены огромных своих полотен и сновидений, которые он хранит от всех в тайне. А между тем, он очень остро отзывался на все соблазны окружающего мира».
Понятно, что все это было сказано посетителем кафкианского особняка в Батиньоле уже тогда, когда трагическая кончина тогдашнего его друга приоткрыла (хотя и далеко не вовсе откинула) завесу его тайны. Но как вы убедились, и тогда, в победоносном 1945 году обо многом догадывались и друзья дома, и обожающая своего гения «кузина Жана Дейроля» бедняжка Жанин Гийу.
Что до самого кузена, то друг Домеля и Маньели художник Жан Дейроль поселился в ту пору в Париже, почти одновременно с Никола вступил на дорогу «геометрической абстракции» и нередко переступал порог этого истерзанного, но влекущего многих особняка на рю Нолле. Как отмечают некоторые из биографов де Сталя, у Никола и Жана было по меньшей мере два полотна очень сходных по построению и колориту.
Жан Дейроль был дружественно настроен к кузине и ее русскому другу, отстаивал их перед бретонским семейством. Впрочем, можно понять родителей Жанин: их дочь таяла на глазах, и им трудно было не винить пришельца, разрушившего, по их мнению, ее и без того не простой первый, польский брак, в результате чего мальчонку Антека подкинули им, да и дочка вернулась в дом чуть живая накануне войны. А верзила-русский надолго исчез… Можно догадываться, что именно так думала бретонская «теща» де Сталя «тетушка Лулу». Но кому есть дело до тещи? Кто представит себе еврейскую тещу Александра Исаича, читающую последний двухтомник зятя. Пусть даже Там читающую, но ведь и автор уже Там…
После выставок де Сталя, прошедших у Жанны Бюше, на рю Нолле стал появляться красочный персонаж, чья бритая голова напоминала иным из его биографов голову другого, более популярного на Западе выходца из русской семьи – киноактера Юла Бринера. Нам уже доводилось говорить об этом новом знакомце, а потом и друге Никола де Сталя, художнике Андрее Ланском. Как и сам Никола, Андрей Михайлович Ланской был русским аристократом и художником, к концу войны уже окончательно «беспредметным». Дочь Никола Анна де Сталь так писала о Ланском в своей книге «От штриха к мазку»:
«Живопись Ланского глубоко заинтересовала Сталя. Ланской уже избрал свой цвет. Сталь часто заходил к нему в его квартиру в 16-м (в те годы еще вполне «русском», хотя уже и не дешевом – Б.Н.) округе.
Его ателье размещалось в большой комнате буржуазного дома. Встречаясь, они заговаривали по-русски, выражая все признаки настоящей дружбы. У обоих были низкие, басовитые голоса. В отличие от лица Сталя лицо у Ланского было монгольское. Круглое лицо, лыся голова, глаза глубоко спрятанные за выступами высоких скул. Толстые губы его были всегда приоткрыты, точно он говорил. Он был невысокий и коренастый. Самое большое впечатление производили напряженное выражение его круглого лица и его категоричная речь, каждое слово, как штрих, каждое слово несло законченный и безоговорочный смысл.
Говорил он с напором, была в нем некоторая резкость, но были и щедрость, и ум, и тонкость. Когда он пил водку, он вырубался окончательно; но когда был трезвым, умел проявить и сдержанность и силу. Тогда снова крайнее напряжение проступало у него на лице».
В общем, экзотический русский человек. Не думаю, чтобы де Сталь мог обсуждать с кем бы то ни было по-русски волновавшие его проблемы искусства, но русские приветствия всегда звучали при встрече с соотечественниками (и с Ланским, и с Диной Верни, и с Шаршуном, и с Поляковым).
Маленькую Анну де Сталь поразило, что Ланской мог писать картину и жевать бутерброд. Отец не мог ни жевать, ни разговаривать, ни слушать музыку (как слушал, скажем, Шаршун), когда он писал. Де Сталь облегчал душу живописью. А Ланской облегчал душу водочкой и шампанским. В одном из писем Сталь сообщает:
«У нас обедает Ланской со всем одушевлением, которое привносит шампанское, этот источник жизни, эта кровь святой земли, христианской, библейской».
Увы, ни шампанское, ни водка, ни косяк дурной травки не снимали тяжести с души Никола, хотя он мог выпить, мог и покурить… Только живопись, работа. Притом нелегкая. Никола завидовал Ланскому, который, проспавшись после пьянки, работал как заведенный – по шесть гуашей в день. Сам Никола подолгу не выпускал из рук работу, уже и проданную, что-то до последней минуты хотел добавить
Ко времени их знакомства со Сталем Ланской считался уже заметным колористом, и критики уважительно передавали его суждения о формах и красках. Скажем, такие:
«Кисть, прикоснувшись к полотну, пытается найти форму, которая вступит в состязание с другими формами, уже возникшими на этом полотне. Когда борьба эта завершится согласием, мир, возникший на полотне, будет обладать своим языком и диктовать собственные законы».
Ланской так писал о передаче внутреннего мира художника:
«Передача нашего внутреннего мира при помощи форм и красок – это и есть живопись. Для этой передачи у нас имеются в распоряжении: ритм; пропорции и очертания формы (рисунок); организация форм на поверхности полотна (композиция); цвет; организация планов и глубины (пластичность); свет; все определяется и оживляется светом. Освещением».
Большинство биографов де Сталя сходятся на том, что Ланской оказал в те годы некоторое влияние на живопись де Сталя.
Из многочисленных рассуждений о сходстве, различиях и дружбе между Сталем, Ланским и Кандинским остановлюсь на отзыве Жерома Виата:
«Дружба между ними была верной и плодотворной, и нет сомнения, что она принесла Сталю то, чего ему тогда еще не хватало: богатое и раскрепощенное пользование пространством, радость густой и шершавой массы материи, неожиданность звенящих аккордов красного. Кандинский и Ланской, несмотря на годы изгнания, сохранили нечто специфически русское, то, в чем Сталь находил свое: неожиданный взрыв энергии, дерзкую свободу форм и тонов, без конца угрожавшую вполне предсказуемым конфликтом».
Говоря о верности Николаевой дружбы, присяжный комментатор Виат словно забывает, что всех этих друзей, которым он неумеренно (и, наверно, искренне) клялся в вечной дружбе (и Маньели, и Домеля, и Дейроля, и даже Ланского), неуравновешенный де Сталь забывал при первой перемене судьбы.
Кстати, Жан-Клод Маркаде считает, что Сталь в те ранние годы нередко вступал в соревнование с этим «варварским» Ланским.
О сходстве двух художников писала перед первой петербургской выставкой де Сталя большой знаток русского и французского искусства (равно как и русской поэзии) Вероника Шильц:
«…щедрость, с которой Сталь накладывает один на другой красочные слои, выдавливая целые тюбики краски, сближала его с Ланским, как сближало их совместное чтение вслух их старшего собрата Велемира Хлебникова, препарировавшего литературу».
«Русский калмык», левый граф-белогвардеец Ланской был не единственной колоритной фигурой среди посетителей кафкианской виллы в Батиньоле. Среди них был и настоящий служитель культа, католический монах – доминиканец из монастыря Сольшуар отец Жакоб Лаваль. Прислал его к де Сталю Жорж Брак. Отец Лаваль был из тех католических деятелей (как правило, выходивших из среды доминиканцев), которым претило засилие сладостного «сенсюлъписского» художественно-ремесленного кича в церковной живописи. Им хотелось привлечь в церковь мастеров авангардного искусства. Раз или два отец Лаваль сумел помочь де Сталю, прислав к нему богатых покупателей, однако не менее важной была моральная поддержка, оказанная художнику монахом-авангардистом. Отцу Лавалю даже удалось устроить в монастыре художественную выставку, в которой участвовали Ланской и де Сталь.
Не нужно думать, что одни только доминиканцы склонны были расширять художественные вкусы христианской церкви. У православия были в свое время не менее просвещенные знатоки новейшего искусства. Упомянутый мной выше математик, философ, искусствовед и богослов отец Павел Флоренский писал об искусстве как откровении первообраза:
«Искусство воистину показывает новую, доселе незнаемую нами реальность… Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, «записи» духовной реальности. И в этой своей деятельности, как открывающий вид на безусловное, он сам в своем творчестве безусловен: человек безусловен в своей деятельности».
Впрочем, я уже напоминал, где содержался в те триумфальные советские годы просвещенный отец Павел Флоренский. Дотягивал десятый год соловецких лагерей. Тогда и сгинул…
В том же 1945 году утвердился в окружении Никола де Сталя милейший человек месье Жан Борэ, еще один верный поклонник и меценат.
У семьи Борэ было свое солидное текстильное предприятие на севере Франции, так что Жан Борэ был как бы парижским представителем фирмы. Дела фирмы шли неплохо, при этом счастливый человек Жан Борж ухитрился соединить семейный бизнес с собственным влечением к искусству. Поскольку их предприятие выпускало ткани для обивки мебели и для занавесей, Жан Борэ не во вред бизнесу вступал в контакты с современными художниками, изобретавшими новые узоры для тканей. Таким образом, Жан Борэ стал не только вполне уважаемым, но и ценным, надежным искусствоведом. Любопытно, что чутье и прославленный вкус месье Борэ привели его в мастерские авангардистов русского происхождения. На него (и его предприятие) работали Сергей Шаршун, Сергей Поляков, а первым – сам Василий Кандинский. Напомним, что в разгаре была великая война, в Париже – самый расцвет изобразительного искусства, а Кандинский был беженец из Германии и знаменитый «дегенерат»…
Занимаясь любимым (и неубыточным) делом, Жан Борэ вносил в свои профессиональные занятия элемент человеческих отношений. У себя в Париже на рю д\'Артуа он устраивал вечеринки для друзей, для художников, галеристов, критиков, музыкантов, актеров… Иногда угощал гостей чем-нибудь изысканным помимо закуски. Скажем, престижный квартет играл Баха. Или вдруг, в разгар жужжащего разговора (об искусстве, о деньгах, о сырах и черном рынке – не о войне же, не о Гитлере) известный абстрактный художник, протеже знаменитой парижской одесситки Дины Верни Владимир Поляков начинал играть на гитаре (о, будь я маститым французским автором, я непременно сообщил бы, что Поляков вынул из шапки своей бабушки или своей нья-нья балалайку, а на столе стояла в серебряном ведре черная икра, однако боюсь, что русского читателя эти слова наведут на мысль о клюкве, ныне, впрочем такой же дефицитной, как икра или балалайка).
Русский цыган Володя Поляков был высокий профессионал: на гитаре играл с детства и рисовал с детства. А тетушке своей, знаменитой цыганской певице Насте Поляковой он аккомпанировал еще в Тифлисе, в молодые годы (на полтора десятка лет был он старше де Сталя). Ну а если француз-автор гитару с балалайкой или Полякова с Тер-Абрамовым спутает, не будем слишком придирчивы: много ли мы сами поймем в хитростях оккупации Парижа, где цыган Поляков участвует в Осеннем салоне, а еврейку (да вдобавок подпольщицу и коммунистку) Дину Верни любимому скульптору Гитлера Арно Брекеру и старику Майолю удается аж из застенков гестапо вызволить (могли ли Ахматова или Сергей Прокофьев кого-нибудь из ни в чем не повинных своих близких откуда ни то вызволить?).
Однако вернемся к устроителю вечеринок Жану Борэ, который был не только друг художников, гостеприимный хозяин и щедрый работодатель. Он слыл также тончайшим критиком и толкователем произведений новейшего искусства. С ним считались даже такие знатоки, истинные лоцманы галерейных морей и заводей, как сама Жанна Бюше. К его мнению прислушивались, с ним считались. И вот оказалось, что он еще с 1944 года присматривается к работам Никола де Сталя, наблюдает за его эволюцией и готов с ним познакомиться. Однако на первое приглашение Борэ посетить его журфикс на рю д\'Артуа Николя де Сталь не отозвался. И дело не в том, что он был настолько занят по вечерам, чтобы не выбрать время для визита. И не в том, чтобы душа его не жаждала признания. Просто он опасался, что Борэ еще не осознал, какого человека он зовет на светскую вечеринку. Не осознал, что имеет дело с гением… И Борэ понял знак, он был душевед и уже имел дела с художниками. Он написал новое письмо де Сталю, где не только дал понять, что он осознал, но и то, что он многого ждет именно от него, от де Сталя. Он очень постарался в этом письме, как он сам сам скромно пошутил, блеснуть своей «литературой» (среди русских издателей все более или менее внятно написанное называют нынче «стишками»), найдя трогательное сравнение для «пастозной» живописи де Сталя (он, если помните, сравнил ее с любимою детьми зубной пастой).
Собственно, и январское (отправленное еще до персональной выставки де Сталя у Жанны Бюше) письмо Борэ не могло не льстить молодому художнику:
«Я уверен, что вы откроете вселенную и это не может мне не понравиться… В конечном счете я ищу в живописи выразительные формы, составляющие то, что не укладывается в пространстве. Я пишу вам, потому встретился с Ланским, который признает у вас наличие этого важнейшего качества созидания (или композиции). Смог ли бы я, не причинив вам неудобства, зайти к вам как-нибудь поутру, чтобы с большей углубленностью, чем раньше, изучить ваши работы».
В конце концов Борэ сумел окончательно убедить художника в том, что он, Борэ, все понимает и все видит. Де Сталь поверил в Борэ и с тех пор именно у Жана Борэ он просил объяснения всему, что с ним «случалось» в живописи. «Случалось» до самого конца жизни, и уже собравшись покончить с ней счеты, именно Жану Борэ завещал художник объяснять и впредь человечеству, что и почему у него все так, а не иначе на его картинах…
Это была странная, трогательная, чуть-чуть смешная, но больше, пожалуй, грустная история. Ведь многим из тех, кто имел дело с молодым русским бароном-художником, он запомнился надменным, самоуверенным, нетерпимым, жестоким и даже циничным. Однако сохранились и трогательные рассказы о том, как закончив под утро свое очередное беспредметное полотно, Никола брал его подмышку, добирался в поезде до Мант-ла-Жоли, потом в автобусе до деревенского домика Борэ в Монвуазен-Фонтенэ, как он ждал, пока проснутся хозяева, откроются ставни… Пока он не сможет показать Жану свою новую картину и услышать его суждение.
При внимательном чтении писем де Сталя находишь рядом с самыми разнообразными громкими декларациями немало искренних признаний в его собственной неуверенности, в хрупкости его живописи…
– Но ведь он так рисковал! – сказал мне однажды в разговоре о Никола де Стале парижский сосед-художник Саша Аккерман.
– Чем он таким рисковал?
Он не знал каждый раз, к чему он придет. Какой будет результат. Вот Кандинский уже знал. Другие знают. Нарабатывают клише… А тут каждый раз был эксперимент. Он проживал каждый раз кусок жизни с новой картиной… Вспомним Хайдегера…
Вместо того, чтобы брать Хайдеггера, самому с ним мучаться и вас мучать, я возьму старое интервью старенького Жана Борэ, вспоминавшего через лет тридцать после гибели Никола, как он в былые годы колдовал и пророчил и гадал над колыбелью новорожденной картины де Сталя:
«Когда он приносил мне только что законченное полотно, только в первые десять-пятнадцать минут я мог полагаться на свежий взгляд. Те десять минут, когда взгляд был особенно чувствительным к тому, что в самом деле являло собой полотно, к его ритму, фону, свету, формам, к особой, его собственной «ауре». Эти минуты настоящей свежести (точно так, как само полотно бывает свежим), когда мне только что показали картину… когда я вижу все ее излишества, которые допущены «напоказ». Сухой взгляд, обгоняющий кисть художника. После этих десяти минут взгляд начинал понимать, что к чему и тогда уже было слишком поздно, тогда мы начинали уже рассуждать, говорить о живописи. Никола хотел, чтоб этот первоначальный осмотр продлился чуть дольше, потому что его интересовало, что я смогу ему рассказать…В эти «первые минуты осмотра» полотно могло рассказать мне кое о чем. Скажем, о скорости восприятия, отраженной размахом жеста художника, плотностью тона, замедляющего эту скорость для того, чтобы он вошел в работу…»
Глава 26. Трагедия, новое счастье
Весь июнь 1945 года, пока Жанин с младшими детьми отдыхали в Верхней Савойе, Никола метался по Парижу в поисках мастерской. Париж больше не был «благородно пустынным», вернулись беженцы, и найти ему ничего не удавалось. Никола жаловался в письме кузену Жанин:
«Работаю на улице Кампань-Премьер на площади в один квадратный метр, а вокруг – мастерские, забитые мебелью, да еще один тип, который собрался помирать, да все никак не решится».
До сентября Жанин еще оставалась в Конкарно, потом вернулась в Париж. В середине сентября она писала отцу Жозефу Лавалю:
«Мы не нашли ни жилья ни мастерской, и Никола измочален, потому что работать в таких условиях мука. Это толкает человека еще дальше по пути зла, саморазрушения и разрушения других… а для них и без того немало причин».
О каких и о чьих шагах по пути зла тут идет речь, можно только гадать. В октябре с подачи Гектора Сгарби де Сталь смог перебраться в бывшее ателье Оскара Домингеса на бульваре Монпарнас (в доме 83).
Вскоре, впрочем, ему пришлось перебираться снова, в еще одно чужое ателье.
Жанин носила под сердцем ребенка. Вспоминают, что она хотела подарить Никола сына. Она редко вставала теперь, но все же пошла встречать новый год у Гектора и Марины Сгарби. Там они познакомились с другом покойного Сутина, Михаилом Кикоиным. В январе Жанин в письме сыну, который жил у родных в Сен-Жерве, сообщала парижские новости:
«Здесь все по-старому. Ланской больше не носит свой котелок, говорит, что это теперь не в моде. Клэе вернулся к Карре, а Жан Дейроль, похоже, становится очень важной фигурой. Говорят, что Жак Дюкло пошел к Пикассо и потребовал, чтоб он написал его портрет…но похожий портрет, чтоб были глаза, а не дырки. Пабло сказал «да», потом вышел из комнаты, как будто ему приспичило пойти пописать… и до сих пор все писает. В общем Торез написал ему письмо и сказал, что такое поведение ему не нравится».
Шутки шутками, но все былые сюрреалисты-дадаисты, имевшие престижные, но малодоходные занятия (поэты, художники, искусствоведы и просто эстеты) нуждались в поддержке самой богатой французской партии и призваны были к соблюдению партийной дисциплины. Андре Бретон, тот самый, что получил когда-то мандат на «свободу творчества» из рук великого «свободолюбца» Леона Троцкого, так оценивал послевоенную обстановку на парижском Олимпе:
«…одни только сталинисты, достигшие высокой организованности в пору подполья, сумели захватить большинство ключевых постов в сфере книгоиздательства, в прессе, на радио, в галереях искусства…»
(Когда я впервые попал в Париж в конце 70-х, мне показалось, что былые коминтерновцы и тогда цепко удерживали свои позиции.)
Один из биографов де Сталя сообщает, что как раз в эти первые дни 1946 года Никола встретил близ Монпарнаса Франсуазу Шапутон (ту самую, что давала Антеку уроки английского) и попросил ее навестить Жанин. В сущности, не так уж важно, встретил, встретился или даже встречался…
В конце февраля Жанин легла в больницу.
В начале марта 1946 года Никола де Сталь написал такое письмо матери Жанин мадам Гийу:
«27 февраля 1946 года в два часа сорок пять минут пополуночи Жанин умерла, вследствие операции, проведенной главным врачом клиники Бодлок с целью извлечения сына, которого она решила не сохранять. По-другому я не умею изложить вам того, что случилось.
Мне удалось купить четырехметровый участок близ северных ворот кладбища Монруж, закрепив его за ней навечно.
4 марта, обрядив ее в ту одежду, которую она любила носить при жизни, мы закрыли крышку ее гроба, ее сын и я, в присутствии маленькой Анны и величайшего из ныне живущих художников подлунного мира.
На кладбище шел снег.
Благодарю вас за то, что вы когда-то дали жизнь существу, которое дало мне все и еще продолжает давать ежечасно.
Не беспокойтесь о детях, они не нуждаются ни в чем из того, что вы можете им дать и о чем будете беспокоиться.
Поскольку все отношения с кладбищем связаны с денежными делами, однако никак не распространяются на жизненные обстоятельства и поскольку история с разводом еще тянется, то всего этого как будто не существует.
Не думаю, чтобы жизнь существа, которое с таким сердечным огнем вгрызалось в эту жизнь, прошла без следа.
Самые смысл и оправдание вашего существование были в том, что вы были ее матерью, что же до меня, то я рад был бы, если бы смог умереть в таком кипении жизни.
И нет в этом мире никого, чей дух и чьи усилия так освещали бы путь людской и кто не склонился бы при этом перед ее величием.
Никола».
Девять лет спустя самого Никола привезли в закрытом гробу из Антиба и опустили в ту же могилу на кладбище Монруж. За девять лет, истекшие с того мартовского дня, когда на монружском кладбище шел снег, Никола успел прожить еще одну, а может, и две жизни. Над его могилой в день похорон его не было самого крупного из художников подлунного мира, зато сам он был в тот день на монружском кладбище самым крупным художником из всех присутствовавших.
Хлопоты о незаконченном бракоразводном процессе, о которых Никола писал теще, были уже напрасными. Присутствие на похоронах Жанин самого крупного художника должно было, по мнению Никола, утешить ее бедную матушку и споспешествовать загробной и земной славе присутствовавших. В остальном, конечно, письмо не вносило ясности в то, что случилось с подругой де Сталя. Отчего она решила так, а не этак, отчего переменила решение…
Гектор Сгарби рассказывал, как они с Никола шли ночью в больницу. Когда они добрались туда, тело Жанин было уже в морге.
«Ее черные волосы обрамляли ее лицо, – вспоминал Сгарби. – Она была похожа на египтянку».
Никола съездил за Антеком, друзья успели предупредить отца Жозефа, который прочел молитву над могилой Жанин.
Расходы на похороны были покрыты платой за картину, которую купил у Никола Жан Борэ. Самого Жана не было на похоронах.
В марте Никола получил письмо от Жана Борэ:
«Дорогой Никола, я давно знаю о пустоте, которая образовалась вокруг вас, знаю о вашей нужде, о вашем невероятном одиночестве. Я не решился пойти к вам, когда был в Париже (во время снегопада), предпочитая оставить вас наедине с воображением и воспоминаниями. Теперь я вернулся в Париж и хочу вам сказать, что если я могу вам понадобиться и чем-то быть вам полезным, дайте мне знать и я приду. Может, вам хорошо будет поговорить, и я буду слушать вас с сочувствием, со вниманием и для меня будет большой радостью, если я смогу разделить ваше горе и принести вам хоть какое-нибудь облегчение».
Никола отозвался почти сразу:
«Вы очень добры. У меня нет никаких воображаемых картин и ни одной минуты я не могу уделить воспоминаниям, но я так замкнут и так тяжел, что я взвалю на вас немалый груз, если вы по доброте душевной придете, и это ни мне ни вам не нужно».
Еще резче отозвался Никола на расспросы безутешной матери Жанин:
«Дорогая матушка Лулу,
Должен распрощаться с вами. Я не буду больше писать вам и вы не узнаете никаких подробностей. Если вы согласны, пришлите мне свидетельство о рождении Антека, которое вы получили из больницы. Помогите мне освободить мальчика, пока есть время, он уже взрослый. Я всегда буду ему помогать, пока у меня будут возможности. Всего доброго. Николай».
Как и матушка Лулу, мы с вами не узнаем никаких подробностей. Узнаем, что Никола в том же марте решил, что он должен забыть все, что было, перевернуть страницу жизни, сбежать от всего страшного. Он уже в апреле решил жениться на молоденькой Франсуазе Шапутон и даже сообщил об этом в письме Жану Борэ через два месяца после похорон на кладбище Монруж. Сообщил именно ему первому не столько потому, что Жан проявил в эти дни особые теплоту и сочувствие, сколько потому, что ему срочно нужны были деньги.
Было ли это срочное сватовство похоже на то, как они с сестричкой Олей смешили друг друга перед маминым гробом в Оливе? Было ли это очередным бегством? Или это просто было осуществлением давно назревшего желания? Желания свободы и нового счастья. Он должен думать о себе, должен зацепиться и выжить. А старые привязанности вообще никогда не играли никакой роли в его жизни. Он не навещал ни приемных родителей в недалекой Юкле, ни старую няню, ни доброго учителя… Он шел вперед, тем быстрее, чем ближе была конечная цель. Правда ни сам он, ни его друзья не подозревали, что и достижение цели и приход конца так близки.
В мае Никола прислал письмо Жану Борэ из альпийской деревни Сен-Жан-де-Морьен, где он, по стыдливому сообщению комментатора его переписки, вдруг повстречал Франсуазу Шапутон (как шутили когда-то, в кустах случайно оказался рояль):
«Дорогой Жан, вот теперь хмарь чуток развеялась в результате путешествий, а главное я встал на ноги оттого, что влюблен так, как никогда еще не был влюблен, и вообще уже в двух шагах от женитьбы, вот накарябал тебе о том, что мне кажется главным, и все прочее. Это моя исповедь, и это чистая правда. Она удивительная, не говорите никому об этом, взгляд ее льется, как расплавленный алюминий, ледяной и обжигающий, сам папа римский не в силах остановить ток.
А как ваши дела? Если это возможно, организуйте мне высылку деньжат сюда, в Сен-Жан-де-Морьен на имя мадам де Шапутон, это в Савойе. Если невозможно, то известите меня об этом. Я вам послал с Монблана даму, почти такую же увесистую, как сама гора. Вы сумете ее оценить раньше, чем я успею ее описать, и увидите, что возможно и что невозможно.
Ничто не бывает таким грубым, как нежность.
Я женюсь, я женюсь, Жан. Никому ни слова. Я женюсь, очень и очень скоро.
Ответьте мне быстро, очень быстро.
Ваш Никола».
Увесистая дама это была сестра Франсуазы, которая повезла Жану Борэ свои эскизы рисунков для тканей. Что касается «хмари» или «тумана» из начала письма, то это гораздо серьезнее. Мало кто из нас не придумывает для своих собственных, на наш взгляд, уникальных недугов каких ни то собственных названий, мало что объясняющих недогадливым врачам. Депрессивный «туман» не раз окружал нашего героя на всем протяжении его не слишком долгой жизни. Позднее тот же туман и увел его за собой в неведомую даль…
Но не будем о грустном в столь счастливый час жизни… Видимо, пришли из Парижа деньги, и была свадьба (уже в мае 1946 года), и была свадебная поездка по Французской Ривьере, были полные счастья дни, недели…
В июне молодожены приехали в Париж, в тесное ателье на Монпарнасе, Никола решил, что ему пора возвращаться к мольберту. Франсуаза приготовилась оберегать покой мужа, но тут художника охватило, хотя и не первое, но пожалуй, самое нестерпимое за всю его жизнь беспокойство по поводу денег. Денег катастрофически не хватало. Никола с Жанин и раньше перебивались кое-как, от картины до картины, но видимо, Жанин умела обратить все в шутку и подбодрить друга…
В письме Жаку Дейролю, пообещав родственнику прислать ему книжечку своего пасынка-«феномена», Никола требует деньги за книжечку выслать срочно, телеграфом…
Год, конечно, выдался не слишком легкий. Болезнь Жанин, ее похороны, расчеты с кладбищем и почти сразу – расходы на путешествия, сватовство, жениховство…Не мог же он появиться в сельском доме невесты в качестве нищего представителя богемы: он был знаменитый художник из Парижа. Легко представить, что ему пришлось рассказывать, прося руки девушки из альпийского селенья.
Молодожены приехали, оставив малышку Анну погостить у новой родни, а вернувшись, оказались без денег. На счастье, Антек все еще благоразумно гостил у родственников, то у одних, то, у других, где кормили, там и жил.
Впервые, наверно, Никола сам придумал название для новой абстрактной картины – «Трудная жизнь». Можно поверить, что счастливому молодожену пришлось трудно. За спиной не было Жанин, которая привыкла к нищенству и лишениям. Франсуаза была лет на пятнадцать моложе, чем Жанин, она не жила в драной палатке среди пустыни. Она, вероятно, даже не догадывалась, что такое бывает.
Конечно, сейчас у Никола было больше надежды выкарабкаться, чем раньше. У него прошли выставки, он был замечен, у него были поклонники и друзья, среди которых были люди далеко не бедные. И все же, чтоб написать полотно «Трудная жизнь», нужны были краски, много красок, а они стоили кучу денег…
Отчаяньем и нетерпением дышит первое парижское письмо де Сталя его безотказному поклоннику-меценату Жану Борэ, который подкинул ему работу:
«Разбейся в лепешку, Жан, деньжат, бабок, ради всего святого. Побольше бабла и скорей, как можно скорей. Нет красок, ничего нет. Перетряси счета и кредиты, все, и скорей, скорей. Ткань эта почти годится, надо бы понейтральнее, но сойдет и эта. Не забудь про красный брезент.
С голодным приветом. Никола».
Жан делал все, что мог. Он создал общество помощи Сталю. Они собирались открыть выставку в Лилле, продавать его рисунки и картины. Жану Борэ помогал в его хлопотах новый поклонник де Сталя, промышленник и коллекционер Умберто Стражиотти.
В ответном письме де Сталю Жан Борэ пытался приободрить нетерпеливого молодожена:
«Ты будешь богатым, Никола. У тебя уже есть богатство. Мужайся…»
Тем временем Луи Клэе пытался убедить знаменитого галериста Луи Карре подписать контракт со Сталем.
Когда очередные планы «общества помощи Сталю» терпели крушение, Борэ и Стражиотти попросту покупали у Сталя две-три картины.
И утешали как могли любимого живописца. Однако, по всей вероятности, на художника снова наплывал «туман», с которым молоденькой Франсуазе еще предстояло освоиться… А пока…
Антек Теслар (сохранивший на всю жизнь свой первый псевдоним Антуан Тюдаль) вспоминает, что когда в ателье у Сталя было холодно, Никола уходил с блокнотом в ближайший кинотеатр, где грелся и рисовал при свете экрана. Чаще всего он ходил на советские военные фильмы, но на экран не смотрел, а рисовал под грохот пушек, пулеметные очереди и крики «ура». Впрочем, не удивлюсь, узнав, что ставший киносценаристом Тюдаль придумал этот красочный эпизод позднее. В воспоминаниях Тюдаля Никола де Сталь часто предстает этаким лихим мушкетером. Думаю, что в действительности он был более сложным и мрачным персонажем, чем герои, придуманные для Дюма-отца его трудолюбивым негром Огюстом Маке.
Переговоры де Сталя с галеристом Луи Карре затягивались.
Галерея Карре продавала тогда полотна многих художников-авангардистов из поколения де Сталя, но Никола потребовал, чтобы ему платили больше, чем всем остальным. Кандидатуру де Сталя горячо поддерживали арт-дилер Луи-Габриэль Клэе и Жанна Буше. В августе, наконец, состоялась встреча де Сталя со всемогущим, разбогатевшим в войну галеристом Луи Карре. Де Сталь иронически описывал эту встречу в письме своему поклоннику – меценату Жану Адриану:
«Мы наконец позволили себе придти, Карре и я, соблюдая большую серьезность, каждый по своей, какой-то вполне загадочной и запредельной причине, пришли к небольшой статистической и сентиментальной договоренности, срок исполнения которой назначен на конец сентября. Это и называется контрактом. Это была сцена историческая, гоголевская, и атмосферное давление при ее прохождении было тяжким. Как знать, и такое может в конце концов стать реальностью».
Осенью того же года де Сталь закончил свое знаменитое полотно «Трудная жизнь». О картине этой писали неоднократно, отмечая исчезновение маньелиевских сегментов и углов, наличие типичного для этого периода де Сталя сплетения коротких палок.
«Сплетение форм, – писала об этой картине внучка художника Мари дю Буше, – сгущается здесь и заполняет пространство: всплески красного и белого обнаруживают его глубину».
Один из самых знаменитых французских искусствоведов, писавших о Никола де Стале, Андре Шастель отмечал, что с «Трудной жизни» и последовавших за этой картиной полотен переплетающиеся палочки, пучки волокон и прутиков уступают место организации более напряженной и связной. Ярко выражено склеивание форм: они все чаще и чаще бывают представлены в виде светящихся масс, где нежно – серое обрамлено красным ободком. Глядя на эти полотна, – пишет Шастель, – всегда задаешься вопросом, каким образом отрыв одних элементов и напряженное взаимное соединение других может уживаться при такой утонченности палитры».
В тот переполненный трагедиями и восторгами год де Сталь создает несколько десятков своих «композиций», иные из которых стали знамениты среди знатоков. Такой была любимейшая из картин Жана Борэ «Композиция в черном цвете». Она не раз упоминается в переписке де Сталя с Борэ. Анна де Сталь рассказывает в своей книге, что купив эту картину, Борэ вешал ее иногда в старинном деревянном амбаре с почерневшими деревянными стенами и воротами, «и вот тогда, в этом состязании мрачных тонов, картина с ее тонкими белыми лучами вдруг освещала полумрак амбара, как сияет иногда икона в полумраке маленькой православной церквушки».
Иногда Борэ прикреплял полотно к почерневшим воротам амбара снаружи, и тогда картина на фоне темного дерева, в морщинах и трещинах, изъеденного дождями до того тона древесной плоти, которого рука людская придать ей не может, словно бы доносила до зрителя самую историю дерева.
Бывало, что Борэ закреплял картину внутри амбара рядом с дверцей, распахнутой в ликующую зелень листвы, так что картина являла собой контраст живой природе. Анна де Сталь считает, что это был также контраст человеческих темпераментов, что утонченный Борэ именно так, в столкновении с живой природой, проверял жизненность живописи.
Понятно, что яркий этот период абстрактной живописи де Сталя, начатый «Порывом ветра» и другими знаменитыми полотнами, не ускользнул от внимания первых исследователей творчества художника.
«Начиная с 1946 года, – писал Арно Мансар, – полотно де Сталя вырывается из ошейника геометричности и строго структурированного построения, выпуская на волю Динамику, брызнувшую фонтаном. Мастихин, врезаясь в слои краски, проводит свою свободную линию в поисках гармонии…» Мансар напоминает о том, что одно из полотен 1946 года было полвека спустя куплено парижским Музеем современного искусства, и теперь посетители могут видеть, как «бронзовая зелень и бистр, нанесенные густым слоем, сочетаются с серым, являя некоторое подобие опрокинутой мебели!»
И об этом сером, и о смело поломанной линии полотен той поры подробно писал искусствовед Роже ван Гендерталь.
Серое у Никола де Сталя (а в 1946-м появились «Композиция в сером цвете», «Композиция в сером и желтом» и еще, и еще) представляет особый предмет для размышления. Несомненно, серое очевидно у высоко почитаемого де Сталем Жоржа Брака, но серое (жемчужно-серое, свинцово-серое и т.п.) ведь царило и в городе Николаева детства, оно могло (и должно было) залечь на дне его памяти. На этом настаивают многие французские искусствоведы, и в первую очередь Вероника Шильц. Вот как она пишет об этом:
«… Везде у него находишь оттенки серого, и они, сдается, в меньшей степени пришли от Брака, чем навеяны были дальними воспоминаниями и оживали в пору, когда они читали Гоголя вместе с Ланским, так его любившим: «на всем серенький мутный колорит – неизгладимая печать севера». «Оловянный закат», «улица, серым полна», «пыльно-серая мгла». «Еще прекрасно серое небо. Еще безнадежна серая даль»: для Блока серый – не есть ли главный цвет Петербурга?»
Вспоминается, как один из английских поклонников русской художницы – авангардистки Иды Карской (сбежав из богатого родительского дома, она задержалась в Брюсселе, а оттуда – ринулась в нищий эмигрантский Париж) писал о ее сером цвете:
«… Серое для Карской – это промежуточное состояние между белым и черным до их разделения, хаос, полный возможностей… Она сказала мне однажды о тумане: «Все серо, и вдруг вы видите, как появляется ветка или лист».
Конечно, богатство серого может быть навеяно и парижским небом, и парижской гризалью, о которой написано так много. Рассуждая о сходстве и различии между Нью-Йорком и Парижем, американский писатель Генри Миллер, столько счастливых дней проживший в Клиши и в странствиях по Франции, писал, вернувшись в Америку:
«Даже само слово "серый", которое повлекло меня к этому сравнению, совершенно иначе звучит для французского уха, целый мир мыслей и ассоциаций… Если говорить об акварели, американские художники злоупотребляют фабричного изготовления серым. Во Франции гамма серого бесконечно велика; а здесь даже самое воздействие серого утрачено».
Анри Мансар в книге о де Стале приводит строки из письма Винцента Ван Гога, адресованного брату:
«…бесконечно разнообразие сочетаний с серым: красно-серый, желто-серый, фиолетово-серый… существует бесконечная гамма».
Проблемы цвета, света и пространства Никола де Сталь бесконечно обсуждал с Андреем Ланским, который часто бывал теперь у де Сталя. Впрочем, не уверен, что Никола мог рассуждать о проблемах искусства по-русски. Он получил все-таки не русское, а французское образование.
Ланской приходил к Сталю по-прежнему, однако старых друзей оставалось все меньше. Мало-помалу Никола отдалился от тех, кто были для него опорой еще год, два, а особенно три года тому назад, по приезде в Париж. Все они, и Анри Гетц, и Сезар Домела, и Жан Дейроль, считали его отступником. Были и такие, что в открытую называли его предателем. Кризис назрел в конце 1946 года. Соня Делонэ и Ханс Арп, поддержанные еще несколькими авангардистами, по большей части абстрактными живописцами еще довоенного разлива, решили открыть в Париже свой собственный, сугубо авангардистский салон – Салон новых реальностей. Когда-то они вместе отстаивали права абстракции на существование. Перед концом войны ушли в лучший мир столпы движения – и Робер Делонэ, и Василий Кандинский, и Мондриан. Зато оскорбительная кличка, изобретенная нацистским агитпропом еще в 1937 году («дегенеративное искусство»), как бы создавала после Освобождения условия наибольшего благоприятствования для абстрактной живописи, окружала ее неким, почти резистантским ореолом. Так отчего же было авангарду не сплотиться, не создать новое братство?..
В последнюю минуту Сталь и Ланской вдруг заявили, что не будут участвовать в Салоне новых реальностей. Можно поверить, что они просто не захотели «каплей литься с массами», присягать на верность коллективу, подписываться под четким противопоставлением фигуративности и беспредметности, вообще не хотели ни к кому «примыкать». Хотя в начале своего пути граф Ланской преспокойно выставлялся на просоветских выставках, мирно посиживал на авеню Обсерватуар с левой публикой из групп «Вперед» и «Через». Но то было давно. Теперь у Ланского был верный Дютийоль и долгосрочный контракт с Луи Карре. У де Сталя тоже была теперь надежная опора. Жан Борэ не оставил его в беде, а Луи Карре, не ища дружбы и понимания с живописцем, все же купил у него чуть не все картины «большого формата». Так что, скорее всего, и Ланской и де Сталь больше не нуждались в поддержке меньших (хоть и вполне именитых) собратьев. Домеля восседал теперь в бюро абстрактных художников на улице Кюжас, но Сталь обходил это бюро стороной. Тем художникам (да и литераторам), что чувствовали себя неуверенно, приходилось прислоняться к организации, будь то Салон новых реальностей или сама могучая французская компартия, идеолог которой былой сюрреалист Луи Арагон заявлял, что только реалистическое искусство (точнее, социалистический реализм) имеет право на существование, ибо он «не пляшет под дудку» буржуазных реакционеров…
Надо сказать, что неожиданный поступок де Сталя и Ланского не прошел незамеченным в литературных и художественных кругах Парижа. Сверстник Никола де Сталя, сын прославленного писателя, сам тоже писатель, журналист и вдобавок секретарь генерала де Голля Клод Мориак записал в своем дневнике (который он вел с двенадцатилетнего возраста):
«Представляется поразительным, что ни Сталь, ни Ланской – бесспорно новаторы в области абстрактной живописи – не будут представлены на первом Салоне новых реальностей. Разве что и тот и другой по меньшей мере ушли вперед от устаревших формул, которыми еще пользуется большинство участников салона, и в этом случае присутствие их вещей на выставке, которую уже можно назвать ретроспективной, было бы необъяснимым. Все так быстро меняется в Париже, что просто трудно уследить. Во всяком случае мне приятно будет узнать, что Никола де Сталю пришло время взойти на эшафот».
Нет, конечно, ничего страшного не случилось в Париже ни с одним из новаторов, ни с одним из отступников. Да ведь и желание пойти наперекор течению в никогда не редеющей толпе конформистов теоретически можно было одобрить…
И все же… И все же… Не было ли в этом стремлении вперед, без оглядки на былую доброту, на дружбу – не было ли в нем чего-то ущербного, навеянного детским страданием, травмой сиротства и страха?
Может, помнилось, что они все покинули его, можно сказать, предали – и старый отец, и милая добрая мама. А значит, и других надо опасаться. Поэтому он первым уйдет, уйдет не оглянется: ни на маму Шарлотту не оглянется, ни на папу Фрисеро, перед которым «готов был встать на колени», ни на матушку Лулу, ни на саму Жанин, которая ушла всего десять месяцев назад (зачем ушла?), ни на добряка-итальянца Маньели, ни на великодушного голландца Домеля (которому еще совсем недавно, года полтора назад был «всем обязан»), ни на своего союзника Жана Дейроля… Он их предаст, чтоб его не предали… Пусть они остаются позади… Найдутся другие, которые…
Оставалось самое трудное – все же найти мастерскую. Верный его поклонник и меценат Умберто Стражиотти («добрый Страг») обещал найти. Обнадеженный, Никола де Сталь уехал с молодой женой встречать новый 1947 год в альпийскую деревню, где жили его новая теща, его свояк, его полновесная свояченица, жило ни в чем не повинное, беспечное семейство Шапутон…
Глава 27. Близ парка Монсури
Лет тридцать тому назад, по приезде в Париж, я нередко бывал в этом тихом уголке 14-го округа, близ парка Монсури. В дневное время я прогуливал дочку по дорожкам идиллического парка, лишь изредка вспоминая, что когда-то здесь прогуливались два злодея, Ленин с Троцким, гуляли, еще и не очень надеясь на нежданный успех своих самых злодейских замыслов.
В ту пору меня несколько раз приглашал на ужин живший у парка французский литератор, который возглавлял отдел переводов в ЮНЕСКО. Его звали Александр Блок, но может, это был его псевдоним. У него были совершенно очаровательная русская жена и вилла с садиком на одной из этих, тоже вполне очаровательных улочек, примыкавших к парку. Однажды, подходя к дому Блока, я прочел объявление о продаже соседней виллы и загадочно сказал хозяйке, что мы с ними можем стать соседями. Она всплеснула руками и сказала, чтоб я поспешил с покупкой. За истекшие с тех пор тридцать лет я не раз задавался вопросом, как можно подумать, чтобы какой бы то ни было писатель во Франции или в России купил виллу в 14-ом. Да и зачем?
Хозяин виллы Блок приглашал обычно на ужин двух-трех русских писателей. Я помню двоих. Один из них был не слишком для меня понятный человек – Владимир Максимов. Он бывал то очень злым, то вдруг очень добрым. Может, страшная болезнь уже подбиралась к нему в ту пору. Второй (его звали Ален) был, собственно говоря, французским литератором и искусствоведом. Но мать у него была русская. И даже одна из его книг называлась «Русская мать». На обложке ее нарисована была румяная деревенская девка, очень аппетитная. Но может, и его старая еврейская матушка была когда-нибудь такой же. Об отце он писал без нежности. Отец оставил их с мамой и жил в США. Он что-то там коллекционировал, но в молодые годы он замечательно перевел на русский стихи Рильке. Так что отец его тоже был литератор. В тот год, когда меня приглашали сюда в гости, я писал книжку о Набокове (как впрочем, и сам хозяин дома), и Ален сказал мне, что его отец в Нью-Йорке часто играл в карты с Керенским и с Набоковым.
– Ну и как Набоков? – спросил я, обмирая от робости.
– Отец говорил мне, что они оба были довольно противные. Но Набоков, конечно, противнее.
Я нисколечко не поверил воспоминаньям Аленова отца. Я был влюблен в Годунова-Чердынцева из «Дара». Теперь-то я думаю, что Набоков и сам был влюблен в Годунова-Чердынцева, хотел написать его таким, чтобы мы тоже влюблялись в него и всегда верили в его правоту. Набоков преуспел. Он вообще блистательно преуспевал за письменным столом, наш Набоков, И даже на диване, когда в молодые годы писал лежа. И ближе к старости, когда писал стоя… Но какой он был за карточным столом, какой он был в общении с людьми, которых не считал себе ровней и от которых не зависел его успех… Тут он, может, и не преувеличивал, забытый ныне переводчик Рильке. Бывал он, видимо, и вполне заносчивым, и вполне мелочным, и вполне противным, герой моей книги… Все это нынче не так важно. Остались Годунов-Чердынцев, Тимофей Пнин, мерзкий Гумберт-Гумберт, которого мы еще и должны жалеть, осталось множество женщин, скроенных из сильной Веры Слоним и нищей поэтессы Ирины, стригшей собачек в эмигрантском Париже…
К чему я обо всем этом вспомнил, тридцать лет спустя, двадцать лет спустя? Наверно, в связи с предстоящим переездом Никола де Сталя. Вот он вернется от своей новой тещи из альпийской деревни, герой нашей книги, и переедет в новую мастерскую на одной из этих уютных улочек 14-го округа, на улицу Гогэ (Goguet), что неподалеку от парка Монсури. Наш герой, наш гениальный художник, молодой двухметровый красавец из высокородной петербургской семьи. Человек загадочный, таинственный, человек трагический… Те, кому пришлось с ним долго общаться, вспоминают о нем с несколько приглушенным энтузиазмом… Все, кроме жизнерадостных обитателей Ниццы, видевших его часто, но не близко – вроде Жака Матарассо, который вспоминает две главные встречи за истекшие 95 лет, или мадам Николаи с улицы Буаси д\'Англас (ах, ей было тогда 22 года, и когда он проходил мимо, такой долговязый блондин…). Близко с ним знакомый Ги Дюмюр даже написал рассказ, в котором вывел это странное существо, человека-художника. Героя рассказа зовут Николай Лиогин. Почему Николай, догадаться нетрудно. Но и тайна редкостной русской фамилии тоже вполне прозрачна. Набоковская «Защита Лужина» была переведена и взволновала не только русскую публику. Герой Дюмюра Николай боится оглядываться в прошлое. Он редко бывает раскованным. Он все время в напряжении, а в рассказах его не отличишь правду от выдумки.
«Его монологи… – пишет Дюмюр о своем русско-прибалтийском герое, – обнажали в нем самом лишь ту область, где догорали терзавшие его воспоминания, былые его восторги или былая ненависть, все то, что и сейчас, каждую минуту посягало на свободу его существования, охваченного предчувствием того мига, когда истина откроется ему во всей полноте. Никогда я не видел его в спокойном состоянии. Он жил лишь восторгом, болью и гневом.
Никогда я не видел такой непокорности судьбе. Уставший, пусть даже больной, он в самой своей слабости умел находить источник еще большего возбуждения. Он ненавидел отдых и сон».
Приводя многочисленные (все в том же роде) наблюдения над поведением его героя, самый неторопливый из биографов де Сталя (Л. Грельсамер) не без удивления сообщает, что близкие вспоминают о его веселости, смехе, о приступах щедрости, доброты и даже великодушия, хотя бывало и наоборот… Вглядываясь в старые фотографии, нейтральный наблюдатель с недоумением пожмет плечами: ни многократно описанный внезапный хохот Никола, ни странные его «завиральные» монологи, ни выражение его лица, ни его взгляд, ни его полотна («выставочный зал его души») – ничто не наводит на мысль о веселом характере, о легкости, о счастье…
А между тем, удача шла ему навстречу. На сторонний взгляд, судьба одарила его всеми дарами, каких только можно ждать в этой жизни. Он был молод, статен, красив, новая его, совсем молодая жена носила под сердцем ребенка, друзья и поклонники-коллекционеры, сплотившись, вытаскивали его из долгов, а «добрый Страг» Умберто Стражиотти, богатый промышленник и коллекционер упорно искал в перенаселенном Париже мастерскую и жилье для «своего художника». Понятно, что после войны в Париже, куда смогли вернуться даже расово неполноценные аборигены, найти помещение было труднее, чем в былом оккупированном, благородно-малолюдном курортно-тыловом городе. Страг облазил все знаменитые парижские гнезда художников, побывал и на вилле Сера, и в Сите Флери, и в Сите Фальгьер, и на Монмартре, и на улице Клиши, и на Кампань Премьер, и на улице Художников близ Алезии, и в тихих заводях 16 округа, и в пивных Латинского Квартала… Он стоял с художниками у цинковой стойки, влезал в беседы, щедро угощал, расспрашивал… И в конце концов набрел на след. На улице Гогэ (точнее даже, в тупике Гогэ) в обширном двухэтажном доме под номером 7 жил и трудился преуспевающий художник-декоратор Гастон Андре, придумывавший интерьеры для парижских кинотеатров. Декоратору и самому уже приходило в голову, что он мог бы сдать кому-нибудь часть дома, так что Стражиоти подоспел со своим предложением во время. Правда, хозяин попросил, чтобы новый жилец воздвиг стенку, которая поделила бы на две части его огромное (восьми метров в высоту) ателье, и энергичный Стражиотти тут же принялся за дело. Так что, вернувшись из гор, Никола смог уже в январе переехать в это свое головокружительной высоты ателье. Слово «головокружение» не раз встречается как в описаниях ателье, так и в суждениях художника о собственном состоянии…
Глава 28. Улочка Гогэ
Размеры нового ателье позволяли реализовать давнее стремление де Сталя к увеличению формата его картин. В новом ателье Никола писал полотно, приставив его к стене, а краски смешивал на круглом столике, прихваченном бесцеремонными постояльцами еще при переезде с улицы Нолле. Можно было бы, наверно, прихватить и еще что-нибудь из уцелевшей мебели, но ни на рю Ломон, ни на Кампань-Премьер, ни на Монпарнасе разместить эту чужую собственность было тогда негде, а вот без столика-палитры как обойтись. Все биографы и мемуаристы растроганно вспоминают об этом пригодившемся чужом столике и вообще о скудости обстановки в новом жилье художника.
Первая же картина, законченная де Сталем в новом его ателье, была рассчитана на новый формат (195 х 114). И в ее названии и в ее ритмах есть указание на танец, так что иные из биографов высказывают догадку, что она навеяна испанским фламенко (как и путевые зарисовки юного Никола). Другие искусствоведы не высказывают никаких догадок, что, наверно, разумнее.
Вспоминают, что в новом ателье Никола стал меньше работать по ночам, зато проводил в своей мастерской весь день. У него появились новые друзья, посещавшие его ателье. Один из них, Шарль Ляпик, был не только живописцем, но и серьезным ученым. Еще до войны он занимался фотометрическим исследованием пигментов красящих веществ, работал в области оптики и только в благоприятствовавшем расцвету искусств Париже 1943 года целиком отдался живописи. С де Сталем он познакомился в 1947 году и позднее не раз вспоминал, с какой «неистовой» жадностью и любопытством молодой художник (Никола был чуть не на двадцать лет моложе Ляпика) впитывал все, что касалось цвета, краски, живописи. На этот счет у Ляпика были свои собственные, вполне оригинальные теории, равно как и собственное представление о совместности беспредметной и фигуративной живописи.
Перебравшись на рю Гогэ, де Сталь стал почти что соседом Жоржа Брака (чье ателье размещалось на рю Дуанье), и встречи их стали регулярными. Брак с интересом выслушивал де Сталя и вел с ним долгие беседы. Французские исследователи (в частности, А. Мансар) убеждены, что одной из важнейших тем в разговорах де Сталя со старшим собратом по искусству была проблема художественного пространства, которой оба они придавали такое большое значение, а также проблема массы материала, пастозности. Для Никола де Сталя подвижничество и серьезность Брака, которого он считал одним из величайших живописцев века, служили моральной поддержкой. Дружеская симпатия Брака была важной составляющей его существования. Написал же он в утешение бедной матушке Жанин, что на похоронах ее дочери присутствовал величайший из художников. Вероятно, ему и в голову не пришло, что присутствие самого Брака не может кого-нибудь не утешить в горе…
С тех пор, как де Сталь начал работать на рю Гогэ, частым гостем в его мастерской стал молодой поэт, которого он привел некогда из Эколь Нормаль в качестве репетитора к своему пасынку, – Пьер Лекюир. За время, прошедшее со времени первого визита студента этого престижнейшего французского вуза (его студенты и выпускники носят престижную кличку «нормальен») в дом на рю Нолле, кое-что изменилось не только в жизни молодого художника, но и в жизни совсем молодого поэта. Де Сталь похоронил подругу, скоропалительно женился и стал почти знаменитым. Лекюир распрощался с Эколь Нормаль, прошел конкурс, получил пост в престижном секретариате парламента и нашел свою особую экологическую нишу на путях к славе. Их вновь начавшееся интенсивное общение (чуть не до последних месяцев жизни старшего из них) принесло обоим молодым интеллектуалам не только радость, но и пользу, как духовно-просветительную, так и материальную, о которой вполне откровенно говорил де Сталь (недаром же Пьер Лекюир, доживающий девятый десяток лет близ старинного Сада растений, иногда вспоминает былого друга-художника как существо, не чуждое цинизма).
Поступив на службу, Лекюир не забывал, что главное для него – это поэзия и ее издание. Он мог, конечно, издать за скромную плату книжечку своих стихов где ни то на бульваре Сен-Жермен, но кто заметит эту книжку? Лекюир решил, что он сам будет издавать книги, каждая из которых будет событием. Роскошные книги dе luхе. Вроде той, что издал недавно несовершеннолетний пасынок де Сталя – книги для знатоков, для библиофилов. Для этого нужно найти деньги, привлечь художников, а книгу делать самому. Как это делает русский эмигрант из Тифлиса со странным псевдонимом Ильязд… Забегая вперед, скажу, что Пьер Лекюир (которому нынче уже под 90) преуспел на этом поприще.
Общение с художником де Сталем стало эпохой в жизни Лекюира (он называет ее «Годы Сталя»). Дневник, который вел в ту пору молодой поэт, переносит нас в первые годы мастерской на рю Гогэ. Присутствие молодого и образованного поклонника развязывает язык Никола, и они спорят обо всем, главным образом, об искусстве.
«Поразительный персонаж этот Сталь, – пишет Лекюир в своем дневнике 1947 года, – человек настоящей культуры, редкой у художников… У него нет модернистской ортодоксии, и в то же время он «природно», естественным образом один из самых продвинутых. Он говорит, что можно рисовать что угодно и как угодно. Главное – это плотность, насыщенность живописи. Вот это не обманет».
Когда задумываешься о судьбе Лекюира, который не был ни отставлен, ни изгнан нетерпимым, капризным, нервным де Сталем, приходишь к выводу, что Никола де Сталь вообще по-особому относился к людям пишущим. Ему было далеко не все равно, как о нем будут писать. А Лекюир собирался писать о де Стале, и ясно было, что он напишет то, что понравится его герою. При всяком гении существовал свой верный Эккерман. А де Сталь никогда не сомневался в том, что он гений, так что Лекюиру посчастливилось придти вовремя и занять пустующую нишу. Довольно скоро он начал работать не только над дневниковыми записями, но и над очерком: «Видеть де Сталя». Вот как начиналась главка в очерке Лекюира:
«Его серый цвет. В его живописи не было бы света, не было б атмосферы, прозрачности, глаз был бы замурован цементом, воздух не поступал бы в нее и радость была бы невозможной, если б не было этого знаменитого серого тона.
Эти его серые уникальны в современной живописи. Уникальны в своей утонченности, в своем разнообразии, в самом своем существе, в глубине, в многообразии комбинаций – там, куда их вводит художник. Как и все эти тщательно сработанные художником формы, они просты с виду, но обработаны для нашего взгляда, они почти осязаемы наощупь, они податливы, они ковки, они обладают редкостным поэтическим свойством. Они уместно звучат на полотне, в самой его основе. Они создают самый «климат» этого духа и этого гения, самую существенную из его черт.
Они не забирают себе весь свет, наподобие тех хищных форм, что обедняют все свое окружение. Они разливают вокруг себя ровную ясность, полноту, маслянистую гладкость, они будят мечту. Придают прозрачность, которая не случайна, а исполнена накопленной силы и позволяет в полный голос вести свою партию, не покрывая другие голоса…
А еще чаще эта элементарная серость тона служит подобием зеркала, это, без излишних сложностей, рывок к восточному цвету.
Сталь обращается с этим тоном как с прекрасным своим творением, которое можно пустить в ход…»
И еще, и еще, такие вот стихи – о сотворении чудес и стране чудес…
Вслед за дневниками Лекюира, за разговорами Де Сталя с Лекюиром последует значительная их переписка, начало которой восходит к тому же 1947 году. Лекюир и Сталь – это особый сюжет. Его всю жизнь разрабатывает сам Лекюир, которому уже 90. Но сюжет получает развитие, усложняется. У меня на слуху третий голос – княжны Милы Гагариной, супруги Лекюира. Завершим ли мы когда-нибудь этот разговор, с русской прямотой, с французской уклончивостью? Бог весть… Его щедрость предоставила нам троим уже больше четверти тысячелетия…
Весной 1947 года Франсуаза подарила мужу дочь, которую назвали Лоранс. А осенью того же года в том же доме номер 7 по рю Гогэ произошла у де Сталя незначительная на первый взгляд встреча с соседом по дому. Нам с вами трудно будет изобразить невнимательность к этой встрече, ибо мы все знаем наперед, да и вообще имели возможность убедиться, что случайные встречи оказываются в большей степени судьбоносными, чем те, которых ждут годами.
Никола де Сталь познакомился с соседом, снимавшим у декоратора Андре верхний этаж виллы. Соседа звали Теодор Шемп (Sсhемрр), но уже после первого знакомства, с добродушного согласия Теодора, его начинали звать просто Тед. Простой человек, американец.
Тед оказался торговцем картинами, маршаном. Он был не из тех знаменитых маршанов и галеристов, которые подобно Луи Карре, несметно разбогатели в малогероические годы оккупации. Все те страшные и доходные годы Тед отсидел в США и вернулся в Париж не так давно. Пока он торговал картинами, не имея ни своей галереи, ни даже сколько-нибудь приличного офиса. Как большинство американцев, Тед уже тогда был фанатиком автомобилей, так что все свое (и свое, и чужое) он возил с собой. Открыв багажник своей огромной американской машины, он показывал покупателю вверенную его заботам картину прямо здесь, у багажника, а то и вовсе увозил картину куда-то за океан, в проклятую Америку, где, если верить туманным слухам и осязаемым долларам, художественный рынок рос, как на дрожжах.
Конечно, романизированная биография де Сталя, написанная золотым пером профессионального французского журналиста, сообщает, что судьбоносное знакомство Никола де Сталя с соседом-маршаном произошло по чистой случайности на лестничной площадке: то ли свет погас, то ли застрял лифт, то ли засорился сортир, то ли все это сразу… Однако занудная добросовестность вынуждает меня отметить, что Сталю говорил про этого расторопного соседа-торговца то ли Брак, то ли еще кто-то. Престижней, конечно, чтобы все шло от Брака. Так или иначе, шли слухи, что этому безгалерейному челноку Теду доверять можно, что он еще никого не надул, хотя соблазны в этом ненадежном промысле таятся огромные. Пишут также, что и Теду этому кто-то из художников (престижнее, чтобы снова это был Брак) рассказывал про его нового соседа, абстрактного живописца, который стремится в большой свет и очень томится…
Это последнее было правдой. Де Сталь томился теперь не только безденежьем, но и недостаточно быстрым приходом известности. Луи Карре покупал его картины, расплачивался, но пока придерживал картины до удобного случая, до прихода хорошей цены. Свое торговое дело он, конечно, знал навылет.
Ну а художнику хочется скорей выйти в люди (и на люди), чтоб целый свет, наконец, узнал, кто у нас тут главный гений. Такое нетерпение сердца всякому творцу знакомо, хотя чаще всего оно и тщетно, и суетно, однако простительно, да и не всякому долгий век отпущен. Петроградский сиротка Никола это, наверно, чувствовал острее других.
К слову, вспоминались ли ему когда-нибудь Петроград, Финляндия или Польша? Известно, что он гнал от себя все воспоминания о детстве. Сомневаюсь, чтобы он интересовался чужой войной, чтобы он слышал когда-нибудь, что в родном его городе два мильона умерло от голода во время блокады. Комментатор его писем в большом каталоге сообщает, что де Сталь пожертвовал Союзу советских патриотов в Париже картину, которая была продана этим союзом (курируемом разведкой) за пятнадцать тыщ тогдашних франков. Кто из левого окружения де Сталя (а кто ж из его друзей-сюрреалистов не был тогда левым?) присоветовал ему подобный, столь редкий для него жест щедрости, трудно сказать. Может, активистка Союза патриотов Надя Ходасевич-Леже. В ноябре 1947 года вся руководящая верхушка упомянутого Союза была выслана даже из тогдашней вполне левой Франции: слишком активно участвовала она в неловкой попытке компартии совершить переворот и захватить власть в стране. Думаю, все эти события прошли для Никола незамеченными…
В начале 1948 года монах-доминиканец отец Жозеф Лаваль, желая оказать моральную поддержку симпатичным для него авангардным художникам и скульпторам, устроил в монастыре Сольшуар в Этиоле художественную выставку, в которой участвовали Никола де Сталь и Андрей Ланской. В дневнике Пьера Лекюира осталась запись за 18 февраля 1948 года: «Вчера в Этиоле, под порывом ледяного ветра, в конце холодного прекрасного дня. Созерцали в стенах доминиканского монастыря картины Ланского и Сталя, гравюры, гобелены, скульптуры Адама… Что до Сталя, то он был и остался дикарь, необуздан и груб в самых лучших своих полотнах… Утром я купил у него рисунок, что-то чудовищное, наподобие Рака в созвездии Зодиака, что-то всепожирающее, что-то очень сложно построенное и совершенно дикое в тенях, им отбрасываемых…»
Гуманный отец Лаваль думал не только о смятенной душе своего подопечного художника, но и о грешном его теле. Он подкинул ему двух небедных покупателей из хорошего общества (один так и вовсе был из прославленной семьи де Ноай). Оба ушли, унося по картине.
Однако, уже и тогда, не успев еще стать мировой знаменитостью, Никола был несговорчив и громко заявлял о своих правах и принципах. Художественный критик Леон Деган, отбирая картины для французской выставки в Сен-Паоло, присмотрел кое-какие купленные Луи Карре полотна де Сталя как характерные для определенного времени и направления. Узнав об этом, Никола де Сталь пришел в ярость. Это не трудно объяснить. Как всякий гений, он не мог позволить, чтоб его с кем-то или с чем-то соотносили, классифицировали: он считал себя единственным и уникальным. В его письме к Дегану (аккуратно хранящемся в Музее современного искусства) нет даже обычной осторожной деликатности, с которой де Сталь вразумлял журналистов и художественных критиков:
«Могло так случиться, что они разрешили без моего согласия выбирать что-либо у Карре, но это с их стороны не слишком любезно. Никакой тенденции беспредметности не существует, и тебе это отлично известно, мне вот только непонятно, как можно допустить такой отбор».
Если отвлечься от тона этого письма, можно все же отметить в нем некую последовательность – последовательное неприятие Никола де Сталем любого выделения «беспредметной», «абстрактной» или, что еще хуже, «абсурдной» живописи из общего потока искусства. Это нежелание принять догмы воинствующих сторонников абстрактной живописи, делавших отрешение от всякой реальности главным условием существования искусства, все больше отдаляло де Сталя не только от разросшейся после войны армии (или, как неосторожно выразился де Сталь, «банды») передовых абстракционистов, но и от их престижных галерей и объединений, таких, скажем, как Фонды Мэгт или Дени Рене. При этом де Сталь не остался в одиночестве и не вел единоборства: в том же 1948 году появились первые серьезные статьи искусствоведов, в которых позиция его нашла вполне престижную поддержку. Одним из первых искусствоведов, написавших обстоятельную статью о Стале, был бельгиец Роже ван Гендерталь. Поскольку мы пишем не о жизни огромного мира, сотрясаемого катаклизмами горячих и холодных войн, насилия, голода и эпидемий, а всего лишь о жизни одного авангардного художника-космополита, рожденного в мученическом городе Петра, а позднее жившего в тихом закоулке 14-го округа Парижа, то и события, нами описываемые, будут помельче, чем мор ленинградской блокады или пахнущие кровью «московские процессы» 1937. И все же мы не можем пройти мимо них, ибо они были крупными событиями в жизни нашего талантливого и безудержно честолюбивого героя. Взять ту же статью известного лишь в очень узких художественных кругах бельгийца ван Гендерталя. Она была напечатана весною 1948 года в брюссельской «Газете поэтов», и критик объяснял там, что, освобождаясь с облегчением от необходимости передавать внешние контуры реальных предметов, художник де Сталь вовсе не собирался порывать с реальностью, разрыв с которой был делом чести для каждого «истинно абстрактного» художника. Уже в первом периоде творчества де Сталя критик усмотрел неуклонное восхождение к вершинам его гения.
«Сталь знает, – писал Роже ван Гендерталь, – что человеческий глаз умеет чудодейственно записывать образы, а зрительная память художника является их хранилищем с первых дней жизни, что образы эти записаны и воспроизводятся не всегда в той последовательности, в какой они возникали, а накладываются один на другой и соединяются друг с другом так быстро, что способы их соединения остаются незамеченными, ускользают от внимания…»
Читателям «Газеты поэтов» рассуждения эти казались интересными.
Лето 1948 года принесло молодому художнику с улицы Гогэ и другие знаки его успехов. Молодая жена родила ему второго ребенка, на сей раз сына, а французская администрация удостоила его французского гражданства. Де Сталь смог обменять свой апатридский, «нансеновский паспорт» на нормальный, французский и стать гражданином европейской страны. Расставаясь с «нансеновским паспортом» на этой странице, автор считает долгом напомнить, что благодаря инициативе славного путешественника Фритьофа Нансена несметные толпы изгнанников, которых русская катастрофа лишила родины, получили хоть какую-никакую, а все же бумагу (ксиву), с которой иные и прожили остаток жизни.
Осенью того же года у Никола де Сталя состоялась первая в его жизни зарубежная персональная выставка. Она прошла в Монтевидео, гордой столице крошечной южноамериканской страны, Уругвая. Конечно, де Сталь не сам выбрал на огромном континенте такую маленькую страну. Просто его давний парижский друг и поклонник Гектор Сгарби работал советником по культуре именно в уругвайском посольстве. Все, что касалось выставки в Монтевидео, Сгарби сам и устроил. Швейцарский искусствовед Пьер Куртион взялся написать предисловие к каталогу выставки, где он выразил особое восхищение пастозностью живописи Сталя, особыми свойствами его красочной массы. «Мы имеем дело с художником исключительным», – писал Куртион.
Искусствовед послал свое предисловие де Сталю и получил в ответ дружественное письмо с некоторыми замечаниями:
«Я был по-настоящему растроган, но там, где речь заходит об «абсурде», у меня впечатление, что это оборот чисто литературный… Слишком просто было бы назвать абсурдом то, что по сути своей является органичным, жизненным, то, без чего нет жизни и что лежит в основе равновесия всего, что из него исходит».
Осенью 1948 года де Сталь решил расторгнуть контракт, которого он так долго желал и добивался, – контракт с Луи Карре. Де Сталя больше не устраивала тактика галериста, прятавшего его картины в запаснике и выжидавшего, пока «дозреет» цена на молодого художника. Появились статьи искусствоведов о де Стале и художник считал, что он дозрел до славы.
На время Никола де Сталь остался без галереи и стал искать нового маршана. Он был уже вполне известен, но многие галеристы отказывались взять на себя продажу его картин, зная нелегкий характер художника. Вероятно, с подачи Андрея Ланского де Сталь вступил в переговоры с хозяином галереи на бульваре Осман (дом 126) Жаком Дюбуром. Дюбур вовсе не специализировался на авангардной живописи. Гордостью его не слишком обширной галереи были картины Курбе, Жерико, Делакруа, Коро. Однако выяснилось, что соседство классиков устраивает Никола больше, чем близость к верхушке авангарда. Выяснилось также, что галерист Дюбур, намного менее известный, чем Луи Карре, но тоже разбогатевший в золотую пору оккупации, давно присматривается к де Сталю и покупает его полотна. Сотрудничество Дюбура с де Сталем оказалось долгим и успешным, а письма де Сталя к галеристу с бульвара Осман (в том числе и предсмертное письмо художника) обеспечили Жаку Дюбуру прочное место во французском сталеведении.
Впрочем, и наличие галереи, и наличие поклонников-покупателей еще не делали в ту пору художника состоятельным. Как можно понять из дневника Пьера Лекюира (регулярно ведомые поэтом записи о его встречах с де Сталем так и озаглавлены – «Дневник годов со Сталем»), художник еще жаловался на материальные трудности и объяснял их отчасти своим неукротимым стремлением к совершенству. Уже закончив полотно, де Сталь не решался выпустить его из рук и продолжал его улучшать. На вопрос поэта, не осеняет ли художника новое вдохновение, де Сталь так объяснял причины промедления:
«Вдохновение? Нет, не в том дело. Удовольствие? Нет, я его не получаю, во всяком случае редко. А вот что у меня бывает ОГРОМНЫМ… так это огромное желание всегда сделать вещь более сильной, более острой, более утонченной, более близкой к абсолютному, в конце концов приближенной к идее совершенного шедевра, того, что будет достигнуто одной линией и пустотой…»
Эта запись беседы со Сталем была сделана Лекюиром в конце января. Но незадолго до этого де Сталь признавался Лекюиру, что он восхищается Ланским (а может, и завидует Ланскому), который за вечер может написать до девяти гуашей…До того времени, когда он сможет писать в день по картине, еще оставалось ждать долго, а усталость дала о себе знать, и де Сталь укатил вместе с молодой женой в ближнюю Европу – отдохнуть, походить по музеям.
Они посетили Гаагу, Амстердам, Брюссель…
«О, Брюссель! – воскликнет догадливый читатель, – Квартал Юкле, отчий дом, детство, отрочество, юность, нежная мама Шарлотта, которой он написал лет десять назад столько проникновенных писем; благородный, бескорыстный отец, перед которым хотелось (не всегда, впрочем, бескорыстно) встать на колени; друзья из «Русского дома», первая женщина, интеллигентная Мадлен; первые девушки, первый косяк травки, первая бутылка водки, первый пикник, первый загул… «Конечно, ему захочется все показать молодой жене… Всем показать ее…» – вздохнет наш догадливый, чувствительный и внимательный русский читатель. «Ничего этого не будет! – печально возразит другой, еще более догадливый и внимательный читатель, – Никаких он папы с мамой не навестит. Никаких братьев – сестер, нянь-старушек».
И не оттого, чтоб забыл или поссорился, такого не было. Просто… Он уже объяснял, что не любит оглядываться в прошлое и предаваться ностальгии. У него нет на это времени. А может, нет на это душевных сил. И не будем к нему за это в претензии. Слава Богу, нашлись у него способы снимать невыносимую тяжесть с раненой души – и очередные письма к очередным знакомым-полузнакомым, и живопись – белый холст, тюбики краски, кисти, да нет, какие там кисти, теперь ножи, мастихины, шпатель…
Иных из старинных друзей он навестил, был к ним очень внимательным, подолгу стоял, общался. Это было волнующее, приятное и полезное общение. Вероятно, даже небезответное. Речь идет о прославленных картинах – в прославленных музеях, скажем, в амстердамском национальном музее…
Друзья были все те же – Рембрандт ван Рейн, Франс Хальс, Эркюль Зехерс… Кто они, вы помните. На всякий случай напомню, в двух-трех словах.
Сын лейденского мельника Рембрандт за свои шестьдесят с небольшим годов жизни (1606-1669) написал шесть с половиной сотен знаменитых полотен, среди которых было шесть десятков его автопортретов и огромное полотно «Ночной дозор» (1642 г.), Вот перед ним-то молодой де Сталь и стоял теперь, три века спустя, как прикованный. Самые тонкие из сталеведов считают, что в законченной вскоре Сталем картине «Улица Гогэ» даже ощутимо это влияние великого «Ночного дозора». Им, сталеведам, видней.
Следует упомянуть также старшего современника Рембрандта, славного уроженца Антверпена Франса Гальса (или Хальса), автора замечательных портретов. Перед этими портретами регентов и дам, может, вспомнилось де Сталю, как он два года маялся в надоевшей ему Ницце, создавая портрет своей жертвенной подруги Жанин. Наверняка он думал о своих картинах тоже, ибо хотел сверять свои достижения только с высшими образцами мировой живописи.
Среди самых высоко им ценимых шедевров были произведения голландского живописца и гравера XVII века Эркюля Зехерса, чьи пейзажи волновали самого великого Рембрандта…
Взглянув на родное северное море (в письме Лекюиру де Сталь уподобил его стеклу) и постояв перед шедеврами фламандской живописи, де Сталь вернулся в свою мастерскую на рю Гогэ и закончил работу над большим (199, 5 на 240, 5 см) полотном. Оно названо было по имени скромной и тихой улицы 14-го округа Парижа, которую де Сталю суждено было увековечить, – «Улица Гогэ».
Даже при первом взгляде на эту знаменитую картину можно заметить, что Сталъ уходит от прежних «композиций» из сложнейшего набора «палочек» в сторону крупных цветовых пятен или «блоков». С особой решительностью этот отход обозначился именно в 1949 году. В своей новой монографии о Никола де Стале французский искусствовед Жан-Клод Маркаде писал:
«В 1949 году мы оказываемся на промежуточной стадии между палочками и блоками. Полотно «Улица Гогэ» является в этом смысле показательным».
Далее маститый искусствовед предлагает свое толкование полотна:
«можно отметить «абстрактное» видение части стены в ателье де Сталя, что подтверждается сравнением картины с фотографией «Ателье на рю Гогэ», снятой пасынком Сталя поэтом Тудалем в 1953 году. О том же говорит и описание ателье, сделанное в 1948 году Пьером Куртионом… В картине «Рю Гогэ» различные планы примыкают один к другому или покрывают друг друга, точь в точь как предметы на фотографиях мастерской той эпохи или на фотографии 1947 года, на которой художник, присев на низкое кресло, пригибается к полу, перебирая тюбики с красками, причем видны картины – одни к нам повернутые, другие нагроможденные друг на друга или прислоненные к стене, так что видны рамки. Картина «Рю Гогэ» дает, на мой взгляд, квинтэссенцию абстрагированных состояний реальных предметов, заполняющих мастерскую: истинное сооружение из красок».
Маркаде напоминает в этой связи читателю данное Сталем и записанное Пьером Лекюиром определение «сюжета» картины как «отношения художника к тому, что он изображает».
В сложности этой простоты и простоте этой сложности Жан-Клод Маркаде видит нечто поистине «моцартовское».
О картине «Рю Гогэ» писали и другие французские искусствоведы, в частности, Жан-Поль Амелин, также обративший внимание на переломный момент в творчестве художника:
«Это момент, когда художник отказывается от композиций с палочками, от их напора и их перегруженности, отказывается в пользу более просторных и легче дышащих форм, отказывается для композиций более статичных и спокойных. Большие красочные пространства свидетельствуют об изменении орудий и техники живописи. Красящая масса, наложенная мастихином и шпателем, утолщается и становится гуще, поверхность становится более шероховатой, изобилует складками и выступами. Фактура становится активным элементом композиции, художник накладывает краску слой за слоем, добиваясь искомой гармонии. В картине «Рю Гогэ» обнаружены резкость форм и сияние синевы, похожие на витраж. Это как бы результат совместных усилий мастера витражей и каменщика. А по краям каждого красочного пятна процарапана бороздка, помогающая разграничить поверхность и основу».
Полотно «Рю Гогэ» экспонировалось многократно. Уже в 1949 году оно было показано на выставке у Жана Борэ, где были также представлены такие близкие к де Сталю живописцы, как Сергей Поляков и Сергей Шаршун.
Никола де Сталь выставлялся в ту пору и в Сен-Паоло, и в Торонто, и на майском салоне в Париже.
Имя художника становится довольно широко известным, но он по-прежнему резко выступает против отнесения его творчества к какому бы то ни было определенному направлению искусства, тем более, к абстрактному. На тех, кого он назвал «бандой беспредметников», де Сталь смотрит свысока. Вот запись из дневника Лекюира за 27 февраля 1949 года:
«Неделю тому назад произошел наш сногсшибательный разговор со Сталем, около полуночи, после ухода «группы», которая посетила его мастерскую, Гарбель, Мари Реймон, Пишет и др., а также Куртион… «Я ничто, но у меня глубокое убеждение, что на их фоне (на фоне всех этих художников) я гений из гениев…»
Итак, уже в 1949 году он знал, что он гений в окружении ничтожеств. Исключение он делал (и то далеко не всегда) для Брака. И еще порой для тех искусствоведов и журналистов, которые признавали его гениальность. При этом по поводу всякой новой картины он остро нуждался в заверениях о своей гениальности. Эти заверения мог дать не только Жан Борэ, но и начинающий издатель Пьер Лекюир.
Что до Жоржа Брака, то знаменитый мастер охотно принимал младшего коллегу в парижской студии на рю Дуанье и в нормандской своей мастерской в Варанжвиле. Тогдашняя ассистентка Брака Мариет Лашо вспоминает:
«Сталь появлялся регулярно… И когда он знал, что может подняться в мастерскую, чтоб поговорить о живописи, он никогда не задерживался там надолго; он очень уважительно относился к чужой занятости, он знал, что время буквально сгорает, он это знал по себе. И Мастеру нравилось то, что он говорил!.. А потом он уходил, чтоб захватить свет полдневного часа, это было как перерыв…»
В том же 1949 году де Сталь написал несколько знаменитых «Композиций», купленных престижными музеями. Но одна из них и сегодня украшает парижскую квартиру Лекюира, что напротив былого королевского Сада растений в Париже.
– Я часто останавливаюсь перед этой картиной, – сказала мне супруга поэта мадам Лекюир, урожденная княжна Гагарина, сама опытный арт-дилерю – Я гляжусь в нее, как в зеркало.
Осенью того самого года, когда появилась на свет эта «Композиция», Пьер Лекюир начал писать свой текст «Видеть Сталя». Это была восторженная поэма, стихи в прозе. Исписанные листочки поэт добросовестно отдавал на просмотр герою своей поэмы. Де Сталь изучал текст с большой внимательностью и писал автору письма со своими замечаниями. И самые замечания и все сделанные им исправления автор заносил в особый дневник. Позднее всю эту переписку досконально изучали французские сталеведы и цитировали ее многократно. Пришла и наша с вами очередь:
«Сегодня утром я получил от Сталя ответ на листочки, которые я ему отправил. Он прислал мне шесть больших страниц, исписанных его размашистым почерком. Этот документ надо хранить».
Дальше Лекюир цитирует уже отчасти нам знакомые декларации де Сталя и его определения искусства:
«Не абстрактного. Не реалистического. Не искусства социального (в этом смысле слова). Ничего от Дюбуфе. Все это для вас слишком парижское. Для меня тоже. Матисс – это тоже лишь оттого, что жить скучно. Брак это тоже от моды и т.д. Слишком кратко или недостаточно насыщенно, не то».
В своей переписке Лекюир и де Сталь обсуждают на своем сугубо поэтическом (часто метафорическом и сюрреалистическом) языке важные для них проблемы поэзии и живописи. Скажем, проблему художественного пространства. Де Сталь пишет:
«Картинное пространство это стена, но все птицы мира пролетают через нее свободно. На любой глубине».
– Письма Сталя, они как стихи, – сказала мне три четверти века прожившая в мире искусств мадам Лекюир.
– Но это и есть стихи! – уточнил ее муж.
Для него, как и для Сталя, стихи и картины являют нам метафоры и метаморфозы. Де Сталь писал в письме Лекюиру:
«У Рембрандта тюрбан индийца превращается в булочку-бриош, Делакруа превращает головной убор в пирожное-бизе, только вынутое из морозильника, Коро в сухой бисквит, и это ни тюрбан, ни бриош, ни что – либо еще, а обман зрения, каким только и может быть, и всегда будет живопись. Предмет, да, неведомый, но знакомый, красящий пигмент».
Поймав в листочках Лекюира намек на абстракцию, де Сталь протестует: «Отказываюсь, чтобы обо мне судили в подобных категориях».
Лекюир послушно делает поправки и в начале декабря 1949 года отсылает художнику последние листочки своей поэмы в прозе. В тот же вечер он приходит в мастерскую на рю Гогэ, а позднее описывает все происходившее в своем «сталевском» дневнике:
«Он прочел громко и сбивчиво весь мой текст, страницу за страницей. По временам он останавливался, что-нибудь прибавлял или убавлял, брал на заметку».
До выхода этой поэмы о Стале с иллюстрациями де Сталя оставалось еще больше трех лет.
Прошло еще шестьдесят лет. Вот она, эта поэма о Стале:
«Эти рост и осанка, этот характер абсолютной стихийности, серебряный этот подсвечник, эта кладка опоры и царственная вертикаль, этот размах, эта вольность, этой линии переменчивость, будто низкий берег речной, этот гром грозовой, не нашедший внутри примененья, и смятенье частей до того, как сумеют сложиться в фигуру, беспорядочно верный порядок, толщина, ощутимая только наощупь и бурчанье ворчливое, оснащенные эти полотна с этим видом своим беззащитным, откровения эти, настолько прямые, что их можно принять лишь за выдумку, и вся эта неловкость, и изношенность полная при сохранности полной, и свобода от соблюденья размеров, и сиротство извечное при недетском внушительном росте – таково сочетанье всех черт несовместных в ошеломляющих этих картинах».
Там много чего сказано в этой поэме и о художнике, и о его картинах. Но поэма, она и есть поэма, так что Сталь не спешил с иллюстрациями и затратами. Он искал путей для публикаций о нем в престижном высокопрофессиональном журнале «Тетради искусства», который издавал Кристиан Зервос. С Зервосом должен был связать де Сталя историк искусства Жорж Дютюи. Появление материала о Стале в столь престижном журнале должно было помочь Теду Шемпу в его попытках поднять популярность его подопечного художника в Америке. Речь шла о завоевании американского художественного рынка, который был не чета тогдашнему европейскому. И умелец Тед Шемп, и сам Никола де Сталь подходили к пиару вполне серьезно, понимая, что любое упоминание о Стале в парижской печати могло сгодиться, ибо художник с улицы Гогэ еще не был ни французской, ни мировой знаменитостью. А рынок ценит знаменитых…
Глава 29. В двух шагах от мастерской
Как прозорливо отметил в своей монографии о де Стале искусствовед Жан-Клод Маркаде, картина «Улица Гогэ» вовсе не уводила на улицу, а напротив, подводила к уголку стены в мастерской де Сталя. Однако, заговорив о парижских событиях 1949 года, я не устою против соблазна покинуть стены мастерской на рю Гогэ, дойти до недалекого отсюда центра Парижа и углубиться в историю этого самого года, о котором я написал свою первую парижскую книгу.
Книга моя была о потрясающем судебном «процессе века», который начался в начале того года во Дворце правосудия на острове Сите посреди Сены и тянулся до середины весны. Его можно было бы назвать «русским процессом», или «процессом парижской интеллигенции», или «процессом коммунистической прессы», или «первым процессом холодной войны». В газетном обиходе его называли «процессом Кравченко», но в официальном названии обозначено было противостояние автора книги и коммунистической прессы: «Кравченко против «Летр Франсэз». Я бы выделил и главное, умолчанное не только тогдашней левой прессой, но и недавним сериалом популярной некогда в России радиостанции«Свободы»: «парижская интеллигенция против русских зеков».
В центре судебного процесса стояли книга и автор книги. Сын рабочего из Днепропетровска, коммунист, советский инженер и «выездной» ответработник Виктор Андреевич Кравченко сбежал из Закупочной комиссии в Вашингтоне еще в 1942 году и попросил убежища у американцев. Конечно, он был заочно приговорен на родине к расстрелу, но ухитрился долгое время прятаться и написать большую книгу о своей подсоветской жизни и карьере, которая была литературно обработана американским журналистом Юджином Лайонсом. Книга эта стала первым после окончания войны антисталинским бестселлером и излагала известные ныне любому неленивому читателю подробности кровавой коллективизации, индустриализации, террора и гладомора (все то, что лет сорок спустя смогли описать и Булат Окуджава, и Василий Гроссман, и Варлам Шаламов, и многие сотни свидетелей). Книга «Я выбрал свободу» была переведена на многие языки мира и пользовалась таким успехом в прокоммунистической Франции, что жюри престижной премии Сент-Бева предпочло ее всем публицистическим трудам выдвинутым на премию (даже книге славного Антуана Сент-Экзюпери). Понятно, что коммунисты получили из Москвы указание «отреагировать», и в еженедельнике «Летр франсэз» появился «клеветон», где все рассказанное в книге Виктора Кравченко было объявлено ложью, а сам беглец – пьяницей, дебилом, «находкой для шпиона». И вот тут в Париже случилось нечто непредвиденное и по тем временам коммунистического диктата невероятное. В Париж тайно прибыл отчаянный Кравченко, нанял блистательного социалиста-адвоката и затеял процесс против коммунистического еженедельника, требуя, чтобы его редактор и автор лживой статейки были наказаны за клевету. Он готов был доказать, что все, что написано в его книге, правда. Ну, а то, что он не дебил и не пьяница, стало ясно с первого дня процесса…
Конечно, все французские интеллектуалы (среди них были искусствоведы, поэты, ученые, посетители мастерской и выставок нашего героя) выступали в защиту еженедельника компартии. Все они, и соцреалисты и сюрреалисты, были уже прикормлены могучей компартией и писали как положено. Пикассо даже попросили рисовать как положено. Поэтам было проще. «И Сталин сегодня развеет все зло, – обещал один из посетителей рю Гогэ поэт Поль Элюар. – Уверенность – плод его любящего мозга. Как умная гроздь совершенна она». Сам Мирзо Турсун-Заде не сказал бы лучше. Поклонник Матисса Луи Арагон звал в стихах на помощь хлипкой демократии могущественное ГПУ: «ГПУ, приходи и врагов моих победи».
А как же высоколобое, честное жюри премии Сент-Бева, присудившее первую премию книге Кравченко? Конечно, жюри это уже разогнали, но ни один из членов жюри не выступил на процессе. Отчего?
Работая над своей книгой, я обратился с этим вопросом к бывшему председателю жюри знаменитому Морису Надо.
– Мы не могли выступить. Мы боялись коммунистов, – честно сказал старенький Морис Надо.
Собственно, все уже были старенькие и все почти честные в ту пору, когда я начал работать над книгой. Начитавшись сорокалетней дряхлости коммунистической прессы, я поехал к журналисту Пьеру Дэксу. Восемнадцати лет от роду он был арестован как резистант. После войны он уже был коммунистическим редактором.
– Вот вы там писали в 1949 году… – начал я сварливо.
– Все, что мы писали тогда, – бодро перебил меня Пьер Дэкс, – было преступление против человеческого духа.
Что я мог ему возразить?
Свидетели, вызванные для защиты коммунистического еженедельника, не могли свидетельствовать о той жизни, которая была описана в книге Кравченко. Они о ней ничего не знали. Поэтому их двусмысленно называли «свидетелями совести». Позднее выяснилось, что почти все они были агентами Москвы. Иные за свои услуги были награждены «Премией мира». Сталинской, конечно…
Но были на этом удивительном «процессе века» и другие свидетели – раскулаченные крестьяне, бывшие зеки, дети расстрелянных, русские учителя, инженеры, люди, угнанные немцами на работу в Германию. Адвокаты Кравченко привезли их из лагерей «ди-пи». Их душераздирающих рассказов никто не слушал. Ни один французский интелло их не услышал. Все думали о своих делах. О собственных трудностях – физических, финансовых, психологических, творческих, сексуальных…
Не помню, чтоб на сотне страниц, посвященных жизни матерской на рю Гогэ и ее посетителям, мелькнуло что-нибудь о месяцах процесса, о котором столько писали тогда. Вот разве что в связи с Рене Шаром…
В первые же дни процесса, когда стало очевидно, что фельетон в «Летр франсэз» чистейшая липа, конкурирующая с еженедельником левая газета «Комба» предоставила свои страницы поэту Рене Шару, знаменитому «резистанту», у которого были нелады с коммунистами. И единственное, что понял из всего этого Шар, было то, что «коммунистический еженедельник замарал себя подлогом». Ответить на вопрос о том, правду ли рассказал Кравченко в своей книге, не решился даже храбрый Рене Шар. Уклонившись от ответа, он сказал, что Кравченко должен был, по его мнению, помалкивать, потому что он жил в это время «у американцев». Коммунисты приучили пугливых французов помалкивать. Когда я писал в 80-е годы в Париже свою книжку о «процессе Кравченко», одна благожелательная редакторша передала мне совет ее мужа, старого коммуниста, «пока помалкивать, поскольку во Франции говорить об этом еще рано». На самом деле было уже поздно…
Да и что ему было за дело, Рене Шару, до этих замученных русских, которые пожирали от голода кошек, собак, крыс… Старый радио-репортер, который часто бывал на этом процессе, подтвердил мою догадку о том, что все эти русские дела на самом деле были неинтересны французам. И свидетельства им были неинтересны, и сами свидетели. Все, кроме одной коммунистки из хорошей семьи, а также бывшей жены Кравченко…
И де Сталю все эти русские дела были до лампочки. Они в том 1949-ом обсуждали с Лекюиром поэму о Стале, а с Шемпом завоевание американского рынка.
Я вдруг подумал об этом недавно, сидя в гостях у почтенного «конструктора книги» месье Пьера Лекюира. Беседа наша подходила к концу и хозяин вдруг вежливо спросил у меня, а правда ли, что при Сталине в моей стране было убито несколько тысяч русских…
Я сказал, что да, правда, может, даже несколько сотен тыщ русских, а может, и несколько мильонов… Точное число уничтоженных до сих пор является предметом высоконаучных споров.
Старый поэт смотрел на меня молча, как бы даже чуток обиженно. Тяжеловесное это сообщение было для него и бестактным и неприемлемым, но как истинный француз, как истинный артист, как былой сюрреалист, в конце концов, он должен был придумать что-нибудь парадоксальное, искрометное и абсурдное, что не оставляло бы никаких сомнений в невозможности изобретенной мною земной истории.
– Если так… – сказал он, усмехнувшись, – Если б это было так… у вас везде воняло бы трупами. Но это же невозможно.
– Ну, у них там большая территория… – пришла мне на помощь супруга месье Лекюира, княжна Гагарина.
– Ничего, – сказал я. – Ничего… Хотя иногда и подванивало.
Уходя, я думал, что ни один из сюрреалистов, посещавших рю Гогэ, не сказал бы лучше, чем Лекюир. Вспомнилось, как бывший сюрреалист Луи Арагон и утонченный левый эстет князь Дмитрий Святополк-Мирский сошлись однажды на том, что не грех, если для успешной реализации их коммунистических придумок в России сдохнет мильон или больше дебилов, ничего не понимающих в искусстве. Возможность того, что сам князь сдохнет на нарах в немытой толпе этих лагерных миллионов, высокими собеседниками не была предусмотрена. И напрасно.
Глава 30. Да здравствует реклама!
Никола де Сталь упорно готовился к выставке у своего нового маршана Жака Дюбура. Тем временем Тед Шемп из-за океана посоветовал ему почаще скандалить, чтобы попасть на страницы прессы. Не ставя под сомнение опытность Теда, Никола следовал его советам.
В начале 1950 года парижский Национальный музей современного искусства объявил о покупке новой «Композиции» де Сталя для коллекции музея. В музее современного искусства было к тому времени немало абстрактных полотен, и затеряться в этой толпе было нетрудно. Де Сталь заявил, что он разрешает выставить свое полотно, но требует повесить его отдельно, в отдалении от других абстрактных полотен. Заявление это наделала много шума в узком мирке парижских художников и арт-дилеров. Сенсацией оказалось то, что куратор знаменитого музея, поклонник живописи де Сталя Бернар Дориваль как бы признал правоту художника и отыскал для его полотна особое место, вне общей экспозиции, над главной лестницей у входа в зал. Более того, Дориваль вступил в диалог с художником, дал объяснение этому компромиссу в очередном издании музейного «Круглого стола»:
«Никола де Сталь художник абстрактный. Но из всех абстрактных художников он без сомнения наилучшим образом избегает соблазна декоративности и более всего внушает надежд по части интереса чисто человеческого».
Вряд ли можно с уверенностью сказать, что в удивительных «Композициях» 1945 или 1946 года соблазн декоративности был уже преодолен де Сталем полностью, однако, декоративность была высокого качества, хотя и незаурядной мрачности. С другой стороны, куратор крупнейшего во Франции музея современного искусства Бернар Дориваль правильно угадал тенденцию развития художника, уже тяготившегося узостью и однообразием беспредметных форм и своим местом в потоке творений новой абстрактной гвардии.
Де Сталь ответил своему поклоннику-куратору благодарственным письмом:
«Спасибо, что выделили меня из «банды передовой абстракции». Благодарю вас за ваш текст. Я испытываю к вам признательность за ваше отношение к моим картинам, нынче с утра мне обещали принести ваш «Круглый стол». Я мог бы исписать бессчетно страниц, чтобы помочь вам точнее определить мое место, это было бы настоящее исследование движения нравственности, антология движения в пространстве, света, построения и беспорядочности, в котором вы в один прекрасный день нашли бы мое место, однако пусть живопись сама говорит за себя. Вы подали мне надежду, что придет день, когда мои друзья научатся воспринимать образы из жизни через посредство красочной массы, а не чего бы то ни было иного, через посредство тысячи тысяч вибраций. Мы придем в один прекрасный день к смиренному приятию визуального образа, освободившись от всего этого графического мусора. Простите, но меня занесло далеко».
Любопытно, что говоря о новой экспозиции музея, де Сталь нашел доброе слово лишь для одной единственной участницы этой экспозиции, молодой скульпторши Изабель Вальдберг (она была женой друга Никола, сюрреалиста Патрика Вальдберга). Все прочие творцы, можно было понять, не заслуживали доброго слова. Собственно, и во всем современном искусстве де Сталь с одобрением (зачастую весьма сдержанным) относился лишь к трем мастерам – Браку, Матиссу и Сезанну. Правда, он старался не говорить дурного о Шаршуне, Ляпике, Ланском, Виейра да Сильве и Хийеро… Что до остальных, то молодой де Сталь смотрел на них на всех свысока и оттого (как нетрудно догадаться) не вызывал симпатий у собратьев по искусству.
Современные искусствоведы (скажем, тот же Костеневич) пишут, что из нашего прекрасного далека многие взаимные претензии тогдашних авангардистов кажутся вполне необъяснимыми. Но ведь были они, что ни говори, соперники…
К 1950 году Никола де Сталь стоял у начала жестокой борьбы за признание, славу и деньги. Предстояла выставка в галерее Дюбура, и Тед Шемп торопил подопечного художника с расширением рекламной кампании. В январе того года де Сталь, отчитывался в письме Теду:
«Да, реклама. Да здравствует реклама, если только она может помочь нам в жизни. Я со своей стороны приготовил на свой манер к июню русский винегрет, Зервос, Дютюи, Бретон, Куртион, Лембур, Вальдберг и компания, все в одной куче, кто пришли в голову, что поделаешь? Никто не умеет видеть, никто не хочет, никто из этих людей не умеет смотреть живопись, так что смело можно было бы усадить их всех на школьную скамью, чтобы объяснить им что к чему, это будет нелегким, и, мне кажется, безнадежным, особенно когда они все вместе».
В том же письме де Сталь сообщает Теду, что он уже выслал в Америку столь важную фотографию. Никола де Сталь вместе с Шемпом съездили в Нормандию к Жоржу Браку и там сфотографировались с великим основателем кубизма и его женой под стенкой деревенского ателье Брака. Фотография призвана была намекнуть, откуда он взялся, этот не слишком еще знаменитый, но вполне незаурядный Никола де Сталь, откуда у него растут ноги: он из близкого окружения самого Брака.
Если в письме Доривалю де Сталь лишь угрожал несчетным числом страниц, которые он ему, Доривалю, мог бы написать в назидание, то со статьей голландского искусствоведа ван Гендерталя художник обошелся куда решительней и выправил в этой статье каждое слово.
Потом состоялась долгожданная выставка де Сталя в галерее Жака Дюбура на бульваре Осман. Она прошла спокойно, без громкого успеха, но была замечена. Крупноформатные полотна де Сталя были упомянуты Шастелем на страницах «Монда».
Полотна де Сталя висели в галерее Дюбура рядом с картинами французских классиков живописи и при продаже попадали в те коллекции, где уже были классики. Это не могло не льстить молодому художнику…
1950 год был для Никола де Сталя годом заграничных выставок: он выставлялся в Берлине, в датском Шарлоттенбурге, а в середине лета уехал в Лондон.
Но конечно, самый большой успех в том же году выпал на долю де Сталя в Соединенных Штатах, где его картины, благодаря хлопотам Шемпа, были проданы в очень престижные американские коллекции. Из трех американских выставок, в которых принял участие де Сталь, самой престижной была, пожалуй, выставка «Молодые художники США и Франции». На этой выставке художники двух стран были отобраны парами, по сходству и общности направления. Полотна де Сталя висели по соседству с картинами другого знаменитого выходца из России, американца Марка Ротко. Несмотря на все различие в происхождении, внешности, возрасте и пристрастиях этих двух мастеров абстрактной живописи, им уготована была одинаковая безумная кончина. Впрочем, кто бы мог предсказать ее в том 1950 году? Разве что психотерапевты, чьими советами оба они высокомерно пренебрегли бы…
После поездки в Англию Никола де Сталь отдыхал с семьей в живописных Савойских Альпах. Сохранилась очень красивая, идиллическая фотография: Никола, Франсуаза и маленький светлоголовый Жером сидят на травке на фоне горной альпийской гряды. Как и на всех его фотографиях, Никола и присутствует и отсутствует. Выражение его лица вызывает невольную тревогу. О чем он думает? Счастлив ли этот красивый, сильный, трудолюбивый, преуспевающий человек? Он несомненно талантлив. Он много пишет. Но что у него на душе? Что он за человек? Ну, конечно… Fair guessing, как говорят англичане. У нас есть подсказки. Мы знаем о нависшей над ним бедой. И все же… Его лицо… Вглядитесь в его лицо…
Во время этой летней поездки Никола заезжал в знакомый ему с детства Антиб. На сей раз, чтоб повидаться со своим энергичным маршаном Тедом Шемпом, который успешно продвигал картины де Сталя в США.
Шемпа, впрочем, несколько раздражало отсутствие привлекательных названий у новых «Композиций». Одни цифры – как на машине, или на дверях гостиничного номера. Де Сталю, напротив, казалось, что любое название может толкнуть зрителя на путь заведомой интерпретации произведения, извне навязать ему трактовку. В конце концов сошлись на том, что Тед сам будет придумывать названия для картин. Делала же так блаженной памяти Жанна Бюше. Кому это мешало? Иные из придуманных Жанной названий оказались пророческими. Скажем, «Порыв ветра». Де Сталь часто думал об этом, просыпаясь по ночам и прислушиваясь к шелесту кровли, к птичьим крикам…
Глава 31. Следы снежного человека
Еще весной 1950 года Никола де Сталь вдруг охладел к своему адъютанту, сотруднику, собеседнику и корреспонденту Пьеру Лекюиру. То ли лекюировская искусствоведческая проза в стихах перестала нравиться художнику, то ли с ростом своей популярности де Сталь стал находить посвященное ему сочинение Лекюира недостаточно возвышенным. В самом начале года он уже разобрался с голландцем Гендерталем, а в марте написал очень резкое письмо другу Лекюиру:
«Вам нужно писать, поскольку вы писатель, и я растроган тем, что именно мои картины служат вам средством передвижения.
… Я ни в чем вас не упрекаю и все же я считаю себя вправе просто сказать вам, что «это не для меня». Вот и все».
И нынче, более чем полвека спустя, «конструктор книги» Пьер Лекюир, вспоминая это письмо, огорченно говорит, что его знаменитый его друг «был циник».
В том насыщенном событиями 1950 году де Сталь не писал сюрреалистических писем Лекюиру, а писал деловые письма Шемпу.
Однако в конце года, после всех хлопот и странствий, де Сталь, снова занявшись живописью и снова прочитав сто двадцать листочков Лекюира, нашел иные из них просто превосходными. Понятное дело, что по поводу каждого из листочков де Сталь написал краткое замечание. По жанру это было похоже на «Философские письма» В.И.Ленина, только подзаборных слов на полях чужих текстов сдержанный де Сталь не употреблял вовсе.
Впрочем, в начале 1951 года диалог с Лекюиром вдруг снова стал для художника неактуальным. В это время Жорж Дютюи познакомил Никола де Сталя с прославленным Ренэ Шаром. Знакомство со знаменитым поэтом сыграло решающую (а может, даже и роковую) роль в судьбе нашего героя. Кто был Ренэ Шар? Задайте вопрос полегче.
Таинственный поэт был на семь лет старше Никола де Сталя. Родился он в Провансе, в затененном широколистыми платанами старинном городке Ль\'Иль-сюр-ла-Сорг, что в Воклюзе. Двадцати двух лет от роду примкнул к сюрреалистам. Знаменит прежде всего как поэт-резистант, участник Сопротивления. Сообщают, что с 1940 года он жил в подполье и прятался от грозной полиции Виши, а с 1942 года он был «членом Секретной Армии», под кличкой Александр руководил отрядом Дюранс-Сюд, а позднее в департаменте Нижние Альпы помогал командиру «отряда парашютного приземления» под новой кличкой «капитан Александр». Жизнь Шара (как впрочем, в значительной степени и вся боевая деятельность Сопротивления) окутана тайной. Иные из биографов так и пишут, что после 1947 года жизнь Шара была загадочной. Иные находят до крайности загадочными и его стихи. Есть и такие, кому они кажутся понятными, но может, это плод заблуждения, ибо сам Ренэ Шар отстаивал право на некую «темноту» и зашифрованность своей поэзии. Многочисленные статьи и диссертации, посвященные поэту, тоже словно участвуют в заговоре «герметичности». Из некоторых исследований можно, впрочем, понять, что Ренэ Шар расценивал свой опыт Сопротивления как опыт сексуальный.
Довольно солидный очерк о жизни Рене Шара написал автор самой подробной биографии Никола де Сталя, журналист из левого «Монда» Лоран Грельсамер. Он сообщает, что Рене Шару было всего одиннадцать, когда умер его отец, мэр городка Ль\'Иль-сюр-ла–Сорг и богатый промышленник. Сиротка Рене объявил себя единственным наследником отца и главой семьи, хотя живы были еще его мать и брат, который был на десять лет старше неистового школьника, вскоре, впрочем, бросившего школу. С тех пор Рене люто ненавидел брата и, если верить стихам, мечтал его убить. Возненавидел он и мать, а также всех, кто оказался богаче его («буржуазное общество»), ненавидел Бога и религию, в общем, рос в ненависти (подобно нашему славному Ильичу). Его риторика ненависти пришлась по душе сюрреалистам, к которым он примкнул, переехав в Париж. Риторика ненависти была в ходу у коммунистов, и вожаки сюрреализма (в первую очередь Святейший Папа сюрреализма Андре Бретон, а также слабак Элюар, уступивший свою русскую жену художникам) наперебой рвались к союзу с компартией, однако их всех обошел сюрреалист Арагон, имевший руку, а то и две пары рук (по имени Брик) в самой Москве. Бретону оставалось летать в Мексику на поклон к Троцкому и устраивать в Париже скандалы, доказывая, что он самый левый и крутой. Для скандалов сгодился неистовый храбрец Рене Шар…
А потом разразилась война, французская армия разбежалась, и немцы вошли в Париж, даже не заметив, что в городе живет столько отчаянных храбрецов.Храбрецы мирно разъехались…
Рене Шар вернулся на родину. Однако громкая парижская слава ему предшествовала, и местная полиция решила устроить обыск в богатом доме блудного сына. При обыске у Шара нашли пистолет с патронами, и некоторые биографы считают, что уже с того дня Рене Шар может считаться «резистантом». Поэт благоразумно уехал в глухую горную деревушку Серест, куда даже по ошибке не забредали представители власти. Так пишут биографы Шара, и им можно верить. Лично я живу среди холмов Шампани не так далеко от Парижа и за четверть века ни разу не видел полицейской машины. Биографы делают из этого вывод, что Рене Шар оказался в Сопротивлении, в «маки», ибо он снова приобрел наган. Биографам очевидно, что Шар возглавил то ли группу, то ли «сеть Сопротивления» в районе виноградников и гор близ реки Дюранс. Сколько человек было в этой группе и кто попался в эту сеть, биографы не уточняют, зато не считают нужным скрывать, что поэт, вооруженный наганом, держал в страхе население мирной деревушки Серест, давшей ему приют. Деревушка была населена по большей части дряхлыми старушками, но как раз это и внушало особую тревогу поэту. Кто-нибудь из случайных прохожих или проезжих мог подслушать старушечью болтовню. Кроме того среди мирных обитателей всегда могли оказаться потенциальные трусы, предатели и враги народа. Они могли предать Родину и ее защитников. Мирные французы считали, что их защитит от бандитов полиция и их избранник маршал Петен. Но вооруженный наганом Шар объявил, что он сам будет расправляться с трусами без суда и следствия. Об этом он регулярно писал в своем интимном дневнике «Листки гипноза»: «Мы должны вызывать больше страха, чем гестапо».
Биографы восхищенно подтверждают, что Шар безжалостно «ликвидировал предателей», что он «казнил трусов». Может, так все и было.
Рене Шар провозгласил «безжалостный террор против террора». Это было ему по силам в глухой деревушке, где жили старухи и куда не забредала полиция. Но, может, все обстояло не так страшно, как намечтал он в «Листках гипноза». Может, это были все те же кровожадные мечтания обделенного подростка – вроде планов убийства родного брата из-за уплывающего наследства…
Но вот ведь и серьезный биограф рассказывает, как поэт явился какой-то дряхлой, но не в меру болтливой деревенской старушке и выложил на стол свой наган. Вот он где Резистанс! Нет, поэт-резистант не убил дряхлую старушку, но сумел испугать ее до смерти. А мог бы и стрельнуть. С ним, если верить его исповедным «Листкам гипноза», и такое бывало…
При поддержке знаменитого писателя Реймона Кено, а позднее и писателя Альбера Камю вышли в свет две книги Ренэ Шара. В книге «Листки Гипноза» содержались заметки годов подполья и афоризмы. Солидные исследователи считают одной из главных проблем книги проблему экстаза…
После войны Рене Шар стал одной из легенд резистанса, да и сам резистанс вышел на уровень вполне удобной для всех политических партий легенды. Это признает даже журналист левого «Монда», биограф Рене Шара и Никола де Сталя Лоран Грельсамер. В очерке о Шаре он пишет:
«Компартия вышла из войны всемогущей, забыв свои катастрофические предвоенные призывы… и напоминая только о своей военной одиссее и своих «ста тысячах расстрелянных». Генерал де Голль воспевал храбрость французских бойцов. Довольно лживый период истории, сконструированной из борьбы против оккупантов и забвения теневой деятельности грязных коллаборантов, шедших на компромиссы».
Нетрудно было бы посчитать сколько тысяч коллоборантов приходилось на одного резистанта. Труднее было бы выяснить, в чем заключался Резистанс Рене Шара или петэновца Франсуа Миттерана.
Впрочем, резистантская и литературная слава Ренэ Шара была так велика, что президент Миттеран заказывал специально вертолет, чтобы слетать в воклюзский городок и поговорить с Шаром «как резистант с резистантом». Но это было гораздо позже, а весной 1951 года, при первом их знакомстве, Никола де Сталь и Ренэ Шар прониклись чувством глубокого интереса друг к другу. Сразу после их встречи, в начале февраля Ренэ Шар написал художнику короткое письмо:
«Дорогой Сталь!
1. Я был рад и я рад сейчас нашему знакомству.
2. Мне нравятся ваши произведения, которые меня в высшей степени трогают. У нас будет случай поговорить снова».
Они не раз говорили снова и, главное, оставили богатую переписку. Эту дружбу двух творцов и их переписку видный французский искусствовед Андре Шастель оценивал как «некую вершину, некий знак, равных которому по значению мало найдется и в древней и в новейшей истории, поскольку он затрагивает нечто существенное в современном искусстве».
Другими словами, и дружбу эту и обмен идеями между Ренэ Шаром и Никола де Сталем искусствовед считает событием историческим.
Дочь художника Анна вспоминает, что вернувшись после работы из ателье, Никола часто читал наизусть строки из Ренэ Шара. Вероятно, что-то из напечатанного. Например:
«Почему живая, живейшая из живых, ты всего лишь тень цветка в окруженье живых?
Зной и жар, а назавтра гроза, что коснется земли, опережая меня, о, не слагай того, что станет так скоро обузой любви для вас».
«Эти тропки, что незримыми тянутся вдоль пути, это и есть для нас наш единственный путь, для тех, кто разговаривают, чтобы выжить, кто даже заснув, не могут забыться, у самой дороги».
«Плод, брызнувший под ножом,
Вкус твой отзвук твоей красоты,
Аврора с ликом щипцов,
Влюбленных желает рассечь,
Женщина носит передник,
Стену скребет коготь,
Оставьте, оставьте!»
Сама десятилетняя Анна на просьбу учительницы выучить наизусть самое ее любимое стихотворение выучила стихи Шара про «Яростное мастерство»:
Красный фургон, гвоздями обитый,
А в корзинке лежит мертвяк.
У лошадей земля в подковах:
На острие ножа моего башка, о страна Перу.
Учительница выгнала бедную Анну из класса, заявив, что таких поэтов не бывает, и что она все это сама придумала. А тем временем поэт сидел у них дома и обсуждал с ее отцом проблемы искусства и еще чего-то очень важного. Может быть, секса…
И конечно, сиротке было обидно. Потому что ничего слишком сложного в этом стихотворении не было.
Были у Шара и стихи намного более герметичные и зашифрованные. Что там было зашифровано, никому не дано было знать…
Увлеченные своей встречей, своей дружбой и единством душ, де Сталь и Ренэ Шар решают выпустить вместе книгу. В ней будут стихи Шара и ксилогравюры де Сталя. Не просто стихи и иллюстрации художника к стихам, а самостоятельные творенья двух созвучных талантов. Для знаменитого Ренэ Шара это был не первый и не последний опыт. Он уже выпускал стихи с Пикассо, с Браком, Миро и Матиссом.
В том же 1951-м де Сталь с увлечением берется за гравюры для их общей книги и при этом работает на износ. Он еще не знает стихов, которые войдут в книгу, но это и не важно. Это будет просто диалог двух талантов.
В такой книге все должно было быть совершенно, все на вершине вкуса. Четырнадцать черно-белых гравюр, особая голландская бумага, макет – все должно быть верхом изысканности.
В конце концов Ренэ Шар не написал новых стихов для этой книги, но он отобрал старые. Увидев черные вереницы точек на гравюрах Сталя (внучка художника сравнивает их со стаей птиц в полете или вихрем опавших листьев), Ренэ Шар захотел написать предисловие к книге. В ту пору газеты во всем мире сообщали о найденных альпинистами странных следах на высокогорных снеговых склонах Гималаев. Местные проводники объясняли европейцам, что это следы «йети», огромного «снежного человека». Эти сообщения использовал в своем предисловии Ренэ Шар, предпослав своим стихам и гравюрам де Сталя метафору со скромным замахом:
«… Гравюры на дереве, вырезанные Сталем для моих стихов, появляются нынче впервые на снежных полях галактики под солнечным лучом ваших взглядов, которые будут ласкать их, пытаясь их растопить. Ни Сталь, ни я сам, увы, не йети! Но мы приближаемся, насколько это возможно, и к живущим, и к звездам».
В то жаркое лето де Сталь, захватив с собой доски для ксилогравюр и инструменты, уехал к свояченице в Альпы. Перед отъездом из Парижа он написал Жаку Дюбуру:
«Завтра, совершенно измочаленный неделей здешней жары, поднимусь на высоту в две тысячи метров; работать в турецкой бане парижской духоты убийственно… Шара я видел три раза. Он хочет десять больших гравюр, черно-белых, и еще маленькие… все передам принцессе Бассиано, которая требует, чтоб все печаталось в Италии, роскошно, на какой-то редкостной бумаге и т.д.... В целом человек этот начинен динамитом, который при взрыве распространяет успокаивающее тепло…»
Работа над гравюрами далась нелегко. Но и работа и общение с поэтом внесли новый элемент в творчество де Сталя, расширили его горизонты.
Он так написал об этом в письме Шару осенью 1951 года, когда получил готовой последнюю литографию от парижского печатника Бодье:
«Ну вот, Ренэ, я и подошел к концу, с несколько взвинченными нервами, потому что должен был уже вчера получить всю книгу, то есть, к этой минуте я уже должен был бы дрыхнуть, завалившись на боковую, а ты мне уже писал бы, что ты обо всем этом думаешь.
Вчерашний день был намечен мной как последний срок.
При всем этом даже не могу высказать, как много дала мне возможность работать для тебя. Ты позволил мне снова почувствовать ту страсть к просторному небу, к осенним листьям, какую я чувствовал в детстве, и ощутить пришедшую с ней былую тоску по беспрецедентной прямоте выражения. Сегодня у меня в руках тысяча редкостных книг для тебя, может, я никогда их не изготовлю, но это здорово, что я их держу».
С 12 декабря в галерее Жака Дюбура на добрых две недели были выставлены новая книга стихов Ренэ Шара и ксилографии Николая де Сталя. На вернисаже побывали многие парижские знаменитости, и де Сталь с гордостью сообщал об этом в письме Теду Шемпу:
«Все писатели Франции там были, молодое поколение. Альбер Камю, Мишель Леирис, Батай, куча народу. Тед, мою следующую книжку я сделаю в цвете, одни цветные гравюры и никакого текста».
Ги Дюмюр написал об этой выставке восторженную статью. Он писал:
«Что может сравниться с иллюстрированной книгой… Ксилографии Сталя с большой точностью дали отражение земли и неба, воспетых Шаром в его стихотворениях… Работы Сталя есть воплощение свободы, силы и совершенно ницшеанской дерзости созидания…»
Конечно, в этот год, полный новых трудов, типографских хлопот и его нового увлечения Сталь реже писал картины. Однако в тех, что он успел написать появилось нечто новое. Во-первых, работа над резьбой, методические удары по стамеске словно бы передали свой напор его кисти. Во-вторых, в новых его вертикальных полотнах появляются отблески неба.
Позднее внучка художника сравнивала картины той поры со старинными мозаиками, с эмалевыми пластинами Равенны. Художник и сам отмечал приближение к фигуративному искусству в своих полотнах, где роль фигуративности, по его мнению, играет пространство.
Истекший год явно намечал перелом в его живописи на пути к более ясному освещению и яркому цвету, но это, как он признавал в ноябрьском письме к Саттону, его нервировало и смущало: «Бог знает отчего».
Той же самой бурной осенью 1951 года в жизнь Никола де Сталя с новой силой и властностью вошла авангардная музыка. Де Сталя представили просвещенной меценатке и меломанке Сюзанне Тезена и авангардному композитору Пьеру Булезу. Де Сталя приглашали теперь на концерты «Домэн мюзикаль» у Булеза, а также на престижные сборища художественной элиты в квартире Сюзан Тезена на улице Октав-Фейе, что лежит в некогда столь доступном и вполне «русском», а после войны уже вполне барственном 16-м округе Парижа.
То, что прямой потомок петербургских Глазуновых проявлял пристрастие не только к книге и к живописи, но и к музыке, нас удивлять не должно. И его бедная, рано покинувшая наш мир матушка была изрядная пианистка, да и бабушка Глазунова-Бередникова славно играла на фортепьянах, а уж дядюшка Александр и вовсе был композитор. Кстати, кое-какими чертами характера Никола напоминал этого никогда им не виденного дядюшку – и страстью к искусству, и равнодушием к чужим проблемам. Разве что дядиной страсти к облегчению земной участи крепкими напитками Никола был чужд, но ему для головокружения, неистового возбужденья или забвения напитки и не нужны были. Его увлечение музыкой росло неудержимо. Правда той мелодической музыкой, какую писал его старший родственник, композитор и ректор ленинградской консерватории, неистового искателя новизны Никола де Сталя было не растрогать. Он и в музыке искал дерзкого поиска, атональности, додекафонии. С упрямым интересом и наслаждением слушая то Мессиана, то Шонберга, он пришел в конце концов к Веберну и Булезу, и надо сказать, что он был на пути этих поисков не первым из авангардных художников. Даже если говорить только о былых россиянах во Франции, и то с непременностью вспомнятся и Шаршун, и Баранов-Россине и Сюрваж. Но конечно, первым, с неизбежностью на память придет Василий Кандинский.
Этот корифей абстрактного искусства называл музыку «искусством, не употреблявшим своих средств на обманное воспроизведение явлений природы», а напротив, служившим «средством выражения душевной жизни художника». Кандинский всегда много говорил и писал о связи живописи с музыкой, а под конец жизни он и вовсе завязал оживленную переписку с творцом додекафонии Шонбергом. Перечитывая рассуждения де Сталя о цветовой или графической передаче звучания музыкальных инструментов в живописи, читатель невольно вспомнит давнишнее наблюдение Кандинского:
«Большинство музыкальных инструментов имеет линеарный характер. Высота звуков у различных инструментов соответствует толщине линии: совсем тонкая производится скрипкой, флейтой-пикколо; несколько шире – второй скрипкой, кларнетом; с более низкими инструментами совершается переход ко все более широким линиям вплоть до самых низких тонов контрабаса и тубы…
Можно утверждать, что линия предоставляет музыке максимум своих выразительных средств. Здесь она столь же реализуется во времени и пространстве, как и в живописи».
В письмах Никола де Сталя тоже найдешь немало замечаний о музыке, о звучании музыкальных инструментов и законах построения музыкальных произведений. Вот два из них:
«Палитра это тон, звук, голос»
«У меня черная гамма, черное поет у меня на больших картинах. Вчера вечером в Ницце я слушал штутгартский оркестр».
Позднее, в своем очерке о де Стале композитор Пьер Булез выделил неразрывную связь поздней живописи де Сталя с музыкой:
…«музыкальные» полотна последних его лет относятся к смертоубийственному периоду его творчества, когда он приходит к поразительно сильным откровениям. Почувствовав ловушку декоративности в чистой абстракции, он пытается все крепче и крепче прикрепиться к реальности, не теряя при этом ни построения, ни структуры».
Начало эти решающих, последних годов датируют обычно 1952. Но уже на подходе к этому году реальность окружающего нас прекрасного мира начинает вторгаться в полотна студийного затворника, сперва лишь как полоска неба, потом как целое небо.
Небо над Дьепом. Господи, вот оно какое…
Глава 32. Ура, мы рвемся, гнутся шведы…
Мне не раз доводилось слышать о роли футбола в интеллектуальном развитии человечества. Правда, не будучи ни спортсменом ни болельщиком (я лишь раз в жизни был на стадионе – на московском стадионе «Динамо», – где покойный Берни Купер, снисходя к моей молодости и тупости, пытался научить меня вести репортаж о матче, да еще вдобавок по-английски), я смогу назвать только один матч, сыгравший сколько-нибудь заметную роль в развитии культуры и искусства. Речь пойдет о поединке между футбольными командами Франции и Швеции, имевшем место на парижском стадионе «Парк де пренс» (Парк принцев) поздним вечером 26 марта 1952 года. Несомненно, знатоки вспомнят и другие исторические матчи, но здесь речь пойдет именно об этой игре как имевшей непосредственное отношение к дальнейшей эволюции живописи Никола де Сталя.
Надо сказать, что эволюция это была заметна и до того мартовского вечера. Де Сталь начинает писать время от времени пейзажи, натюрморты и даже человеческие фигуры. Он все внимательнее глядит на натуру, делает наброски, этюды и только потом, в студии превращает окружающую реальность в живописное произведение, в факт живописи. Обозреватели все реже находят определение для того, что он делает: то ли это предметная абстракция, то ли абстрактная предметность. Бернар Дориваль пишет в этой связи о неком синтезе. Роже ван Гендерталь проявляет некоторую растерянность.
«Но я ведь не противопоставляю абстрактную живопись фигуративной, – пытается объясниться де Сталь, – Поскольку есть стена, есть абстракция. Но поскольку у меня предстает пространство, полотно мое фигуративно».
В конце концов Гендерталь приходит к заключению, что предметы предстают у Сталя лишь как символы.
Но символы теперь обозначают предметы. Скажем, «Три яблока серого цвета». Или, например, «Крыши».Или даже «Небо над Дьепом».
В начале 1952 года де Сталь пишет пейзажи Северного моря, которые Арно Мансар сравнивает с морскими пейзажами Констанса Пермеке (в частности, с «маринами» 1928 года). Мансар отмечает черты сходства в пейзажах двух художников. Исследователь творчества де Сталя Ги Дюмюр приводит в этой связи слова самого де Сталя: «Черты сходства говорят лишь о верности самой живописи, а не живописцу».
Главный толкователь живописи де Сталя Жан Борэ так объяснял перемены, происходящие в творчестве его подопечного:
«Его нож стекольщика производил «бисквиты». Я пытался побудить его к переходу от «бисквитов» к лунам, от лун к лодкам, от лодок к бутылкам, и он приучился мало-помалу заимствовать формы из природы, вместо того, чтоб брать уроки у журнала «Кайе дез ар». Этот переход от абстрактных «бисквитов» к конкретной луне очень важен».
Автор монографии о де Стале Жан-Клод Маркаде не склонен ни принимать всерьез эту «бисквитную» терминологию, ни верить в уроки Жана Борэ. А между тем, Никола де Сталь очень высоко ценил соображения Борэ.
В конце февраля 1952 года семь полотен де Сталя были выставлены на его выставке в лондонской галерее Мэтьесэна на Нью Бонд Стрит.
Лондон не остался равнодушен к выставке, о ней много писали. Одни говорили, что это самая интересная выставка за последние годы, другие выражали сожаление, что теперь, когда входят в моду ташизм и «action painting», художник вдруг пошел назад, что он идет на поводу у «видимой реальности».
Де Сталь отвечал, что он «не идет назад», что он следует своим путем. Он мог бы добавить, что он идет на поводу у того же внутреннего чувства, которое некогда привело его к сегментам Маньели и ведет дальше…
Английский искусствовед Денис Саттон так писал в ту зиму о Стале в предисловии к каталогу лондонской выставки:
«Сталь обнаружил в своих работах веру в осязаемый мир. Он создал «видения» чего-то существующего в этом прозрачном тумане, некий полумрак, возникающий при слиянье мечты с реальностью, в загадочной тишине, которая встревоженно прислушивается к угрозе снегового мира. Это картины, которые возвышают наш дух, вознося его к снеговым вершинам».
Через неделю после возвращения из Лондона, вечером 26 марта Никола де Сталь пошел с супругой на футбольный матч. В тот вечер «наши» играли против шведов. Впрочем, если углубляться в семейную историю де Сталей, шведы были в большей степени «наши», чем французы, но не думаю, чтобы Никола вспоминал об этом. Он пережил в тот вечер настоящее потрясение. Подстриженная трава зеленела, краснела и синела в свете прожекторов, ярко пламенели красные майки, сшибались в напряжении мускулов центнеры человеческой плоти, заряженные страстью… На обратном пути от стадиона де Сталь был в страшном возбуждении и, едва добравшись до мастерской, стал к мольберту. Он писал в ту ночь и продолжил назавтра. Работал возбужденно и непрестанно две недели, а 10 апреля, все еще не успокоившись, он писал Рене Шару:
«Между небом и землей, на траве, красной или синей, тонна мускулов взлетает самозабвенно со всей непреложной точностью и неправдоподобностью. Какое счастье, Рене! Какое счастье! Я уже пустил в дело всю французскую команду, всех шведов, и меня это разогрело понемногу; если б я нашел студию размером с целую рю Гогэ, я бы заставил ее двумя сотнями небольших картин, чтобы цвет их звенел, как звенят афиши вдоль шоссе при выезде из Парижа».
О, этот звенящий цвет, этот красный звон в ушах, далеко ль до беды? Но и успех, вот он успех…
Семиметровое полотно завершило серию малых картин, превративших мастерскую на рю Гогэ в некую спортивную раздевалку, в стадион, в спортивный центр, в фабрику футбола.
Забегавший в мастерскую Пьер Лекюир записал в свой дневник восхищенно:
«Ателье завалено эскизами всех размеров, вдохновленных тем же самым зрелищем, вон капитан французской команды, вон цепочка игроков на травяном поле, невероятный размах ног падающего игрока, будто ножницы. Все горит пламенем, вспышки синего, красного, небо перекликается бурно с людьми, движенье толпы по углам и в общем пространстве, что – то вроде «покоренья пространства».
Так рождалась эта картина, которую называют жемчужиной живописи XX века, а иногда и жемчужиной мировой живописи
…«это грандиозная фуга, – пишет об этой картине Жан-Клод Маркаде, – фуга в этимологическом смысле термина, где тема сменяется вариациями, которые то исчезают, то возникают, то появляются. Это настоящий балет геометризированных форм…»
Огромное это полотно было выставлено в Майском салоне и произвело фурор. Подолгу стояли возле него многие, но опытный взгляд художников и маршанов выделял из толпы одну очень важную фигуру: человек с усиками… Это был сам Поль Розенберг, может быть, самый важный посетитель. В начале июня Никола де Сталь писал своему галеристу Жаку Дюбуру о том же Розенберге:
«Розенберга задело за живое, я тебе потом все объясню… Да, картина эта на Майском салоне ему очень нравится, но пугает ее размер. Отдельные футболисты ему тоже понравились, но они уже все проданы. Трудности эти его возбуждают, и мы оставим его в этом состоянии».
Но кто этот Поль Розенберг, за чьим поведением следит столько глаз в выставочном салоне?
Это француз, знаменитейший был в Париже галерист. Конечно, до 1940, когда ему пришлось бежать, все оставив на разграбление нацистам и местным мародерам. А там все представляло ценность, у него на рю Боэси, даже архив галереи, даже опись картин, даже переписка (всего несколько лет назад Москва передала Парижу часть архивной переписки Розенбергов, подобранной в качестве военного трофея). С кем переписка-то? С друзьями, с художниками. Старик Розенберг поддерживал Ван-Гога. Он все оставил сыновьям уже полвека назад. Сын дружил с Огюстом Ренуаром, с Пикассо… Конечно, при виде этого знаменитого Розенберга забудешь и Шепа и Дюбура…
В тот год Никола де Сталь много писал, но не пропускал и главных событий парижской музыкальной жизни. Одним из них была постановка «Любезных Индий» Рамо, в последний раз видевших сцену двести лет тому назад. Спектакль вдохновил де Сталя на две картины.
В том же мае Никола с семьей двинулся на Лазурный Берег Франции. Остановились в прелестном Сосновом Борме (он по просьбе граждан переименован был в Мимозный Борм). После многолетнего перерыва Никола был поражен прозрачностью воздуха, ярким солнцем, разгулом света. Он писал пейзажи на пляже Лаванду. Продолжение этого пляжа (Ла Фавьер) было курортным прибежищем русских эмигрантов (как и сам Борм, воспетый в русских стихах Саши Черного), но откуда было знать об этом Никола де Сталю, жившему вдалеке от русской эмигрантской колонии? У Никола были свои заботы и воспоминания, связанные с этим берегом, а он остерегался всяких воспоминаний.
В новых его пейзажах царит теперь неограниченная свобода цвета. Он сам задает самый дерзкий, им своевольно выбранный цвет окружающему. В очередном письме Рене Шару он рассказывает о пляжных цветовых метаморфозах:
«… в какой-то момент море вдруг становится красным, небо желтым, а песок фиолетовым, потом все возвращается к цветам базарной открытки, но так хочется, чтоб и этот базар и эта открытка питали меня и пронизывали до смерти».
В новых картинах де Сталя наряду с пейзажами и предметами появляются фигуры людей, хотя в «Лаванду», как отмечает исследователь Сталя Юсеф Ишагпур, «композиция и яркость света доминируют над фигурами и поглощают их совершенно».
Внимательное чтение писем с Лазурного Берега (особенно внимательно их прочел Алэн Мадлен-Пердрийя) наводит на мысль о том, что тщетно гонимые воспоминания все же настигли Никола на этом с детства знакомом берегу и накрыли новой волной тревоги. Ключевые слова в этих письмах «ветер», «свет», «небо», «знание». И они имеют у де Сталя свой особенный смысл, связаны с его личными видениями, страхами, надеждами.
Вот лишь некоторые из отобранных для публикации писем из Монастырского Дома в Борме (Mas du Couvent) и писем с пляжа:
«Жаку Дюбуру, 7 июня… контрасты всегда так же беспощадны и ударяют по свету с такой силой и неприкрытостью, какую в них и заподозрить трудно…
Я пишу в оливковом саду, пахнущем розмаринами, но крысы всегда тут поблизости, два неуместных кактуса, я нисколько не сочиняю».
«Сюзанне Тезена, 12 июня…
… есть тысячи дорог напрямую несмотря на невыносимую ненадежность этого света, которой противостоят только несколько глыб белого мрамора».
«Рене Шару, 23 июня…
… поначалу я немного ошалел от этого света знания, быть может, самого полного, какой только существует или от вспышек алмазов в пространстве в быстрых и настойчивых вспышках водяных струй…»
«Денису Саттону… конец июня…
«… Я думаю, что нужно верить в свет знания, я хотел сказать, что надо знать напряженность того, что делаешь, во всей полноте, без шуток, не возбуждая при этом сетчатку хромом, кобальтом и киноварью…»
Их еще много упоминаний о «знании», которое таит «свет». Проанализировав их, А. Мадлен-Пердрийя пришел к выводу, что речь идет об ожидании настоящего озарения. Может, оно и должно было быть той «случайностью», о которой так часто говорил и писал Никола.
Кстати теперь, как и раньше, де Сталь не перестает путешествовать, исступленно трудиться и экспериментировать в самых разных жанрах. Он пробует свои силы в скульптуре и в коллаже, в гравюре, работает над картоном для обюсонского ковра, не оставляя мечты о музыкальной постановке. Он упорно ищет композитора, который написал бы музыку на либретто Рене Шара о снежном человеке. Сам де Сталь мечтает оформлять постановку. В письмах Никола к Рене Шару немало соображений о музыке и композиторах. Сталь перебирает самые громкие имена композиторов авангарда – Мессиан, Даллапикола, Стравинский, Булез…
Для встречи с итальянским композитором Никола с женой едут в феврале 1953 года в Италию и заодно совершают путешествие по музеям Флоренции, Болоньи, Венеции, Милана, Равенны…
А по возвращении, уже в конце февраля, художник с женой поднимаются на борт океанского лайнера, чтобы плыть в Нью-Йорк. Тед Шемп приготовил выставку картин де Сталя в ньюйоркской галерее Кнедлера на 57-ой авеню.
Де Сталь, по своему обычаю, участвовал в размещении картин (их было три с половиной десятка) и написал кратенькое предисловие к каталогу выставки:
«Всю жизнь я испытываю потребность мыслить посредством живописи, смотреть на картины и писать картины, которые помогли бы мне выжить, освободиться от всех впечатлений, от тревог и беспокойства, от которых я не мог найти никакого освобождения, кроме живописи».
Здесь откровенно и четко обозначено спасительное действие живописи для нашего героя – единственное возможное освобождение от тревог, от тяжести, лежащей на душе. Ранее Сталь указывал еще точнее – «от самого детства» или от рождения…
Выставка прошла благополучно. Все картины были проданы, цены на них не переставали расти, газеты наперебой хвалили французского художника, который, дескать, особенно известен там у них в Европе среди «молодых» (нетрудно догадаться, что корреспонденты не таскались за этими открытиями в Европу – их загодя припас заботливый Шемп). Среди восхищенных рецензентов нашелся, впрочем, один дерзкий (Томас Хесс), который предостерег де Сталя от излишней сентиментальности. Де Сталь был так удивлен и обижен что решил не знакомиться с современной американской живописью.
Вообще Нью-Йорк де Сталю не понравился: слишком много шума, слишком много евреев и все слишком заняты своей Америкой, слишком мало слышали о нем самом (несмотря на огромную подготовительную работу, проделанную Тедом Шемпом). Одобрение парижанина заслужили только американская музыка да полотна Сезанна, Матисса и Сера в американских коллекциях.
Отчего-то привела де Сталя в смущение витрина лавки, где были выставлены Библия на иврите и предметы иудейского культа. Своим смущением он смог поделиться только с Жаком Дюбуром, с полслова его понимающим:
«прокляты все дороги, ведущие на Уолл-Стрит, какие бы они ни были, даже библейские, и особенно они».
Обидело Сталя и недостаточное внимание коротышки Стравинского, с которым художник хотел серьезно поговорить о балете по стихотворению Рене Шара. В письме Шару Никола де Сталь с обидой рассказывал о своем неудачном визите к Стравинским:
«Я видел мадам Стравинскую, осыпаемую лавиной роз, я сидел в ее ложе на протяжении всех концертов, но за всю свою жизнь я не видел такого увертливого человека, как этот гениальный гном-коротышка, ее муж. Это все очень трудно, их окружает целая толпа музыковедов, либретистов, танцовщиц, музыкантов, поэтов, миллиардеров, педерастов, они здесь с кратким визитом и в полном опьянении от фимиама, который им курят».
Сталь нашел время повидать друга брюссельского детства Петю Врангеля, с которым они когда-то жили в одной комнате в Юкле. Вряд ли Никола мог рассказать Петру что-нибудь о приемных родителях, о собственных сестрах или о былых друзьях: он всех «бывших» вычеркивал из своей памяти. Кстати, подходила и очередь благодетеля Теда Шемпа, подготовившего его американские триумфы… Собственно, в принципе де Сталь уже договорился с Розенбергом, что знаменитый галерист будет представлять нового французского гения в США, и тогда старательного Шемпа Никола «кинет», как «кинул» когда-то и Дейроля, и Маньели, и Домеля…В письмах хлопотавшему об этом новом союзе Жаку Дюбуру де Сталь уже называл почтенного короля художественного рынка просто Рози, и в этом был особый шик, ибо так его называл когда-то сам «Пик» (Пикассо) и еще кто-то из славных. Известно было, что многие клиенты Розенберга даже не удосуживались посмотреть картину, прежде чем платить за нее (слепо полагаясь на безошибочный вкус старого дилера): им хватало телефонного звонка и гарантии Розенберга для того, чтобы выписать чек на крупную сумму. Кто они были, эти клиенты, почетно ли было продавать им картины?..
Впрочем, очень скоро де Сталь понял, что на американский успех того или иного художника ориентируется сейчас весь западный рынок, где акции самого де Сталя немедленно поднялись. Однако пока, в этой малопонятной и шумной Америке он чувствовал такие раздражение и растерянность, что решил бежать домой сразу после вернисажа и взял билеты на самолет, о чем горделиво известил своего английского поклонника Дениса Саттона:
«Я не создан для этой страны, спешно возвращаюсь самолетом в добрую старую Европу».
Он объявился у себя на рю Гогэ уже к середине марта и говорил всем, что он счастлив избавиться от «этих варваров, которые называются американцами», что рад был «выбраться из этой дыры».
Пьер Лекюир принес ему свою только что вышедшую книжку «Видеть Никола де Сталя». Книжка вышла маленьким тиражом. На обложке и в тексте были три гравюры де Сталя. Поэма в прозе Лекюира была плодом многолетнего наблюдения над работой художника, плодом долгих разговоров, совместных уточнений и правок…
Всю весну де Сталь работал в ателье над серией больших полотен. Среди них несколько натюрмортов с бутылками и картина, навеянная неистовым увлечением де Сталя музыкой («Оркестр»). В Майском салоне де Сталь выставил натюрморт с танцующими бутылками, который был назван «Балет».В ту же пору появилась картина «Музыканты», посвященная великому трубачу Сидни Бечету, автору «Маленького цветка». Де Сталь высоко ценил джаз…
Судя по его письму Шемпу в Америку, де Сталь переживал в апреле очередной, довольно серьезный нервный срыв. Он принимал какие-то лекарства, «сидел на режиме», но вряд ли лечился серьезно.
«Что поделать, – писал он Шемпу (который, похоже, еще не знал о том, что он обречен на отставку), – если захочу написать еще несколько картин, нужно мало-помалу привести нервы в порядок».
В это время де Сталь завершает начатую еще в 1952 году картину «Луна». Сперва он вырезал эту луну как ксилогравюру для стихов Рене Шара, потом написал ее маслом на куске фанеры (162 см на 97 см). Жутковатый ночной пейзаж, зловещая огромная луна заполняет чуть не всю верхнюю половину картины, чуть не все небо. Ровно посередине вертикальной картины – линия берега, а справа от слегка приплюснутого тяжкого шара луны, сквозь туман проглядывают очертания прибрежных дворцов и колокольни. Французские искусствоведы отмечали, что это очертания неведомого европейского города, но лучший среди французов знаток этого города Вероника Шильц решилась его опознать, словно бы извиняясь при этом за дерзость – да, это Петербург, более того, Петропавловская крепость, колыбель художника, и быть может, это даже и не луна, а солнце… Вот этот текст дерзкой В. Шильц:
«Попробуем расшифровать иначе эту «Луну», может, это все-таки солнце в рассеянном свете дня, сине-серое, молочнистое, огромное в этом почти ощутимом наощупь небе, пронзенном иглой, которая вздымается над тяжкой постройкой над берегом у самого края воды. Что же до красной прожилки, навеянной уроками Коро или Ляпика, то она здесь играет ту же самую роль красной нити на белоснежной глади, что в самом что ни на есть простонародном русском узоре. И настойчиво приходят на память строки:
А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина».
Цитатой из Мандельштама (которого де Сталь не мог знать хотя бы из-за тогдашней вполне наробразовской просоветской ориентации французских переводчиков, но к которому он по многим статьям мог быть близок) завершается у Вероники Шильц эта не единственная ее гипотеза. Искусствовед верно подметила, что в последние три года жизни в творчество художника неодолимо вторгаются образы детства, те самые, которые он гнал прочь так упорно. Недаром в письме к Шару, написанном по окончании работы над ксилографиями, Никола вдруг упоминает не просто о небе, но о небе своего детства (слово для него всю жизнь бывшее запретным). Он благодарит за это возвращение Рене Шара (а мог бы и обругать). Но почему он разрешает себе это воспоминание именно теперь, именно в связи с Шаром? Может, Шар сумел заставить его вспоминать. А может, нервный срыв ослабил обязательные запреты. Так или иначе, парижский искусствовед Вероника Шильц верно подметила оживление воспоминаний, «самый запрет на которые был условием его выживания», но не означал, что воспоминания эти «не хранятся в глубинах его существа».
По мнению Вероники Шильц, «произведения, созданные художником в последние три года его жизни, могут быть расшифрованы по-новому»:
«В первую очередь обратимся к этой его одержимости линией, разделяющей небо и воду, на которой всегда можно заметить какие-то следы, вроде красных отблесков ушедшего солнца, едва заметные отраженья приземистых береговых зданий, уходящей вдаль навсегда, «уходящей в вечность» бесконечно длинной набережной. Все так похоже на виденное, что невольно ищешь это сходство в определенных холстах. Скажем, в картине «Напротив Гавра» это мог бы быть взгляд с Дворцовой набережной на выступ Васильевского острова и устья Малой Невы».
Да, это лишь гипотеза, но разве детская память это не реальность? Разве не было этих чудес подсознанья и в жизни других гениальных русских беженцев (того же Набокова)?
Другое дело, отчего вдруг с такой силой сейчас, на исходе третьего десятка лет? И к чему может привести этот наплыв?
Не все французские биографы де Сталя пренебрегли этим внезапным упоминанием детства и неба. Особенно много внимания уделил этой фразе из письма Рене Шару Алэн Мадлен-Пердрийа:
«Это уникальный отрывок из письма, поскольку в нем есть упоминание детства и совершенно уникальное для его пера слово «ностальгия», ибо художник никогда не говорит о своем прошлом и даже заявляет (в письме Жану Борэ, написанном в марте 1946 года), что не хочет «ни одного мгновения жизни посвятить воспоминаниям». И вовсе не случайно это воспоминание о просторном небе связано здесь с ранними годами, проведенными в Санкт-Петербурге и в Польше, уводящими к глубочайшим впечатлениям детства, которые окрашивают всю человеческую жизнь. И тут вдруг начинаешь понимать, что за этими абстрактными работами художника, так тесно загроможденными деталями, так отчаянно изборожденными процарапанными линиями, такими мрачными и замкнутыми, – за ними стояла Открытость просторного ясного неба, о котором он словно вовсе забыл на время, отважимся сказать, пытался о нем забыть, но оно сохранялось и перед внутренним взором и в сердце того ребенка, которым он был. Оттого и эволюцию Сталя легче и глубже можно понять в свете простой эстетической оппозиции предметности и беспредметности».
Так или иначе, искусствовед верно отметил переломный момент, когда Сталь стал стремиться от замкнутости к безграничной открытости и сиянию света, когда даже близкий горизонт стал его тяготить и душить. Искусствовед верно заметил и то, как часто в эти годы художник стал искать просторного неба и говорить о небе. Даже заявил о себе однажды как о художнике, воспевавшем небо, наподобие Лорэна или Тернера.
Не забудем, что это случилось в особенно тяжкий для него час…
Заметно также, что в эти периоды нервного обострения де Сталь особенно увлеченно отдается музыке. Он пишет длинное письмо Рене Шару о музыке Мессиана, о планах их совместного балета. А в письме Шемпу он возбужденно сообщает о поразившем его событии парижской музыкальной жизни:
«…есть один болгарин, который поет Мусоргского в Опере лучше, чем Шаляпин, это настоящее событие, он, кажется, едет в Милан, но какой голос, Бог ты мой, и вдобавок еще по-русски поет, весь зал три четверти часа аплодировал ему стоя, это и правда событие».
Былая подруга Андрея Ланского, художница Екатерина Зубченко, жившая в Менербе вскоре после смерти де Сталя, в гостях у его вдовы, на мой вопрос о том, как ей жилось в Менербе, сказала, что это было невыносимо. С утра до вечера бедная Франсуаза проигрывала одну и ту же пластинку и плакала.
– Там мужик какой-то пел басом. По-русски… Ей казалось, что тот же голос, как у ее мужа…
Слушая этот рассказ, я вспомнил это письмо Шемпу. Ну да, Кристов…
5 мая Никола был на концерте и пришел в полный восторг от Второй сонаты Булеза. Вместе с Рене Шаром Никола побывал на концерте булезовского «Домэн мюзикаль». Идея балета по либретто Рене Шара еще владела де Сталем.
В конце апреля Никола де Сталь написал Рене Шару, который должен был вот-вот вернуться в Париж из Воклюза, длинное, весьма авторитетное (пожалуй, что и авторитарное), решительное письмо об их будущем балете. Де Сталь считал, что нужно было прежде всего четко определить, какой из жанров они выберут. Кроме того, явно не хватало стихов. Нужна была разработка деталей для разных инструментов и еще и еще…
Читая это длинное письмо с подробными сценическими указаниями, вспоминаешь, конечно, одно, отчего-то редко упоминаемое в этой связи имя. Имя Кандинского, чья синтетическая живопись «простирается в магической области пространственных и временных измерений». Кандинский выступал в качестве режиссера и сценографа при постановке «Картинок с выставки» Мусоргского, сам создал сценическую композицию «Желтый звук». Вот как писала об этой стороне деятельности Василия Кандинского русский искусствовед Н.Автономова:
«Сценические композиции Кандинского включают в себя как драматургический, так и режиссерский аспект. Они состоят из текстовой части, сценографических решений, режиссерских экспликаций и заметок по актерскому исполнению… Кандинский сам разрабатывал мизансцены и был автором режиссерских экспликаций…Большое значение придается цветовому решению и его звучанию на сцене. В тексте встречаются следующие выражения: «темно-синие сумерки», «сладко-розовый рассвет», «матово-гладкий фон», «золотое солнце», причем подчеркивается шероховатость поверхности и блеск золота».
Рене Шар отозвался на апрельское письмо де Сталя уже в начале мая. Он предложил вообще похерить идею их совместного балета.
«Я не умею работать над деталями, и ты это знаешь не хуже моего, – писал он. – Оставим это дитя гималайских высот на склонах поэтических Гималаев. Оно себя там прекрасно чувствует».
Трудно сказать, как вся эта история отразилась на развитии отношений между двумя гениями. Шар был человек непростой. Де Сталь тоже. И неясно, кто из них считал себя ближе к вершине Гималаев.
Как раз в ту пору Рене Шар попросил де Сталя написать его портрет. Сталь согласился, и Шар стал приходить в ателье де Сталя позировать. Никола предупредил поэта (причем с резкостью: «Я не Пикассо»), что для него портрет будет делом нелегким и потребует многих месяцев работы. Зато сеансы позирования позволили поэту и художнику вдоволь наговориться. Говорили об искусстве, о смерти, о войне и, конечно, о женщинах, о сексе. Вероятно, это были откровенные мужские разговоры, хотя ни один из биографов не раскрыл, какого рода экстаз испытывал таинственный автор «Листков Гипноза». За год до этого, попав на пляж в Лаванду, Никола в первых строках письма сообщал Шару, что «женщины на пляже просто великолепные». Так что, может, Шар все же интересовался…
В Париже Рене Шар считался знатоком и хранителем многих тайн человеческой жизни, в том числе и тайн любовных, и даже неких «запретных» тайн. Легко ли представить себе, что в середине XX века еще существовали запреты. Впрочем, и сегодня найдешь французских (и даже русских) блоггеров, переписывающих в свои «живые журналы» любовные стихотворения Шара. Мне, во всяком случае, они попадались во «всемирной паутине»:
Ты уже столько лет моя любовь,
От ожиданья голова кружится,
Не охладить эту любовь и не состарить…
Конечно, русским переводчикам хочется, чтоб было больше «похоже на стихи», так что у вольного Шара появляются и ритмы, и рифмы:
Ты мое головокруженье,
Сколько лет у судьбы на сгибе,
Что любви нашей не остудит,
Не погубит и наша гибель (пер. С.Овчаренко)
Бывалый человек Рене Шар рассказывал младшему другу о главных подвигах и приключениях своей героической жизни, о «сопротивлении», когда он отчего – то называл себя «капитан Александр» и, вооруженный наганом, сам решал, кто достоин жизни, а кто враг народа…
Вот тогда-то он и познал невероятную любовь, таинственный, всезнающий Рене Шар. Была там у них в Любероне (понятное дело, не на курортной тропе этих умеренно-высоких гор, а в таинственном «маки») одна юная девушка по имени Жанна из семьи арендатора Матье. Что она умела, эта Жанна, ни одному биографу де Сталя или Шара разведать не удалось. Жена «конструктора книги» шепнула мне загадочно, что этот Шар нашего Сталя подставил. Но если б я знал, как это было (или хотя бы, как это бывает), я бы давно написал детективно-сексапильный бестселлер. Но я не знаю. Оттого пишу все время что-нибудь сугубо документальное и неизменно печальное.
Видя, что меня мучит любопытство и испытывая ко мне как к соотечественнику патриотическое сострадание, жена осведомленного Пьера Лекюира (некогда сотрудница знаменитого Зервоса, а в девичестве и вовсе княжна Гагарина) подарила меня заговорщицким взглядом и покрутила пальчиком у виска. Означало ли это, что я совсем спятил, углубляясь в такие дебри, или что у вышеупомянутой мною девушки тоже были не все дома, она мне разъяснять не стала.
Так или иначе, в результате этих интимных бесед с Шаром художник де Сталь отправился с детьми и беременной женой для отдыха и работы именно в Люберон, именно в то самое местечко Лань, близ которого проживала семья арендатора Матье и несравненной завлекательности девушка-резистантка по имени Жанна.
Конечно, менее, чем мы с вами, проницательные биографы объяснят, что просто художник Никола де Сталь нуждался в отдыхе и в южном солнце, которым издавна бредили все художники. Вот и все. А любезный Рене Шар помог снять какой-то сарай, воспользовавшись своим авторитетом и знакомством с семьей Матье в качестве «капитана Александра».
Ну что ж, у всякого автора, как и у всякого читателя, свой жизненный опыт. Мой опыт приучил меня большое значение придавать откровенным мужским разговорам. Надеюсь, мой читатель не сочтет меня нескромным, если я вспомню в этой связи историю из дней своей солдатской службы в маленьком армянском городке на турецкой границе. Много спасительных месяцев я провел тогда под началом доброго украинца-капитана из службы обозно-вещевого снабжения советской армии, к которому я после мытарств в саперной роте попал на сачковую должность писаря ОВС (я не был выскочкой или карьеристом, и у меня уже было к тому времени университетское образование, почти два). Капитан по вечерам, к сожалению, не спешил домой и держал своего «писарчука» за «сверкой документов» аж до полуночи. При этом время от времени он устраивал перекур и, отодвинув «документы», просил меня рассказать что ни то «из московской жизни». Я уже не меньше ста раз рассказывал ему о семье, о сестрах, о многочисленных обитателях большой коммунальной квартиры на Первой Мещанской, где у нашей семьи были две комнаты на шестерых. Больше всего нравился капитану мой рассказ о вполне еще бодрой и одинокой соседке-польке, имевшей гордое имя Ядвига и незаурядно развитые внешние данные. Наблюдая за реакцией слушателя, я конце концов понял, что рассказ о московской жизни мне лучше начинать сразу с описания этих данных… Года через полтора после моего дембеля капитан навестил меня однажды в Москве, и я был ему очень рад. Когда же он с робким трепетом спросил меня про соседку Ядвигу, я ощутил впервые что-то вроде писательской гордости… Ему не терпелось увидеть Ядвигу. В первый раз в документальном жанре мне так удался женский образ.
Знакомство состоялось, и он, кажется, был несколько разочарован, милый мой капитан. Он оказался тонкий ценителем. Мир праху твоему, Иван Дмитрич…
Не подумайте, что я дерзну сравнить себя с Рене Шаром, певцом резистантских тайн и неких прикосновений анонимной щиколотки, им воспетых. Разрешаю вам пропустить или напрочь забыть мою солдатскую байку. Но может, она все же придет вам в голову и утешит, когда рассказ наш подойдет к тому тягостному моменту, встречу с которым я все пытаюсь по возможности оттянуть. Пока же остановимся на том, что умелый рассказчик Рене Шар продолжал растравливать воображение нашего неуравновешенного героя – художника рассказами о неслыханном (вероятно, лишь по причинам особой его секретности) резистантско-подпольном сексе.
Июнь в Париже выдался холодный, и можно было бы уезжать на каникулы, и семейство Никола де Сталя даже собралось в Рим, когда по поручению Рене Шара им подыскали дом в тихом уголке Люберона, в тех самых местах, где жили Матье, а стало быть, находилась та самая Жанна, чей потаенный шарм был зашифрован Шаром в самых герметичных из его стихотворений. Мог ли выдумщик Рене Шар предвидеть что-нибудь из того, что должно было случиться с неуравновешенным русским гением? Иные из ныне живущих полагают, что мог…
Вдобавок в том же июне 1953 года произошло в жизни де Сталя событие, какого иным из художников приходится ждать всю их долгую жизнь (как, скажем, пришлось почитаемому де Сталем Сергею Шаршуну). Иногда еще и какое-то время после смерти (как, скажем, Серебряковой или Гончаровой). Так вот, в один прекрасный день объявился у него в Париже великий арт-дилер, былой парижанин Поль Розенберг из Нью-Йорка и подписал с ним неслыханно выгодный для всякого начинающего художника контракт, на условиях, каких могла ожидать разве только мировая знаменитость.
Нельзя сказать, чтобы де Сталь принял свалившиеся на него почести и богатство с олимпийским спокойствием или безразличием. От такой удачи и у человека более уравновешенного, чем Никола де Сталь, крыша могла поехать. Он позвонил уже отошедшему для него на второй план Ланскому и сообщил ему возбужденно: «Я миллионер». В ответ на то же сообщение мудрая жена Брака Марселина предупредила де Сталя, что с богатством бывает труднее справиться, чем с бедностью. Она как в воду глядела. Что ж, людям пожившим эта истина вовсе не кажется парадоксальной.
Однако, когда дочь Розенберга сообщила отцу в Нью-Иорк, что при виде новых цен на его картины, вид у художника был слегка ошалевший, де Сталь яростно опроверг это невинное наблюдение: он знает себе цену, и ему не от чего было шалеть.
Спокойствие его в ту пору восстанавливалось с трудом. Надо было уезжать на каникулы.
Глава 33. Не знаешь, где найдешь…
В начале июля Никола пишет подруге Шара художнице мадам Грийе о предстоящей их встрече и работе в Риме. Однако всего через несколько дней он сообщает Рене Шару, что уже водворился в местечке Лань, где живут его друзья Матье.
Семья де Сталя разместилась в просторном доме Лас Рукас, где раньше разводили шелковичных червей. Сразу же по приезде Никола отправился в Кавайон, купил велосипед и мопед, ибо до хозяйства Гран Камфу, где жило семейство Матье, было три километра, так что прежде всего де Сталь озаботился о мопеде. Да и в первом кратеньком письме Рене Шару Никола прежде всего сообщает о главном:
«Очаровательна мадам Матье, ее художники, а главное синева ее глаз и прелесть рук, ее дочь сейчас на море с женой Камю».
И только в постскриптуме: «В доме есть мастерская, даже две или три».
Дней десять спустя де Сталь, дав себе волю, восторженно описывает Жанну Матье в письме ее былому возлюбленному и наставнику Рене Шару:
«Жанна пришла к нам, внеся с собой столько ослепительной гармонии, что мы до сих пор не можем опомниться. Какая девушка, земля сотрясена и приходит в смятение, каков ритм и строй ее царственной поступи. Где-то там, в высоте, над жильем каждое движение камня, трепет каждой травинки повинуется этому свободному и степенному ритму и на мгновение замирает, остановив дыханье, недвижная материя застывает навечно с этого мгновенья послушная ее шагу.
Что за край, что за девушка.
Я не смог бы описать того, что я чувствую, но мы все здесь, все тебя ждут и будут ждать всегда».
Даже читатель, привыкший к романтическому исступлению и сюрреалистической риторике многих писем де Сталя, почувствует здесь нечто выходящее за рамки эстетических восторгов, некое безумие, может, то самое, что так беспечно зовут безумием любви. Никого не может обмануть местоимение «мы», вместо «я», ибо трудно себе представить, чтобы Франсуаза, в ту пору носившая под сердце уже третьего ребенка, пришла в такой же экстаз при виде царственной люберонской девушки, что и ее муж. Мне показались слова «послушание» и «повиновение» в восторженном описании девушки не вовсе лишенными значения. Собственно, девушкой Жанна была давно, еще до встречи с загадочным «капитаном Александром». Теперь это была вполне зрелая провинциалка, мать двоих детей, верная жена и добытчица.
Да это ведь все и не имеет значения. Он мог вообще не увидеть укротительницу Жанну, хватило бы рассказов Шара и собственных фантазий (или как говорят еще французы, фантазмов)…
Невольно вспоминаются исступленно-восторженные любовные письма Пастернака к почти незнакомой ему Марине Цветаевой:
«…ты мое единственное законное небо, и жена до того законная, что в этом слове, от силы в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумие, ранее в нем никогда не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю… Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только думал любить».
Отправляя Шару невероятное описание его былой подруги, но не желая зародить какие ни то недобрые подозрения в былом «капитане Александре», де Сталь прибавляет к этому восторженному гимну осторожную фразу о том, что его, Шара, ждут в этих местах по-прежнему. Почувствовав, что успокоить ревнивые чувства друга ему не удалось, де Сталь неделю спустя снова пишет Шару:
«Обнимаю тебя. Ни о чем не беспокойся… все тебя любят, всякий по-своему, за то, что ты им дал».
Что дал семейству прославленный резистант Шар, нам неизвестно, хотя иные из его не окончательно зашифрованных стихов, посвященных Жанне, содержат кое-какие смутные подробности:
«Я открою тебе то, что я люблю, как длинную вспышку жара, столь же необъяснимую, как то, что мне явила ты, Жанна, в то утро, когда повинуясь своим планам, ты вела нас от камня до камня, вплоть до самой своей глубины, той, что зовут вершиной…»
Впрочем, в те суматошные дни августа де Сталю было уже не до стихов: он был поглощен планами грандиозного путешествия. Он купил маленький грузовичок ситроен, заказал для кузова пульмановскую скамейку и поехал в Париж получать водительские права.
Вернувшись с правами, он усадил в этот фургон всех своих детей, беременную жену и Жанну, потом через Бриансон, где они подобрали жену местного супрефекта, давнюю подругу Рене Шара мадам Грийе, влюбленный де Сталь повез всю компанию через Рим в Неаполь на остров Сицилию. У художницы мадам Грийе были завидное чувство юмора, а также муж супрефект (который помог вписать всех законных детей во французский паспорт де Сталя) и некоторое знание итальянского языка, который отчего-то считается во Франции непостижимо иностранным. Чувство юмора мадам Грийе должно было разрядить атмосферу в странной компании, собранной де Сталем для совместного далекого странствия. Ни люберонка Жанна, из любопытства прельстившаяся этой редкой еще в те времена авантюрой, ни начинающий водитель-художник, удивлявший своими бросками даже ко всему притерпевшуюся итальянскую дорогу, ни беременная Франсуаза, которую без сомнения тошнило в этой пыли и тряске, ни замученные детишки атмосферу эту разрядить не могли. А жаль…
Тот, кому, как автору этих строк, довелось бродить по дорогам Сицилии, по следам древних греков, римлян, сарацинов, воинов, монахов, маслодавов, виноделов, дочерна загоревших туристов и нищих, тот, заверяю вас, сидя, как я, на исходе лет в деревенской глуши, – тот никогда не забудет подобных странствий. Боже правый, чего только не сберегла для нынешних странников сицилийская древность…
Никола де Сталь был в ту пору больше всего (если не считать чужой жены Жанны) увлечен греками. Ему казалось, что именно греки, земля греков, солнце греков и море греков откроют ему тайну света, приблизят его к откровению, без которого выживать ему становилось все трудней. Несмотря на атмосферу взаимной подозрительности и раздражения, царившую в грузовичке, он делал время от времени (впрочем, как вспоминает жена, не слишком часто) наброски в блокноте, пользуясь новейшим тогдашним изобретением, присланным из проклятого американского Вавилона (иногда он называл его Сионом), – фломастером.
Близ Палермо внимание художника (а может, и его окружения) привлекли византийские мозаики в соборе, в Сиракузах – великолепный греческий театр и раскопки (автору этих строк довелось однажды ночевать в спальном мешке в лимонной роще под стенами этого театра – поспешите туда, читатели, пока еще можно)… Больше всех чудес Сицилии поразил Никола де Сталя древний Агридженто на холме над морем, тот самый, который древние греки называли Акрагас, а сарацины Гирженти. Здесь маячат руины храмов Юпитера, Юноны и Геркулеса, построенных за полтысячелетия до Рождества Христова…
Именно в Долине Храмов мадам де Грийе написала открытку своему другу Рене Шару, сообщая, что путешествие им выпало и «чудесное», и «ужасное». Жанна приписала от себя, что им «очень не хватает» Шара, а Франсуаза ограничилась подписью под коллективным посланием, оно и понятно: все самое ужасное выпало в этом странствии на ее долю – и жара, и тошнота, и ревность, и унижение… Что до главы экспедиции, то у него нервы к этому времени были совсем расшатаны. Он накричал на малыша Жерома, сшиб какого-то человека, ехавшего на мотороллере, и чуть не перевернул грузовичок с набережной в воду. Когда они добрались под вечер в древний Селинонте, допуск на развалины уже был закрыт, но де Сталь так яростно скандалил с охранниками, что они почли за лучшее пустить его погулять сверх положенного времени…
О, эти итальянские охранники древностей! У меня было когда-то немало друзей среди этих тружеников культуры. Иные из них делились со мной лепешкой, виноградом и флягой вина. Слушая с утра до вечера одни и те же речи экскурсоводов, эти талантливые сыны Италии и сами начинали предлагать всеядным иноземцам свои научные услуги. Но бывает в жизни тружеников святой час, когда они закрывают туристам доступ к любым древностям, потому что им не платят сверхурочных, а дома их ждут жены и дети. Конечно, неопытный де Сталь должен был многозначительно пошелестеть лирами кармане, а он учинил безумный скандал…
Вот уж если у тебя нет лир и ты бродишь автостопом, счастливый, свободный и холостой, со спальным мешком за спиной, как довелось мне однажды, тогда другое дело…
Помню, как охранник на раскопе виллы в Пьяцце Армерине сказал мне вполне дружески, запирая у меня под носом калитку:
– Опоздал, парень, конец рабочего дня. Да ты, друг, не грусти, тут в двух километрах заброшенная вилла у дороги. Переспишь там, а утром мы снова откроем. На весь день откроем. Откуда ты притопал? Из Москвы? Из самой Москвы? Счастливчик: там ведь у вас все бесплатно в Москве? Я сам читал в газете «Унита». И образование, и трамвай, и квартиры…Это правда?
– Почти все, – сказал я беспечно и отхлебнул кислого вина из его фляжки.
Я провел тогда чудную ночь на заброшенной сицилийской вилле. Даже крыс не было, одни летучие мыши. Зато на стенах были росписи… А утром я пошел на раскоп и осмотрел с мостков великолепные мозаики полов древнеримской виллы… В гостиной, в детской комнате, в ванной – тигры, дельфины, рыбы… «Квадратные километры мозаик», как писал потом в письме де Сталь. Писал наш бедный Сталь. Круглый сирота…
… С Сицилии перегруженный ситроен де Сталя снова перебрался на полуостров и двинулся в сторону Флоренции. Во Фьезоле смятенный художник вдруг забрал мадам Жанну Матье и увел ее одну на прогулку, бросив и беременную мадам де Сталь с детьми, и подругу Шара резистантку мадам Грийе. Ситуация осложнялась. Пришлось сокращать маршрут.
Забросив на обратном пути мадам Матье и мадам Грийе к их мужьям, Никола довез свою семью до Ланя и сообщил Франсуазе, что он хотел бы побыть здесь один, пусть они все уезжают в Париж.
Он и правда большую часть времени был один, ходил по огромному пустому дому, писал сицилийские пейзажи. Как признает его биограф Лоран Грельсамер, он то погружался в черную, безысходную меланхолию, то обретал необычайное мужество. Биограф говорит в этой связи о повторении «цикла». Того самого, что по нынешней терминологии, является признаком «биполярного аффективного нарушения», которое когда-то некорректно называли «маниакально-депрессивным психозом».
В письмах к знакомым де Сталь бесконечно жаловался в то время на свое тяжелое душевное состояние и свое одиночество.
«Мне кажется, со мной происходит что-то новое, – писал он Жаку Дюбуру, – и по временам оно пришпоривает мою неодолимую тягу крушить все вокруг, как раз тогда, когда кажется, что все наладилось. Что делать?»
Де Сталь пишет Ги Дюмюру, стараясь убедить себя в том, что все к лучшему, что он просто выбрал оптимальный вариант для работы:
«Я пишу сицилийские пейзажи и обнаженных без модели в сарае в Воклюзе на равнине, которая грезит давно высохшим болотом, ее затоплявшим.
Вернувшись из своего путешествия среди призраков греческих морей, я избрал жалкое одиночество, но это мне подходит, ибо есть много шансов так и самому стать призраком, навязчивым или не очень».
На память мне невольно приходят стихи Блока о Равенне, где в глазах местных девушек поэт разглядел ту же грезу об отступившем море…
И все же почему он пишет обнаженных «без модели»?А что с его моделью и возлюбленной Жанной Матье? Похоже, что она от него ускользает время от времени. У нее семейные обязанности? Или это просто игра?
Обещание Никола стать призраком звучит зловеще. Оно повторяется во многих тогдашних письмах де Сталя. Своенравная Жанна тоже не раз слышала его от художника и даже упоминала об этом в письме подруге. О том, что он без конца грозится себя убить.
В середине октября де Сталь пишет Дюбуру, что он сторонится Парижа, где всегда может появиться Розенберг и где сидит его сотрудница. А чем грозит Розенберг? Впрочем, угрозы исходят не только от старого Розенберга. Есть и другие:
«Как бы ужасно ни было одиночество, я постараюсь сохранять его не для того, чтобы исцелиться от чего бы то ни было, а просто чтоб держаться и сейчас и потом в стороне от Парижа».
Не слишком понятно, о чем речь. Понятно, что дела плохи.
Никола сообщает и Рене Шару о том, что он не сможет работать в Париже этой зимой:
«Все дороги трудны, тебе это известно лучше, чем мне, но та, которую я избрал, в конце концов одержит верх, несмотря ни на что, несмотря на нее».
Пьеру Лекюиру де Сталь пишет с большей открытостью, чем прочим, пишет о своих любовных страданиях и унижении. Похоже, что коварная Жанна то появляется, то исчезает надолго, и художник винит в этом ее семью и ее родительский дом, а Рене Шару и вовсе пишет об «интригах Камфу», которые его от нее «отдаляют, как в греческой драме и, может, надолго». Вполне возможно, что в родительском доме Жанны и впрямь не одобряли эту странную связь замужней дочери с женатым и многодетным художником.
Сталь жаловался Шару, что он чувствует себя одураченным, но не может без этого обойтись. Шар не нашел слов утешения. Он устранился. Ушел в тень. Лет на пять.
И все же, несмотря на все муки любви и унижения (а может, и благодаря им), Никола де Сталь создает в этом пустом доме большие новые полотна, непохожие на те, что он писал раньше.
Некоторые из искусствоведов считали, что тяжелое душевное состояние де Сталя накладывало отпечаток мрачности на полотна художника. Жермен Виат писал об «ужасном одиночестве» художника как о настроении живописи:
«Живопись его почти целиком говорит о неотступном смятении, не только о достижении высшего уровня мастерства, но также о головокружении, о мире, от него ускользающем. Главная тема Агридженто – это, конечно, одиночество».
О грустном характере последних вещей де Сталя пишет и влиятельный Шастель. Казалось бы, о чем спорить. История не то, чтобы печальная, но просто душераздирающая: одиночество на людях и без людей, с женой и выводком детей или без семьи, в безвестности и в славе, в скудости и в богатстве – одиночество, смятение, беззащитность…
Но оказывается, что можно спорить, ибо мало что очевидно или даже доказуемо в увлекательной искусствоведческой науке. В своей новейшей монографии о Стале с Виатом, с Шастелем, и еще с полдюжиной исследователей жестоко полемизирует Ж.-К. Маркаде, считающий, что напрасно мы стали бы искать в сицилийских пейзажах что-либо, что свидетельствовало бы о жизненном крахе, что говорило бы о смятении. А если искусствоведы что-либо заметили, то лишь оттого, что они знали, чем это все кончится. Скажем, нашли бы бутылку в море, а в ней неизвестно чьи пейзажи – и сроду бы никому не догадаться о состоянии художника. Потому что живопись развивается в собственном ритме, идет вперед. А одиночество, оно нужно художнику для успешной работы…Так что если что-то и происходило со Сталем (Маркаде называет его состояние «шизоидным»), то к живописи это отношения не имело.
Мне-то думается, что тяжесть, лежащая на душе де Сталя, периоды его возбуждения влияли на то, что Маркаде называет «собственным ритмом» живописи, они повышали продуктивность его творчества.
Жан-Клод Маркаде (как, впрочем, и Вероника Шильц и Андре Шастель) отмечает в сицилийских пейзажах Никола де Сталя влияние византийской мозаики и русской иконы. Ж.-К. Маркаде считает, что красный фон пейзажа, скажем, напрямую заимствован у иконы. Об этом, кстати, не раз говорил мне и парижско-тарусский поклонник де Сталя, известный художник Эдуард Штейнберг…
После возвращении из своего путешествия де Сталь создает целую серию сицилийских пейзажей, среди которых наиболее известны виды поразившего воображение художника Агридженто. Картины эти волнуют поклонников живописи де Сталя новой колористической смелостью. Как выразился мой парижский сосед-художник Александр Аккерман (один из многих русских поклонников де Сталя), в этих пейзажах де Сталь утверждает собственную живописную скрижаль, проявляя некое ницшеанское пренебрежение традиционной живописью. На этих пейзажах полуденное небо предстает черным или ярко-зеленым.
Внучка Никола де Сталя, искусствовед Мари де Буше пишет, что эти пейзажи «заново рождают» сияние сицилийского дня, что самые краски их излучают свет.
В статье для каталога петербургской выставки де Сталя младший сын художника Гюстав де Сталь, так пишет об этой серии картин:
«Пейзажи Агридженто, сияющие всей совокупностью ярких своих красок, таят в себе некую тайну пламени, восходящего к глубинам античности.
Граница этих красок кажется заметной наощупь, их свобода трогает нас и уводит в пустыню одиночества».
По мнению Жан-Клода Маркаде, пейзажи этой серии являются вершиной творчества де Сталя, а может, и всей мировой живописи тоже. Во всяком случае то, что Маркаде называет «абстрактной фигуративностью», достигает здесь вершины творчества художника.
Написанные им в ту пору пейзажи Сицилии и Прованса Никола де Сталь отсылал в Нью-Йорк Розенбергу, и в конце октября 1953 года старый «Рози» поспешил доложить художнику об их первом коммерческом триумфе:
«Хочу сообщить вам приятную новость о том, что со вчерашнего дня нам удалось продать четыре ваши картины и что спрос на них растет. Учитывая это, я, вовсе не желая торопить вас с созданием новых произведений, все же был бы очень рад их получить, ибо опасаюсь, что не смогу удовлетворить спрос на картины… Как я справедливо предвидел, повышение цен на картины никак не остановило покупателей, а напротив подтолкнуло их к затратам».
В конце письма была жизнерадостная приписка: «Только что продали пятое полотно!»
В доверительных письмах Жаку Дюбуру Никола с насмешкой, а порой и с раздражением упоминал старого Рози. На самом деле, он был чувствителен не только к бурному притоку средств из Нью-Йорка, но и к тому, что до бегства Розенбергов из Парижа у них на рю Боэти продавали картины Делакруа, Жерико, Курбе, Энгра, Ван-Гога, Сезанна, Ренуара, Модильяни, Тулуз-Лотрека, Матисса, Брака, Пикассо… А теперь вот Розенберг продает полотна де Сталя. Продает дорого и энергично.
И все же, когда старик Розенберг написал однажды, что он мог бы освободить месье Дюбура от картин, которые лежат без движения, Никола был недоволен. Хотя он знал, что в Париже картины лежат подолгу, да и платят за них не сразу, а деньги де Сталь теперь тратил широко. Еще по дороге в Палермо он написал Дюбуру, что ему по возвращении во Францию понадобится сразу много денег, потому что он решил «купить барак» поблизости от Люберона.
Подходящий «барак» нашелся довольно скоро. Он назывался «Кастеле», что означало «маленький замок». Это и был старинный, не слишком большой, замок, может, просто укрепленная усадьба, царившая над долиной на каменном возвышении под обрывом. Романтическая деревня, где в перестроенном после очередной осады (в XVI веке) и очередного пожара «малом замке» предстояло поселиться барону Сталь фон Хольштейну, называлась Менерб – от самой что ни на есть Минервы, храм которой, вероятно, существовал тут за много столетий до рождения тех, чьи замшелые надгробия еще чтили на здешнем кладбище близ старинной (XIV века) церкви с высоченной колокольней. Французская художественная элита облюбовала эти места (и Опед-ле-Вье, и Бонье, и Фонтен, и Лань) сравнительно недавно. Пикассо жил в Менербе с Дорой Маар, которая жила там и после того, как они расстались с великим испанцем.
Глава 34. Замки и туманы
В ноябре 1953 года, после краткого пребывания в Париже, де Сталь уже смог поселиться в своем собственном «малом замке», требовавшем еще некоторых работ и затрат. Однако фантазия де Сталя вышла за все пределы затрат. Ему нужны были самые дорогие кадмиевые краски для стен ателье…
К этому времени относится знакомство де Сталя с богатым английским коллекционером Дугласом Купером, купившем Кастильский замок близ Юзеса и разместившим в шести его залах свою коллекцию художников-кубистов (в том числе полотна Брака, Пикассо, Хуана Гриса, Клее и прочих знаменитостей). Никола де Сталь настойчиво искал знакомства с Купером и вышел на него через Дениса Саттона. Биографы по-разному объясняют эти суетные хлопоты художника. Некоторые предполагают, что теперь, став знаменитостью в Нью-Йорке и отчасти в Париже, Сталь хотел повысить свою репутацию в Лондоне, где его выставка прошла почти незамеченной. Остается все же непонятным, зачем ему понадобился Лондон, который он ругательски ругал в письмах к жене, называя не иначе, как клоакой? Но может, став владельцем хоть и малого замка, но все же замка и рассорившись с хлеборобами-арендаторами из Гран Канфу, Никола де Сталь стал искать знакомства в аристократическом замке, хозяин которого обладал знаменитой коллекцией и считался крупным знатоком современного искусства. Можно, впрочем, услышать по этому поводу и совсем уж простенькие соображения психотерапевтов, считающих, что в период тяжелого душевного состояния яснее обнаруживаются самые разнообразные мании пациентов (в том числе и так называемая «мания величия»).
Усердные читатели старых романов или новейшей светской хроники знают, что самые смехотворные проявления снобизма укладываются в рамки «хорошего воспитания» и высокого рождения.
Что же касается душевного состояния нашего героя, то оно было, конечно, той осенью плачевным.
«Я употреблю годы на то, чтоб пустить все по ветру, под здешним провансальским ветром, это не так просто, и я физически ощущаю, как сжимается у меня на шее стальной ошейник», – писал де Сталь в ноябрьском письме Шару.
На протяжении последних двух-трех лет одни и те же слова, повторяясь в письмах де Сталя, свидетельствуют о нарастающем неблагополучии. Слова эти «ветер» («ветер Прованса» или просто, снова и снова – «ветер»), «капкан», «каркас», «ошейник», «туман», «дымка»…
Попадаются в письмах и жалобы на любовную неудачу. «Девушка» Жанна» причиняла Никола немало страданий, ибо была не всегда сговорчива. Никола писал об этом (насколько можно судить по пропущенному в печать) и Пьеру Лекюиру и общей их с Жанной знакомой, художнице Герте Осман, однако не слишком пространно и выразительно. Во всяком случае не так исступленно, как снова невольно приходящий в этой связи на память Пастернак:
«Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут было все шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности…»
На фоне этих реальных бед и угроз первый визит де Сталя в Кастильский замок был событием вполне ободряющим. Гостю понравились и замок, и его хозяин, и коллекция великих произведений отцов кубизма, и умелое размещение картин, и достаточная освещенность полотен Жоржа Брака. Хозяин и гость остались довольны друг другом. Мы знаем об этом, ибо мистер Джон Ричардсон, живший в то время Кастильском в замке, оставил подробное описание нескольких встреч двух великих людей. Остается предоставить слово красноречивому свидетелю-англичанину:
«В первый же раз Никола де Сталь произвел на меня незабываемое впечатление. «Кто это мог бы быть, черт бы его драл, этот татарский верзила?» – подумал я, увидев его в один прекрасный ноябрьский день 1953 года, когда он остановил свой фургончик у железных ворот Кастильского замка (провансальского нашего убежища, которое я делил в те времена с Дугласом Купером). Шарм его был таким же впечатляющим, как и его фигура, та же смесь лихорадочного энтузиазма и славянской меланхолии. Когда он представился нам, сказав, что это Денис Саттон рекомендовал ему поехать к Дугласу Куперу, чтобы полюбоваться его собранием кубистов, мне пришлось вмешаться в разговор. Купер, который и в лучшие из своих дней бывал раздражителен, имел обыкновение обрушиваться на абстрактную живопись тогдашней Парижской школы, и Сталь мог оказаться под ударом. Поэтому я боялся, что загорится сыр-бор. Я ошибся. Недаром же Сталь был в совсем нежном, двухлетнем возрасте приписан к царскому пажескому корпусу. Его куртуазность не отступила перед шумным бахвальством Купера, и нескольких минут хватило, чтобы между ними возникли вполне прочные и дружеские отношения.
Сталь был покорен высоким уровнем картин, которыми были увешаны стены в замке Купера; Купер, в свою очередь, был поражен той высокой восприимчивостью, которую выказал Сталь, его пониманием формализма (в ту пору понятие это еще сохраняло свой престиж) кубистского направления, столь близкого его собственному творчеству. Вдобавок создалось впечатление, что Сталь освобождался в то время, и притом довольно мучительно, от пут абстракционизма, новейшие проявления которого (но отнюдь не то, что было вначале) Купер ненавидел – «все это попахивает добрым старым Баухаусом». Так что художник, который вознамерился вернуться на верный путь фигуративной живописи, не мог не получить безусловной поддержки со стороны Купера. Сталь был принят им как блудный сын, вернувшийся в куперовский пантеон избранников (в один ряд с Пикассо, Браком, Леже, Грисом, Клее, Миро).
Благодаря щедрости Сталя Купер быстро развесил небольшое, но превосходное собрание его работ. Специально для «замка кубистов» художником был отобран великолепный пейзаж Агридженто (1953), тот, на котором алые крыши проступали на оранжевом фоне неба и который занял в экспозиции почетное место. Полотно было повешено внизу, у начала лестницы, так что ему пришлось соперничать с огромной стенописью Фернана Леже, задававшей тон на верхней площадке лестницы, но оно выдержало это противостояние с успехом – на мой взгляд, даже слишком успешно, в ущерб Леже.
Сталь за короткое время стал завсегдатаем Кастилии, Куперу до обожания нравилась его безмерность, и этот размах, с которым он ел, пил и хохотал или вдруг по временам погружался в меланхолию. Куперу очень нравились тонкость и ясность его суждений о живописи, блеск его формулировок и оборотов речи. На наше счастье, большая их часть сохранилась в его письмах. Читая их публикации, я словно снова слышу его низкий голос, звучащий так по-русски, так не вязавшийся с острой и сложной хореографией его мысли…»
После долгих вечерних разговоров в замке Купера о Браке, Матиссе, Эркюле Зехерсе де Сталь, как рассказывает Джон Ричардсон, «исчезал в ночи за рулем своего грузовичка… В лунные ночи он иногда останавливался, чтобы сделать зарисовки. Он говорил нам о своей зачарованности «пустотой» одного из отрезков дороги близ Кастилии, который и лег в основу его аскетического пейзажа «Путь на Юзес», целой серии каких-то неровных и голых кусков дороги, написанных очень блеклым черным, зеленым и серым. И между тем, эти шесть отрезков дороги приобретали некое единство, таинственная магия которого заставляла нас всякий раз при проезде прибавлять скорость, чтобы скорее миновать это место… Мчать мимо во весь опор…»
Как можно понять из этих рассказов, Никола то веселился, ел и пил, то впадал в черную меланхолию, которую Ричардсон считает чисто «русский» (точно знаменитый доктор Крепелин был не немец, а русский и лечил всю жизнь не немцев, а этих экзотических русских). Любопытно, что старый знакомец де Сталя, симпатичный Жак Матарассо из Ниццы, которого Никола, как и обещал, навестил через десять лет, в том самом 1953-м, вовсе не удивлялся внезапным приступам депрессии у де Сталя. Он сказал мне, что русские всегда так: то они веселы, то впадают в дикую тоску.
– Вы же знаете русских, месье Борис?
– Немножко, месье Жак.
Нельзя сказать, чтоб говорливый Джон Ричардсон ничего не знал о тогдашних бедах де Сталя. Кое-что знал. Но и без этих крайностей всякий интеллигентный европеец уверен, что знает и про «славянскую меланхолию», и про «татарскую кровь», и про толстоевского (или даже солженицкого).
Так он и завершает свой рассказ о Никола де Стале, этот симпатичный Джон Ричардсон:
«Одним словом, Сталь был РУССКИЙ, толстовский персонаж, терзаемый бесами Достоевского. И если эти бесы не трогали его в начале его карьеры, то они буквально набросились на него после его крупного американского успеха».
А в общем утешительно, что в тяжком ноябре1953 года нашему герою выпало удовольствие визитов в Кастильский замок. О первом завтраке у Купера, а также о его замечательной коллекции де Сталь рассказывал почти во всех тогдашних письмах родным и знакомым. Первой услышала о новом знакомстве теща де Сталя мадам Шапутон. Вероятно, она была обеспокоена слухами о странных событиях в семье Франсуазы и написала зятю. Не вдаваясь в описание своих бед, Никола написал теще вполне светское письмецо:
«Дорогая матушка! Спасибо за письмецо. Я доехал очень быстро, несмотря на туман.
Я обедал сегодня в замке «Кастилия». Развесив все эти картины, он сумел устроиться так, как только одни эти оксфордские эфебы умеют устраиваться… Старайтесь поддаться обаянию Фрисеро, несмотря на заумь, которой он вас может терзать».
Стало быть, тот, кого Никола добрых полжизни называл «милым папой», приехал навестить приемного сына и познакомиться с его семьей. До него дошли, вероятно, слухи об успехах Николая. Может, зря они с Шарлоттой так беспокоились о его судьбе и здоровье. Вот ведь – победитель. И славен, и богат, и женат, и многодетен. Впрочем, доходили и другие, менее радужные слухи… Но может, только слухи…
Увы, прежним подозрениям не суждено было рассеяться. Эмманюэль Фрисеро увидел Никола в тяжкие осенние дни. И он слишком хорошо помнил своего Колю, чтоб быть обманутым взрывами его хохота и фантастическими байками. Что касается живописи, которая должна была все искупить, оправдать, пожилой брюссельский инженер и здесь не увидел ничего, что могло бы его успокоить… И если даже Никола не хранил обиду на то, что щедрый папа не поддержал когда-то его планов кругосветного путешествия, то нынешнего неумения оценить его живопись Никола не мог простить отцу. Да и кто бы из гениев простил?
Один из биографов де Сталя пишет, что гость просил повернуть картины лицом к стене, хотя бы близ его комнаты, там, где он должен проходить…
На его счастье, месье Фрисеро не видел, как костлявое тело его огромного Коли сотрясается от неудержимых рыданий, а такое бывало в ту осень нередко…
И все-таки зиму Никола провел в напряженной работе. Поль Розенберг готовил в Нью-Йорке персональную выставку де Сталя, и в американской печати появились восторженные отзывы о французском художнике. Декабрьское письмо Поля Розенберга не оставило места сомнениям об источнике лестных высказываний в прессе:
«Автор статьи спросил меня, есть ли ныне… молодой художник, которого я мог бы поставить на тот же уровень, что и великих художников начала века и работой с которыми я хотел бы… рискнуть. Я ответил: «Да, только один, де Сталь».
Первая персональная выставка де Сталя в новой галерее Розенберга должна была открыться в феврале 1954 года, и возлагавший на нее большие надежды де Сталь писал великому галеристу в Нью-Йорк в середине января:
«… вам будет из чего устроить самую прекрасную выставку из всех, что у меня были до сих пор… Не бойтесь давать моим последним картинам максимальное освещение. Они все очень «к месту» и добавят всем остальным солнечного света».
Все двадцать пять картин, выставленных в Нью-Йорке, были проданы. Де Сталь стал вполне богатым и вполне несчастным. Джон Робертсон, вместе с Дугласом Купером навестивший художника в его «малом замке» в Менербе, с восторгом писал о русской щедрости и русском размахе хозяина «Кастеле»:
«После того, как пошли деньги, Сталь смог проявить русскую широту. Он пригласил нас обоих на ужин к себе в Менерб, где он жил один. Он приказал зажарить индейку, которую нам подали на кухонном столе. Но вместо овощей нам подали в качестве гарнира доброе кило трюфелей, а чтобы запить их, поставили целый ящик великолепного бордо».
Рассказчик не сомневается, что любой читатель сможет оценить русскую широту, зная, что этот малоприятный на вид (да и на вкус) склизкий гриб во Франции ценится на вес золота.
Никола де Сталь почувствовал себя настолько состоятельным, что даже предложил денег знаменитому Рене Шару. К этому времени переписка между ними заглохла, и дружбе их пришел конец. Шар не встал на сторону де Сталя в его любовных перипетиях. Зато окрепла дружба де Сталя с коллекционером Дугласом Купером и возобновились его сотрудничество и переписка с поэтом Пьером Лекюиром. Вместе с Лекюиром, который провел в Менербе два месяца, Никола де Сталь выпустил две дорогие книги поэзии и работал над книгой о голландском художнике и гравере Эркюле Зехерсе.
В письмах Дугласу Куперу Никола де Сталь писал об источнике своего вдохновения, который находится где-то вне его, приходит внезапно, является как бы случайностью, вроде несчастного случая или происшествия (hаsаrd или даже l\'ассidеnт): «я делаю нечто такое, что даже нельзя расчленить, разъять, разъяснить, что приходит случайно, что случается со мной, приходя от случая к случаю».
Не всякий художник способен распознать это наитие, этот приход, принять его с радостью. Зато эта «случайность» может помочь в раскрытии тайн мира, как не поможет никакое ученье, никакое техническое мастерство.
Это рассужденье о подверженности наитию, об ожидании его прихода и его приятии невольно приводит на память определение гениальности, которое дала Марина Цветаева:
«Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности. Дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из сопротивления которого и вырастет – мир».
… В апреле Франсуаза родила сына, которого родители назвали Гюставом. «Жена завершила работу над моим портретом в миниатюре, это очень подвижное существо, довольно смуглое, – писал де Сталь Лекюиру, – так и стреляет глазами, ни минуты покоя».
Был ли счастлив молодой отец? Благодарил ли самоотверженную супругу и судьбу? Легко догадаться, что этого не случилось.
Он уезжал из Парижа на север Франции и писал оттуда жене, что дух его в смятении, что ему очень тяжело, но он работает, «высаживает», «спускает» все новые картины. Глагол «descendre» в применение к картинам звучит странно, и над его смыслом (как, впрочем, и над специфическим употреблением многих других французских слов у Сталя) искусствоведам приходится ломать голову.
В июне Никола сообщает Франсуазе, что никогда ему не было так грустно, как сейчас.
В том же месяце в Венеции открылась международная художественная выставка (бьеннале). В ее французском павильоне были показаны три полотна де Сталя. Однако, в отличие от сговорчивого Дориваля, венецианские организаторы выставки даже не спросили у художника, рядом с чьими произведениями он желал бы разместить свои полотна. Картины де Сталя ничтоже сумняшеся повесили рядом с работами других абстрактных художников…
На одной из тогдашних парижских выставок Никола встретил подругу Жанны художницу Герту Осман и рад был выплакать ей душу. Позднее он стал переписываться с Гертой, потому что мог пожаловаться ей на свою жизнь и узнать от нее что-нибудь о Жанне. А может, и рассказать ей что-либо в надежде, что это будет пересказано Жанне…
После Майского салона, где де Сталь выставил полотно «Сицилийский порт», прошла выставка его картин в галерее Жака Дюбура. Не всем французским критикам пришлась по душе новая манера де Сталя, но нашлось несколько искусствоведов, которые сочли выставленные у Дюбура двенадцать полотен (в том числе «Путь на Юзес») великолепными.
Изменения, происшедшие в живописи де Сталя, коснулись не только частичного (все же на границе абстракции) возвращения к фигуративности, но также изменения фактуры, ее облегчения. Де Сталь чаще работал теперь кистью и щеткой, чем мастихином, и краски его были порой совсем жидкими. Вот как писал об этом известный французский искусствовед Андре Шастель:
«Меняя для себя устройство мира, художник меняет и манеру живописи… Облегчение живописного материала не менее важно, чем возвращение предметов и образов в его живопись. Если иризация, живопись, отливающая всеми оттенками, или пастозность перестают быть для него первейшей заботой, то важными становятся рисунок и вырезанные очертания…»
Итак, кисть и разведенное эссенциями масло приходят на смену мастихину.
Искусствоведы отмечают также изменение палитры. Все напряженнее становится красный цвет и уже на подходе синий. Впрочем, в то последнее «северное» лето де Сталя гамма его была (в сравнении с полихромностью сицилийских пейзажей) очень сдержанной – черное, серое, освещающие все полотно белые пятна.
Работая с таким же напряжением, как и в 1953 году (чуть не триста полотен за1954 год), де Сталь пишет ночной Париж, мост Сен-Мишель…Кто мог предвидеть, что это было его прощанье с Парижем?
Поклонник де Сталя Бернар Дориваль настойчиво сравнивал живопись этой летней поры с гаммой Эдгара Мане, называя нового де Сталя «современным Мане».
Никола де Сталь часто сбегал в то лето на берег северного моря и там писал пейзажи. Это было прощание с красками севера, с родным морем. Однажды он добрался до Гравлина и написал там маяк. Позднее просвещенные искусствоведы вспомнили, что Сталь прошел по следам Сера (что Сера писал то же место за несколько месяцев до своей случайной смерти – 32 лет от роду).
Де Сталь побывал в Эркенгеме, в гостях у семьи Жана Борэ, работал на берегу Ламанша.
Андре Шастель вспоминал о том, как лихорадочно работал в те годы де Сталь: точно торопясь наверстать упущенные элементы окружающего мира, всегда, впрочем, существовавшие в его сознании. За несколько месяцев им написаны были многочисленные пейзажи, натюрморты, он писал цветы и даже фигуры.
Де Сталь по-прежнему работал в своем парижском ателье на рю Гогэ, но к концу лета смятение его становится нестерпимым. В августе он оставляет парижское ателье, покидает Париж, оставляет жену, четверых детей. Можно было подумать, что он гонится за призраком, что его гонит из дому призрак…
Тяга художника к уединению, впрочем, не была чем-то редким, неслыханным. Многим из тех, кто занимается творческим трудом (или хотя бы питает иллюзию своей принадлежности к этому труду), нередко приходится искать уединения, перемены обстановки. Уединение может оказаться грустным, неуютным, некомфортабельным, но без него зачастую не обойтись.
Де Сталь мог бы уехать в свой замок Кастеле, в Менерб, но выяснилось, что Жанна с мужем и детьми поселилась в Грасе. И вот Никола де Сталь едет в Канны искать новое ателье поближе к Грасу. В конце концов ему удается снять ателье, которое устроила и долгие годы занимала вполне известная в этих краях художница Элен Дюфур – на препоследнем этаже дома Ардуэн, выходящего на приморский бульвар и улицу Ревели в Антибе.
Римляне отчего-то называли Антиб Антиполисом, Антигородом (или Городом Напротив), но люди селились в этом уютном Антигороде еще и за тыщу лет до прихода римлян. Послевоенный Антиб, в котором за неимением более приближенной к Грасу и к дому Жанны свободной мастерской разместился в сентябре 1954 года Никола де Сталь, был симпатичным городком, где охотно и подолгу живали знаменитые художники, писатели и самые разнообразные знаменитости Европы и Америки. Сам Никола жил в детские годы близ одного из здешних пляжей под присмотром своей крестной матери княгини Любимовой. На Антибском мысе жил его не слишком добрый дядюшка Алексей Иванович, там жили и умерли дядья последнего русского императора Николай Николаевич и Петр Николаевич. В отель Антибского мыса, в Рок Эдем и Эйлен Рок слетались самые яркие светские птицы всех континентов, и пестрота их оперенья соперничала с блеском их бриллиантов… Антибский мыс славился красивыми женщинами, дорогими ресторанами, своими розами, пальмами и чудным морским пейзажем.
В антибском замке Гримальди вскоре после войны добрых пять месяцев писал свои картины самый прославленный клиент Розенберга и Канвейлера Пик (Пикассо), который и подарил бесценное собрание написанных здесь картин замковому музею. Долгие годы прожили в этих местах Жюль Верн, Мопассан, Грэм Грин… По вечерам в баре «У Феликса» можно было встретить много незаурядных и любопытных людей. Так что если, читая письма Никола де Сталя или его жизнеописания, вы представите, что Антиб это глушь, наподобие Зосимовой Пустыни под Нарофоминском (где подолгу сиживал автор этих строк), то наш долг уточнить, что это один из самых старых, самых живописных и самых населенных городков Французской Ривьеры.
Вскоре по приезде в Антиб, в октябре, в ответ на письмо мадам Грийе, упоминавшей вполне шутливо их совместное сицилийское путешествие, хохот Никола и его бас, де Сталь отозвался с трагической мрачностью:
«Не могу рассказать тебе ничего доброго ни о своем голосе ни о моем хохоте, но я много работал этим летом и пытался подыскать себе жилье, самое неудобное, какое только смогу, чтоб жить у моря похуже, видеть хуже и производить картины, как смогу, это кончится тем, что войдет в привычку резать на куски собственное сердце».
Мадам Грийе была подруга Шара и Жанны. Для передачи последней, видимо, и предназначалась жалоба Никола.
В те же дни де Сталь сообщил Жаку Дюбуру, что он уезжает в Испанию: «не сидеть же мне всю зиму у моря».
Де Сталь списался с Пьером Лекюиром, чтобы поехать вместе с ним в Испанию на скромном его ситроене («четыре лошади»). Ситроен самого Никола, немало претерпевший от лихой езды и опасных замашек водителя, был в ту пору в ремонте.
Они двинулись в путь с Лекюиром в середине октября, проехали Барселону, Аликанте, Гренаду, Севилью, Кадис, Толедо и остановились в Мадриде, чтобы побывать в музее Прадо. Оказалось, что воспоминания первого визита (Никола было тогда 22 года) живы в памяти: Гойя, Эль Греко, Веласкес…
Гойя показался ему на сей раз замечательным, но слишком нервным. Художник должен скрывать свои настроения… А вот Веласкес! Какое величие, спокойствие, какое мастерство…
Де Сталь послал из Мадрида письмо Жаку Дюбуру, содержавшее восторженный панегирик великому Веласкесу:
«Это такой гений, что он даже не хвастает своей гениальностью, просто сообщает публике: да, я талантлив, но я принимаю это всерьез. Какое удовольствие! Какое наслаждение! Крепкий, спокойный, неколебимо стоящий на ногах, уходящий в землю всеми корнями, всем художникам художник, равно держащийся в стороне и от королей и от пигмеев, от самого себя и от окружающих. Сотворяющий чудо всяким прикосновением кисти, бестрепетный даже в своем трепете и колебанье, необъятный в своей простоте, своей трезвости, всегда на предельной высоте красочности, все в его власти, кроме него самого, а он, вот он на полотне».
От многих наблюдателей не ускользнуло, о ком и о чем пишет де Сталь в этом письме Дюбуру. Конечно, он пишет о собственной живописи. О чем вообще он может писать и говорить? О себе, о своих бедах, о своей живописи и ее близости к великим, величайшим в истории мастерам. О Гойе, который позволяет страстям вторгаться в олимпийское достоинство живописи. Вот он не позволит… Об Эль Греко… Читая эти высказывания, психиатр озабоченно хмурит лоб: нехороший симптом. Но искусствоведы подтверждают: конечно же, это о его живописи. Все очень точно. Приводя слова де Сталя о Веласкесе, искусствовед Федерико Николао сообщает, что все это можно сказать об антибских морских пейзажах де Сталя. Искусствоведам-писателям приходят на помощь искусствоведы-маршаны: полотно «Средиземное море» (всего метр на полтора) уже в начале двухтысячных годов было продано почти за два с половиной мильона долларов. А сколько же могут стоить нынче «Порт Антиб», «Корабли», «Мачты»? Да им цены нет!
Но вернемся к Веласкесу, Гойе, Эль Греко, вернемся к машине Лекюира…
Выйдя из музея Прадо, Никола де Сталь решает немедленно прервать это путешествие и вернуться в мастерскую. Там он будет исцеляться живописью, и может, Жанна все же будет приезжать время от времени. У нее есть свои интересы…
В письме Дибуру Никола сообщает о своем неожиданном решении. Он возвращается:
«Завтра я возвращаюсь в Антиб работать. Хорошее путешествие. Немало рисунков, несколько предметов для натюрмортов в моих чемоданах, если на них не позарятся таможенники, и безумное желание писать фигуры, портреты, всадников, рынки, толпу на рынках».
Он бы и написал все это, если б ему был отпущен срок… А натюрморты он написать успел, и какие натюрморты!
Итак, последнее заграничное путешествие было прервано в Мадриде. Никола улетел на Лазурный Берег, оставив Лекюира с его тесным ситроеном «четыре лошади», над которым во время их странствия так безутешно торчала голова его спутника.
– Славное было путешествие? – спросил я недавно у Пьера Лекюира, навестив его неподалеку от Сада растений.
– Ужасное. Он все время молчал. Молчал или плакался. Рассказывал о любви…
Помолчав немного, поэт уточнил безрадостно:
– Обливался слезами, рыдал…
В письме из Парижа Пьер Лекюир пытался успокоить де Сталя, вразумить, заставить его рассуждать… Вероятно, напоминал про обещание сходить к врачу, принимать лечебные ванны.
Но как убедить взрослого человека, который так уверен в своем превосходстве, что человеку этому нужен врач. Очень скоро де Сталь сообщил Лекюиру, что никаких ванн он принимать не будет.
«Не терзайтесь по моему поводу, – писал де Сталь Лекюиру, – Можно еще будет всплыть со дна, если не поднимется шторм. Я продолжаю лежать, потому что хочу безо всякой надежды дойти до конца своих терзаний, до самой их ласки. Вы здорово мне помогли. Я дойду до полной г л у х о т ы, до молчания, и это потребует времени. Я плачу в одиночестве над своими картинами, и это их очеловечивает мало-помалу, легонечко, хотя бы с подрамника».
Иногда он вдруг оглядывался и видел, что он в раю: цветы, живописный антибский базарчик, и сверкающее море, и простор, до самой Бордигеры… Он даже описал это состояние в письме Дюбуру:
«Так хорошо ощущать, что ты во Франции, всегда идет кто-то с цветами, и птицы пробуждаются поутру».
В одном из писем он признал, что Антиб это сущий рай. К тому же он не забывал про свой «малый замок», заботился о его меблировке. В Испании он купил какие-то табуретки для Менерба, а под стеной антибской цитадели заказал мастеру два шезлонга (оплатил пока только один).
И молодые женщины не вовсе оставляли его в покое. Были еще какие-то модели, кроме Жанны. Молодая искусница-фотограф Жоржетта Шадурн сняла его полуобнаженным на пляже. Взгляд (в объектив или мимо) был у него вполне заинтересованный. Молодая исследовательница Бетти хотела наедине обсудить с ним проблемы политического убийства, суфизма, исмаилитов, деятельность Старца Горы, ассасинов, в общем, предтеч недалекой уже Аль-Каиды. Художник казался ей для этого достаточно рослым и агрессивным…
– О, когда у человека столько денег, женщины вешаются ему на шею! – сказал мне недавно в Ницце старый мудрый букинист месье Жак Матарассо. И речь у нас шла именно о нем, о Никола, которого месье Жак видел то ли в конце февраля, то ли даже в начале марта. Никола шутил, кажется, даже хохотал…
Потом взрыв неукротимой энергии сменялся у него депрессией и тогда все раздражало его – и морской ветерок (о, эти ненавистные порывы ветра!), и плеск волны, и сияние солнца… Ну да, раздражал свет, средиземноморский свет, проникавший «в его дыру», в его мастерскую, точно шарик пинг-понга. Все бывало тогда не по нем…
«Чего же вы ждете? – горько спрашивал он в письме к подруге Жанны, супруге супрефекта мадам Грийе, – Нехватает гордости, не хватает самолюбия, не хватает решимости в сердце, чтобы дойти до предела этого ада…»
Другой подруге Жанны, художнице Герте Осман Никола писал еще откровеннее и подробнее. Начинал письмо с высокомерных советов мастера о ритме работы (совсем недавно я прочел в подписи под выставленным на сайте рисунком Герты, что она «ученица Никола де Сталя»), а кончал вполне жалобно:
«Нелегко все это, Герта, нелегко заново начинать жизнь вот так одному перед морем».
И море, и ветер, и солнце словно нарочно терзали его душу.
В публикации его писем той поры издателями вымараны какие-то слишком интимные жалобы, но понятно, что жалобы содержались чуть не во всех письмах.
В Париже состоянием Никола де Сталя были озабочены его друзья – сотрудники Пьер Лекюир и Жак Дюбур. Одно из писем к Дюбуру начинается той самой фразой, какой начиналось письмо к Лекюиру: «Не терзайтесь по моему поводу…»
Между тем, сам де Сталь начинает терзаться неуверенностью по поводу собственной живописи. Он ищет новых путей в искусстве, он меняет фактуру и всякий раз хочет немедленно услышать слово одобрения от Жана Борэ. Он жестоко переживает каждое замечание, хотя каждый раз стоит на своем.
Старый Розенберг вполне осторожно сообщает де Сталю, что иные из покупателей недовольны, что былая масса материи, наложенной мастихином, уступает место легким материалам, что американские его поклонники предпочитают былую пастозность. При этом опытный галерист осторожно успокаивает де Сталя:
«Но знаете, всегда ведь предпочитают у художника то, что он делал раньше. Вас уже начинают различать по периодам. Как видите, история тут возникает быстро…»
Перемену материала и новые работы не одобрил и богатый коллекционер, «оксфордский эфеб» Дуглас Купер, чье мнение и чью коллекцию «классиков» так высоко ставил де Сталь. Купер навестил антибское ателье Сталя вместе с молодым своим другом Джоном Ричардсоном, которому мы и обязаны неторопливым описанием визита:
«Моя последняя встреча с де Сталем так же для меня памятна, как первая, хотя она и была намного менее радостной, чем первая. Незадолго до самоубийства он нас пригласил в Антиб, чтобы мы с Купером посмотрели его новые полотна. Он казался еще более взбудораженным, чем раньше, чувствуя свою вину, потому что он бросил семью, и он отчаянно нуждался в том, чтобы одобрили его работу. Жилище его, нависавшее над скалами и морем, вероятно, могло казаться не лишенным некоторого очарования в летнюю пору, но в тот пасмурный и ветреный день в разгаре зимы оно казалось воистину зловещим. А между тем, именно в этой мастерской Сталь создал некоторые из самых волнующих произведений своего творчества. Никогда не удавалось ему достичь такой колористической роскоши, как в этом мистическом гимне живописи, который он назвал «Уголок мастерской в синем цвете». В нем словно слились воедино и сюжет и все средства живописи. К сожалению, Купер был в тот день особенно мрачен и ворчлив. Он недоволен был, что художник, чьими работами он восхищался, может в один прекрасный день сделать вдруг такой резкий рывок на пути к совершенству. Он без одобрения отнесся к тому, что он назвал «послаблением» и без обиняков заявил об этом… Бедный Сталь пытался обороняться от подобной недоброжелательности, но озлобленный коллекционер, необоснованно призвав себе на помощь правила кубизма как мерило всякой художественности и осудив отступления от этих правил, продолжал критиковать Сталя за дешевую риторику, за грандиозность его замаха и новый лиризм. Я оставил их спорить, чтобы отойти и рассмотреть поближе полотно, которое таило в себе некую неодолимую угрозу: серый холст, на котором чайки били крыльями на фоне пустынного моря. В той же стене, на которой висела картина, было окно, и из него открывалась совершенно та же картина, все, включая чаек. Совершенно то же, что взлет воронов на кукурузном поле у Ван-Гога на его последней картине, помнится, эта мысль промелькнула у меня тогда и я поежился в предчувствии беды».
Молодой друг Дугласа Купера был прав в главном: в этой зловещего вида мастерской были созданы самые, наверно, замечательные полотна Никола де Сталя. И он сам и те, кто следил тогда за его творчеством, писали об истинном взрыве, об озарении. Почти полторы сотни картин за девять месяцев Антиба! И каких картин!
Учтите, что при этом художник еще успевал разъезжать по Франции, наблюдать за преобразованием своего «малого замка» в Менербе, съездил в Париж, сгонял на выставку живописи Курбе в Лионе.
Он писал натюрморты. Уголок мастерской, какая-то посуда, бокалы, хлеб насущный, кофейник, салатница… И при этом бокалы его были удивительными, предметы излучали внутренний свет. И его «Хлеб», и его «Салатницу», и его «Этажерку» называют шедеврами.
Он писал морские пейзажи, антибский порт, корабли, лодки, лодки, лодки. Одни искусствоведы называют шедевром его «Порт», другие «Средиземное море», третьи его «Корабли»… Многие пишут, что это и есть «настоящий Сталь». А лондонские аукционы «голосуют рублем». Точнее, долларом.
Конечно, его огорчали попреки маститого Дугласа, замечания Лекюира, осторожные намеки Розенберга. Но он не переставал искать. Красный цвет неистощимо боролся у него с синим…
Художник выглядел теперь еще более надменным, самоуверенным и нетерпимым. Однако он был уязвим, он переживал мучительные сомнения. Искал гуру, наставника, исповедника. В отсутствии Жана Борэ на Ривьере Никола садился за письма Жаку Дюбуру, которому он писал в декабре 1954, на вершине своей американской славы:
«То, за что я взялся, это мое беспрерывное обновление, воистину беспрерывное, это не так легко. Моя живопись, я знаю, какой она представляется, ее неистовство, ее непрестанное борение и проба силы, но она очень хрупкая, в добром смысле слова, это вещь возвышенная. Она хрупкая, как любовь… Когда полотно удается, я страшным образом ощущаю элемент случайности, как при головокружении, элемент удачи, удачного приложения силы. Несмотря ни на что, это, по всей видимости, только удача… и это страшно, это печально, это обескураживает…»
В Ланьи и в Менербе, а потом и в Антибе Сталь теперь писал фигуру. Точнее, обнаженную фигуру (ню). Чаще всего одну и ту же женскую фигуру, которая стала для него наваждением, – фигуру обнаженной люберонки Жанны, дочери арендатора Матье, ученицы и музы искушенного резистанта Рене Шара, замужней дамы, матери двоих детей. Она стала «моделью» Никола де Сталя. Возможно, ее семье не мешал приработок, да и вообще, может, лестно быть моделью ходожника. Жанна стала моделью де Сталя, его возлюбленной, его мучительницей. Она стала персонажем таинственной истории де Сталя, мифологическим персонажем французской и мировой живописи (вроде как былая одесситка Дина Верни – Эйбиндер или казанская девушка «Гала» – Дьяконова). Ее переписка с художником до сих пор упрятана за семью печатями, писать о ней одетой и сегодня запрещено, но о ней же, о другой, обнаженной, о ее ню можно писать сколько угодно, потому что это уже чистое искусствоведенье. Признанные мэтры искусствоведенья пишут об этих ню де Сталя восторженно. На одном из сайтов французского интернета, можно даже отыскать неопределенных лет фотографии этой дамы. Они не обманывают самых трезвых предположений. Хотя не могут опровергнуть и самых грустных догадок.
В антибской мастерской Никола де Сталем было написано полотно «Лежащая обнаженная на синем фоне» или «Лежащая синяя» (Nu couche bleu), о котором образованная внучка де Сталя (искусствовед и философ) написала, что это идеальная, метафизическая картина, «шедевр, в котором в полной мере выражен смысл абсолюта».
Восторженные страницы посвятил этому полотну итальянский искусствовед Федерико Николао:
«Ослепительна красота этого тела, которое является нашему взгляду в невозможном, противоречащем всякой логике равновесии…Наше чувство приближенности тела отвращено к дальнему фону, который полотно подает нам как некое богоявление. Порыв желания на этой картине является таким сильным и в то же время столь потаенным, что чувство и изображение сливаются воедино. Здесь мы встречаемся с безграничностью нашего видения и с самым волшебным, что может быть в живописи: с умением представить пространство…»
Не уверен, что капризная люберонская «модель» была в восторге от того, как авангардный художник решает с помощью ее обнаженного тела проблемы художественного пространства. До нас дошло пока очень мало ее отзывов обо всей этой любовной истории, которая кончилась так страшно. Преданы гласности лишь две-три фразы из ее письма подруге: о том, что Никола очень много работает и что он не расстается со своей навязчивой идеей.
Эта навязчивая идея – самоубийство. Никаких подтверждений тому, что Жанна была без ума от нашего героя, не найдешь. Впрочем, биограф Грельсамер рассказывает, что де Сталь предложил своей жене Франсуазе принять в дом Жанну в качестве второй жены и что Жанну такая перемена в ее семейном и социальном статусе как будто устраивала. Она только попросила объявить ее крестной матерью детей Никола. На первый взгляд, такое вполне мусульманское семейное устройство, предложенное художником, может показаться несколько странным. Во всяком случае, именно таким оно показалось жене Никола Франсуазе, и она от брака втроем отказалась. Может, ей просто не нравилась Жанна. А может, она не могла предвидеть, как скоро все кончится. То, что все это не кончится добром, предвидеть было возможно. Не даром так обеспокоены были в Париже и Лекюир, и Дюбур…
Конечно, Франсуаза была девушка из мирной альпийской деревни, имевшая счастье (или несчастье) выйти за не вполне уравновешенного художника-авангардиста. Она не былая готова к такому повороту семейной жизни. На самом деле в европейских элитарных, или богемных, кругах подобный «menage a trois» не был такой уж редкостью. Работник петроградской ЧК Осип Максимович Брик спокойно впустил в свою семью молодого поэта Маяковского, и поэт Маяковский очень любил и жену чекиста и его самого. Вероятно, любили О.М.Брика и другие работники ОГПУ, жившие позднее с его женой, потому что он ухитрился мирно скончаться в своей постели. Но вот позднее поэт Маяковский не захотел уживаться с мужем молоденькой актрисы Полонской и выстрелил себе в голову. Любой историк добавит, что наверно, у поэта Маяковского были и какие-то дополнительные мотивы (какие – то страхи, подлинные или мнимые неудачи) для столь решительного поступка – и будет прав…
Автор этих строк умиленно вспоминает, как его собственная, первая (тогда еще совсем молодая) супруга предложила ему ввести в их небольшую семью вполне знаменитого и процветающего художника-инсталятора.
– Когда ты получше узнаешь его, ты его полюбишь, – убеждала меня жена, – Он такой трудолюбивый, такой талантливый.
Автор этих строк отказался тогда от семейного счастья втроем, но подводя итоги долгой своей жизни, понимает, что упустил редкий шанс поближе познакомиться с высоким искусством инсталляции и вдобавок заплатил досрочною разлукой с нежно любимым сыном. Но поди знай…
Бедная Франсуаза. Бедный сиротка-художник. Бедные (хотя, может, и не во всех смыслах бедные) сиротки нашего героя…
Ну а что же все-таки Жанна? Неужели ничего нельзя сказать об этой героине нашей книги? Ведь мы столько раз видели ее обнаженной, пусть даже с лицом, скрытым волосами… Если бы мне, как некогда галеристам Никола де Сталя, понадобилось придумывать названия к его ню, я назвал бы эту полную решимости и силы фигуру «Резистантка» (или «Повелительница»). Не стану по примеру здешних школьных учителей рассказывать, что это именно их с Рене Шаром «Сопротивление» (Резистанс) изгнало упорных нацистов из Люберона, Воклюза, Нормандии, Бретани или еще откуда-то, но чему-то, может, прославленный резистант ее все же научил, когда она была такой молоденькой и помогала ему прятаться. Скажем, сопротивлению. Это многих волнует. Это искусствовед Никола в первую очередь и отметил в фигуре «синей обнаженной» на прославленном полотне де Сталя:
«Тело женщины одновременно и предлагает себя и запрещает приближаться, вытягиваясь по горизонтали. Чтоб преодолеть отпор, необходимо усилие, а чтобы взглянуть ей в лицо, мы прежде всего устремляемся в это темно-красное пространство, то самое, к которому она тянется, чуть откинувшись назад, куда она соскользнет в интим белой простыни, той, что допустила мимолетное явление этой женщины и удержала ее для нашего взгляда. И в нас отзывается светло-синяя гамма этой наготы».
Дальше искусствовед пишет о тайном языке, который один мог бы расколдовать эту минуту недвижности, и только потом позволяет себе признание в любви: он называет красоту этого тела «ослепительной».
Что можем мы добавить жизнеутверждающего к подобному гимну красоте обнаженной люберонской Жанны? Разве что сообщить о первом успехе обнаженных де Сталя на торгах у Розенберга…
Конечно, серьезное искусствоведение чаще обращает внимание зрителя и читателя не на то, откуда взялось на картине исступление страсти, а на то, откуда у той или иной картины «растут ноги».
На память людям внимательным невольно приходит (и впрямь высоко почитаемый де Сталем, и даже неотвязный) Анри Матисс, в частности, его коллажи. Моя былая парижская соседка Лидия Николаевна Делекторская рассказывала мне, как она помогала Матиссу (у которого ей довелось быть и сиделкой, и «моделью», и возлюбленной, и секретаршей) вырезать из цветной бумаги эти бессмертные фигурки для его бессмертных коллажей. В обзоре недавней выставки Никола де Сталя в швейцарском Мартиньи парижский обозреватель (искусствовед Ф.Дажан) напомнил, что де Сталь дружил с зятем Матисса писателем Жоржем Дютюи. Боже, как тесен мир!
Поздние полотна де Сталя (сицилийские и провансальские пейзажи и даже ню) наводят искусствоведов и на другие давние впечатления художника. Почти все пишут об ощутимом влиянии византийской мозаики и живописи, а также русской иконы… Трудно сказать наверняка, что вспоминалось Николаю в эти последние мучительные месяцы его жизни. Иконостасы петербургских соборов (Петропавловского или Казанского, куда водила их няня в годы отцовского подполья), агнец из брюссельского собора или даже первая собственная выставка с Ростиславом Лукиным из «Иконы»? Однако, от догадки о русской иконе никуда не уйти искусствоведам, которые занимаются де Сталем.
«Рискуя быть обвиненными в святотатстве, – пишет парижанка Вероника Шильц (имевшая, кстати, намного больше русских друзей, чем сам Никола де Сталь), – мы можем сказать, что никогда Никола де Сталь не был так близок к иконе, как… в серии «ню» и «фигур» 1953-54 гг…»
И автор монографии о де Стале Жан-Клод Маркаде, и его покойная супруга В.Ходасевич, посвятившая творчеству Сталя одно из первых русских исследований, и знаменитый Андре Шастель – все говорят о несомненных чертах русской иконы во французской живописи космополита де Сталя. В этой связи вы найдете у них и рассуждения о приоритете сущности над видимостью, и о красочном разгуле, дарящем радость, и об обратной перспективе, и о сплошном фоне, и о ярком красном, и о вечном пристрастии путешествующего де Сталя к византийской живописи. В наибольшей степени все эти наблюдения касаются последних месяцев жизни художника, последнего его взлета и последнего «взрыва». Впрочем, Жан-Клод Маркаде настойчиво обращает наше внимание и на ранние (1939-1941 гг) сталевские портреты бедной его подруги Жанин. «Это сущие иконы… У нее глаза архангела…» – замечает исследователь.
Жорж Дюпюи с уверенностью говорит, что, как и любимый им Эль Греко, де Сталь был ученик византийской школы. Маркаде утверждает, что энергия цвета в последних работах де Сталя родственна энергии цвета в иконе. Как любил говорить Ланской, этот цвет «поет». Так что, выученик французской точности и дисциплины де Сталь являет редкий в искусстве XX века образец синтеза старинного и нового.
Глава 35. Музыка последней зимы
Убегая в Мадриде от попутчика и неисцелимой тоски, де Сталь все же не забыл прикупить мебель для Менерба, а также прихватить и запихнуть в чемодан какие-то мало кому интересные предметы (которые не могли не озадачить таможню) – какие-то флаконы, бокалы, горшочки и вазочки: он писал в ту пору натюрморты. Он уже разместил на своих натюрмортах все предметы посуды и мебели, уцелевшие от прежней антибской знаменитости, работавшей в том же ателье, срисовал в Спераседе у Жана Борэ посудную полку завезенным из Штатов фломастером, а незадолго до смерти превратил рисунок в чудное полотно «Этажерка». Как отметила грамотная внучка художника (Мари де Буше), иные из предметов на натюрмортах де Сталя словно светятся изнутри. Впрочем, в последних его натюрмортах все чаще преобладают холодные тона.
«В последние недели жизни Никола де Сталя, – пишет искусствовед Вероника Шильц, – оранжевый, красный, желтый противопоставляются черному, серому, темно-свинцовому в его натюрмортах, в которых читается нарастающее чувство одиночества… доходящее до траурной скорби по цвету…»
Думается, нельзя не упомянуть о состязании синего и красного в последних картинах де Сталя. Об этом писал Анри Мансар, определяя противостояние синего и красного как «космическое противостояние земли и неба», напоминая нам «синего Рублева», формулу Кандинского и даже черновик Флобера, в котором героиня смотрит на улицу через синее окно: «через синее все казалось грустным». «Синий уголок ателье» Андре Шастель находил попросту «мрачным» (lugubrе).
Что же до красного фона недописанного, последнего полотна де Сталя, то он вдохновил недавно одного из французских литераторов на создание повести «Мажорный красный». Уже два с половиной века неклеванные ни «красным петухом», ни «жареным», французские литераторы остаются по традиции «красными», хотя де Сталь (которому посвящена повесть) вряд ли имеет к этому застарелому энтузиазму прямое отношение.
В последние месяцы и недели жизни в Антибе де Сталю вдруг стали вспоминаться люди из Ниццы, из Брюсселя, из прошлого. Он навестил в Ницце Жака Матарассо, пригласил супругов Обле навестить его в Антибе, а однажды вдруг написал длинное письмо одной из первых своих женщин – Мадлен Опер. В этом письме среди разнообразных сообщений были и совсем устрашающие:
«…между мной и реальностью воздвиглась стена, прозрачная, тяжелая, мощная… чтобы пробиться к подлинному свету, я должен избавиться от своего телесного каркаса».
Впрочем, о своем желании слиться с еще более широким пространством де Сталь писал все последние годы.
Подвергший блестящему разбору письма де Сталя искусствовед Андре Шастель отметил постепенный переход от надменности тона и искусной дипломатичности гордого художника к печальной и неизбывной жалобе:
«После того, как минули первые радости в связи со свалившейся на него известностью, и первые экстравагантные траты, появляются печальные жалобы на усталость и бессонницу, на нервозность и исступление. Нечто безысходное и неисцелимое вытесняет в нем безграничную самоуверенность. Можно отметить, как нарастает тема роковой обреченности. Тон остается гордым, хотя по временам и жалобным. Появляется то, что он называет «туманом»…
В последние месяцы своей жизни де Сталь чаще всего излагал свои взгляды на живопись в письмах Жаку Дюбуру, а иногда подругам Жанны мадам Грийе или мадам Осман. Последнее из таких «теоретизирующих» писем он послал в январе 1955 года коллекционеру и искусствоведу Дугласу Куперу. Де Сталь писал о роли случая и случайности в развитии его живописи. Он не впервые писал о роли случайности или даже «взрыва», о вторжении неведомой внешней силы, о находках, являвшихся сами собой… Как ни странно, французским комментаторам не вспоминался при этом старший художник (в некотором смысле «основоположник»), писавший о том же несколько десятилетий тому назад:
«Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне «сами собой»… Иногда приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе дожидаться, пока они созреют во мне».
Или еще:
«Развитие искусства… состоит во внезапных вспышках, подобных молнии, их взрывов, подобных «букету» фейерверка, разрывающемуся высоко в небе и рассыпающему вокруг себя разноцветные звезды…»
Так задолго до Сталя писал Кандинский. В его письмах найдется еще немало совпадений с формулами молодого де Сталя (о подсознании, об алогизмах, о непризнании абсолютного и т.п.).
…Всю зиму и начало весны 1955 года Никола де Сталь напряженно работал – писал картины, делал с Пьером Лекюиром книгу «Максимы», готовился сразу к нескольким выставкам (в Париже, Лондоне, Цюрихе). А однажды, встретив де Сталя, зале смотритель музея в замке Гримальди Дор де ла Сушер предложил ему устроить выставку в их почтенном учреждении (ныне это музей Пикассо). Де Сталь принял предложение, и выставка должна была открыться в августе 1955 года, после парижской выставки в галерее Дюбура.
Де Сталь работал теперь исступленно, зачастую почти без сна, но при этом еще успевал путешествовать, надзирать за работами в Менербе, угощать мастеров, работавших в «малом замке», в престижном антибском кафе «У Феликса», завтракать в ресторане с Бетти Бутуль и ее супругом, мэтром Гастоном Бутулем, писать письма. Успевал читать книги и даже знакомиться с дамами. Дамы в Антибе попадались ему вполне интересные и образованные. Одна из них, упомянутая мной жена адвоката, написала сочинение об истории секты ассасинов или хашишинов. Признаем, что слова, лежащие в основе обоих названий этой исмаилитской секты (и убийство и гашиш), звучат и нынче вполне устрашающе.
Когда сочинение это вышло в свет, наивный американский рецензент встретился с авторшей в парижском отеле близ Латинского квартала и попытался узнать, откуда она все это разведала: не иначе, как через своего мужа, который как-никак адвокат. Адвокат тут был скорей всего не причем. Литература об этой секте к тому времени уже кое-какая существовала. Скромному автору этих строк довелось читать про все эти страсти прежде, чем засесть в памирском кишлаке среди мирных исмаилитов и написать для таджикской студии киносценарий про Омара Хайяма…
Рассказывают, что в неблизком от нас (по времени), но вполне недалеком по грозящим ныне нашему миру страхам XI веке в неприступной горной крепости Аламут царил всемогущий глава секты ассасинов, Старец Горы Хасан-и-Сабох. Здесь же раскинулся прекрасный сад, укомплектованный райскими гуриями, может, даже девственницами. Предстоящих вербовке в секту молодых новобранцев, до кайфа обкуренных гашишем и опоенных вином, уносили в этот сад, прообраз обещанного им рая, – в объятия дев. Завербовав, их отправляли на мокрое дело, обещая, что после смерти они попадут в тот же самый райский сад… Политическое убийство, как нынче выражаются, терроризм, было орудием захвата власти для новой династии, которую позднее смело с лица земли монгольское нашествие. Конечно, рай был для самых простых камикадзе: для тех, кто потоньше и поумнее, потребны были изрядная доля суфийской мистики, критика неправедных порядков и благородный поиск недостижимой Истины… Обо всем этом писала грамотная антибская дама, жена адвоката красивая Бетти. Свой труд (а может, и свою симпатию) она вынесла на суд долговязого и богатого аристократа-художника, недавно объявившегося на приморском бульваре Антиба и в кафе «У Феликса». Он был из тех русских, что все принимают всерьез. Он начал внимательно читать ее труд и в письме к ней изложил свои размышления по поводу книги. Конечно, прежде всего де Сталь писал о том, что занимало его теперь больше всего: о смерти, об убийстве, о самоубийстве как тени убийства… Убийство художник, похоже, ставил даже выше самоубийства, считая его актом исключительным, обдуманным, истинной жемчужиной, порожденной серым веществом мозга и оправленной вдобавок в слоновую кость, наподобие рукоятки кинжала…
Однако на этом общение художника с женой адвоката не кончилось. Позднее Никола отослал Бетти вполне светское и игривое письмо, где было и про его работу, и про его рыночные успехи, и про музыкальный спектакль в Ницце, и про стиль Борхеса, которого он перечитал несколько раз после того, как за ужином муж Бетти впервые упомянул это незнакомое художнику имя латиноамериканского писателя. В общем, это было вполне перспективное знакомство, и может, оно смогло бы отвлечь де Сталя от наваждения…
Под Рождество де Сталь написал длинное письмо Жаку Дюбуру о своем одиночестве и больших надеждах на их с Дюбуром грядущую мировую славу:
«Я знаю, что мое одиночество бесчеловечно, но я смогу здесь так сильно продвинуться вперед, что вы займете самое поразительное место в мире. Если я продержусь так еще несколько лет, вы увидите полотна, каждое из которых будет событием, не будет укладываться ни в какие ныне известные рамки. Это нелегко, но попробовать все же надо».
Дальше речь шла о мучившем его недуге, который Никола называл «головокруженьем» и который, по его признанию, являлся непременным спутником успешной его работы, помогал ему достичь большего лаконизма, большей свободы и ясности. Неожиданность, с которой возникали в его творчестве новые направления, де Сталь считал естественной…
Под Новый год Никола поехал в замок Дугласа Купера, но оттуда, вдруг бросив удивленного хозяина, умчался на выставку живописи Курбе в Лион.
После посещения выставки де Сталь написал Жаку Дюбуру, что Курбе это титан, которого поймут не скоро. Письмо де Сталя начиналось с утверждения, что его самого пока нельзя ставить на одну доску с Курбе (в других письмах – с Коро, с Франсиско Гойя). Нетерпение быть приравненным к величайшим художникам мира, которое ощущалось теперь все чаще, вероятно, тревожило и Дюбура и Лекюира. Оба парижанина пытались развеять тяжелые мысли художника, но он отвечал все той же фразой: «Не терзайте себя по моему поводу…» Впрочем, Пьеру Лекюиру де Сталь отвечал резче и неуважительней, чем Дюбуру.
На самом-то деле, это де Сталя терзали теперь самые разнообразные страхи и сомнения. Он опасался не только того, что будет отвергнут возлюбленной, но и того, что живопись его станет невостребованной, даже того, что денег ему не хватит (или уже не хватает).
10 января он написал Жаку Дюбуру, что, возможно, из-за разницы в солнечном освещении какие-то из его полотен, написанных в Антибе, покажутся в Париже недописанными. Он и правда сейчас писал неправдоподобно быстро и часто не давал себе труда закончить работу… В письме к Дюбуру Никола предложил, что он слетает на полдня в Париж и взглянет там на свои картины. Но в завершение своего коротенького письма он заверял парижского галериста, что все в конце концов наладится и «решится окончательно в ту или другую сторону».
Однако беспокойство его не улеглось. В тот же день он доверительно написал Сюзанне Тезена, что мысль об этих посланных в Париж картинах внушает ему тревогу.
Кончилось тем, что Жак Дюбур сам приехал к де Сталю в Антиб, чтобы его успокоить. В февральском письме Дюбуру Никола пишет, что такой визит полезен для дела и пытается объяснить новые взрывы своей творческой активности:
«Чем внимательнее вы присмотритесь к взрыву – для меня это все равно что распахнуть окно – тем лучше вы поймете, что я не могу остановиться, создавая все новые и новые вещи, и тем больше у вас будет веских аргументов, чтобы защитить то, что я делаю».
Любопытно, что о своих тревогах Никола написал сравнительно недавней своей знакомой Сюзанне Тезена. Среди наименее подробно описанных моментов биографии нашего героя можно назвать и эту интимную доверительность с богатой дамой патронессой, бывшей в годы оккупации ближайшей подругой знаменитого французского писателя-нациста и воителя-антисемита Пьера Дрие ла Рошеля. Романтическое отличие Дрие от других французских коллоборантов заключалось в том, что он испугавшись суда и послевоенных разборок (из которых многие французские коллоборанты вышли с почестями и с повышением, вроде Буске или Миттерана), предпочел выпить яд… Легко представить себе, как волновала вся эта история нашего героя, не оставлявшего мысли о самоубийстве.
В длинном письме бывшему владельцу замка «Кастеле» в Менербе Никола де Сталь взялся перечислить свои труды по усовершенствованию поместья и все с ним связанные затраты, объясняя, что именно по причине этих затрат он пока не сможет отдать недоплаченную сумму, но обещая непременно отдать долг в конце апреля. Впрочем, тревоги, пришедшие вместе с богатством, были тоже, видимо, неотступны. Посулив в письме к бывшему своему пасынку Антеку оплатить ему проезд до Антиба (чтобы написать о нем, де Стале, хвалебную книгу), Никола сопроводил свое обещание жалобой на материальные трудности…
Можно отметить, что в письмах де Сталя в эти последние месяцы с большей даже настойчивостью, чем во все былые годы, присутствует музыка. Музыка прорывается в описания, в глаголы, в метафоры (в письме Куперу Никола сравнивает себя с барабаном, противопоставляя его гром звуку трубы над морем). Де Сталь пишет о концертах, на которые успел съездить, о концертах «Домэн мюзикаль» в Мюнхене, на которые не решился ехать… Похоже, что в пору его мучительных «головокружений» музыка (и скорее, барабан, чем труба) неотступно звучала у него в ушах. Искусство авангарда XX века вообще притязало на синтетизм (и уж во всяком случае, на синестезию). Никола де Сталь был причастен и к музыке, и к поэзии, но, конечно, не в такой степени, как почтенный Кандинский, который был и поэтом, и музыкантом, и драматургом, и режиссером, и теоретиком искусства, и ученым-социологом…
Из всех видов искусства музыка представлялась художникам самым близким видом, а абстрактным художникам вдобавок еще и наиболее беспредметным. То есть и предмет и идею произведения, и даже чувство, им внушаемое, должен додумывать (дочувствовать) сам зритель или сам слушатель. Понятно, что каждый додумывает на свой лад. Ну, скажем, к чему может подвигнуть слушателя «Лунная соната» Бетховена. Среди ее бесчисленных поклонников известны два, которые, ее обожая, имели к ней каждый свои претензии. Персонажей этих звали Бисмарк и Ульянов (по кличке Ленин). Бисмарк говорил, что когда он слушает эту музыку, ему хочется гладить всех людей по головке. Ленин говорил, что музыка эта побуждает его бить всех людей по голове (что он и стал делать, захватив власть в России).
Кандинский говорил, что «музыка всегда была искусством, не употреблявшим своих средств на обманное воспроизведение явлений природы, но делавших из них средство выражения душевной жизни художника». По Кандинскому, творчество должно быть направлено на раскрытие в искусстве «трансцендентальной сущности вещей (по ту сторону их зримой вещности)». С этой точки зрения идеалом творческой деятельности Кандинскому представлялась деятельность музыкальная.
Сам Кандинский обладал, как, кстати, и де Сталь, «цветным слухом». В его наследии, как и в наследии де Сталя, немало «музыкальных» картин. В 1920-м году на заседании возглавляемого им при большевиках Института художеств он демонстрировал таблицу «Параллели цвета и звука», однако роман Кандинского с музыкой начался намного раньше. Он вполне прилично играл на виолончели и на фортепьяно. В 1911-м году Кандинский впервые услышал струнные концерты австрийского композитора Шонберга и вдохновленный ими написал картину «Концерт» («Впечатление 111»). В том же году вышли книга Кандинского «О духовном в искусстве» и книга Шонберга «Учение о гармонии».
Сам Шонберг тоже занимался живописью, а о живописи Кандинского и Кокошки он говорил, что эти художники «пишут картины, для которых материальный мир не более чем импульс к фантазии в красках и формах. То что они выражают себя таким же образом, каким до них выражал себя раньше лишь музыкант, это и есть симптомы распространяющегося познания истинной сути вещей».
Шонбергом была создана атональная, додекафоническая музыка и основана школа композиции, которую называют Новой венской (или нововенской) школой. Познакомившись с Шонбергом в Германии, Кандинский до конца жизни вел с ним активную переписку.
Теперь музыку Шонберга и других композиторов нововенской школы, атональную, лишенную мелодии музыку предстояло услышать Никола де Сталю, и он с нетерпением ждал начала парижских концертов «Домэн мюзикаль» в театре Мариньи.
Четвертого марта Никола де Сталь двинулся в Париж в автомобиле, прихватив в попутчицы Бетти Бутуль. Путешествие длилось целую ночь.
В Париже у Никола было еще множество дел. Он заезжал в типографию Бодье, где у них с Лекюиром должна была выйти книга «Максимы», потом он до ночи бродил по улице с сыном Жанин Антеком, который собирался писать книгу о творчестве де Сталя. Он съездил также повидаться с Жаком Дюбуром.
А шестого марта начались концерты в театре Мариньи. Наряду с Шонбергом исполняли Антона Веберна, потом Пьера Булеза, и для Никола де Сталя это было настоящим потрясением. Он слушал, и в видениях его звуки являлись в красках. Он даже пытался успеть что-то нацарапать на программке: «скрипки красное цвет охры…» Программка эта сохранилась, она является архивным документом, нас с вами не будет, но вечно будет жив архив…
Избранная публика из числа «завсегдатаев «Домэн мюзикаль» собралась после концертов в салоне Сусанны Тезена. Вряд ли сам Шонберг, будь он жив и окажись он в Париже, попал бы в высокородное общество почитателей Второй венской школы, в салон подруги покойного эстета… Кто он был, в конце-то концов, сам Шонберг, венский еврей, беженец, так что даже у ближнего соседа своего в Лос-Анджелесе, у богатого композитора И.Ф.Стравинского никогда в гостях не бывал…
Среди гостей в тот вечер промелькнул Пьер Лекюир, но он теперь только раздражал де Сталя, так и не нашедшего времени для встречи с ним…
Многие из привилегированных гостей салона, вступавших в тот вечер в разговор со Сталем, вспоминали позднее, что он жаловался на усталость, на бессоницу, на рокот волн и главное – на шум ветра в Антибе. Везде этот проклятый ветер…
Силы оставляли его, возбуждение сменялось депрессией.
Окажись в тот вечер в толпе меломанов мой друг «псико» Пьер или американская блондинка Кей Джемисон, они могли бы объяснить бедному Никола, что это и есть самый опасный момент, переходный, между циклами, или хуже того, смешанный…
Помню, мы шли с другом-психиатром Володей Леви по коктебельскому пляжу, и он сказал:
«Когда любовная неудача наложится на депрессию – жди беды…»
Я сказал:
«А какая она бывает, удача?»
На дворе стоял 1973. Сынулечке моему было семь…
На обратном пути из Парижа де Сталь ненадолго задержался в Менербе, а 10 марта он уже был в Антибе, обедал, как было заведено у них по четвергам, с Жаном Борэ и его женой Элен в кафе «У Феликса». За обедом Никола возбужденно говорил о концерте, о музыке… Бедный Веберн, подстреленный близ своего деревенского дома случайной американской пулей… Пуля дырочку найдет…
– Ах, как гремел барабан! Вы бы слышали!
В предоставленную де Сталю под дополнительное ателье заброшенную сторожевую башню на дальнем конце Антибского мыса уже были доставлены заказанные художником огромные (три с половиной метра на шесть метров) подрамники. Художник сам натянул на них полотно. Незапятнанно белая площадь полотна казалась огромной. В конце концов, вырвавшись из неподвижности, он ринулся на снеговую равнину со щеткой…
Сперва киноварь, ярко-красный фон…
Кандинский писал когда-то, что красный обладает огромной силой, что он сам по себе есть движение. Что он противостоит черному и что при их совмещении они ведут к коричневому, очень жесткому.
Пришел день, и черный не замедлил ворваться на полотно. Это был огромный рояль. Горизонтальный черный блок рояля в левой части картины. А справа, в противовес ему вертикальный столб контрабаса… Милые друзья прежних времен, Бистези, помогли найти инструмент в Ницце.
Никола ощутил вдруг смертельную усталость… Такое уже было с ним в феврале… И в октябре, перед Испанией.
Жан Борэ одобрил эскиз… Черный рояль, контрабас, а между роялем и контрабасом, в оркестровой яме – белые и желтые листки нотной бумаги. Сама музыка? Ветер?
Музыка была в противостоянье всего двух инструментов, музыка была в красном фоне.
Большинство искусствоведов считают это полотно вполне завершенным шедевром.
Иные пишут, что просвет с нотными листками – это и есть та пустота, в которую ушел художник…
Чего только не пишут об этом огромном полотне!
Арно Мансар считает, что построение картины напоминает классическое изображение Благовещения. Слева – простершийся перед Святой Девой ангел, справа – стоящая Богородица. В отличие от Вероники Шильц Арно Мансар не извиняется за богохульное сопоставление…
Многие пишут об этом торжествующем красном фоне картины. Считают, что он пришел с русской иконы. Маркаде уточняет, что это ближе всего к стилю Новгородской школы…
Русская икона, музыка, красная буря, та самая, что сделала его сиротой и подтолкнула к краю террасы над каменной мостовой улицы Ревели…
В понедельник, вернувшись от Жана Борэ, он забрал в антибской лавке заказанный им седьмой том собрания сочинений любимого им Чехова и продолжил работу над картиной.
Говорил по телефону с Жанной. Он виделся с ней в конце недели, они договорились о новой встрече, но теперь она сказала, что не сможет приехать. Никто не знает подробностей этого разговора. Бог мой, какие там разговоры, жаны, жанны, если все уже решено…
Во вторник, 15 марта он продолжал работать в одиночестве над «Концертом». Рокот рояля заглушал сомнения…
Днем Никола зашел к знакомому юристу в Антибе. Расспрашивал, как обеспечить имущественные права детей, в частности, тринадцатилетней Анны, если с ним что-нибудь случится. Он знал, что должно случиться, и чувствовал облегчение.
Близ цитадели он встретил главного куратора антибского музея, и господин Дор де ла Сушер захотел его сфотографировать. Никола улыбался. Пожалуй, с меньшим напряжением, чем обычно.
Добравшись до дому, он начал жечь письма. Письма Жанны он откладывал в сторону. Как пишет осведомленный биограф, он отнес пачку ее писем ее мужу и сказал: «Ваша взяла». Как и многие другие поступки де Сталя, этот поступок взрослого человека объяснить трудно. Обида? Месть?.. Он мстил модели? Ее мужу?
В Антиб он возвращался пешком. Дома продолжал жечь письма. Потом принял большую дозу веронала, но его вырвало. Тихий уход не удался…
В среду он не выходил из дому. Написал деловое письмо старшей дочери, потом два довольно странных и малозначащих прощальных письма Жаку Дюбуру и Жану Борэ. Вот письмо к Дюбуру:
«Жак, я заказал краснодеревцу у крепостной стены два деревянных шезлонга, один из них я оплатил, это для Менерба. У таможенников остался еще столик, а в кампании есть бумаги для доставки стульчиков и табуретов, которые я закупил в последний раз, тоже для Менерба.
У меня нет сил закончить мои картины.
Благодарю за все, что ты для меня сделал.
От всего сердца, Никола».
И еще письмо Жану Борэ, в чье высшее понимание его живописи он так трепетно верил:
«Дорогой Жан, если найдешь время, если случатся какие ни то выставки моих картин, не расскажешь ли, что нужно делать, чтобы их понять? Спасибо за все».
Такие вот суетные, практические хлопоты. И то самое раздвоение, что всю жизнь помогало ему как-то выживать. Теперь оно поможет ему уйти…
Он не написал ни слова близким… Ни слова о себе… Психологи, изучавшие последние письма самоубийц, уже отмечали это ничтожность их предсмертного эпистолярного наследия. Вспомните убогое письмо Маяковского с цитатой из собственных стихов… Вообще при всех различиях в ситуации (думаю, Маяковскому было чего опасаться) сходство какое-то есть.
Думал ли Никола о жене, которую оставит вдовой, о четверых сиротках, о сестрах… Вряд ли. Он и в лучшие времена не мучил себя сопереживанием. Этот мир, который оставил его сиротой, не заслуживал сострадания. Он с ранних лет считал, что ничем не был обязан этому миру.
О чем он думал весь долгий день 16 марта, наш бедный петроградский сирота Николай, наш процветающий французский художник, молодой, долговязый хозяин маленького люберонского замка, вхожий в парижский салон мадам Тезена? Точнее, что он чувствовал?
Вероятно, чувствовал себя беззащитным, загнанным в угол, чувствовал, что дальнейшее существование непереносимо, ощущал свою неспособность жить дальше, бороться за жизнь. Неудачи подступали к нему из темных углов, он ощущал полную беспомощность и тревогу. Гора придуманных и настоящих трудностей угрожающе застилала горизонт, в который он все пристальней вглядывался последние годы. Оставалось только бежать, прервав муку. Бежать в тот мрак, что сгущался за окном…
В десять часов вечера он поднялся на открытую террасу дома Ардуэн и ласточкой нырнул в темную пустоту…
Глава 36. Давайте после драки помашем кулаками…
Журналист престижно-провинциальной ривьерской газеты «Нис-Матэн» сообщал читателям в номере за 18 марта 1955 года:
«Видный, как говорят, художник, который писал реалистические полотна недописанного вида, Никола де Сталь был не слишком широко известен в Антибе, где он поселился несколько месяцев назад, а до того жил в Америке и в Париже в доме 147 по улице Гогена (адрес, конечно, перевран, но ведь от Ниццы так далеко до экзотического Парижа – Б.Н.). Он много писал и, как рассказывают, много выставлялся в галереях США и Парижа. Одна из его картин висит рядом с прекрасным ковром Жана Кокто и невдалеке от Пикассо. В помещении, которое многие годы занимала знаменитая художница Элен Дюфур и которое она сама надстроила над огромным жилым домом Ардуэн на Приморском бульваре (с окнами, выходящими в сторону Ниццы и Залива Ангелов), Никола де Сталь (по паспорту фон Хольстейн Сталь) трудился весьма упорно (не случайно же счетов за краски в тюбиках у него нашли на 500 000 франков) в полном одиночестве и, похоже, ему нравилось это местечко, в которое так стремятся художники.
Так вот, в ночь со среды на четверг, а точнее в 22 часа15 минут местная жительница мадам Жанна Ру, проходившая по улице Ревели, узенькой улочке, ведущей от дома Ардуэн к морю вдоль соседнего квартала, вдруг с изумлением обнаружила простертое на мостовой тело с окровавленной головой. Она без промедления забила тревогу.
Прибывшая на место полиция установила, что речь идет о художнике Никола де Стале, который родился 23 декабря 1913 года в Санкт-Петербурге (Россия) и, как незамедлительно уставило расследование, упал с террасы дома, в котором он обитал.
Вчера, в продолжение следствия, долженствовавшего установить причины смерти, полиция пришла к выводу, что речь здесь идет об акте отчаяния. Как можно было установить, Никола де Сталь выбросился с террасы дома, и найденные у него письма в соединении с теми грустными фразами, которые слышали от него соседи и некоторые из его знакомых, не оставляют никаких сомнений в том, что произошло. Он собирался устраивать выставку своих работ в Музее Антиба и уже предпринял некоторые шаги в этом направлении.
Полицейский врач доктор Максим Рустан констатировал факт смерти и выдал разрешение на захоронение тела. Супруга несчастного была извещена о прискорбном событии. Мы приносим ей глубокое соболезнование».
Заметка эта на четвертой полосе провинциальной газеты не прошла незамеченной. Кто-то, вероятно, звонил в редакцию, выражал недовольство. Может, кто-то из Парижа или кто-нибудь «сверху». Может, из кругов Сюзанны Тезена. Так или иначе, журналиста вызвали на ковер, а через неделю (25 марта) на полосе «литературы и искусства» той же газеты появилась статья о Никола де Стале, где его называли «надеждой современной живописи». Помещена была и знаменитая фотография, где де Сталь стоит рядом с Жоржем Браком, Марселиной Брак и Тедом Шемпом возле мастерской Брака в Варанжвиле. Нетрудно предположить, что недовольство парижан вызвало не журналистское неведенье живописной иерархии, а само щекотливое сообщение об «акте отчаянья» и о найденных письмах. Ведь и двадцать лет спустя биографы еще позволяли себе гадать, не вышел ли де Сталь по рассеянности (с перепою, от бессонницы, от веронала или еще от чего) в окно, вместо двери. Вероятно, такой была официально – семейная версия (ее развивает, к примеру, Валентина Ходасевич в «Русском альманахе»). Не принято (или не позволено было) писать о психическом нездоровье де Сталя, о странностях его характера. Журналист Лоран Грельсамер сравнительно недавно нарушил этот запрет и даже упомянул, хоть и мельком, о некой «циклотимии».
Точный диагноз нам неизвестен, но наличие нездоровья было очевидно не только для друзей Никола, но и для его роковой «модели». Понятно, что в семейных мемуарах писать о болезни было неположено. Да и кто допустит грубую психиатрию в цветущие угодья искусствоведенья?
А ведь надо было спасать Колю… Только вот легко ли спасти? Надо еще захотеть, чтоб спасали…
21 марта 1955 года Никола де Сталь был похоронен на кладбище Монруж. Гроб его упокоился рядом с гробом милой его подруги Жанин Гийу. Кроме жены покойного Франсуазы, младшей сестры Ольги, четырех его детей и пасынка Антека на похоронах были Андрей Ланской, Пьер Лекюир, Жак Дюбур с супругой…
26 марта в русском соборе Александра Невского, что на рю Дарю в Париже, была отслужена панихида по рабу Божьему Сталю фон Гольштейну Николаю Владимировичу. Кроме родственников, на панихиде были художники Андрей Ланской и Сергей Шаршун, а также друзья и художественные критики – Сюзанна Тезена, Роже ван Гендерталь, Ги Дюмюр…
У Людмилы Улицкой есть маленький рассказ про то, как девочка, которую мучили в детстве, но у которой все как будто наладилось в юности, вдруг выбросилась из окна. Ошеломленные этой бедой друзья и родные собираются вместе, судят и рядят, растравляя себе душу угрызеньями совести. Вот если б не так а этак, если бы я, если бы мы…
Очень русская история.
После гибели Никола де Сталя совсем мало было печальных сборищ, стенаний и разговоров. Рыдала многодетная вдова, может, плакала в Юкле мама Шарлотта… Искусствоведы прикидывали, какой рубеж должен был бы взять де Сталь, в какую теперь пойти сторону. Но никто из серьезных людей, конечно, не допускал, что такое можно учинить над собой на зло поселянке Жанне или ее бедному мужу.
Престижный критик Андре Шастель написал: «Такие, как Сталь не убивают себя ни по причине безмерной любви, ни из безмерного каприза, ни из-за сомнений в своем искусстве. Слишком часто он говорил об этих вещах, чтоб и в письмах его не появились все эти бесчисленные предупреждения: «Кончаешь всегда чувствительностью близкой к безумию, наткнувшись на тайные преграды, которые всегда сам выбираешь там, где поражение неизбежно».
Напряжение ясности и нетерпение могут грозить смертью; слишком хорошо знакомые художнику, к концу 1954 года они приводят к нестерпимой тяжести выживания, разверзая перед ним пропасть, которой человек такого склада избежать не может».
К разговору о том, можно ли было спасти Колю, мы не раз возвращались с моим другом Пьером, оказавшись во время прогулки близ роковой улочки Ревели. В последний раз говорили осенью. Шли по набережной, а потом, не сговариваясь, свернули вдруг на улочку Ревели.
В голове моей звучала привычная мелодия… Бубнил что-то похожее:
Я все равно паду на той,
На той проклятой, на гражданской,
И санитары в белых тряпках…
– А где комиссары? – ревниво спросил Пьер.
Несмотря на то, что его когда-то исключили из партии, он очень чувствителен был к памяти комиссаров. Как, впрочем, и мой любимый поэт.
А что им тут делать, комиссарам? Они свое дело сделали. Вот санитары, другое дело… Халаты на них, конечно, рваненькие, в крови. Так ведь бедность…



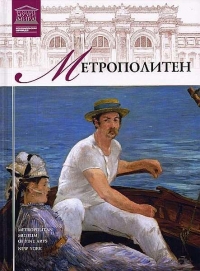


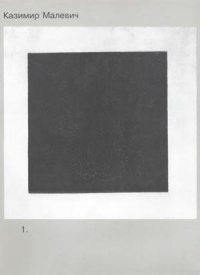

Комментарии к книге «Порыв ветра, или Звезда над Антибой», Борис Михайлович Носик
Всего 0 комментариев